К 80-летию Евгения Ивановича Носова Е. И. НОСОВ Собрание сочинений в пяти томах Том четвертый Травой не порастет… Защищая жизнь…
ТРАВОЙ НЕ ПОРАСТЕТ… Повесть, рассказы
Усвятские шлемоносцы Повесть
И по Русской земле тогда
Редко пахари перекликалися.
Но часто граяли враны.
Слово о полку Игореве1
В лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлебывалась травой. В тридцать шесть годов от роду силенок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведенное плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и еще раз поудивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдет запасец.
Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее.
Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всем своем несмелом, увертливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном,— в Верхних Ставцах.
Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженная — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуемном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаенным старицам, никому во всем людском мире неизвестным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые ветлы в космах сухой куги {1}, с вороватой поспешностью ставили плетеные кубари на отливавшую бронзой озерную рыбу, промышляли колодным медом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем.
Еще с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой {2}, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:
Как у сгинь-болота жили три змеи: Как одна змея закликуха, Как вторая змея заползуха, Как третья змея веретенка…Но выбирались пацаны из зыбок, и, вопреки всяким присказкам, никуда не тянуло их так неудержимо, как в страховитую урему, что делалась для них неким чистилищем, испытанием крепости духа. А став на ноги, на всю жизнь сохраняли в себе уважение к дикому чернолесью. И кажется, лиши усвятцев этого никчемного, бросового закоулка их земли, и многое отпало бы от их жизни, многое потерялось бы безвозвратно и невосполнимо. Что ни говори, а даже и теперь, при тракторах и самолетах, любит русский человек, чтобы поблизости от его жилья непременно было вот такое занятное место, окутанное побасками, о котором хочется говорить шепотом…
Займище окаймлял по суходолу {3}, по материковому краю сивый от тумана лес, невесть где кончавшийся, за которым, признаться, Касьян ни разу не был: значилась там другая земля, иная округа со своими жителями и со своим начальством, ездить туда было не принято, незачем да и не с руки. Так что весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге. Лишь изредка, в межсезонье, выбирался он за привычную черту, наведывался в районный городок приглядеть то ли новую косу, то ли бутылку дегтя на сапоги, лампового стекла или сменить поизносившийся картуз.
Куда текла-бежала Остомля-река, далеко ли от края России стояли его Усвяты и досягаем ли вообще предел русской земли, толком он не знал, да, поди, и сам Прошка-председатель тоже того не ведал. Усвятский колхоз по теперешним отмерам невелик был, кроме плугов да телег, никакой прочей техники не имел, так что Прошка-председатель, сам местный мужик, не ахти какой прыщ, чтобы все знать.
Правда, знал Касьян, что ежели поехать лесом и миновать его, то сперва будут Ливны, а за Ливнами через столько-то ден объявится и сама Москва. А по тому вон полевому шляху должен стоять Козлов-город, по-за которым невесть что еще. А ежели поехать мимо церкви да потом прямки, прямки, никуда не сворачивая, то на третьем или четвертом дне покажется Воронеж, а уж за ним, сказывали, начинаются хохлы…
Была, однако, у Касьяна в году одна тысяча девятьсот двадцать седьмом большая отлучка от дому: призывался он на действительную службу. Трое суток волокся состав, все по неоглядной, желтеющей поздним жнивьем земле, пока не привезли его к месту назначения. Попал он в кавалерийскую часть, выдали шашку с винтовкой, но за все время службы ему не часто доводилось палить из нее и махать шашкой, поскольку определили его в полковые фуражиры, где ничего этого не требовалось. А было его обязанностью раздавать поэскадронно прессованные тюки, мерить ведрами пыльный овес, а в летнее время вместе с выделенными нарядами косить и скирдовать военхозовское сено. За тем делом и прошла вся его служба, ничего такого особенного не успел повидать, даже самого Мурома, через который и туда, и обратно проехали ночью. И хотя в Муроме и останавливались оба раза, но эшелон был затиснут между другими составами, так что когда Касьян высунулся было из узкого теплушечного оконца, то ничего не увидел, кроме вагонов и станционных фонарей, застивших собой все остальное.
Больше всего запомнилась ему дорога, особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд все не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна, простирались пашни и деревеньки, бродил по лугам скот, ехали куда-то мужики на подводах, кричали и махали поезду такие же, как и везде, босые, в неладной обношенной одежде белоголовые ребятишки… Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле.
Случалось, на старых бревнах говаривали бывалые старики про разные земли, кому где довелось побывать или про то слышать, и вот в такие вечера Касьян, отрешаясь от своих дел и забот, вспоминал, что кроме русской земли есть еще где-то и иные народы, о которых на другой день при солнечном свете сразу же и забывалось и больше не помнилось. И если бы теперь оторвать Касьяна от косьбы и спросить, в какой стороне должны быть, к примеру, китайцы и в какой турки,— Касьян досадливо б отмахнулся: «Делать, что ли, окромя нечего, как думать про это». И опять с размашистой звенью принялся бы ходить косой.
За три года солдатчины Касьян попривык к сапогам и, вернувшись, больше не носил лаптей, но всегда плел свежую пару к Петрову дню, к покосам. И теперь, обутый в новые невесомые лапотки, обшорканные о травяную стерню до восковой желтизны и глянцевитости, с легкой радостью в ногах притопывал за косой, выпростав из штанов свежую выстиранную косоворотку. Да и все его крепкое и ладное тело, взбодренное утренней колкой свежестью, ощущением воли, лугового простора, неспешным возгоранием долгого погожего дня, азартно возбужденное праздничной работой, коей всегда считалась исконно желанная сенокосная пора, ожидаемая пуще самых хлебных зажинков {4},— каждый мускул, каждая жилка, даже поднывающее натруженное плечо сочились этой радостью и нетерпеливым желанием черт знает чего перевернуть и наворочать.
Солнце тем временем вон как оторвалось от леса, кругов этак на пятнадцать, поме́нело, налилось белой каленой ярью. Глядит Касьян: забродили мужички, один за другим потянулись к припасенным кувшинам, кто к лесным бочажкам. Касьян и сам все еще задирал подол рубахи, чтобы обтереть пот, сочившийся сквозь брови, едуче заливавший глаза. И вот уже и он не выдержал, торчком занозил косье в землю и, на ходу стаскивая мокрую, липучую рубаху, побрел к недалекой горушке, из-под которой, таясь в лопушистом копытнике, бил светлый бормотун-ключик. Разгорнув лопушье и припав на четвереньки, Касьян то принимался хватать обжигающую струйку, упруго хлеставшую из травяной дудочки, из обрезка борщевня {5}, то подставлял под нее шершавое, в рыжеватой поросли лицо и даже пытался подсунуть под дудку макушку, а утолив жажду, пригоршнями наплескал себе на спину и, замерев, невольно перестав дышать, перемогая остуду, остро прорезавшую тело между сдвинутых вместе лопаток, мученически стонал, гудел всем напряженным нутром, стоя, как зверь, на четвереньках у подножия горушки. И было потом радостно и обновленно сидеть нагишом на теплом бугре, неспешно ладить самокрутку и так же неспешно поглядывать по сторонам.
Отсюда хорошо были видны сенокосные угодья и все косцы, человек двадцать, тут и там мелькавшие рубахами меж кустов и куртин, аккуратно обкошенных и четко выделявшихся темной зеленью на свежей стерне. Трав свалили уже порядком, впору раздергивать валки, выстилать на просушку, вон и ветерок заиграл, заполоскал листвой, и Касьян, застясь от встречного солнца, поглядел в сторону села, не идут ли на подмогу бабы. По уговору им отпущено время управиться по дому, но чтобы часам к одиннадцати быть на покосе.
Бабы, и верно, уже бежали. Касьян сперва не приметил их среди ряби рассыпавшихся по выгону коров. Но вот от стада отделился пестрый рой и покатился, покатился лугом. Уже и белые платки стало видать, и щетинка граблей замаячила над головами, а скоро и бабья галдеца донеслась до слуха. Спешат, судачат крикливо на весь луг, а за торопкой этой ватажкой — хвост ребятни, мал мала меньше. Упросились-таки, пострелята, выголосили себе приключение. Да и какому мальцу охота сидеть в опустевшей деревне, когда приспел сенокос, когда неудержимо тянет к себе парной теплынью речка Остомля, а займище полно земляники и всякой лесной и луговой забавы — цветов, стрекоз и птах.
Правда, Касьян не велел появляться своей Натахе: на восьмом месяце ходила она уже третьим младенцем. Так что не очень-то перебирал глазами баб, не искал свою с узелком покосных гостинцев, какие всегда было заведено носить в луга об эту пору. С вечера сам собрал себе торбочку: отрезал ломоть сала, сунул горбушку крутого, недельного хлеба, тройку яиц, уже по-темному нащипал в огороде перышек молодого лука да заправил кисет жменей табаку: всего-то и надо — раз присесть, перекусить одному накоротке. Но когда бабы уже бежали зыбким, в две тесины мостком через Остомлю, растянулись по нему, все видные до единой, вдруг высмотрел Касьян и свою Натаху. Вот она: мелькает белыми шерстяными носками в легких чуньках, белый узелок в руке, в другой руке грабли, а живот выше мостковых перилец. По животу, по кургузой фигуре и узнал свою. Сергунок с Митюнькой следом. Сергунок, старшенький, восьми годов, смело бежит впереди по лавам, хворостинкой, играючи, постукивает по встречным столбикам. А Митюнька, белоголовенький, как луговой молошник, за мамкин подол держится, видать, высоты боится. Третий годочек пошел только, впервой ему и мосток этот, и сама Остомля, и вся дорога в займище. Все ж молодец парнишка: три версты от дому своим ходом пробежал, мать-то уж наверняка не пособляла, на руки не брала. Вон как пыхкает, куда бежит такая, дурья голова, мало ли чего с ее положением… Ох и упорна, все по-своему повернет — говори, не говори… Побранил Касьян Натаху за своенравие, а у самого меж тем при виде ее полыхнуло по душе теплом, мужицкой гордостью: пришла-таки!
Работать, конечно, он ей не дозволит, пусть под кустом с ребятами посидит, в кои-то разы поваляется на воле, какая с нее помощница, но зато, как и другие, всей семьей вместе будут. И Касьян, отшвырнув цигарку, крупно пошагал, почти побежал навстречу, на ходу напяливая обсохшую рубаху.
— Папка! Папка-а! — уже горланил и мчался, завидев Касьяна, старшой, и его колени дробно строчили, вымелькивали среди ромашек и колокольцев.— Папка! Мы пришли-и!
Митюнька тоже кинулся бежать к отцу, но не одолел травы, запутался, плюхнулся ничком, канул с головой, будто в бочаг, завопил горласто, басовито. Касьян отыскал по реву, цапнул пятерней за рубашонку, подкинул враз оторопело примолкшего парнишку, по-лягушечьи растопырившего кривулистые ножки, и, поймав на лету, сунулся колючим подбородком в мягкий живот. От этого прикосновения к сынишке уже в который раз за сегодняшнее утро все в нем вскипело буйной и пьяной радостью, и он, вжимаясь щекой в сдобное, пахучее тельце, утратил дар речи и лишь утробно стонал, всей грудью выдыхал нечто лесное, медвежье: «мвав! мвав!», как тогда, под струями родникового ключа. Митюнька же, позабыв свои минутные слезы, счастливо закатился от щекотки, немощно отпихиваясь обеими ручками от горячей кудлатой головы, пинал ножонками в грудь, в лицо, хватал отца за уши. А когда тот насытился лаской, мальчонка тут же, как ни в чем не бывало, цепко, привычным манером обхватил крутую Касьянову шею и завертел белой одуванчиковой головкой, озирая неведомый ему заречный мир с высоты отцовского плеча.
— Чего пришла-то? — запоздало строжась, глянул Касьян на жену остывшими от забавы глазами.— Говорил же…
— Да это они всё: пойдем к папке, пойдем да пойдем.
— Мало ли чего они… Сама должна понимать.
— Да и как было не пойти? Гляну, гляну в окошко, все идут. Так ждала этого дня…
Касьян перехватил из ее рук узелок, бугристо набитый чем-то теплым, духмяным.
— Это гостинчик тебе,— пояснила Натаха.
— А грабли зачем? Или еще не натягалась?
— Я ж думала, забыл ты их. Смотрю утром, грабли дома. Дай, думаю, снесу, а то как же без граблей-то?
— Ну да, ну да, мели, а я поверю,— с укором гуднул Касьян.— Или я тут рогулю не срубил бы. Обошелся бы и без граблей.
— Да ладно тебе, Кося.— Натаха обхватила Касьянову руку, повисла на ней, заглядывая в лицо.— Или не рад, что ли, нам?
— Ну ладно, ладно нежности разводить,— озирнулся по сторонам Касьян.— Идем к месту, раз уж пришли.
На своей обкошенной делянке он опустил на землю Митюньку, сложил к его ногам узелок и, завернув беремок уже обвялой медово истекавшей кошенины, отнес его под куст краснотала.
— Во! Тут сидите,— приказал Касьян, расстилая траву в тени.— На-кось тебе, Сергунок, ножичек, поиграйся. Свистульку вырежи. Себе и Митрию. Смотри не зарони.
— Не-е! — обрадовался Серёнька, обеими руками принимая от отца заветный складничек.— Я его покамест в карман спрячу.
— А никак дырка в кармане?
— Какая дырка? — засмеялась Натаха.— Ты, отец, и не видишь, что у твоих сынов штаны новые?
— Глянь-кось! — изумился Касьян.— А я и правда не вижу. Ну-ка. Серёнь, повернись, погляжу.
Сергунок, засунув руки в карманы, горделиво прошелся в новых штанах туда-сюда.
— И я! И я в новых! — потребовал к себе внимания младшенький.
— Дак и ты! Ну, герои! Ну, молодцы! — похвалил отец.— И в каком же таком магазине куплены такие хорошие штаны? Да еще с карманами!
— Это мамка нам сшила.
— Неужто мамка? — опять нарочито изумился Касьян.— Экая рукодельница у нас мамка!
— Вчера дошила,— радостно закраснелась Натаха от своего же признания.
— На руках? — продолжал играть Касьян.— Ну, чудеса! А как магазинские!
— Машинкою оно б поладней вышло. Да уж какие получились.
— А чего? Хорошие штаны! Ну, давай, Натаха, займись с ими,— кивнул он на ребятишек.— Пить захотите, вон горушка, а под нею ключик. Там и ягод полно, позабавьтесь.
— Где? Па, где ягоды? — навострился Сергунок.
— Да вона, вишь бугор! Прямо обсыпан весь. Ложись на живот и ешь. Ну, давайте, давайте, делайте чего-нибудь. А то я вон сколь время потерял с вами.
Еще издали нетерпеливо примериваясь глазами, жадно целясь в незавершенный прокос, Касьян поплевал на руки и выдернул из земли косье. Чувствуя, что за ним наблюдают домашние, он, превозмогая боль в плече, молодцевато, одним духом выбрил закоулок между двумя куртинками ивняка и уже было собрался без всякого роздыха сделать новый зачин, как, обернувшись, увидел позади себя Натаху. Насунув на глаза платок, она негнуче, бугрясь тяжким животом, неловко накидывала грабли, пытаясь раздергивать неподатливые, уже успевшие слежаться пласты кошенины. Сергунок с Митюнькой тоже вовсю старались, пыхтя, загребали еще нехваткими руками сырую траву и, зарывшись в ней с головой, тащили и раскладывали на поляне.
— Ого, я сколько! — радостно звенел голос Митюньки.— Мам, мам, погляди!
— А ну брось! Брось! — осерчал Касьян, подбегая к Натахе.— Или время свое не знаешь?
Натаха приостановилась, оперлась о держак.
— Да я, Кося, легонечко.— Круглое ее лицо жарко румянилось под слабой тенью косынки.— Трава парится, а я сидеть стану.
— Гляди, девка, не шуткуй мне с этим.
— Да не бойся ты! Чудной, право! Разве это трудно — граблями-то шевелить? Парню одна польза от этова, когда не сидеть.
— Какому парню? — не понял Касьян.
— Как это какому! А который будет.
— А ты почем знаешь, что парень?
— Да уж знаю. Поди, не впервой. Я-то ваш завод за три месяца чую. Драчунов.— Натаха сдернула на затылок платок, открыла мужу усмешливое лицо.— Или уже не нужен парень-то?
— Чего городишь пустое?
Чтобы скрыть толкнувшую его отцовскую радость, Касьян полез за кисетом. Слюнявя языком цигарку, он кивнул на ребятишек:
— Гляди-ка, косари наши стараются. Работнички! А Митька, Митька-то, ну, пыхтун! — И, смягченно толкнув Натаху в плечо, сказал: — Ну, ладно… Ты смотри тут, не дюже-то… А я пойду покошусь. Сена-то нынче какие, а? Эх, благодать-то!
2
Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив свое, побег еще помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошел к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено.
Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томленной на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснившихся, отпотевших от собственного тепла.
Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил:
— Давай, Натаха, собирай все это. Мужики к себе зовут.
— А может, одни посидим?
— Пошли, пошли.— Касьян подхватил Митюньку на руки.— Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться.
Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, разморенно развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, не видимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал светлым пламенем большой бездымный костер, распаленный ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе, навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапки лука, чеснока, картошки, сала, и все это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился.
— Мир вам, люди добрые,— чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть.
— Давай, давай, Наталья, подсаживайся.
— Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко.— Тридцать три пирога с пирогом, да все [c] творогом! Ужли все одолеем?
— А чево ж не одолеть? — откликнулись бабы.— Враз и умолотим.
— Ой ли…— засомневался Давыдко, дочерна запеченный мужик в серебре щетины по впалым щекам.— Оно ведь о сухую траву и коса тупится…
Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживленно поддержали:
— Да уж надо бы… тово… для осмелки.
— Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы.
— Ох! Сразу и за свое! — дружно накинулись, зашумели бабы.— Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец — всему делу венец.
Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем:
— Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром!
— Да чего уж там! — закивали мужики.— В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить.
— За таким-то столом и чарка соколом,— вставил свое слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чем помочь поелико возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и свое былое, прошедшее.— Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ём. В одном селе живем, а за одним столом не каждый день сиживаем.
— Ну раз такое дело,— подбил разговор Иван Дронов,— тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтра. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст.
— А ежели не отдаст, заупрямится?
— Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на веревки спишет.
— Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко.
— Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил.
— Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чего уж дробить.
Маленький, щуплый бригадир дернулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали.
— Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови.
— Хватит и этова,— поддержали бригадира женщины.
— Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколь.
— Обойдемся, таковские.
— Шесть так шесть.— Посыльный поднялся, поддернул штаны.— Дай-ка, Касьян, твою торбу.
Босой Давыдко побежал трусцой к реке.
Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только детишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в неторопливом ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обратать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец все-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперек хребтины, и в таком положении норовистый мерин попер его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом.
Было видно, как он проскочил стадо, улегшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье.
— Ну, лих парень! — усмехались под кустами мужики.— Прямо казак.
— Казак — кошелем назад,— съязвил кто-то из бабьего стана.— За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка.
— Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье! Магазей не работает,— вспомнил кто-то из мужиков.
— А и верно, братцы. Как же это мы не подумали?
— Ничево! Этот найдет! Под землей, а Клавку сыщет. У нее дома завсегда припасено.
Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворенно поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комариков, еще неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему еще роднее и ближе, ответно полня все его существо тихим удовлетворением. «И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти… Вот получу на трудодни сено, куплю ей швейную машинку,— думал он, начиная задремывать.— Пусть себе рукодельничает».
Привиделось ему, будто и на самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, еще не хоженных по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничего не мешало счету. Касьян разрезал на ровном аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лег на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе и не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за притча? Касьян метнул еще раз — шестерка крестовая! «Глянь-ка,— всплеснула руками Натаха,— да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь еще». Кинул Касьян очередной червонец — и опять всё своим чередом: лощеная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом: посередине бубна, вроде подушки-думки, а от нее в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха.— Туз — это письмо, казенную бумагу означает, какую-то контору».— «Нет, это не контора,— не согласился Касьян.— А ежели казенка, дак не иначе как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой, родненький! — обрадовалась Натаха.— Да как же не хотеть? Я и сама про нее все время мечтаю, да боюсь тебе сказать».— «Ну вот, родишь сына, и куплю. Истинное слово!» — «Ну тогда дай я еще выну карту, у меня рука легкая». Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой середки. «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» Она подкинула бумажку, чтобы подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьется и все никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама желтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела».— «Как же не ту? — возразил Касьян.— Все верно: это же наша Клавка-продавщица. Все сходится у нас с тобой».— «Ну как же ты не видишь? Это же ведьма! Пиковая дама завсегда ведьмой считалась».— «А Клавка и есть змея подколодная,— засмеялся Касьян.— Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая еще триста штук не хватает. Клавка и есть, ее рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо даже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и желтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше: не Клавка это… Вот тебе крест».— «Да кто же еще, дуреха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она… Какая-то не такая это денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотепа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь ее,— вскинулась Натаха.— Так-то от нее не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет».— «Да не возьмет он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся».— «Ну тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается».— «Нет,— сказал ей Касьян.— Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон еще сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как…» Касьян схватил даму, рванул ее пополам, сложил половинки и еще располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга,— засмеялся он довольно.— Была, и нету ее».
Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою лапоть, но никак не мог побороть сна, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали:
— Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет.
Кто-то повозил в его носу травинкой, Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки.
Промигав все еще изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырем, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона.
— Ну, артист! Вьюн-мужик!
Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость.
— Этак и бутылки поколотит.
— Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь.
— Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было все ж таки десять штук заказывать. Чего уж там!
Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в воду оковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками.
— Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит,— всполошились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную.
— Да не пьяный ли он, часом?! — тревожились бабы.— Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо.
— А долго ли ему хлебнуть, паразиту!
— Бельма свои залил — никого не видит.
Еще издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и все так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» да «а-а!» — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая его пасть была набита желтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул:
— Война!
Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчужденно глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким неузнаваемым и чужим.
С реки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и настороженные, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками.
Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запаленно повторил еще раз:
— Война, братцы!
Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не стронулся с места.
В лугах все так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое, безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы,— все оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком несовместимо было с обликом мира это внезапное, нежданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг, сразу принять его, поверить одному человеку, принесшему эту весть, не поверив всему, что окружало,— земле и солнцу.
— Врешь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжелый взгляд из-под насунутой фуражки.— Чего мелешь?
Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задергали, затеребили мужика:
— Да ты что, кто это тебе сказал?
— Мы ж только оттуда,— напирали бабы.— И никакой войны не было, никто ничего.
— Да кто это тебе вякнул-то?
— Может, и враки пустили.
— Потому и ничего…— отбивался Давыдко.— Дуська нынче не вышла, у нее ребенок заболел…
— Какая Дуська? При чем тут какая-то Дуська?
— Дак счетоводка, какая же…
— Ну?
— Вот и ну… А бухгалтер кладовку проверял, не было с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, еще с утра началася.
— Да с кем война-то? Ты толком скажи!
— С кем, с кем…— Давыдко картузом вытер на висках грязные подтеки.— С германцем, вот с кем!
— Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов.— Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали? Не может того быть! И в газете о нем сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь… Народ мне смущать.
— Поди, кто сболтнул,— снова загалдели бабы,— а он подхватил, нате вам: война! Ни с того ни с сего.
— Не иначе брехня какая-то,— обернулся к Касьяну Алешка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах косарь. Перочинным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую он от нечего делать затеял еще в ожидании Давыдки.
— Мир-то мир, а с немцем всякое могет статься,— запальчиво выкрикнул дедушко Селиван.— С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же ее и не соблюдёт. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую.
Однако мужики и сами уже нутром почуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это поверить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придется отрывать, бросать и рушить, о чем пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал, сипло и с пробившимся визгом в сорванном голосе:
— Да вы чего на меня-то? Чего прете? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами!
Со стороны деревни донесся отдаленный, приглушенный, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослабленные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по стонливому железу.
Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами, молчали мужики, теребя подбородки и бороды, помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алешкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку, обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, переметывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых, вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчужденными.
Да еще Натаха — как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зеленым ивовым пищиком в кулачке безмятежно посапывал на ее коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделенный от своего будущего братца теплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, под рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне веселые луговые птахи и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли.
А из села заливисто и тревожно, каким-то далеким лисьим тявканьем опять доносилось:
— А-ай, а-ай, а-ай, а-ай…
Иван Дронов наконец первым очнулся, крутнул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвел всех тягучим взглядом и объявил с глубинным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду:
— Ну, люди, пошли! Слышите, зовут нас…
Старая Махотиха, Лешкина мать, обморочно всплеснула вялыми плетьми рук, закрылась ими и завыла, завыла, терзая всем души, уткнув черное лицо в черные костлявые ладони.
3
С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетиненным граблями, деревянными рогатыми вилами, посверкивающими косами, добела отмытыми травой,— словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода, высился на своем мерине над картузами и косынками пеших людей бригадир Иван Дронов все с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах. Даже детишки попримолкли и без обычного гомона и непременного баловства трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца или матери. Парнишки упрямо не оставляли своих нехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желанной рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышленого слетка, желторотого дрозденыша, коими в покосы всегда кипело урочище. На головках у девочек, еще недавно в праздничном разноцветье лугов воображавших себя сказочными царевнами, в жалкой теперь ненужности мелькали цветочные венки, обвядшие, безвольно поникшие, о которых девочки, наверное, уже и не помнили. Иные в затвердело сжатых кулачках, как бесценное сокровище, несли перед собой пучки земляники. Вдосталь пособирать ее так и не довелось, и почти у всех пучки были жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редких дрожливых ягодах.
Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, бригада рассыпалась, разбилась на мелкие кучки, а те подробились и того мельче — кому мешали поспешать малые дети, кого удерживали квелые старики. Не утерпел, ускакал на голос все еще лязгающего железа Иван Дронов, крикнув только с коня:
— К правлению давайте! К правлению!
Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Одни уже одолевали последний узволок, по зеленому косо прорезанный светлой песчаной дорогой, другие подступали к стаду, а одинокий дедушко Селиван еще только перебирался по мостку. Не отрывая от настильных плах своих войлочных поршеньков, выстланных сеном, он мелко, опасливо шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное березовое перильце. И ему, должно, казалось, что и он тоже поспешал, бежал со всеми. А позади, над недавним становищем, уже слеталось, драчливо каркало воронье, растаскивая впопыхах забытую артелью складчину: яйца, сало и еще не простывшие пироги.
Касьян, посадив на плечи Митюньку, сдерживая себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом с косой и граблями, но та, упорная, все наддавала и наддавала, вострясь лицом на деревню.
— Да не беги, не беги ты так! — в сердцах окорачивал ее Касьян.— Чего через силу-то палишься!
— Все ж бегут…
— Тебе-то небось и не к спеху.
— Я-то ничего… да ноги… сами бегут…— приговаривала она, хватая воздух.— А тут еще звякают… Хоть бы не звякали, что ли… Душа разрывается…
— Сядь передохни, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегишь, запаляешься. Как бы худо не стало…
— Ох, нет, Кося! Пошли, пошли… Нехорошо как-то… Неспокойно мне… А ежели тебя возьмут… А у меня ничего не готово, не постирано…
— Ну дак не сразу ж. А может, и вовсе не возьмут.
— Да как же не взять? То ли ты хромый или кривой какой?
— Сперва молодых должны. А уж потом как пойдет. А то, может, и одними молодыми управятся. Вот и польская была, и финская, а меня не тронули. Ну-ка, одних молодых кликни, и то сколь, ого-о!
— Ох, Кося, в финскую так-то вот не звякали, не скликали. Тогда тихо все было…
Деревня уже каждой своей избой хорошо виделась на возвышении. Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тихо, со сдержанной молчаливостью привязан к своему дому, особенно после того, как привел в хозяйки Натаху, которая как-то сразу пришлась ко двору, признала его своим, будто тут и родилась, и без долгих приглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как принял он от отца подворье, стало привычкой во всякую свободную минуту обходить, окидывать со всех сторон жилье, надворные хлевушки, погребицу, ладно срубленный, сухой и прохладный, на высокой подклети амбарчик, в три хлыста увязанный все еще свежий плетень, всякий раз неспешно присматривая, что бы еще такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заново. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, и по железному делу, а каждую найденную проволочку или гвоздок, рассмотрев и прикинув, определял про запас в заветный тайничок. Позапрошлой весной заменил на своей избе обветшалые наличники на новые, за долгую зиму урывками между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл киноварью, и от всего этого изба враз весело обновилась, невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца, все, бывало, отвернет занавесочку, обежит сквозь стекло глазами, хотя виделось, в общем-то, одно и то же: однообразный до самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось покосное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и угрюмовато маячил матерый лес. Простая и привычная эта картина, ее извечная, сколь себя помнит Касьян, неизменность откладывались в сознании незыблемостью и самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, как прожить и умереть на этой вот земле, родной и привычной до каждой былки.
Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо вглядывался в свое подворье, которое столь старательно укреплял и ухорашивал, и, наверное, впервые при виде голубых окошек испытывал незнакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапный ожог, который он поначалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, однако, пока он бежал, начало все больше саднить, воспаленно вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполняя все его сознание ноющим болезненным присутствием. Но сам он еще не мог понять, что уже был отравлен этой зловещей вестью, ее неисцелимым дурманом, который вместе с железным звоном рельсового обрубка где-то там на деревне уже носился в воздухе, неотвратимо разрушая в нем привычное восприятие бытия. О чем бы он мельком ни подумал: о брошенном ли сене, о ночном дежурстве на конюшне, о том, что собирался почистить и просушить погреб,— все это тут же казалось ненужным, утрачивало всякий смысл и значение. Он бежал и все больше не узнавал ни своей избы, ни деревни.
Вытравленным, посеревшим зрением глядел он на пригорок, и все там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы… И вся деревня казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто неба и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надежным прибежищем.
Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с разверстой дырой в серую пустоту, и он, все более раздражаясь, не понимал, почему так рвется туда Натаха, где уже нельзя было ни спрятаться, ни укрыться.
— Да не беги ты как полоумная! Сядь, отдохни перед горой-то!
— Ничего уж…
— Экая дура!
— Теперь вот оно, добежали.
— Да ведь не пожар, успеется.
— Кабы б не пожар…
— Па, а па! — вскинул на отца возбужденный взгляд Сергунок.— А тебе чего дадут: ружье или наган?
Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе все это веселой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал:
— Ружье, Сережа, ружье.
— А ты стрелять умеешь?
— Да помолчи ты…
— Ну, пап!
— Чего ж там уметь: заряжай да пали.
Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что не часто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни для какой надобности, это самое ружье.
— Ружье лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок.— К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон.
— Ага, можно и штык…
— Штык, он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый.
— Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями.
— Да штык! У Веньки у Зябы.
— А-а! Ну-ну…
— Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ой! Раз их, рраз! Да, пап? И готово!
— Кого это?
— Всех врагов! А чего они лезут.
— А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька.— Я тоза хоцю сты-ык!
— Тебе нельзя,— важно отказал Сергунок.— Он колется, понял?
— Мозно-о!
— А ну хватит вам про штыки! — оборвала парнишек Натаха.— Тоже мне колольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, чтоб чего не след не мололи.
Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку, не глядя на жену, сказал:
— Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать.
И еще не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру.
Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте, в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с ревом и пылью, оставляя после себя лепехи, проходило усвятское стадо и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту.
Касьян, поспешая через пустырь, еще издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна еще раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а, почитай, всей деревни сразу.
Рельса все еще надсадно гудела. Полуметровая ее культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зеленую краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано право оголять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно уже отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочередно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, еще не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов.
Люди, тесня друг друга, плотным валом обложили контору. Крепко разило потом, разгоряченными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдергивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешенно глядевший на свои пыльные, закочуренные сухостью сапоги.
Помимо косарей сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, приковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И, подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряженной, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами непроизвольно никли обнаженными головами.
А Прошка-председатель все так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель принимался тискать зубы. Касьян думал поначалу: потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были в сборе до последней души.
Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утружденно, по-стариковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельса ребятишек, сразу же пришел в себя, налился гневом:
— А ну хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол!
И как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы:
— Ну, значит, такое вот дело… Война… Война… товарищи.
От этого чужого леденящего слова люди задвигались, запереминались на месте, проталкивая в себе его колючий, кровенящий душу смысл. Старики сдержанно запокашливали, ощупывая и куделя бороды. Старушки, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками.
— Нынче утром, стало быть, напали на нас… В четыре часа… Чего остерегались, то и случилось… Так что такое вот известие.
Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блеклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно это его отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он в сокрушении потряс головой:
— На ж тебе: ты только за пирог, а черт на порог. Тьфу!
Председатель ожесточенно сплюнул и заходил взад-вперед по крыльцу от столба к столбу как пойманный, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковках, внезапно закруглил собрание:
— А теперь… тово… давайте, кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам.
Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая еще чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подававшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал:
— Все! Все! Расходись давай. Пока больше ничего не имею добавить…
Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягченные плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колесный клекот:
— Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!
4
И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Все как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопненным. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено! Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдет дальше, какой примет оборот?
Прошка-председатель ходил смурной, неразговорчивый и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто видели его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на юру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом.
Поутру мужики, а больше бабы подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни.
Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу, перед маем начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтеры что-то закапризничали, в чем-то не сошлись с Прошкой и больше не появились в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернется, думалось ли кому о войне? Газетки же пока еще шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там всё еще пишут про всякое такое разное и на картинках все такие довольные, ровно ничего и не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по сельсоветам, а там уж и по самим деревням, это ж сколь раз из рук в руки передать надо, сколь потратится времени. Районка, та и вовсе один листок и не каждый день в неделю.
Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, вострились слухом, не зазвонит ли телефон, не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь:
— Кова черта, понимаешь! Ну война, война… Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнете. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели!
— Да ить как робить, ничего не знаючи? Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телефон в кабинете. Можа, чего слыхать…
— А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются.
— Ты бы спросил в трубку-то. Живем, как в мешке завязаны.
— Об чем, об чем спрашивать-то?
— Да какая она будет, война — большая аль маленькая! Будут ли еще мужиков забирать ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут.
— Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы доси тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся: «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь.
Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределенности. Куда б легче, кабы знать наверняка, так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперед сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да все как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворотишь старье, оно — тронь, дак и в две недели не уберешься. Было с ним такое, будто подвесили его поперек живота и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, все тянулся куда-то слухом, и тесно ему стало подворье, давило плетневой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чем не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища.
Тем же днем, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору, не мешкая, по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлебывать поданные Натахой щи, а, утершись ладонью, цапнул с гвоздя картуз.
— Доешь, успеется,— сказала Натаха, сама насторожась.— Поди, не тебя одного кличут.
Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени.
Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полста, не считая баб и налетевшей мошкары — пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным перышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берет тайная сумять: война!
Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики.
Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван.
Жил он бобылем в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой, после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьев да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьет. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своем дому, особенно в летнюю пору, а все больше там, где была доступная живая душа,— на конюшне, с ночными сторожами, с эмтээсовскими трактористами на полевом стане.
Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но все еще живыми востренькими глазками.
— Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево.
— Да вон таратайка стоит, кого-сь из району доставили.
— Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то?
— Известно по какой. Надобность теперь одна…
— Бают, будто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые пущи… Яблоки кушать, гранаты.
Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой:
— Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то.
— Там вставят.
— Нуте, нуте… То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине. Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал?
— Кажись, в белом пинжаке.
— Ага, ага… Сорока-белобока… Нуте, нуте… Потрескочет, побалаболит чево ни то, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз?
— Да кто же его знает… Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось скоро нам свою затягивать…
Приезжий человек все не объявлялся, затворился в конторе вдвоем с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики, хотя и пошучивали, но сидели как на угольях.
Наконец в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь, и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися еще от посевной кампании.
Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживленно вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке.
— Товарищи! — объявил Прошка-председатель.— Давайте подходите поближе.
Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином.
— Покучней, покучней, понимаешь,— подбадривал Прошка.
Кое-кто посунулся еще маленько к столу.
Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Артельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу,— что в ней такое.
— Значит, так…— Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки.— Тут, значит, такое дело… Многие интересовались насчет немца. Ну дак вот… Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища.— Он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего.— Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»… А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться.
Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса:
— Да чего уж… Всяко болтают.
— Пущают слушки!
— Да вот вам последний факт. Насчет хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупаться от немца?
Прошка-председатель обвел упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду.
— За такие штучки, понимаешь…— Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца.— А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем!
Приезжий человек сдержанно покашлял.
— Насчет овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — все это коня требует. А конь — овса. Понимать надо…
Он сделал заминку, потер скулу, пошуршал щетиной.
— Ну это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбаловались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи отвертаю.
На поляне попритихли: никогда еще усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении.
Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной веселыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал ее кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми.
Иван Иванович не мешкая принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймется мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разно окрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудреных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и еще много других и прочих,— все ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то услеживалось, кто там и где находится,— дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков:
— А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове.
И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб,— Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведенных на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в нее лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги. И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю. Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, таращась, на единую российскую покраску, на общий ее засев и не утерпел, перебил вопросом лектора:
— Ужли наше все это? Дак которая тади из них Германия-то? Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное:
— Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия.
— Только и всего? Это которая на морду похожа?
— Ну, если хотите,— сдержанно улыбнулся Иван Иванович,— то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть,— Иван Иванович показал на карте хворостинкой,— которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращенный в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия {6} — часть земли, некогда отвоеванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз,— вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин.
— А и верно — глаз! — удивились бабы.— Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длинну в рот забрал!
— Нет, товарищи, это не цигарка,— опять улыбнулся Иван Иванович.— Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился,— забрала в рот,— еще в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.
— Понятно теперича… Вот оно что!
Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела и что нос у немца вытянулся еще дальше, уперся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во многих местах вклинилась в нашу землю, и что есть уже убитые и раненые…
Народ на полянке поумолк, а какая-то бабенка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На нее зацыкали соседки, принялись тормошить с укором. Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос:
— Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рев…
Баба малость поубавила тону, но выть не перестала.
— Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырек кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец.
— Кулиничева,— подсказал председатель.— Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе, Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей.
— Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть ее и Иван Иванович.— Товарищ Кулиничева!
Он смущенно поглядел в толпу поверх очков.
— Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу? Слезы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твердость духа, а не поддаваться паническим настроениям.
Щуплая, плосконькая бабенка, еще пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дергался в кустиках лебеды.
— Право же, никаких оснований для слез еще нет,— пытался утешить Иван Иванович.— Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счет внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта,— попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович.— Ведь и с каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли?
Мужики оживленно заерзали, загалдели:
— Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое…
— Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слезы.
— Да, понимаешь, сын у нее служит в тех местах,— перебил его Прошка-председатель.— И жену с дитем как раз по весне забрал туда… Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе?
Что ответила бабенка, не было слыхать, но люди через ряды донесли ее ответ, и Давыдко объявил:
— В каком-то Перемышля он.
— Ах вон оно что…— покивал очками Иван Иванович.— Понятно, понятно…
— Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель.— Кому говорю!
Марья вяло выпрямилась, утерлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол.
— Мы несколько отвлеклись от нашей беседы,— опять ровно заговорил Иван Иванович,— так что продолжим… Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы еще не подошли, не участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать.
Он вернулся к карте и, оглядывая ее, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории.
Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним:
— Дорогие друзья! Есть еще одно немаловажное обстоятельство, не учтенное германскими горе-стратегами. Чем больше они раздувают свою военную машину, тем ненадежней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своем состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьезном отпоре неизбежно развалится и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев…
Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал:
— А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведете черту нашей беседе.
А написано тут следующее.
Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий.
Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника.
И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью.
Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал ее в карман.
— Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки.— Есть вопросы, товарищи?
Из задних рядов кто-то выкрикнул:
— А верно ли бают, как будто немец одной колбасой питается?
— То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович.
— Говорят, вроде у него хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету.
— А откуда ж у него колбаса, ежели земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучу мужиков.— Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова!
— Дак, может, она у них такая… неправдашняя,— выкрикнул тот же голос.— Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху.
— А ты ее нюхал? — засмеялся кто-то в толпе.
— Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне ее нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал.
— Не морочь голову, Лобов,— обрезал Прошка-председатель.— Если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь.
— У кого еще есть вопросы? — повторил Иван Иванович.
— У меня есть! — объявил Давыдко.— Дак а сколь у ево народу, если он так-то всех бьет и бьет?
— Если считать самих немцев,— сказал Иван Иванович,— то приблизительно шестьдесят миллионов.
— А у нас сколь?
— Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших шапки на одного немца.
— Тади ясно.
— Нет больше вопросов?
— Нема! — довольно отозвались мужики.— Все ясно и понятно.
Приезд Ивана Ивановича принес облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой.
Бывает так по осени: внезапно пахнёт мороз, захватит врасплох все живое, обникнут опаленные холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьет на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять все, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати.
— А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах.— Теперича все ясно. А то сидим тут — опенки опенками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин-спички. Ситчик завалящий — и тот похватали бессчетными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать {7}.
Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых. Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одежей да и хлеб зазря переводить?
— Ну, ребятки! — просветленно поднял и свою чарочку дедушко Селиван.— Бог не выдаст — свинья не съест Авось обойдется. Возьмут кого, дак ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле биться, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдете докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары — о-ей, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с каждым, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по карте-то, да там примутся обучать строю, оружию,— глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в финскую. Тади тоже так вот: война, война… А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казенного варева да и по домам восвояси.
Подвыпивший Касьян слушал все это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки.
— Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван.— Помяните мое слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-и-пкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного свёрку боится. Истинное слово! Бивали мы его, горохова пярдуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатую {8}. Бывалача, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнём «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймет, густо нас дюже, да и деру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтесь в этом.
Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую еще раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер легкий на такое поручение Давыдко, благо что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, все обойдется малой кровью да на ихней же, немецкой, земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постербают бесплатного кулешу {9}.
Но уже через несколько дней на деревню, как тяжелые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прет великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют обороняться, тех немец палит огнем и давит бессчетными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ.
Слухи о том, что немец идет беспрепятственно, рушит все и лютует, ходили все упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то еще земли по-за нею. Вскоре о том помянули и в газетах, дескать, после упорных боев наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот верст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжелого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле.
Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так все получилось нескладно и несуразно.
5
Одно только дело, как и прежде, в мирное время, Касьян исполнял без запинки — гонял колхозных лошадей в ночное к остомельским омутам. Гонял через день, чередуясь со своим напарником Лобовым.
Ночи стояли светлые, в благодатной теплыни. Отпустив стреноженного коня под седлом, он бросал на берег старый бараний кожух, ложился ничком головой к реке и постепенно отходил душой.
Внизу, в густой тени, под глиняной кручей вкрадчиво бормотали сонные струи, неся с собой парные запахи кубышек, которые, разомлев еще в дневной духоте, только теперь начинали пахнуть особенно остро и опьяняюще. К этим запахам примешивалось дыхание заречных покосов, томный аромат калины, а иногда вдруг в безветрии, поборов все остальное, обнажалась нежная горечь перегретых осин, долетавшая в луга из дальнего и незримого леса.
Опершись подбородком на скрещенные руки, Касьян бездумно прислушивался, как невидимый зверушка шебуршил под обрывом, должно быть чистил свою нору, роняя сухие комья, дробью стучавшие по воде. А на самой середине реки, на лунно осиянном плесе, все вскидывалась на одном и том же месте какая-то рыба, пуская вниз по течению один за другим кольчатые блинцы. В заречье, в сырых, дымно-серебристых от росы лозняках неумолчно били перепела — краснобровые петушки, словно нахлестывали друг друга тонкими прутиками — фью-вить! фью-вить! — и выстеганный ими воздух, казалось, потому был так чист и прозрачен.
Вкруг Касьяна в кисейно-лунной голубизне маячили лошади, мирно хрумкали волглой травой. Даже теперь, в ночи, Касьян различал многих из них, и не по одной только масти.
Вон сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, подбирала все подряд, будто жала, словно все время помнила, что летняя ночь коротка, а день в хомуте долог, мослатая работяга Варя. Неподалеку от матери резвился Варин двухмесячный малышок со смешным кучерявым хвостиком, который он то и дело поднимал и держал на отлете, как бы вопрошая мать: а что это? а это что? Жеребенок то пробовал щипать траву, неумело тянулся короткой шеей к земле, то, узрев темный кустик татарника, таинственный в своей неподвижности, цепенел перед ним, боязливо тянулся ноздрями, и вдруг, неумело взбрыкнув, отлетал прочь. Но, увидев мать, тут же забывал свои минутные страхи и вот уже, полный ликующей радости бытия и потребности куда-то мчаться, пускался отбивать копытцами — та-та, та-та, та-та,— в лихом наклоне узкого и плоского тельца вынашиваясь вокруг Вари.
А там, часто переходя, шумно отфыркиваясь, выбирала, обнюхивала каждую куртинку привередливая Пчелка — молодая, красивых донских обводов кобыла в белых чулках на передних ногах. На ней уже ездили, но она пребывала в той переходной легкомысленной поре, когда еще не научилась терпеть упряжь как должное и всякий раз при виде подносимого хомута западала ушами и норовила куснуть ненавистную штуковину. Но в лугах все эти удила и подпруги тотчас забывались, и она предавалась свободе и беспечности, как школьница, забросившая докучливую учебную сумку.
Там вон сошлись, чешут зубами друг другу холки неразлучные подруги Вега и Ласточка, чалые простушки, которых Касьян и в работе старался не разлучать и запрягал только в пароконку. В дышле и бежали {10}, и тянули они ревностно, всегда поровну, честно деля и дальнюю дорогу, и нелегкий воз, и Касьян уважал их за эту добросовестную надежность.
Поодаль, подойдя к самому обрыву, недвижно стоял старый Кречет. Когда-то был он в нарядных серых яблоках, особенно по широкой груди и округлым стегнам {11}, постепенно переходивших книзу, к ногам, в посеребренную чернь. Но со временем яблоки вылиняли, а потом и совсем пропали, и Кречет сделался просто сивым, покрылся морозным инеем, а под глубоко провалившимися салазками отросла белая стариковская борода. Конь, ослабив заднюю ногу и обвиснув репицей, в раздумье смотрел в заречье, а может, уже и никуда не глядел и ни о чем не думал, как полусухой чернобыл {12} перед долгой зимой…
Он еще продолжал помаленьку работать, таскать свою сорокаведерную бочку на скотный двор, но и это, казалось, необременительное дело все больше утомляло его, и он тут же задремывал, как только останавливались колеса и возчик бросал на его зазубренный хребет веревочные вожжи.
Автограф первой страницы рукописи с первоначальным названием
Касьян, глядя на одряхлевшую лошадь, всякий раз вспоминал своего старика-отца, когда тот однажды, еще до колхоза, поохотившись поехать в поле, не смог сам влезть в телегу, заплакал и не поехал. «Все, Кося, отъездился я…» — проговорил он в неутешном сокрушении. Касьян попробовал было посадить старика, взял его под сухонькие закрылки — так хотелось Касьяну, чтобы и отец, ну пусть не помог, а хотя бы побывал в поле на первый день жнитвы, порадовался бы дороге, воле, молодому хлебу. Но отец, отстранив Касьяна, замотал лунь-головой: «Нет, сынок, так я не хочу. Коли не работник, то и нечево…»
Недолго небось и Кречету осталось до того дня, когда он тоже не сдвинет своей бочки…
Уже в который раз Прошка-председатель, наткнувшись на Кречета, гудел, что, мол, попусту держат ненужную худобу, травят на нее корма. Но у Касьяна рука не поднималась выдворить старика за конюшню, и он упрямо, не зная и сам для чего, поддерживал в нем остывающую жизнь и даже исподтишка подкармливал чем помягче: то овсеца вымочит в ведре, то зачерпнет сечки в коровнике.
Когда перед ночным отвязывали и выпускали лошадей и те, нетерпеливо теснясь, выбегали за конюшенные ворота. Кречет, уже зная, куда их и зачем выгоняют, тоскливо посматривал из-за своей загородки на светлый квадрат распахнутой зари и даже пытался напомнить о себе ржаньем. Но голоса у него уже не было, и он лишь немо и тяжко выдыхал неозвученный воздух. Касьян под конец выпустил и его, и Кречет, выйдя за порог, глубоко и шумно вздохнул. А потом, выфукивая пыль из-под разлатых, уже не ковавшихся копыт, тяжело неся свой громоздкий остов, трусил позади табуна, стараясь не отставать, как тогда дедушко Селиван…
«Кабы б всё только с пользой, дак многое на этом свете найдется бесполезного,— размышлял Касьян, глядя на серую глыбу лошади на берегу.— Не одной пользой живет человек».
Иногда к Касьяну подходила бродливая Пчелка. Лоснясь лунными бликами, вся трепетно настороженная, готовая во всякую минуту отпрянуть, взвиться и отскочить с игривым испугом, она принималась обнюхивать Касьянов узелок с едой, черный закопченный котелок, оброненный в траву ременный кнут, потом подбиралась и к самому Касьяну, тыкалась мордой в кожух, брезгливо сфыркивая от запаха овчины, тянулась мягкими губами к его старенькой кепке, пропахшей конюшней, овсом и сеном. Касьян не отпугивал кобылу, недвижно лежал, полнясь сладким удовольствием от этого осторожного прикосновения лошади, накрывшей его своей тенью и веющей терпким и таким близким и успокаивающим духом здоровой конской плоти.
— Ну, будет, будет…— наконец повернулся он к Пчелке, когда та задышала в самое ухо и даже ослюнявила его.— Ступай пощипи. А то пробегаешь так-то… Вон, глянь-ка, Варя молодчина какая.
Он говорил совсем по-мирному, будто позабыл, что идет война.
После деревенской колготы, бабьего рева и томительного ожидания чего-то здесь, в лугах, стало Касьяну особенно отрадно, тут можно было хотя бы на время отдаться тому неведению беды, в коем пребывали и эта ночная отдыхающая земля, и вода, и кони, и все, что таилось, жило и радовалось жизни в этой чуткой голубой полутьме,— всякий сверчок, птаха или зверушка, ныне никому не нужные, бесполезные твари.
Деревня кое-где еще светилась, и, когда Касьян оборачивался в ту сторону, лишь они, эти тусклые керосиновые огоньки, затаенно припавшие к земле у самого горизонта, напоминали об иной, неизбывной реальности, куда он должен был возвращаться на рассвете.
Ему казалось, что все там охвачено каким-то тяжким повальным недугом. Это поветрие, принесенное в деревню, уже проникло и расползлось по людским душам, будь то мужик или баба, старик или малое дитя. У всех без разбора оно отложило свое семя, и с ним теперь каждый просыпался, принимался что-то делать, ел или пил, шел куда-то или ехал и, отбыв сумятный день, опять забывался во сне, не избавлявшем от смуты и ожидания неизвестного.
Война…
Отныне все были ее подушными должниками, начиная с колхозного головы и кончая несмышленым мальчонкой.
Являлся ли в контору Прошка-председатель, день его занимался не с привычных заведенных обычаев, когда он, едва только взбегая на крыльцо, уже начинал шариться по карманам, отыскивая ключ от своего нового кабинета, и все находившиеся в конторе слышали, как сперва решительно клацал замок, потом сразу же начинало гулко трыкать где-то под потолком, означая, что Прошка подставил стул и самолично заводит настенные часы, а уж потом доносилось бодрое «Потапыч», когда был он в добром расположении, или нетерпеливое и требовательное «Петр-р-раков!», что на конторском языке в обоих случаях понималось: «Бухгалтера ко мне!» Теперь же Прошка-председатель входил в контору без прежнего оживленного топота, будто прокрадывался,— сумной, проткнутый какой-то больной думой, с белым пятном извести на спине замятого пиджака: где-то шоркнулся в беготне о стену, да так и не оттер. И после того как отпирал дверь, из его кабинета больше не слышалось ни рыка заводимых часов, ни клича бухгалтера, а наступала мертвенная тишина, которая иногда затягивалась надолго, и никто не знал, что он делал в эти немые минуты: то ли недвижно замирал у окна, то ли забывался, сидя за своим неотомкнутым столом. И только он один знал, что день его теперь начинался с опасливого погляда на телефон, поскольку на другом конце провода ежечасно, ежеминутно его караулила война. В любое мгновение она могла ознобить властным звонком, бесцеремонным распоряжением, как уже было, когда позвонили и потребовали срочно отгрузить все наличие овса в фонд мобилизации, или оглушить в трубку худой вестью, от которой и вовсе опускались руки.
Отправлялась ли баба в сельпо, она теперь не по-будничному шла туда, лузгая семечки, чтобы, поболтав у прилавка, купить кулек лампасеток или кренделей, а уже издали зыркала, приглядываясь к лавке: не подвезли бы, подай бог, еще партию соли, которая вдруг сделалась слаще всяких конфет и которую в давке расхватали до самого пола,— волокли кто на горбу, кто на тачке, а кто в ведрах на коромысле.
Рассаживались ли на завалинке запечные старцы,— и они, не как прежде, сходились для одного лишь коротания летней погожей зари, а, гонимые все тем же недугом напасти, гадали и рядили, прикидывали на свой стариковский салтык {13}, как оно будет, каково пойдет дале, ежели уже теперь оплошали и дозволили немцу потоптать уймищу своей земли.
И даже детишки в гурьбе на выгоне больше не забавлялись в жучка и салочки, а словно бы с ними чего сотворили, навели какую порчу,— все враз кинулись выстругивать себе сабли, ружья да пугачи. Допоздна — матерям не дозваться — галдят, галдят драчливо за огородами, бегут, бегут куда-то, пригнувшись, прячутся по канавам и все пукают друг в друга из тесового оружия.
Но только ли на людях — на всей деревне с ее заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, все было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело ее привкус. Этот недуг души, разлад в ней и сумятица ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице. И только здесь, в лугах, в росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице под мирный всхрап коней и бой перепелов Касьяна постепенно отпускало.
Раза два он уже вставал с кожуха, отыскивал оседланного Ясеня, объезжал и поправлял табун, чтобы широко не растекался, и здесь, в седле, к полуночи его настиг внезапный и такой нестерпимый голод, как после избавления от болезни. Он бросил объезд и напрямки, через лошадей, вернулся к узелку. И тут кусок крутого хлеба, на поду испеченного Натахой еще на мирной неделе, который он густо осыпал серой крупной солью и которым жадно хрустел теперь с молодым перистым луком, впервые за весь день обрел свой прежний житный вкус и даже обостренный аромат далекого детства — без горечи гнетущей несвободы.
С берегов Остомли в легкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами да еще колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И все это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной земли! И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты, а лишь царили покой, мир и вот эта извечная благодать. И на него находило чувство, будто и на самом деле ничего не случилось, что война — какая-то неправда, людская выдумка.
И он отвернулся от деревни и, доедая ломоть хлеба, принялся глядеть за реку, в благоухающую кипень сырых покосных перелесков, где все живое, не теснимое присутствием человека, раскованно и упоенно праздновало середину лета.
«Вот же нет там никого,— думалось ему,— одна трава, дерева да звезды, и нет никакой войны…»
Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ночные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд крупного жука. Касьян даже пошарил вокруг глазами: в эту пору жуки всегда летели с той стороны, из дубравных лесов, и не раз доводилось сбивать их шапкой. Отыскав потом жука по басовитому рыку в траве, Касьян заворачивал в тряпицу и приносил эту занятную диковинку своим ребятишкам.
Но приглушенный гуд постепенно перешел в гул, который все нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча. Нездешний и отчужденный, с протяжным стонущим подвыванием, он неотвратимо и властно поглощал все остальные привычные звуки, вызывая в Касьяне настороженное неприятие. Сначала расплывчатый и неопределенный, он все больше густел, все явственнее определялся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком, обозначивший свое движение прямо на Касьяна, и когда этот сгусток воя и рева, все ускоряя свой лет, пересек Остомлю и уже разрывал поднебесье над самой головой, Касьян торопливо стал вглядываться, рыскать среди звезд, размытых лунным сиянием. В самой светлой крутовине неба он вдруг на несколько мгновений, словно потустороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбовоза. Самолет летел не очень высоко, были различимы даже все его четыре мотора, наматывавшие на винты взвихренную лунную паутину, летел без огней, будто незрячий, и казалось, ему было тяжко, невмочь нести эту свою черную слепую огромность — так он натужно и трудно ревел всем своим распаленным нутром.
Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель, должно быть, вытянулся столбиком, подняв к небу остренькую свою головку, сделав себя похожим на былку конского щавелька. Кони тоже оставили траву, замерли недвижными изваяниями. И только Варин жеребенок не выдержал, сорвался было куда-то, но, внезапно остановившись, потрясенно упрясь в землю широко расставленными ножками, залился отчаявшимся колокольцем. Варя, сама придавленная моторным ревом, не пошевелясь, не поворотив даже головы, а лишь подобрав брюхо, исторгла какой-то низкий утробный глас, какого Касьяну не приходилось слышать от лошади, и жеребенок, поворотив обратно, с ходу залетел под материнский живот, в самый темный подсосный угол.
Пройдя зенит, будто перевалив через гору, бомбовоз, уже снова невидимый, умерил свой рев и, отдаляясь, стал все глуше и глуше уходить к закату, возвращая лугам нарушенную тишину. Еще какое-то время он неприкаянно стонал где-то за деревней, пока наконец не изошел совсем, опять превратясь в ничто, в небылое…
Но еще долго после того луга онемело молчали. И лишь много спустя робко, неуверенно фтюкнул первый перепелок, за ним подал о себе знать второй, а уж глядя на них, расслабился в своей потаенной стойке и коростель, вновь из щавелевой былки обернулся скрипачом, пока еще несмелым, не одолевшим робости.
Но едва все наладилось, пошло своим прежним чередом, едва кони вспомнили о траве, как на востоке снова вкрадчиво заныло, занудело, разрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в надсадном напряжении всех своих моторов черной отрешенной громадой прошел другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тонко позвякивала дужка на боку Касьянова котелка.
Потом проследовали тем же путем третий, четвертый, пятый…
Касьян досчитал их до двух десятков, а они все летели и летели, озабоченные какой-то одним им известной устремленностью, заставив окончательно приумолкнуть окрест все живое. И даже кони больше не пытались кормиться, а так и остались стоять, как при обложной непогоде.
А бомбовозы всё летели, заполняя ночь нарастающими волнами грома, и, пройдя над Касьяном, снова обращали рев в затихающий гул, а гул — в замирающее стонание…
— Это ж она…— потерянно трезвел на своем мокром от росы полушубке Касьян.— Она ж летит…
Он даже не решался назвать это прямо, тем единственным жутким словом, замены которому не было, будто боялся навлечь беду и сюда, в ночные луга. Но теперь уже ни в нем самом, ни во всей округе не оставалось ни покоя, ни той благодати, которые еще недавно заставили было его поверить в неправду случившегося.
Война летела над ним, заполняя собой все, сотрясая каждую травинку, проникая своим грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок сознания.
— Видать, разгорается не на шутку,— говорил сам себе Касьян, догадываясь, что эти тяжелые многомоторные чудовища перегоняли к фронту откуда-то из глубины страны.
Он никогда еще не видел таких огромных самолетов. Где-то они таились до поры, как прячутся невесть где до своего массового лёта те черные рогатые жуки, которых он сбивал шапкой. И еще терзала его догадка, что ежели такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дни столь много от России, стало быть, у него, у немца, и того больше заготовлена сила. Значит, придется идти и ему, и всем подчистую…
Лишь перед рассветом, когда на востоке проклюнулась зеленая неспелая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего солнца, оборвали свое пришествие: одни ушли дальше, на запад, другие больше не появлялись, оставшись где-то на скрытых гнездовьях дожидаться своего череда.
Так во тьме ночные существа, невольники инстинкта, летят на пламя пожирающего их костра.
И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсходованного вчерашнего тепла земли, наконец наступила тишина, она, эта тишина, как и само утро, показалась Касьяну серой, безжизненной немотой — то ли оттого, что еще не взошло солнце, или потому, что скованно и непривычно молчали луговые птицы.
6
Касьянова деревенька Усвяты некогда тянулась одним порядком — по-над убережной кручей, и все избы этого порядка были обращены в заливные луга — любил русский человек селиться на высоте, чтоб душа его опахалась далью и ширью и чтоб ничто не застило того места, откуда занималось красно солнышко.
Со временем, множась, люди заложили и второй посад, позади первого, и образовались две улицы — Старые Усвяты и Полевые Усвяты, разделенные между собой привольным муравистым выгоном. Выгон этот был для полевских как бы своим лужком: здесь по первой траве весело желтели гусиные выводки, на все лады мекали привязанные телки, а по праздникам девки и парни устраивали свою толоку с гармошкой и припевками.
Уже на памяти стариков Полевые Усвяты дважды выгорали почти до последней избы — то ли оттого, что люди там строились покучнее, поприлепистее, то ли потому, что на том посаде, на самом материке, было мало колодцев.
Горели полевские всегда летом, в суховейные годы, когда перед тем надолго задувал юго-восточный, или, как тут называли его, татар-ветер. Он выметал с дорог всю пыль до окаменелой черни земли, закручивая в хрусткие трубки листья на огурцах и картошке, скрипел пересохшими плетнями и задирал застрехи пороховых соломенных кровель.
Как ни береглись в это время, как ни запасали воду в бочках и кадушках, но довольно было невесть кем оброненной искры, чтобы все это, измученное сушью, враз занялось неудержимым полымем, с гудом пластавшим свои языки вдоль всего посада.
Касьян и сам, будучи еще мальчишкой, захватил последний такой пожар. Помнит, как закричали, завыли вдруг на дальнем конце Полевых Усвят, где теперь обитал Давыдко, как туго взбугрился желто-зеленый клуб дыма и тотчас отлетел в сторону, будто при взрыве, и понеслись рвать и метать злые, ярящиеся на ветру гривы, густо сорившие вдоль улицы огненными шмотьями и хлопьями. И вот уже закричали, заголосили на других дворах — и тех, что уже занялись, и тех, что ждали своей неизбежной участи.
Минуло тридцать лет, а Касьян и до сих пор с изморозью на душе вспоминает этот страшный, погибельный крик, вместе с огнем и татар-ветром катившийся от подворья к подворью.
И нынче случилось похожее на тот давний пожар.
Воротясь из ночного, Касьян копался под навесом, где у него был верстак, разбирал на всякий случай кое-какой поделочный материал, скопленный для домашнего обихода, когда послышался отдаленный бабий крик. Кричали где-то в Полевых Усвятах.
Встревоженно острясь слухом, Касьян отворил заднюю калитку в маленький садок из нескольких молодых яблонь и вишенника по омежью {14}, пробрался под ветвями в конец.
Перед Давыдкиной избой, зачинавшей полевской порядок, причетно выли две бабы, осыпанные понизу ребятишками. Над ними возвышался какой-то верховой в седле. Глядеть было далековато, лиц не различить, но и без того Касьян понял, что сумятилась так, на всю улицу, Давыдкина Нюрка с детвой и старая Давыдчиха. Верховой отвалил от ихней избы, и обе бабы еще пуще заголосили, вознося руки и переламываясь пополам в бессильном поклоне. А верховой уже свернул через два дома к воротам Афони-кузнеца, и там тоже вскоре завыли, не выходя на улицу. Так и пошло, где через два двора, где через три, а где и подряд в каждом дворе. Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя.
«Повестки…» — холодея, догадался Касьян, и, когда верховой переметнулся к Старым Усвятам, заходя с дальнего от Касьяна конца, он, не зная, чем занять, куда деть эти последние минутки, снова забился в свой куток, стараясь совладать с собой, подавить оторопь, будто начатое там, в кутке, дело-недело оборонит его от неизбывного.
Дома в этот час никого не было. Натаха вместе с Касьяновой матерью, бабкой Ефросиньей, ушла на подгорные ключи полоскать белье. С ними увязались и Сергунок с Митюнькой.
Оцепенело скованный ожиданием, Касьян машинально продолжал перекладывать бруски и дощечки: годные — в одну сторону, негодные — за порог, на растопку, когда вздрогнув, как под бичом, услышал у ворот конский топот и чужой, незнакомый окрик:
— Хозяин! А хозяин! А ну выдь-ка сюда.
В верховом, глядевшем во двор через плетень прямо из седла, Касьян распознал посыльного из Верхних Ставцов, где располагался сельсовет. Остро, ознобливо полоснуло: «Вот он, и твой черед…» И все еще продолжая вертеть в руках сухой березовый опилок, из которого собирался нарезать колесиков для детской покатушки, он глядел уже невидящими глазами, медля выходить, пока его не понукнули во второй раз:
— Эй, слышь! Некогда мне…
— Да иду… Иду я…
Отшвырнув брусок, Касьян заученно провел ладонью по волосам, как всегда при встрече гостей, вышагнул из-под застрехи и нетвердо, опасливо направился к воротам.
— Она? — спросил Касьян, подходя, упавшим голосом и зачем-то обтер руки о штаны.
— Ох, она, браток! Она самая…
Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашептывая чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и так, держа ее за уголок перед собой, спросил:
— Когда являться?
— А там все указано. Послезавтра уже быть на призывном. Иметь при себе котелок, ложку, все такое. Ну-ка, друг, распишись.
Посыльный подал через плетень свернутую чурочкой клеенчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придется, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые ее страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими молчаливыми следами чьих-то уже предрешенных судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами еще живых людей, будто кладбищенские распятия.
Касьян свернул повестку, сунул ее за шерстяной чулок. Потом, присев на одно колено, а на другое приспособив тетрадку, мазнул послюнявленным пальцем по соседству со своей фамилией и неуверенно, без привычки расписался.
— Кого еще из наших? — попытал он.
— Один не пойдешь,— неопределенно ответил верховой, засовывая тетрадку за пазуху.— Скучно не будет.
— Махотина берут?
— Это который?
— Алексей Дмитрич. Четвертая изба от меня.
— А-а! Кучерявый такой? Уже поперед твоего расписался.
— А Николая Зяблова?
— И его. Вот только оттуда.
— А Лобова? Матвея Семеновича? Конюхом он, как и я.
— Да что я, всех упомню, что ли? Вон сколь повесток! Три деревни тут. И Матвея твоего подберут, куда он денется от этого.
— Выходит, под метлу…
— Что поделаешь. Значит, люди требуются. Сказывают, больно сил у него много. Прет и прет, никакого удержу… А что, хозяин, этого самого не найдется ли?
— Чего этого? — не понял Касьян.
— Ну… что тут непонятного? — засмеялся верховой.— А то с утра мотаюсь по деревням… Бабы всё нутро вытрепали, как будто я в этом виноватый.
— А-а… Нет, друг, этого пока нету. Не взыщи.
— Пошто так-то? Али итить не собирался, не припас?
— Ну да что теперь говорить… Дак чего хоть слыхать? Где немец-то? В каких местностях?
— А-а…— Верховой отвернул от плетня, задергал поводьями.— Вот пойдешь сам и узнаешь… Но-о! Но, пошел!
Касьян, опершись на изгородь, проводил вестового, пока тот не скрылся, не свернул к кому-то в заулок, и, тяжело ворочая думу, как впотьмах, вернулся под навес.
Там он долго, опустошенно стоял перед верстаком, обвиснув руками, ни к чему не притрагиваясь.
«Ну дак чево там… Все к тому и шло…— думал Касьян, привязавшись взглядом к щелке в стене, сквозь которую протянулся под навес солнечный лучик.— Вон и трактора в эмтээсе вместе с людьми забрали. Стало быть, армия уже своим не обходится, коли по сусекам начинают мести». Трактора гнали вчера под вечер полевым шляхом по-за Касьяновой деревней, и многие бегали смотреть. Взяли пока одни гусеничные. Сперва прошли два старых «Челябинца» без кабин, с притороченными сзади бочками запасного горючего. Машины, выхаркивая из патрубков керосиновую вонь, торопко мотали гусеницами, топили их в пухлой дорожной пыли, и та, растревоженно клубясь в вечернем безветрии, уже толсто осела и на жарко-потные, сочащиеся автолом распахнутые моторы, и на привязанные бочки, черневшие бархатными подтеками, и на самих верхнеставцовских трактористов, успевших за четыре версты пути зарасти пылью до серой безликой неузнаваемости. Касьян и впрямь не узнал ни одного из троих, сидевших на первом тракторе, и только во втором углядел Ванюшку Путятина, который эту весну работал на ихних полях. Рядом с Ванюшкой тряслась всем дробненьким телом какая-то девчонка в туго обвязанном вокруг шеи платке, тоже в недвижной, омертвелой маске из пыли,— должно быть, Ванюшкина зазноба, увязавшаяся провожать, может, до самой станции, все тридцать пять верст. Ванюшкин напарник уступил ей свое место, пересел на головную машину, и они вдвоем, дыша этой пылью, разлученные грохотом и тряской, немо коротали свои последние часочки.
— Совсем?! — крикнул Касьян проезжавшему мимо Ванюшке.
Тот за шумом не понял, наклонился за край сиденья, помахал возле уха черной пятерней, мол, ни фига не слышно.
— Совсем, говорю? — повторил Касьян, зашагав рядом с машиной, и тоже стал делать знаки, махать рукой на закат, туда, где должна быть война.
Ванюшка наконец догадался, распахнул молодые зубы в улыбке и, воздев руки над головой, сделал из них крест, дескать, все, рассчитался и с эмтээсом, и с домом, и со всеми здешними делами. Крест, мол, всему.
И, сдернув кепчонку, обнажив спутанный и запаренный чубчик, помахал ею остомельцам и, превозмогая лязг и грюк, бесшабашно прокричал:
— Броня крепка, и танки наши быстры! Не поминайте лихом!
Потом, через некоторое время, следом прошли еще четыре гусеничных.
Они прогрохотали с наглухо задраенными окнами кабин, уже в отчужденном безразличии к закатно-молчаливым хлебам, обдав их напоследок клубами пыли, и те, еще недавно чисто желтевшие по обе стороны, осиротело померкли и омрачились осевшей на них густой пеленой.
— Покатили ребятки…— Дедушко Селиван в раздумье потыкал батожком серо-мучной прах отпечатков гусениц на дороге.— Ну дак чё… Скоро и до лошадей дойдет. Лошадь за кочку не спрячется. Кавалерия сичас первой урон несет. А коня на заводе не сделаешь.
Расходясь, люди видели, как на крыльце правления стоял Прошка-председатель и, застясь от низкого солнца, тянулся шеей и сплюснутой своей кепкой вослед уходившей колонне. И выглядел он в тот закатный час на пустой конторской веранде согбенным и одиноким…
Невелика бумажка — повестка, но, пока Касьян стоял под навесом, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся мысли, он все время чувствовал ее за чулком, как сосущий пластырь на нарыве. И все вертелось пустое, неотвязное: «Вот тебе и Клавка-продавщица с цветочком… Нашла-таки, нанюхала…»
Он присел на чурбак, толстый ракитовый кряж, попнулся за повесткой и уж развернул было, чтобы все перечитать, как там и что сказано, но в самый раз забрякала на калитке железная зацепа, и Касьян, воровато оглянувшись, поспешно сунул бумажку опять за чулок. Не мог, не хотел он, когда еще и сам не обтерпелся, не обвыкся с ней, не подготовился духом и силами, чтобы так вот сразу показать повестку Натахе и матери. Натахе в ее положении особенно. И он через плечо пытливо посмотрел на жену: знает или еще нет?
Но Натаха, судя по всему, ни о чем не знала, за возней с бельем внизу под горой, поди, не слышала и того тарарама, что наделал тут сельсоветский вестовой. Мать с корзинами на коромысле, Натаха с узлом на руке — обе, лишь мельком взглянув на Касьяна, устало прошли в прохладные сени. Сергунка с ними не было, успел забежать куда-то. Митюнька же, увидев отца, сидевшего на чурбане, метнулся к нему, втиснулся меж Касьяновых колен и умиротворенно замер, как жеребенок в привычном стойле. Касьян растерянно погладил Митюньку, это щемяще-родное существо, свою кровинушку, ощущая под ладонью напеченную жарой головку, сладко пахнущую детскостью, влажным травяным подгорьем. Боязно было подумать, что уже через два дня он вот так больше не приголубит сынишку и не увидит его совсем…
— Пап, а Селезка лягуску забил,— донес Митюнька на брата.
— Как же он так?
— Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил… Нельзя убивать лягусок, да, пап?
— Нелья, Митрий, нельзя.
— И касаток нельзя. А то за это глом ударит.
— И касаток.
— И волобьев…
— Ничего нельзя убивать. Нехорошо это.
— Одних фасыстов мозно, да, пап?
— Ну дак фашистов — другое дело!
— Потому что они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап?
— Пойду, Митя, пойду вот… Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут… работаю…
Никакая, однако, работа на ум не шла. Даже этот заветный Касьянов закуток с развешанными по гвоздям пилами и ножовками, коловоротами и буровцами, всегда одним только видом смягчавшими душу, доставлявшими утеху, теперь теснил его своими стенами, и все здесь утратило смысл, отдалилось куда-то, отошло от Касьяна своей ненужностью. Он вышел во двор, без внимания, как уже нехозяин, обвел глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спертостью, не находя себе места, в чем был — в старых галошах и шерстяных чулках, где за пагольником лежала так и не прочитанная повестка {15}, бесцельно, от одной только тесноты вышагнул за калитку, на уличный ветерок.
7
Улица была уже безлюдна в оба конца. После наскока вестового, выплеснувшись первой волной за ворота, выкричавшись там самой нестерпимой болью, бабье горе отхлынуло, убралось во дворы и там теперь, забившись в избы, дострадывалось, обтерпевалось в одиночку, каждой женщиной самой по себе, кто как горазд: иная безголосо, ничком уткнувшись в подушку, иная онемев на сундуке с безвольно оброненными руками, иная ища облегчения пред восковыми и равнодушными ликами святых угодников. Но выдюжив это первое сокрушение, постепенно приходя в себя и уже начиная жить и дышать этой новой бедой как единственной данной им теперь явью, они примутся полуощупью двигаться по избе, искать себе дела. И вот уже вскоре с еще не просохшими глазами затеют подорожную стирку, спохватятся замешивать и сами подорожники и разошлют детишек по всем Усвятам и дальше Усвят, по близким и дальним родичам,— разносить по ним последнюю весть, скликать к завтрашнему прощальному застолью.
Все так же бесцельно Касьян забрел в нижний городчик, постоял там середь капустных и огуречных гряд, даже прилег внизу у самого ровца под старой ракитой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие — сходить к Алексею Махотину да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал, перепрыгнул ровец и зашагал, зашлепал галошами окольной тропой под межевыми ракитами.
Махотина дома не оказалось. Вышедшая на собачий брех старая Махотиха скуксилась, ужала в себя беззубый подбородок, запричётывала:
— Ох, Касьянушка, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитьлеру ни дна ни покрышки, откудова он токмо, Мамай, свалился на наши головушки… Побег Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошел. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали ай минули?
— Прислали, мать, прислали.
— Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдете, своей кучкой. Вместе оно всё не так: куском поделитесь, словом ли… А ежели, не приведи богородица, поранють, дак и повяжете друг дружку. Ох лихо, лихо — лишей и не было… Дак у Зяблова он, там яво пошукай, батюшко.
Не сиделось в этот день мужикам по домам, не можилось: торкнулся Касьян к Николе Зяблову, а того тоже нет в своей избе. Заходил-де за ним Махотин да вдвоем вот толечко утрёхали, кажись, к Афоне-кузнецу.
Касьян — к Афанасию, но и того дома не нашлось, и в кузне, сказали, искать его нечего: не пошел-де нынче к горну, как получил призывную бумажку.
Начал Касьян самым низом Старых Усвят, а очутился аж на Полевой улице. Никогда, ни в кои годы, ни при каких прежних бедах не бегал вот так борзо по чужим дворам, не искал на стороне себе опоры, как ныне: не чаял встретить кого ни то…
Да так вот и забрел к пустой избе дедушки Селивана…
Стояла она в общем порядке сама-разъедина, справа никого, слева никого, один репей бушует — скорбно пройти мимо, не то чтобы войти. Да и заходить не к кому: в такой-то день старик и вовсе завеялся,, толчется теперь по чужим дворам. Скосился Касьян на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в темной некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него желтенький лик в белесом окладе. И делала ему знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, мил человек.
В другой раз, может быть, и не зашел бы Касьян, отнекался, а тут, и не подумав даже, обрадованно и нетерпеливо пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дернул дверь в жилье. Глянул в горницу, а там за табачищем — мать честная, вот они где, соколики! — и Леха Махотин, и Никола Зяблов, и Афоня-кузнец.
Леха ничего еще, а Никола тоже, вроде Касьяна, ушел из дома как есть, в одной красной майке. И только Афоня-кузнец был уже прибран, в сатиновой рубахе, запахнутой на все пуговицы, да еще пиджак сверху.
Мужики, разглядев, кто вошел, оживились, тоже обрадовались:
— Глянь-ка, еще один залетный!
— Было б запечье, будут и тараканы,— засмеялся дедушко Селиван. Он был без привычного картуза, и безволосая его головка маячила в дыму, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах.— Заходь, заходь, Касьянко!
Касьян с тем же радостным, облегчающим чувством крепко потискал всем руки.
— А мы тут… тово… балакаем,— пояснил Селиван.— От баб подальше. А то сичас такой момент, што токмо бабу и слухать, вытье ее. Далече, казал, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях.
— Да… телка искал,— уклонился Касьян от правды.— Забежал куда-то…
— Найдется! Давай садись посидим.
Касьян охотно присел на поднесенную табуретку и, обежав глазами холостяцкое жилье дедушки Селивана, неметеное, с усохшим цветком на подоконнике, достал и себе кисет с газеткой на курево.
— Да как бы собаки куда не загнали,— вернулся к прежнему Касьян, чувствуя, что надо что-то говорить, притираться к компании. Все хоть и свои, знакомые до последней метины, до голого пупка, но нынче у каждого такое, что и не знаешь, что поперва сказать.
— А ну дай-кось твоего,— потянулся к кисету Никола Зяблов.— Сколь у тебя закуриваю, а никак не раскушу, чего ты туда добавляешь.
Другие тоже соблазнились табаком, начали отрывать бумажки.
— А ничего особого и не добавляю.— Касьян польщенно пустил кисет по рукам.— Донничку самую малость.
— Белого или желтого?
— Любой сгодится. Но я белый больше люблю. А так ничего другого. Остальное сам по себе лист свое кажет.
— Лист и у меня самого такой.
— Такой, да не такой,— сказал Леха Махотин, раскуривая цигарку из Касьянова табака.
— Ох ты! А какой же? Я ж у него рассаду и брал, у Касьяна.
— Мало чего — брал.
— Рассада еще не завод,— трудно выбасил Афоня-кузнец, чисто выбритый, причесанный надвое, как на май.— Я вон нынче взял в Ситном, у свояка, капусты. Понравилась мне его капуста, сладкая. И сажали по уговору в один день, и земля моя не хуже, тоже низко копал, под горкою. Дак у свояка уже завилась, а моя — как занемела.
— От одних отца-матери и то дети разные,— согласно закивал Селиван.— А уж растенье и вовсе не знать, куда пойдет.
Мужики перекидывались с одного на другое, всё по пустякам, не касаясь того главного, что сорвало их со своих мест, потянуло искать друг друга. Но и пустое Касьяну слушать было приятно: в неухоженной Селивановой избе среди сотоварищей, помеченных одной метой, сделалось ему хорошо и не тягостно, как бывало прежде перед праздником, когда в ожидании стола и чарки никому не хотелось попусту тратиться припасенным разговором, не спешилось ни о чем таком говорить походя, без повода и причины.
Касьян, однако, не знал, что было уже послано, и тем временем чарка объявилась и взаправду.
Хлопнула калитка, в сенях шумно затопали, и в избу ввалился Давыдко, да еще и с Кузьмой, своим шурином, длинным, сутулым мужиком по прозвищу Кол. Кузьма, кажись, был уже выпивши: зеленцовые его глаза волгло смаргивали, будто им не сиделось, было боязно глядеть с такой жердяной и ненадежной высоты. Давыдко, озабоченно-распаленный хлопотами, тут же извлек из камышовой кошелки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинские пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним и шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, еще парившего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук старой, еще от того года, редьки в погребной земле, мятые бочковые огурцы и чуть ли не беремя луку {16}, который в эту пору отдувался за всю прочую неподошедшую зелень.
— Ох ловко-то как! — засуетился дедушко Селиван.— Ну ежели так-то, за хлеб, за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споем. Сичас, сичас и я у себя покопаюсь…
Он распахнул темный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебуршить на его полках — достал старинную рюмку на долгой граненой ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек.
— Все разного калибру,— виноватился старик, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время.— Дак ведь и так еще говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла.— И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю.— А вот вам, орелики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востер ли? И сольца нашлася. Соль всему голова, без соли и жито трава. Да-а… Была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да што теперь толковать… У меня теперича два кваса: один што вода, а другой и того жиже.
Селиван опять посмеялся своим легким готовым смешком.
Увидев все это на столе, Касьян с неловкостью сознался:
— У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем…
— Да уж ладно,— загомонили мужики.— Без твоей доли обойдемся. Нашел об чем. Не тот день, чтоб считаться. Давай подсаживайся.
— На пятерых припасено, а шостый сыт,— присказал и хозяин.— Брат брату не плательщик! Отноне все вы побратимы, одного кроя одежка: шинель да ремень.
— Это уж точно, обровняли,— кивнул Никола Зяблов.
Мужики подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки, и, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было все изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы — и крестины, и новоселья, и похороны, а таких вот еще не доводилось.
— Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех,— подтолкнул дело хозяин.— Есть охотники?
Мужики помялись, косясь друг на друга, но промолчали.
— Ну тади скажу я, ежели дозволите.
— Скажи, Селиван Степаныч.
— Ты хозяин, тебе и слово.
Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял граненую рюмку, задержал ее перед собой, как свечу.
— Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы…
Дедко еще только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу.
— Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем…
Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того.
— Тут у нас все по-прежнему,— кивнул он в оконце.— Вон как ясно, тишина, благодать. Но идет и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде…
Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.
— Ну да ладно… Хотел еще чево сказать, да што тут говорить… Ступайте с богом, держитеся… Это и будет вам мое слово. На том и выпейте.
Но мужики не враз кинулись расхватывать свои чарки.
Касьян продолжал теребить на штанах остатки въедливого репья, и Леха, обвиснув тяжелым чубом, замкнувшись лицом, следил за его пальцами. Налился подступившей кровью, сопел своими мехами Афоня-кузнец. Ржавым гвоздем согнулся, поник долговязый Кузьма и, чтоб не согнуться вовсе, подперся обоими кулаками. Давыдко исподлобья уставился куда-то в угол, где в полутьме перед погасшей лампадой одиноко висела простенькая дощечка с угодником. А Зяблов встал из-за стола и отошел к окну, загородив свет своею ширью.
И было в той тишине слышно, как в одичалом Селивановом дворе беспечно и обыденно чивикали воробьи.
— А-а, была не была! — наконец тряхнул головой Никола и, воротясь к столу, потянулся за кружкой.— Давайте, братки. А то так и водка выдохнется.
И, будто пробудившись, мужики ожили, потянулись наперекрест, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. И пошли шариться по столу грубыми, нехваткими пальцами, разбирая, не глядя, нарезанное, накромсанное. И ели тоже молча, замедленно ворочая челюстями, жевали пополам с думой.
— Чего в магазине деется! — Давыдко зажмурился, покачал головой.— Содом! Водку нарасхват. Из Ситного понаехали. Говорят, там уже растащили.
— Ну дак чево… Ясное дело.— Никола Зяблов потянул со стола пряник.— У нас, почитай, полдеревни берут.
— Кой — полдеревни!
— И мы, видать, не последние…
— А кто после нас? Хворь одна.
— Как оно пойдет… От метлы щели нет…
— Дак, мужики, чево слыхал я в магазине-то. Будто сперва к конторе собираться. А потом уже оттудова все вместе пойдем.
— Ну и правильно. Так-то ладнее.
— И штоб подводы были. Сидора покидать.
— Подводы дадут, чего ж не дать. Не в гости к куме…
— Да вон Касьян, сам и запрягет сколь надо.
— Это можно,— кивнул Касьян.
— Касьяну и самому итить.
— Ну дак што… Кто-нибудь потом лошадей обратно отгонит. Да хоть Селиван Степаныч.
— Об чем толк,— готовно согласился дедушко Селиван.— Отгоним, отгоним лошадок. За этим не станет.
— Ну да ладно. Это пустое,— перебил Никола Зяблов.— Пешие ли, конные — все там будем. А вот забота: сено! Надо бы наказать Прохор Ванычу, штоб нашим бабам сенца дал, не обидел бы. Одни ведь остаются.
— Даст, раз обещался.
— Дак кто ж его знает… Время теперь такое… Овес вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые.
— Сено! Хлеб неубранный остается.
— Да-а…— почесал за ухом Давыдко.— Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда…
— Что и говорить, не в срок затеялась.
— А и когда война была нашему брату-пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван.— Смерть да война незваны завсегда.
— А я уж было сарайку начал рубить,— сокрушался Давыдко.— Венца три до крыши не довел. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом.
— А у меня возле кузни три лобогрейки раскиданы,— покашлял в кулак Афоня-кузнец.— Прошка косится, да чего уж теперь… Делов там еще не на один день.
— Нам, татарам, все равно на Русь итить,— засмеялся дедушко Селиван.— Завсегда дела находятся. То б надо, это бы… Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко?
— Да уж скоро б должна родить,— потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул меж ребрами.
— Ах ты, осподи, грехи наши! — вздохнул и дедушко Селиван.— Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо… Да што поделаешь? Огонь с соломой все равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай все да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела.
Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили.
Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода.
— А я, ребята, от посыльного слыхал,— заговорил Никола Зяблов,— будто бригадир заявление в сельсовет подал.
— Какое заявление? — насторожились мужики.
— Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте.
— Да ну! Иван Дронов?
— Еще на той неделе, говорят, подал.
— Гляди ты… А — молчок. Никому ни слова.
— А чего б ему в дуду дудеть?
— Ну, криворотый! Лих, лих малый!
Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?
И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.
— Да бросьте, не возьмут его! Кто ж будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.
— Да не, на Ивана не похоже,— сказал Леха Махотин.— Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.
— А чего ж: подал — а доси дома?
— Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.
— Посыльной говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких,— уточнил Зяблов.— Да из Ситного учитель.
— Ну вот, вишь… Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.
— Так-то, пока рассмотрят,— хмыкнул Кузьма,— дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?
— А вот та и разница,— сказал Леха Махотин.— То ты сам, а то по повестке.
— Ага…— вертанул белками Кузьма.— В хорошие набивается.
— А ты чего ж не догадался? — спросил Леха.— Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.
— А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма.— Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первым штаны замарал…
— Не, малый, ошибся,— усмехнулся Махотин.— Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану.
— Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.
— Это какие такие лапы? — посерьезнел, насторожился Махотин.— Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал…
— Ладно тебе! — одернул Давыдко шурина.
— А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.
Махотин привстал, заходил скулами.
— А ну давай выйдем…— сдавленно проговорил он.— Пошли, гад!
— Сядь, Алексей,— нажал на его плечо Афоня-кузнец.— И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку… Кто подал, кто не подал… Еще только за столом сидим… Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме… Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, всё не козырь… Все не наш верх…
— Да уж не козырь, это верно,— проговорил Давыдко.
— Вот у меня в кузне,— продолжал Афоня-кузнец,— на што уголь горюч, железо варит, и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка. Как-никак трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.
— Иван партейный,— напомнил Никола Зяблов.— Может, ему так предписано.
— Всем предписано,— сунул бровями Афоня-кузнец.— Да не всяк, вишь, горазд.
И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.
— А я так, ребятки, на это скажу,— встрял в спор дедушко Селиван.— На войну што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.
— Не говори! — мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки.— Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть — голосит, спать ляжет — опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой… А давеча,— усмехнулся Леха,— когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.
Лехины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака.
Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков.
— Э-э, ребятки! Не вешайте носов! — сказал он с бодрецой.— Не те слезы, што на рать, а те, што опосля. Еще бабы наплачутся… Ну да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья!
И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:
Ах вы, столики мои, вы тесовенькие! А чево ж вы стоите не застеленные? А чево ж вы сидите, хлеба-соли не ясте? То ль медок мой не скусён, то ль хозяин не весёл?Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой с веселой лихостью:
— А по мне, дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах!
— Ага… Давай, дед, давай…— Кузьма, заломив луковую плеть, потыкал ею в солонку.— Ага…
— Ась? — не уловил сразу Селиван Кузьминой усмешки.
— Ага, валяй, говорю.
— Вроде и не гусь, а га да га,— отшутился дедко.— Ты к чему это, милай? На какую погоду?
— А так…— Кузьма пожевал лук вялым, непослушным ртом.— Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дереть…
— Ой ты! — Дедушко Селиван изумленно хлопнул обеими руками по пустым штанам.— Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не прошел? Было мое время — и я с рогатиной хаживал. Ходил, милай, ходил! Да вот тебе, хошь, покажу…
Задетый за живое насмешливым хмыканьем Кузьмы, старик проворно спохватился к шкафчику, задвигал, зашебаршил в нем утварью и пожитками.
— Сичас, сичас, сынок,— бормотал он между распахнутых дверец.— Дай только отыскать… Где-сь тут было запрятано. От постороннего глазу… Никому не показывал и сам сколь уж лет не глядел… А тебе покажу… покажу… Штоб не корил попусту… Ага, вот оно!
К столу он вернулся с тряпичным узелком и, все так же присказывая «сичас, милай, сичас», трепетно-нетерпеливыми пальцами начал распутывать завязки. Под тряпицей оказалась еще и бумажная обертка, тоже перевязанная крест-накрест суровыми нитками, и лишь после бумаги на свет объявилась плоская жестяная баночка — посудинка из-под какого-то лекарского снадобья.
— На-кось, Кузьма Васильич, ежли веры мне нету… На вот погляди…
Кузьма пьяно, осоловело смигивал, некоторое время смотрел на протянутую жестянку с кривой, небрежительной ухмылкой.
— Ну и чево?
— Дак вот и посмотри.
— А чево глядеть-то?
Понуждаемый взглядом, Кузьма все ж таки принял жестянку, так и сяк повертел ее в руках, даже зачем-то потряс над ухом и, не заполучив изнутри никакого отзвука, отколупнул ногтем крышку.
Коробка была плотно набита овечьей шерстью, длинными, от времени пожелтевшими прядями.
— И чево? — вызрился, не понимая, Кузьма.
— А ты повороши, повороши,— настаивал дедушко Селиван.
Кузьма недоверчиво, двумя пальцами подцепил верхние прядки, под ними на такой же шерстяной подстилке покоился крест…
Было видно, как у Кузьмы медленно, будто не прихваченная засовом воротняя половинка, отвисала нижняя губа.
Мужики потянулись смотреть.
Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и присадисто тяжел даже с виду. Из-под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и суровой сокрытостью минувшего.
Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бережно передавали из рук в руки. Забегая каждому за спину, дедушко Селиван заглядывал из-за плеча, чтобы уже как бы чужими глазами взглянуть на давно не извлекавшуюся вещицу. Он и сам уже почти не верил этому своему обладанию и по-детски трепетал и удивлялся тому, что с ним когда-то было и вот теперь и ему, и всем открылось воочию.
— Орден, што ли?..— наконец с сомнением предположил Леха.
— Егорий, сыночки, Егорий! — обрадованно закивал дедушко Селиван, задрожав губами.
Глаза его набрякли, мутно заволоклись, и он поспешно шоркнул по щеке дрожливо-непослушными пальцами.
— Да-а…— Леха покачал крест на ладони.— Вот, стало быть, каков он… Слыхать слыхал, а видеть ни разу не доводилось.
— Да где ж ты ево увидишь… Нынче этим хвалиться нечего. Раза два уж предлагали: сдай, дескать. И деньги сулили. По весу, сколь потянет. Как за ложку али за серьгу. А я не признался: нету, говорю, и все тут. Давно уже нету. Еще в тридцать третьем, мол, на пшено обменял… Есть, есть и еще старики в Усвятах, которые припрятали. Да токмо не скажу я вам, не открою. Не надо вам знать про то. Теперь уж скоро помрем с этим… Велю с собой положить…
— Или царя обратно ждешь? — усмехнулся Кузьма.
— А меня уже про то спрашивали,— без обиды ответил дедушко Селиван.— Про такого сказать бы: под носом проросло, а в голове не посеяно… Вот, Кузька, тебе мой ответ: ты токмо народился, в колыске под себя сюкал, а я уже, милай ты мой, невесть где побывал. Мукден, может, слыхал? {17}
— Это чево такое? — Кузьма шатко приподнялся и, хватаясь за стену, перебрался на хозяйскую койку.
— А-а! Чево! То-то… Штоб ты знал, есть такой город в манжурской земле {18}. Дале-о-ко, браток, отседова. На краю бела света. Вот аж где! Ужли не слыхал про такой? Дед же твой, Никанор Артемьич, царство ему небесное, тоже тамотка побывал. Разве не сказывал?
— Может, и говорил чево,— дремотно-вяло отозвался с кровати Кузьма.— Уж и дед не помню когда помер.
— Вот, вишь, как оно…— Селиван растерянно замигал безволосыми веками.— Скоро на нас присохло. А уж и текло, текло там красной юшки. У яво, у японца, уже тади пулеметы были. А у наших одни трехлинейки. Ну-тко потягайся супротив пулемета. Ох и полегло там нашей головушки! Вороха несметные. Ну дак и песня есть про то.
Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, и, опустив руки по швам, повел ломким, заклеклым голоском:
Белеют кресты — это герои спят, Прошлого тени кружатся вновь, О жертвах в бою твердят…Но сил хватило на одну лишь эту запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.
— Такая вот, ребята, песня. Язви тя, голосу не хватает… Я как услышу где, сразу и являются передо мной теи дальние места. И доси помнятся.
Он утерся тряпицей, в которой хранил свой «Георгий», и опять просиял добродушно и умиротворенно.
— А крест тебе за чево, батя? — спросил Леха Махотин.
— Энтот-то? Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты {19}. Да и про теи места откудова вам знать, ежели не бывали. Тоже вот кампания была, Галицейская. Пожгли-попалили порохов. Да, соколики, все уходит, ничем не удержать. Прах-пепел заносит Вот и Егорий побрякушкой стал. Ехал с войны, думал, поношу, покрасуюсь, а приехал — ни разу и не надел. На всю жизнь эта на мне отметина, будто я лихоманец какой. Я б, может, сичас не таким лохматом был бы. Небось не ниже нашего Прохора… А то, говорят, больно за царя перестарался. А хрена мне царь! Я ево в трактире на потрете токмо и видал. Нешто я за царя «ура» кричал? Я ж за вас, сопатых, за все вот это нашенское старался.— Старик указал пальцем в окошко.— Как же было землю неприятелю уступать? Ворога токмо впусти, токмо попяться, он ни на что на твое не поглядит, перед самим алтарем штаны спустит… Вон опять на Россию идут чего, ироды, делают, ни старых, ни малых не разбирают.
При всеобщем раздумье дедушко Селиван принялся опять укладывать орден в жестянку, бережно укрыл его овечьими кудельками, притворил крышку и, обертывая прежней пожелтевшей и квелой бумагой, а потом и тряпицей, заговорил укоризненными бормотком:
— Приспел и ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.
Мужики молча переглянулись, словно бы оценивая, примеряя каждого к грядущему. Для старика были они сейчас как серые горшки перед обжигом: никому из них еще не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого донца.
8
Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их перегляд, весело повернул разговор:
— Э-э, робятки, негоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаней перебывало — усвятцы во все хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которые в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше негожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, иньше чего пластать горазды.
И опять, засмеявшись, крутанул крепко:
— Гибали мы дугу ветлову, согнем и вязову… А щас пока гуляйте! Давыдушка, улей, улей, попотчевай чем ни то.
И сам тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу:
— Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.
— Ты уж сказанешь, Селиван Степаныч,— зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши.— С чего выдумал-то?
— А с того, что знаю.
— Я дак из ружья птахи и то не стрелил…
— Это пустое, что не стрелил,— несогласно мотнул головой Селиван.
— Дак тади откуда быть-то мне?
— А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое такое, браток. Указание к воинскому делу.
— Какое такое указание? — и вовсе смешался Касьян.
— А вот сичас, сичас я тебе все как есть раскрою…
Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.
— Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.
При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.
В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхокофейных страниц, нацелил палец в середину листа.
— Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность.
— А ну-ка…— заерзали мужики.
Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:
— Наре… нареченный Касияном {20} да воз… возгордится именем своим… ибо несет оно в себе… освя… щение и благо… словение божие кы… подвигам бран… ным и славным…
Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?
— А исходит оно… из пределов гре… греческих… из царств… осиянных великими победами… где многия мужи почи… почитали за честь и обозначение пла… планиды называть себя и сынов своих Касиянами… ибо взято наречение сие от слова… касс… кас… сие… кассис… разумеющего шелом воина… воина великаго и досто… славнаго императора Александра Маке… донскаго… и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле… мо… носец.
Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:
— Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить.
— Чего напишут-то…— растерянно усмехнулся Касьян.— Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.
— Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.
— Ну дак все правильно! — хохотнул Давыдко.— Пойдешь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.
Мужики посмеялись такому простому резону.
— Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван.— Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты вишь какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение…— понял? — …и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты, и не стрелямши ни в ково, можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.
Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.
— Вижу, парень, не веришь ты этому,— продолжал свое дедушко Селиван.— Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?
— Как кто? — пожал плечами Касьян.— Ну, председатель.
— Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?
— Дак откуда ж ему…
— Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?
— Ну так, ясное дело.
— А теперича давай заглянем в книгу…— Дедушко Селиван полистал, пришептывая: — Прохор… Прохор… отыщем Прохора… {21} Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож… ибо разумеет собой… песно… песноводи… теля… во славу Господню. А составлено сие имя… как всякое зерно… из двух равно… равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения… в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение… тогда как другая доля «про»… на оном наречии понимается как старший… А совместно сии доли… воссоединясь в оное имя… означают старшаго над хором, запевнаго человека… сиречь запевалу.
И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:
— Запевный человек? Ну дак ясно, Прошка наш во славу божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова!
— Н-да! — удивились мужики.— А гляди ты, верно ведь!
— А ну-ка, Селиван Степаныч,— заинтересовался Леха,— читани-кось, чего там про меня сказано?
— Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея…
Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:
— Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексей — это вроде как защитник {22}. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих.
— Ишь ты! — Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина.— И Леха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность!
Махотин остался доволен таким истолкованием.
— Дак теперь давай и про Зяблова,— засмеялся он.— Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ — незнамо.
— Вот и про Николу… А Никола у нас…— готовно провозгласил дедушко Селиван,— Никола, стало быть, так: победитель! {23} Вот как!
Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.
— Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!
— Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко.— Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь.
— Ладно вам,— конфузливо осерчал Зяблов.— Шутейное это все. Для смеху писано.
— А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.
Прочитали и про Афоню-кузнеца {24}, и выходило по-писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет…
— Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Леха.— Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родится. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням…
Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да-а…», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям,— оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.
— Ну дак а ты ж кто таков, дедко Селиван? — блестя глазами, поинтересовался Леха.— Интересно!
— Дак про себя я уже знаю, давно вычитал.
— А как же тебя?
— А про меня тут, робятки, нехорошо…
— Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай.
— Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано,— легко засмеялся дедушко Селиван.— Леший я. Лесной мохнарь.
— Ох ты! Это как же так?
— А вот эдак — лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван — по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну да я и согласен. Потому кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья — брожу, блукаю, свово двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба.
— Дак что ж это получается? — подытожил Махотин.— Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого ни зачитывали, всем быть под шлемом.
— Дак и я б заодно! — весело объявил дедушко Селиван.— Хучь я и леший, изгой непутевый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и доси не забыл, могу хучь сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять еще смогу, истинное слово!
Был подходящий шутейный момент снова выпить по маленькой, и Давыдко, унюшливый на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки.
— Ну, соколики,— Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю.— За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан! А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка.
Выпив под доброе слово, заговорили про всякое-разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперек общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью:
— А скажи, Селиван Степаныч… Все хочу спросить… Там ведь тово… убивать придется…
Дедушко Селиван перестал тискать деснами огуречное колечко, изумленно воскликнул:
— Вот те и на! Под шелом идет, а этова доси не знает. Да нешто там в бабки играются?
Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами.
— Да я тебя не про то хотел… Ты ж там бывал… Ну вот как… Самому доводилось ли? Чтоб саморучно?
Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подернутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чем спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека.
Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия:
— Было, Касьянка, было… Было и саморучно. Там, братка, за себя Паленого не позовешь… Самому надо… Вот пойдете — всем доведется.
Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятах кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Паленым, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах.
— Ну и как ты его? Человек ведь…
— Ясно дело, с руками-ногами. Ну да оно токмо сперва думается, что человек. А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь.
— Ужли не страшно?
— Правду сказать, то с почину токмо.
— И как же ты его? — теперь уже допытывался и Леха Махотин.— Самого первого?
— Эть, про чево завели! — не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали:
— Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идешь косить. Дак как же, дедко, было то?
— Ну, как было…
И дедушко Селиван начал припоминать.
Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах.
— Ну как было… Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Еще и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шарапнели. Ну, бабахает, ну, бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал черным, и вот пошел он на нас. Одна цепь да другая. Пока бил шарапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, тянемся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры что-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович все не велит, все травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж еще-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, что незнамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, чтоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить — ничево не помогает. И не новичок я был, чтоб так-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то чтобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничево не сделает, да и не один я сижу — и пулемет с нами, а было мне страшно самого себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля еще б ладно: попал, не попал, твоя ли пуля угодила али соседская — издаля не понять бы. А тут вот они — уж и пуговицы сосчитать можно. А командир все молчит, держит характер, не отдает команды — и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в мое место. Шинелка на нем куцая, неладко так ремнем спеленутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах — большой вроде бы немец, а какой-то нестрашный. Кто там идет справа, кто слева — не вижу, не гляжу, а приковало меня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемет. А я как окаменел, все не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают… Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал — и того выше, загородил собой все поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. Господи Иисусе, видишь сам…— только и помолился, да и даванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы… Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моем под сапогами… Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничего не соображаю, кто тут и что. Бей меня, коли в эту пору — бесчувствен я, вот как все во мне запеклось. Нуте: вылез я на брустер, еще не встал даже, еще руками опираюсь, гляжу — а он вот он, навзничь лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом… Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа…— Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола.— Я дак три дня опосля ничего не мог исты. Все старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, чтоб поумористей. Ну, а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихних окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебег — тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьешь — не почуется. Все одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил — разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданешь. Потом дергать приходится, сам не сымается. Это гадко.
— Ох, братцы! — невольно содрогнулся Никола Зяблов.— А ну как и мы в пехоту? Да так-то вот тоже…
— А куда ж еще? — обернулся Давыдко.
— Да хоть бы в кавалерию. И то получше. Там хоть штыком пырять не придется.
— Не пырять, дак зато напополам рубить. Шашку дают небось не кашу ковырять.
— Послушать,— Афоня-кузнец кашлянул в черную пятерню,— дак вам такую б войну, чтоб и курицу не ушибить.
— А тебе-то самому какову надобно? — удивленно обернулся Никола.— По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой?
Афоня-кузнец тяжело повел опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:
— Россия вон гибнет. Немец идет, душегубничает, малых детей и тех не щадит…
— Ну дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов.— Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберемся и пойдем…
И опять воцарилась затяжная немота. Низкое, уже завечеревшее солнце ударило в дворовое окно, высветило застолье, махорочные разводы над кудлатыми головами, не раз ерошенными и скороженными за долгий день. И как давеча, в смутную минуту, дедушко Селиван, встряхнувшись, попытался отвлечь мужиков песней, затеяв ее с тем умыслом, что остальные подхватят и подпоют:
Собирался Васильюшко, Ой да собирался в охотушку-у, Ой да в охоту-охотушку, Тяжелую работушку-у…Мужики, однако, оставили песню без внимания: хоть и было выпито довольно, но хмель нынче не брал, не доходил до души так, чтобы позвать на песню. И хозяин, погасив затею, конфузливо обронил:
— Нет, дак и нет. Не поется, дак и не свищется. Беду-горе не обманешь… Да и то сказать: боялся серп о бодяк зубья сломать, не пробовавши… И испробовал, дак и бодяк — трава.
9
Домой Касьян возвращался уже потемну. Как всегда, Давыдко потом взгоношился еще бежать за выпивкой, долго блукал по деревне, однако водкой не разжился, а добыл у кого-то полведра теплой, еще бурливой бражки. Проснувшийся Кузьма, мятый, с похмельно заплывшими глазами, завидев ведро, молча облапил его и, тяжко кряхтя и постанывая, принялся сосать прямо через край. Мужики остались досиживать, дожидаться дна у ведерка, а Касьян, опростав пару стаканов этого ласково-вкрадчивого снадобья, вскоре как-то сразу огруз и, выйдя во двор до ветру, больше не вернулся к столу. Запоздалое чувство виноватости перед Натахой оттого, что из двух оставшихся вольных дней один уже без толку извел на стороне, накатило на него, пока он слепо тыкался в чужом, незнакомом дворе, ища выход на улицу. От всего, что было там, в прокуренной Селивановой избе, в голове тупо погудывало и на душе не было лада. Больше всего из говоренного и услышанного прикипело к нему это несуразное слово «шлемоносец», давившее его почти осязаемой тяжестью, будто и на самом деле нес он на себе тесный стальной колпак, туго стиснувший виски.
— Напишут тоже…— бормотал он, досадливо сплевывая, отмахиваясь от навязчивого прозвища, как бы пытаясь сбросить с себя эту неприязненную ношу.— Ни к чему это… Детей токмо стращать.
Он свернул в какой-то редко им хоженный переулок, соединявший обе улицы. Под нависшими ракитами сделалось кромешно темно, как в набитом овине. Разросшийся вдоль изгороди брезентово-жесткий чертополох по-осиному жалил сквозь штаны и рубаху, и он ступал ощупью, будто слепой, простерев вперед руки, ограждая глаза от колюк и случайного древесного сучка. Где-то на середине проулка Касьян запнулся о спекшиеся колчи, натоптанные скотиной, постыдно рухнул, распорол на спине рубаху, потерял галошу и потом, чертыхаясь, долго елозил на четвереньках, лапал вокруг себя, хватая комья и обстрекиваясь о крапиву. И тут он, враз обдавшись жаром, вспомнил о повестке и с озабоченным испугом сунул руки за пагольник: цела ли? Нога привыкла к колкой поначалу бумажке, свернутой вчетверо, да и сама бумажка обмякла, пригрелась за чулком, так что Касьян совсем было забыл о ней. Повестка, однако, оказалась на месте и по-прежнему облегала лодыжку повыше щиколотки. Пальцы сторожко коснулись и ощупали ее, как недавно притихшую болячку. Касьян хотел было переложить извещение в карман штанов, но хранить в кармане показалось ненадежным, и он только пересунул поладнее, чтобы ощущать присутствие бумаги новым, необтерпевшимся местом. Повестка, и верно, теперь хорошо чуялась, и он, отыскав галошу, побрел дальше сквозь колючник и лопушье, ступая той ногой с охранной бережливостью, даже невольно приволакивая ее, будто намуленную водянкой.
С облегчением наконец Касьян выбрался из пыльной духоты проулка на вольный простор староусвятского посада. Улица была уже безлюдна, и он прошел до самого дома, не встретив ни души. Чувствуя, что нехорошо пьян, Касьян не осмелился сразу явиться в избу, а, давая себе остыть, прибраться душой, присел под окнами на угол колодца, откуда из черного нутра земли по замшелому стволу тянуло ознобливым холодком.
В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то червоточинах и прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Касьян, забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день на краю неба, подобно тому как сбивается под ветром ряска в дальний угол зацвелой калюжины. Пробив эту хмарь, луна багрово зависла в лугах, и она почему-то казалась Касьяну куском парного легкого, с которого, сочась, по каплям натекла под ним красноватая лужа речной излучины. Сквозь застойную духоту, без звезд и светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на деревню какой-то хворый, немощный свет С ее появлением в угомонившихся было дворах собаки, будто и впрямь на лакомый кусок, подняли заливистый тявк и брех, тоскливо отдававшийся в безголосой и беспредельной ночи. И в этот брех глухо, словно со дна глубокого погреба, временами вплетался низкий, с оборванно-сиплым концом вой какой-то большой и старой собаки. Должно быть, выл на цепи махотинский кобель…
Колодезное ведро черным колпаком висело над Касьяновой головой, он даже вздрогнул, увидев его сы́зновеси, но, сообразив, что это обыкновенная бадейка, устыженно сплюнул и мотнул головой, как бы стряхивая дурноту: «Пьян, пьян ты, Касьяшка… Ох и пьян, шлемоносец!»
Приподнявшись, он изловил болтавшийся поводок, притянул к себе ведерко и, остерегаясь греметь им под окнами, опустил в глухую, без проблесков, дыру колодца. Вода была ледяная, отдавала сладцой, словно бы ее подсахарили, и он долго, похмельно глотал через край, испепеляя нутро отрезвляющим холодом, а потом сунулся головой в бадью и выдержал себя так, сколько терпелось. Отпустив ведро, неслышно отлетевшее в небо, он постоял, накренясь, выжидая, пока сбежит с головы вода, затем крепко вытерся подолом рубахи и самодельным кленовым гребешком старательно прибрал волосы. Касьяну заметно полегчало, и даже непроизвольно вырвался глубокий вздох, будто он вынырнул из какого-то удушливого сна. Он достал опустевший кисет, наскреб на тощую цигарку и бережливо закурил, жалея истраченный день и думая, что лучше бы он нарубил себе свежего табаку в дорогу.
Тем временем луна заметно отбежала от горизонта, очистилась и, ровно бы тоже умывшись, ясно позолотела. Собаки как-то сами собой незаметно попримолкли, залегли по дворам, и в самой деревне и окрест нее обрелась чуткая полуночная тишина.
Умиротворенно покуривая, приходя в себя, Касьян слушал луга, привычно ловя табун: тяжелый ли переступ стреноженных маток, звякавших цепным путом, бубенчатые ли голоса сосунков, шершаво ли хриплые окрики напарника Матвея Лобова, которые по обыкновению в его ночной черед вместе с дурными матерками и ружейным бабаханьем кнута долетали аж до Усвят. Но луга были опустошело-немы, не виделось и привычного костерка на берегу Остомли, и Касьян затревожился, не понимая, в чем дело, куда девались кони: ужли не выгнал, шельмец? Утром Лобов пришел на дежурство ко времени, был, как говорится, свят и умыт, сразу забрал дегтярку и отправился готовить телеги к наряду, все шло как обычно, и вот, оказывается, не выгнал… Мелькнула мысль сходить на конюшню, узнать, как там и что, какого дьявола Матюха оставил лошадей томиться об эту пору без пастьбы. Небось не дождь, не осень, чтоб держать их взаперти. Но на конюшню надо было идти опять через всю деревню, и он, редко бывавший так пьян, устыдился порванной рубахи и всей этой своей расхристанности.
— Ладно, теперь не набегаешься. Завтра последний денек,— остановил он себя, но тут же вспомнил, что как раз завтра ему бы и заступать, а вечером гнать в ночное. И оттого, что завтра он уже не пойдет — когда ж идти, если сумку укладывать надо,— его проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Все, отходился, отконюховал. Дак и Лобов, поди, тоже получил повестку. Это ж наверняка получил, раз не выгнал в ночное. Как же оно тут будет, если так вот все бросим? Война с ее огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от ее громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь; невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба, только завосковели, а уже располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил свое горнило… Беда-а!
Все еще колеблясь, сходить или не сходить на конный двор,— одна минута заскочить домой, набросить пиджак, обуть сапоги,— Касьян покосился на окна своей избы и только теперь прозрело уловил в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца, доходивший из кухни. По этому терпеливому, как лампада, язычку пламени Касьян понял, что его уже давно заждались дома. Может, уже спят и мать, и Натаха, и тем паче Сергунок с Митюнькой, но фитилек этот, оставленный на припечке, зажжен был караулить и освещать его возвращение.
«Знает или не знает Натаха?» — подумал он о повестке и, озираясь на окна, неслышно приоткрыл калитку
Всего день не побывал дома Касьян, но, войдя, не узнал своего двора и, как чужой, замер у порога, даже не притворив за собой дверь, а так и удерживая в руке скобу: двор остановил его неожиданной белизной, будто был завален по самые застрехи снежными сугробами. Но, оборов эту внезапность, сообразил, что путь ему перегородили заборы выстиранного белья.
— Поразвесили…— неприязненно буркнул Касьян.— Дней, што ли, не будет? Вот уйду, дак и стирали б…
Он и прежде не любил вот таких повальных стирок, когда вдоль и поперек опутывали двор, запирали скотину и птицу и нельзя было лишний раз шагнуть ни к верстаку, ни к амбару. Касьян не терпел попусту околачиваться в избе и — погода, непогода — всегда находил себе дело по двору. Но то случалось перед большими праздниками, бабы сновали туда-сюда радостно-озабоченные, и он, чтобы не мешаться, сам, в предвкушении стола, терпеливо перемогал бабью затею в городчике: поливал гряды, подправлял плетень, обновлял колья, оплетку — чем-нибудь да убивал время.
Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее белье в безлюдном ночном дворе полоснуло его догадкой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшаривать глазами веревки, простертые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатерки, рушники, ряднушки, наволочки, простыни и прочее добро,— хотел и не хотел найти то главное белье, ради которого, наверно, и было все это затеяно. Неловко поднырнув под первую веревку, он все-таки отыскал его, как давеча в темном проулке, шарясь с озабоченной боязнью за чулком, нашел военкоматское извещение. То главное белье вперемежку с еще какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутов домотканых портянок…
Противясь всему этому, Касьян понуро уставился на свои уже просохшие, олубеневшие, словно распятые, бязевые нательники, которым отныне предназначалось невесть где и сколько сопутствовать ему в незнаемом. Все, конечно, было сделано правильно, как и следовало, завтра Натахе некогда будет с этим возиться, и все же Касьяна неприятно кольнуло от этой Натахиной расторопности, будто она заведомо, еще не зная, возьмут его или не возьмут, не видя еще повестки, выпроваживала его из дому.
«Куда столько портянок? — скользнул он взглядом по замашковым кустам.— Ладно б и пару».
Он еще раз оглядел свое белье и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику Крошечные, жалкие от своей стираной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с немастными пуговицами на ширинках, они теснились и беззащитно льнули к его аршинной рубахе: Сергунковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словно бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одежей. Для стороннего глаза не было в том ничего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как их ни развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Все-то она старается сделать со своим распорядком: щей в обед и тех не нальет как попало, а сперва обязательно Касьяну, потом непременно старшенькому, после него Митюньке, затем свекрови, а тогда уж себе плеснет что останется. И в том, как нынче было определено каждой вещи свое место на веревке — его, Касьяново, вместе с детским,— он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особенно к ребятишкам, теперь уловил этот ее тайный умысел и понимание предопределенного часа: посчитала бы дурной приметой развесить все это по разным местам, разлучить отца с ребятишками…
«Ужли, сказывают, и детей не щадят? — вспомнил Касьян разговор, обдергивая и расправляя Митюнькины штанишки.— Детишек-то за што? За такое, конечно… Сволочи…»
Каганец испуганно отпрянул и заметался на припечке, когда Касьян приоткрыл дверь. Кухня всколыхнулась и заходила зыбкими сумеречными тенями, но вскоре светильце, будто признав хозяина, опять успокоилось, выстоялось ровным желтым огоньком, похожим на тыквенное семечко. И здесь, как и во дворе, пока Касьян отсутствовал, нагромоздились перемены. Даже по одному кухонному духу чуялось, какие тут нынче раскручивались и вертелись жернова: густо, непарно отдавало хмельной кислотцой ржаного теста, мокрыми куриными перьями, толченым горохом, каленым подом простывающей печи, на которую все еще не отваживались садиться налетевшие за день мухи. Стол и лавки были захламлены чугунками и полумисками, свекольной ботвой, надерганной прозрачно-желтой незрелой морквушкой и невесть еще чем. На посудном сундуке у окна громоздилась дежа, укрытая старым ватником, а рядом с ней на лопушках зябко ежились два раздетых и обезглавленных куриных тельца, тогда как сами головки, еще в пере, в малиновых гребнях, с темными карандашиками обрубленных шей, торчавших из белых воротничков, лежали на подоконнике. Все это, содеянное без него, мимолетно было увидено Касьяном, когда он первым делом сунулся поискать в висевшей одежке чего-нибудь закурить. И как часто это бывает, когда хочешь сделать неслышно, непременно что-нибудь заденешь и нашумишь, так и тут вышло: потянувшись в карман пиджака, Касьян уронил колодчик рубленых дров, и те посыпались и раскатились гулко по половицам.
— Ты, што ли? — послышался из темноты запечья материн слабый, слипшийся голос.
— Я, а то кто ж,— отозвался Касьян, подбирая полешки. Лозовые дровца были сечены неумело, не в один взмах топора, как делал это сам Касьян, и опять, устыдясь своей праздной отлучки, по этим жеваным, намученным дровяным концам узнал Сергунково неловкое радение.
— Там, на загнетке {25}, щи, поешь.
— Не хочу, мать,— отказался Касьян.
В запечье заскрипели пересохшие доски, донесся горестный вздох старого, натруженного человека, и во сне томившегося какой-то одной неусыпной думой:
— Ох ты, осподи. Защити и помилуй.
Табаку нигде не сыскалось, за ним надо было идти в амбар, потрусить торбу или же лезть на чердак за сухим листом, и Касьян, пошарив по посуде и набредя на остатки кваса в каком-то глёчике {26}, утешился этой нагревшейся осадной жижей. Потом, оставив и сбросив подранную рубаху, в одной майке прошел в горницу.
Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу, прихватила светом кусок ситцевой занавески, делившей горницу на две половинки. В той, занавешенной ее части, в кутнике, стояла его с Натахой самодельная деревянная кровать с резаной одоленью на головных досках, а минуя ее, в глубине, за печным выступом, были сооружены просторные полати для ребятишек.
Касьян легонько, неслышно отстранил занавеску; лунный свет выбелил за ней Натахино лицо, повернутое к нему, обездвиженное первым изморным забытьем, с безвольно разомкнутыми губами.
В топленой избяной заперти было душно, и она, скинув с себя во сне холстинковую простыню, лежала на боку, подобрав колени, оберегая ими живот, мягко оплывший, как сырой неиспеченный хлебный колоб, обтянутый тесной сорочкой. Касьян, кинув взгляд на детские полати, где, сраженно пав, разметав руки, спали голопопые ребятишки, широко раскатившиеся друг от друга, подсел на край Натахиной кровати.
— Нат, а Нат…— покликал он сторожким шепотом.— Слышь-ка.
Натаха дрогнула надбровьем, подобрала губы.
— Это я…— прошептал он, следя за ее оживающими, но все еще притворенными глазами.
Разняв веки, она молча отмаргивалась от лунного света, наверно, еще не видя Касьяна, а только чувствуя его где-то поблизости.
— Окна бы открыла. Жарко в избе,— проговорил он, наводя подход к разговору.— А то шла бы в сани, на свежий воздушок…
Та промолчала, безучастно глядя мимо него в окно, на луну, и Касьян по одному этому ее взгляду понял, что не принят, что виноват, придирчиво усмехнулся:
— Али радость какая — приборку устроили? По двору не пройтить.
Натахины губы вздрогнули, она бегло, замкнуто стрельнула в Касьяна сузившимися зрачками и, опять ничего не ответив, натянула на себя простыню, как перед чужим.
Касьян, тоже обидевшись, замолчал.
Было отступивший хмель, когда он сидел у колодца, здесь, в жарко натопленной избе, вновь взыграл тошнотной мутью, и он прикрыл глаза и даже ухватился за край кровати, когда его вдруг куда-то повело вкрадчивым, все убыстряющимся кружевом, будто он сидел на плоско вращающемся колесе.
Мокрые волосы, принесшие ему облегчение, теперь теплой слипшейся обмазкой неприятно обволакивали голову.
— А я тово… вишь, выпил,— повинился он, когда колесо отпустило его своим вращением.
Он опять помолчал, ожидая, что скажет на это Натаха, но та лишь оглядела его, смигивая неведомые ему мысли припухшими веками.
— Пьяный я, Наталья… Водку пил, бражку… что попадя. Дак а куда было деться? Вот, погляди…
Касьян, неловко кренясь, нагнулся к чулку, поискав бумажку.
— Вот она! Клавка безносая! — усмехнулся он и старательно расправил бумажку на коленке.— Хошь поглядеть? Ранняя дорога, казенный дом… Все тут прописано. Послезавтра явиться с ложкой и котелком. Ну дак ложка у меня имеется, а котелка нема… Что будем делать?
И опять не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену. Взглянул — и прикусил разбухший, непослушный язык: Натаха, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим, размягченным телом.
— Плачь не плачь теперь, не поможешь,— проговорил он, силясь разглядеть при лунном свете чернильную военкоматскую печать.— Во, вишь припечатано! Все как следует.
Ему было муторно слышать, как Натаха вгоняла в себя плач, не пускала наружу, и тот гулькал в ней давкой икотой.
— А мне еще утром прислали. На, говорит, распишись в получении. Да все не хотел тебе говорить. Реветь возьмешься. Не люблю я этого… А ты, вишь, все одно ревешь…
— Ох! — отпустила себя Натаха тяжким смиряющим вздохом.
— Али знала уже? Гляжу, курицы порубаны.
— Да что ж тут знать? — давя всхлип, выговорила она.— Загодя знато.
— Ну, будя реветь. Не один я. Поди, из каждого двора. Афоня уж на што нужон, могли б и погодить с ним, а тоже идет.
— Ты-то пойдешь не один, да ты-то у нас один.
— Ну да что толковать? Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто же за тебя станет? Не скажешь же Лехе: на тебе трояк або пятерку, пойди повоюй за меня? Не скажешь.
Касьян, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только Натахе, но и самому себе, в чем и сам тоже нуждался в эту минуту.
Они помолчали, и Касьян уже сам про себя думал, вспоминая о том, что говорили за Селивановым столом,— как походя лютует немец, палит все огнем, не щадит ни малого, ни старого.
— Оно ить как,— сказал он то ли себе, то ли Натахе.— Хоть червяка взять! Который на дерева нападает. Ко времени не устерег, не сдержал, гадость эта вон уже где, новые ветки кутляет…
— Кабы б червь беспонятный,— уже ровнее выговорила Натаха.— А то и люди на людей идут. Им-то чего бы? Вон какие страсти друг против друга понавыдумали — аропланы да бомбы.
— Бомбы не бомбы, а итить все одно надо, раз уж такое взнялось.
— Ну дак али я беды не понимаю? А токмо… Ох, Кося, небось не жалезные вы супротив-то бомб да снарядов. Одной рубахой прикрытые.
— А то не жалезный! — безголосо посмеялся Касьян, переводя разговор на шутку.— Еще какой жалезный! Ну-кось, подвиньсь, скажу, чего про меня дедко-то Селиван вычитал…
Натаха тяжело отползла к стене, и Касьян, обрадовавшись примирению, прилег рядом. От этого его, однако, опять закружило, и он, крепясь, сцепив зубы, притих.
— Отчего мокрый-то? — спросила Натаха, оглядывая его сбоку, против луны.
— А-а… пустое… Голову мочил… Дак слышь чего…— уже через силу, преодолевая тошноту, выдавил Касьян.— Читал дедко, будто у меня два прозвища.
— Как это?
— Не то чтобы два. Одно и есть… Вроде как на монете. На одной стороне — пятак, на другой — решка.
— Кто ж тебе такую цену положил — пятак?
— Ну, это я к слову, чтоб поняла.
— Так уж и поняла.
— По-простому я, стало быть, Касьян, да?
— А кто ж ты еще?
— …А по-писаному вовсе не Касьян.
— А и правда, много нынче выпил,— первый раз усмехнулась Натаха.— Я, поди, за Касьяна выходила. Иди-ка ты, Кося, к себе. Ты совсем спишь. Вот и глаза не глядят.
— Это я так… Полежу маленько.
— Да и кто ж ты по-писаному-то?
— А-а! — протянул Касьян, не размыкая глаз.— Дак вот пишут — шлемоносец я! Звание мое такое.
— Чего, чего?
— Шлемоносец!
— Господи! Чего еще на себя плетешь?
— Ну…— Касьян запнулся, не находя больше пояснения этому слову.— Ну… на голову такую жалезную шапку дают… Чтоб не ушибло. По ней саданут, а мне ничего.
— Ты его токмо слушай, балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад.
— Книга у него такая, старинных письмен {27}. Я сам про себя читал. Будто мне от самого рожденья та шапка заготовлена. Я, к примеру, родился, живу, землю пашу или там еще чего делаю, ничего не знаю, а она уже где-сь лежит.
— Дак и всякому мужику она заготована. Долго ли войну кликать?
— Не-е!.. Ну… как это тебе сказать! Моя не такая. В ней я буду вроде как заговоренный.
Врал через силу, через тошноту Касьян, утешал Натаху, уводил ее от ненужных мыслей, как куропач уводит из гнезда опасность, но и сам хотел верить в такую свою чудодейственную шапку. Однако Натаха на все это только грустно вздохнула:
— Ох, Касьян, Касьян. Ровно бы младенец. И как-то ты там, на войне, будешь… Уж чего тебе заготовано, так вот оно…
Привстав на локоть, Натаха запустила руку под подушку, вытащила белый сверток.
— Может, что не так,— скажешь: завтра переделаю.
Раскрыв отяжелевшие веки и все еще не догадываясь, Касьян принялся расправлять на груди сверток, и тот развернулся холщовой сумкой, к углам которой была пришита обоими концами долгая коломянковая лямка. Смутясь так, что жаром налились уши, он молча вертел перед собой и теребил свой подорожный пещур, простерев его в лунном свете на вытянутых руках к потолку. И Натаха, прижавшись виском к его плечу, подспудно двигавшемуся жесткими желваками, шепотом пояснила:
— Сама, грешная, шила. Не след было шить своими руками. Поди, не положено?
— Почему — не след? Я ж не покойник…
— А мать и вовсе нитки не видит. Да и того пуще от слез потухла б… Я и то от нее украдкой, чтоб не видела.
— Ну-к что ж…— собравшись, как можно спокойнее проговорил Касьян.— Это дело. Без сумки не обойтись.
— Постромка не коротка ли?
— Сгодится. В самый раз… Ладный сидорок! Гляди ты: и буквы вышила! А их-то зачем?
— А так просто… Чтоб вспоминал…
— Вот, вишь, опять все руками. Так и не купили тебе машинки…
Чувство вины снова полоснуло Касьяна. Он отшвырнул, не глядя куда, сумку и потянул к себе Натаху, ища ее губы. Та отстранилась, загородилась от него ладонью.
— Не надо, Кось.
— Чего ты…
— Отпусти, не надо.
— Ну Натах…— душно, пьяно зашептал он.
— Угомонись. Маленький у нас.
— Ну да и что…— бормотал он, сам себя не слыша.
— Боюсь я. Глянь ты какой дурной. Да и мать не спит.
— Ну пошли в сарайку.
— Нет, Касьян, нет… Боюсь.
— Ухожу ведь,— обиделся Касьян.
— Нельзя так… Надо бы тебе не пить. За водкой и про меня забыл.
— Как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу.
— Знаю, Кося, знаю. Да разве одним этим дом помнится? Вон дети твои спят. Их и помни. Тебя весь день не было, а они намотались, напомогались. И бураков надергали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Сережа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь еще всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру не споймаем: она обезножела, а я — квашня квашней.
— Табачку нигде близко нету? — отвернувшись, сказал Касьян.
— А еще и земля вон ляжет на бабьи руки,— продолжала свое Натаха.— Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чертова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет.
— Как назовешь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшенную сумку.— Не надумала?
— Надумала… Касьяном и назову.
— Чегой-то? — удивился он и не сдержал смешка.— Опять шлемоносец?
— Не мели. Не знаю я ничего этого.
— Дак зачем еще Касьян-то?
— А чтоб слово в доме было. Ты уйдешь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с нами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растет.
— Под нову каску.
— Чего?
— Да это я так… Касьян дак Касьян. Может, и пригодится… У тебя нечего выпить? — спросил он, вставая.
— Куда ж тебе еще?
— Жалко, что ли? — сказал он, как-то отчуждаясь.
— Да мне не жалко. Вон у матери есть маленько на растирку. Выпей, если охота. Под печкою стоит.
— Ну ладно… На нет и суда нет… Пошел я, раз такое дело. Натопили-то как.
10
Назначил себе Касьян встать в тот последний день пораньше, да не исполнилось: в сенной прохладе незаметно когда и как мертвецки провалился в небытие и проснулся, аж когда все щели уже сочились дымными, напористыми лучами позднего утра.
Мир уже давно жил без него, и Касьян слышал, как глухо, будто мельничный жернов, погромыхивал в избе рубель {28}: должно быть, Натаха прокатывала вчерашнее белье; как отчего-то обиженно всхлипывал в сенях Митюнька, а под сарайным плетнем с озабоченной истомой квохтала клуша, сопровождаемая бисерным писком цыплят. И в неуемном кружении над подворьем ликующе чиликали, чиликали ласточки. От самого их прилета Касьян не затворял и наказывал другим не затворять сенника, дабы не препятствовать касаткам селиться под стропильной латвиной {29}. Он любил прежде, вот так замерев, наблюдать, как с легким шелестом, доверчиво, будто в самую его душу, влетали птахи в дверной проем и повисали вильчатыми хвостами над головой, припав на мгновенье к отверстиям своих серых земляных жилищ. Гнезда тотчас откликались приглушенным звоном птенцов, ровно бы кто потряхивал над Касьяном глиняную кубышку с серебряными денежками. А когда мать-отец отлетали прочь, птенцы, уже пепельно-оперенные, с улыбчивым ярко-желтым обводом рта, поочередно высовывались из летка и с любопытством оглядывали подкрышную сутемь, еще не ведая, но уже предчувствуя, что где-то совсем близко есть воля, небо и солнце. Это рассветное снование ласточек в прежние дни всегда зарождало в Касьяне легкое и радостное ощущение начала дня и потребность какого-нибудь дела.
Спал он от самых майских праздников в сеннике, на старых розвальнях. Сани эти, уже давно без оглобель, с выпавшими через один копыльями, остались дома еще от коллективизации, и за ветхой ненадобностью он приспособил их под летнее спанье, глубокое и уютное, как большое гнездовье, где, укрывшись попоной, а ближе к осени — и полушубком, вольготно было почти до самых зазимков. В череде таких ночей, уже после того как все угомонятся в избе, несчетно раз наведывалась к нему Натаха пошептаться наедине от чуткой свекрови, и в этом гнезде, как в касаткиной лепнине, зачали свою жизнь Сергунок с Митюнькой, родившиеся потом оба, как по заказу, в аккурат по первой капели.
Последний раз Натаха была у него уже недели три назад: то он стал отлучаться в ночное, то она крутилась с огородами, начала уставать, совсем отяжелела, и все бы ничего, как-то стерпелось бы в обыденности до лучшей минуты, не о том была главная думка на десятом совместном году, кабы не это внезапное, оставившее Касьяну считаные дни. Сено в санях обновлять уже было ни к чему, как делал он это всегда по Троице, но Касьян, готовясь к прощанью, еще третьего дня все же вытряхнул слежалое старье, накосил по усадебному обмежью свежей цветастой травки, просушил незаметно, щедро настелил пахучую обнову и даже подмел в сарайке земляной пол: собирался на воле, без домашних свидетелей не спеша и обстоятельно обо всем обговорить с Натахой. И вчера, осознавая край своему времени, уже борясь с навалившейся дремой, несмотря на ее несогласие, все же чаял прихода Натахи, как последнего причастия, из остатних сил еще долго прислушивался к избе и подворью, не скрипнет ли сенечная дверь, не объявится ли в лунном квадрате растворенных ворот неслышная тень, как бывало то прежде… Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешенным, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, еще в нем присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничему не причастен. Лежа в санях, он, отстраненный, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки,— даже этот плач его любимца доходил до него, как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться.
Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он все еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нем, сонном, заполнило и подчинило себе все его существо.
И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце:
— Ты чего ревешь-то? Глянь-кось, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос… Ревешь-то чего?
Митюнька, икая, пожаловался:
— Да-а… Селезка сум… сумку не дает…
— Какую такую сумку?
— Па… па-а-пкину.
— Ах он нехороший какой! Мы ему зададим. Сережа!
Сергунок, где-то затаясь, не отзывался.
— Сере-ежа!
— Мам, он за амбалом,— подсказал Митюнька.
— Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей?
— А чего он пыль в сумку насыпает,— отозвался Сергунок.— Я говорю, не смей сыпать, папке с ней на войну итить. А он, дурной, сыпит.
— Слушай, Сережа,— нетерпеливо перебила Натаха.— Ты знаешь, где дядя Никифор живет?
— Знаю. В Ситном он.
— Ага, в Ситном. А как туда идти — знаешь?
— Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали.
— Ну дак как же туда?
— А мимо конторы…
— Ну, мимо конторы.
— А опосля лесок пройтить…
— Верно, лесок.
— А там лугом — и вот оно, Ситное.
— Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?
— Один?
— Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тетей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну…
— Ага.
— Не заплутаешься? — беспокоилась Натаха.
— А то!
— Оттуда с ними придешь.
— Ладно. Только можно я с папкиной сумкой?
— Не выдумывай!
— Ну, мам!
— Да на что тебе сумка-то?
— А так… По нашей деревне пройду.
— Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить?
— Прямо! Она ж солдатская.
— Ох ты горе мое — солдатская! Еще наносишься. Ее вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет.
— А я швыдко.
— Ладно уж, бежи. Только давай я покороче ее подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.
— А я? — опять захныкал Митюнька.
— Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдешь ты.
— Дойду-у…
— Лучше я тебе куриную лапку дам. Хочешь лапку?
— Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у…
— Ну, беда с вами. То ли с медом она, сумка-то? С горем, а не с медом… Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз — экий герой!
— Ну, мам, я побег! — готовно выкрикнул Сергунок.— Я — скоком!
— Стой же ты, дай хлебца-то положу.
Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как по-за плетнем дробно застучали Сергунковы пятки.
— Ох ты, горюшко,— передохнула Натаха.— Все-то вам игра да потеха.
Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто поглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай… А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие в осень, по работе и обувка должна бы… Эх, ничего не сделано, кругом неуправа…
Касьян встал, натянул штаны, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомнил, что у него нет ни граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шел из сеней, и он направился в избу. Во дворе уже не висело ни белья, ни веревок, но в кухне было по-прежнему ералашно, как всегда перед большой стряпней. Печь уже пылала, роняя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюньке.
Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые подмышки, обнажив иссохшие, сквозившие синевой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и ее острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой кофтой. Время от времени она заморенно выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец {30}, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные ее кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелегкая справа — и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи,— все это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в пояснице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своем душном запечье, тщетно приноравливаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет кое-как перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить Бога прибрать ее поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и техкала трехпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые ее щеки, иссеченные морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.
— К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбужденный взгляд матери.— Будет тебе потом…
— Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше.— Идешь ведь…
— Махотиха, поди, тоже печет. Взяли бы взаймы покуда.
— Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли еще когда. Видать, последний это…
Она тихо, бесскорбно прослезилась, но тут же утерлась передником.
— Моя рука легкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда еще на ту войну провожала. Ан цел пришел, невредимый.
И, приблизясь, с виноватой озабоченностью сказала:
— По-хорошему, дак надо бы хлебец-то в Ставцы сносить, окропить водицей. Да нести некому. Совсем обезножела я.
— Дак и не надо,— вяло сказал Касьян.— Не на всю войну хлеб. Покуда дойдем, весь и съестся.
— То-то, что не надо,— обиделась мать.— Вам, нонешним, ничего не надобно. Вон и Наталья без креста ходит, наперед не думает. Живете, кабудто век беде не бывать, непутевые. Ну да уж ладно: слез моих в этом хлебе довольно замешано. Мобудь, за святую водицу и сойдут, материнские-то слезы.
Она опять всхлипнула и отвернулась от Касьяна к своим делам.
А он еще постоял, потоптался в дверях в неловкости, понимая, что нечем ему утешить старушку.
— …А змей тот немецкий об трех головах,— доносился высокий распевный голос Натахи сквозь порывы деревянного рокота рубеля.— Из ноздрей огонь брызгает, из зеленых очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на нем железная. Нипочем ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и еще много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом…
— А папка нас с рузьем! — ликовал Митюнька.— Как пальнет по змейским баскам, да, мам?
Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени. По жердяной стремянке поднялся на чердак за табаком. Махорка пересохла за зимнюю лежку, надо бы всю и помельчить до осени, да все недосуг было. Кто же знал, что так вот враз понадобится. Спустившись с беремком, Касьян нащипал на закур, а остальное сунул в кадку с водой и подвесил под сараем отволгнуть, чтобы под топором не крошилось костриками. И, жадно закурив из одного листа, укрылся на задах под вишенником подождать, пока подвешенный табак вберет в себя влагу и помягчает.
По солнышку было около десяти, но Усвяты — и старые, и новые — против обычного еще не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы. По Полевой улице уже сновал какой-то люд, бабы и старушки в белых платках, выряженные, несмотря на теплынь, в плюшевые полусачки и поддевы, брели чинно вдоль посада, придерживая за руку зевавших по сторонам детишек: видать, сходились гости. Возле Кузькиного двора стояла подвода с пегой, в рыжих заплатах нездешней лошаденкой. Касьян долго таился в тени вишенья, будто привязанный, и ему ничего и никого не хотелось.
Потом рубил он у себя под навесом табак в долбленом корытце, время от времени просевая крошево на самодельном жестяном сите. Рубил машинально, погрузясь в несвязные думы, в бесчувственное отсутствие, пока не подошла, не окликнула Натаха.
— Чего есть-то не идешь?
— Чтой-то не хочется,— буркнул Касьян.
Она подошла ближе, теплой ладонью взъерошила волосы. Касьян перестал тюкать, выжидал, не поднимая глаз. Ему были видны одни только Натахины босые ноги, заметно отекшие в щиколотках.
— Будя тебе, Сережа придет, досечет. Я его к Никифору послала. Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела.
— Ладно, успеется,— нехотя отозвался он.
— Да когда ж… Последний денек.
В Усвятах, как и во всем подстепье, бань не заводили и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплескивая на полы, летом — в сарайках, и все это еще с самого детства засело как докучливая обуза.
— Я лучше на реку схожу,— сказал Касьян, откладывая топор.
— Сходи, сходи,— одобрила Натаха.— Там повольнее. И белье возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдешь, прибранный.
11
Из дальних веков, запредельных для человеческой памяти, течет Остомля-река. От начала и до конца дней пересекает она собой жизнь каждого усвятца, никогда не примелькиваясь, а так и оставаясь пожизненной радостью и утехой.
Свою последнюю зиму доброй памяти Тимофей Лукич, досточтимый Касьянов папаша, едва перемог и хвори и немочи. Отлежал он аж до новой травы и уже было запросил причастия, как внял над избой первый предмайский гром. Дождь пролился недолгий, но спорый, и старику, должно, было слышно в незадвинутую печную вьюшку, как обмывал он кровлю и самую трубу, как прокатывалось по небу вешнее разгульное громыхание. Слабым голосом, однако же и настойчиво, Тимофей Лукич потребовал снять его с истертых печных кирпичей и проводить на улицу. Касьян и Натаха обрядили его потеплее, вздели спадавшие катанки и — легкого, утонувшего в шапке — снесли в палисад, на уличную завалинку. Натаха втемеже ушла хлопотать свои хлопоты, а Касьян, которому хотя и тоже был недосуг, остался с отцом, придерживая его за плечи, боясь, как бы старику не закружило голову после избяной спертости. Из глубины овчинного ворота и насунутого треуха заслезившимися от непривычного света и вольной свежести глазами, замерев, уставился он в умытые дали и просидел так немо, ни о чем не спрашивая Касьяна, у которого уже и рука затекла поддерживать старика и не терпелось вернуться к прерванному делу под навесом. Понимал Касьян, что никогда боле отцу не пересечь самому лугов, не посидеть на бережку Остомли, но и теперь, в последние свои деньки, старик тянулся туда неутоленной душой, все глядел и глядел в заветную речную сторону, хотя отсюда, с деревенской улицы, и не видать ему самой Остомли, кроме отрезка излучины в одном-разъедином месте. Уж казалось бы, что ему теперь эта излука, да и мало ли чего кроме нее видится в лугах, ан нет: время от времени туда-сюда повернет взглядом — на сбежавшую за лес нашумевшую тучу, на коров, на купы старых ив возле мельницы — и опять оборотится к дальнему взблеску воды и замрет, будто в дреме. Да и сам Касьян, бывало, ни на лес, ни даже на кормившее его хлебное поле не смотрел столь без устали, как гляделось ему на причудливые остомельские извивы, обозначенные где ивняком, где кудлатыми ветлами, а где полоской крутого обреза.
Вода сама по себе, даже если она в ведерке,— непознанное чудо. Когда же она и денно и нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на перекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно ухает вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим зеркалом, впитывая в себя все мироздание — от низко склонившейся тростинки камыша до замерших дремотно перистых облаков; когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной звенью и наплеском срывается она с лотка на мельничное колесо,— тогда это уже не просто вода, а нечто еще более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский житель не мог дать тому истолкованье, не находил да и не пытался искать в себе никаких слов, а называл просто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение этого дива.
По весне взбухшая от талых снегов Остомля выплескивалась из берегов, подтопляла займище до самой суходольной дубравы, поднимала полой водой валежник, бурелом, старую зимнюю чащобную неразбериху, гнула и бодала уже набухший почками уремник, и бежало и плыло оттуда застигнутое большое и малое зверье до надежной тверди — уцелевших островов и обмысков. В левобережной же, усвятской, стороне воде и вовсе не было удержу, и она охватно разбегалась по всему лугу под самые огороды на великую радость ребятишек. С Касьянова мальчишества и по сию пору, а до Касьяна — сколь стоят на этом юру Усвяты, вешний разгул Остомли всегда собирал к себе детвору, и не было радостнее в природе события, чем краткая, но звонкая пора ледохода, преисполненная апрельской ярости солнца, вербяно-снежного настоя ветра, птичьего перелетного гама и крепкого духа отпревшей на взлобках земли. Касьян и сам когда-то, полубосой, полураздетый, в лаптишках, чавкающих грязными пузырями, с беспечной лихостью скакал по забредшим в огороды льдинам, не раз ошмыгивался под общий хохот мальцов, а потом тайком сушился по кустам у рьяно гудевшего на ветру костра. Мечущееся пламя сокрушало все, что удавалось изловить в бегучей воде,— вывороченные бревна мостов, опрокинутые плетни, унесенные кадки, корыта, детские салазки и прочий обиходный луб, смытый рекой по дальним и ближним остомельским деревням, и Касьян, нагой, с опаленными бровями, приплясывал и увертывался бесом от порывов огня, стрелявшего раскаленными углями и осыпавшего пчелино кусачими искрами. А теперь вот по весне и Сергунка не докликаться, не оттащить от полой воды, пока мать или бабка не налетят с хворостиной.
Неспешно шел Касьян луговой тропкой, в руке камышовая корзинка с нижним бельем, с чистой рубахой, кусок мыла завернут в рушник — не хотелось спешить, шел, оглядываясь, вроде как запоминая, и все такое разное всплывало из прошлого вперемежку с теперешним.
К майским праздникам Остомля, утомясь и иссякнув, скатывалась в берегах и, будто устыдясь своего недавнего буйства, смирела, тихо отцеживалась на чистых песках и отогревалась в затонах и заводинах. А луг, еще не просохший, еще в бесчисленных остатних блюдцах и калюжинах, уже буйно, безудержно зеленел, и на этой его молодой мураве, где еще ветру и качнуть нечего, не то чтобы развести травяную волну, словно на новой праздничной скатерти, были особенно приметны следы недавнего речного разгула. Белели языки намытого песка и россыпи пустых ракушек, масляно лоснились пробитые травой заилины, хрустели под ногами легкие сухие карандашины прошлогоднего ситника, широкими строчками обрамлявшего низины и береговые скаты, бугрились пласты корневищ, старой осоки, где-то выдранной и унесенной льдом, которая тут же, на новом месте, как ни в чем не бывало принималась пускать свежие красноватые пики.
Отступала река, вслед за ней устремлялись шумные ребячьи ватажки, и было заманчиво шариться в лугах после ушедшей воды.
Чего тут только не удавалось найти: и еще хорошее, справное весло, и лодочный ковшик, и затянутый илом вентерь или кубарь, и точеное веретенце, а то и прялочное колесо. Еще мальчишкой Касьян отыскал даже гармонь, которая хотя и размокла и в подранные мехи набило песку, но зато планки оказались в сохранности, и он потом, приколотив их к старому голенищу, наигрывал всякие развеселые матани.
Но пуще всего было забавы, когда в какой-нибудь мочажине удавалось обнаружить щуку, не успевшую скатиться за ушедшей водой. Смельчаки разувались и, вооружившись палками, лезли в студено-прозрачную отстоявшуюся воду, где было видать каждую былку, каждый проросший стебелек калужницы. Щука черной молнией прошивала мелководье, успевала прошмыгивать между ребячьих ног, делала отчаянные «свечи», окатывая брызгами оторопевших ловцов. Под конец в азарте охоты все оказывались мокры по самые маковки, однако же кому-нибудь удавалось-таки, взбаламутив воду до кисельной гущины, сцапать морковными озябшими руками зубастую пройду и вышвырнуть ее далеко на сухое. То-то было ликования: «Ага, попалась, пакостная! Не вот-то тебе красноперок шерстить!»
И все это — под чибисный выклик, под барашковый блекоток падавших из поднебесья разыгравшихся бекасов, которых сразу и не углядеть в парной притуманенной синеве.
А то бывает пора, которая люба Касьяну с детства, даже не пора, а всего лишь день один. Издавна заведено было в Усвятах и перешло это на нонешнее время — сразу же, как отсеются, выходить всем миром на подчистку выпасов. И называется этот день травником. Так и говорилось: «Эй, есть ли кто дома? Выходь все на травник! На травник пошли! Все на травник!» Да и скликать особо не надобно: на это совместное дело усвятцы сходились охотно. Кто с лопатой, кто с тяпкой, а кто и просто с ножиком выходили от мала до стара подсекать татарник, чтобы извести его до цвета. Работа не работа, праздник не праздник. И дитю не уморно срезать ножиком плоскую молодую колючку — перволистник, а уж девкам-бабам и вовсе вроде забавы: набредут да и подсекут тяпкой, набредут да и подсекут… Рассыплются по лугу, снуют туда-сюда, будто грибы ищут. А ребятишки друг перед дружкой: «Чур, моя! Чур, моя!» У мужиков тем временем свое: собирают валежины, хламье всякое, кромсают лопатами на куски натасканные половодьем осочные пласты, наваливают на подводу и отвозят прочь. После того стоит луг зелен до самой осени, лишь цветы переменяет: то зажелтеет одуваном, то сине пропрянет геранькой, а то закипит, разволнуется подмаренниками {31}.
А уже к предлетью, когда выровняются деньки, на лугу наметятся первые тропки. Глядеть с деревенской высоты, так вон сколь их протянется к Остомле. Каждые три-четыре двора топчут свою тропу, у кого там лодка примкнута, у кого вентеря поставлены, кто по лозу, а кто с бельем и пральником {32}. И только купалище на все Усвяты общее: есть один пригожий изворот, этакий крендель выписывает Остомля. Конечно, выкупаться можно и в других местах, ребятишкам, тем везде пристань, и все же почему-то усвятцы больше сбивались на этот крендель, называемый Окунцами.
Вспоминалось все это Касьяну, пока шел он тропой, но уже не было в нем прежнего обнаженного и чуткого созвучия, а обнимало его некое обморное и теперь уж безбольное отрешение и отсутствие, с каким он проснулся нынче в санях: вроде бы все это было с ним, все помнил, все видел, но какой-то отдалившейся душой, чем-то застланным зрением. И ступал он словно не по знакомой тверди, каждой подошвой ощущая врожденное родство с ней, а вроде бы не касался земли, несомый обесчувственной скорбью, вызревшей готовностью к завтрашней дороге. И все же шел он не из простой потребности выкупаться и одеться в чистое перед дорогой, а что-то и еще позвало его в луга, к таившейся в них Остомле, без которой не мог он завтра покинуть дом с чувством исполненного отрешения.
Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводина. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зеленым тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалился до печного жара.
Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но еще издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимся бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропеченный, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто состругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечевке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал.
— А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и легкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева.— Ей-бо, как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом пошоркать. На шее, гляжу, дак и уголь в трешшинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копченые.
— Ты бреши помене, а нажимай поболе,— гудел Афоня.— Давай, давай, поусердствуй.
— Да я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое ден нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесет.
Касьян, поставив кошелку в тенек, молча принялся стаскивать рубаху.
— Глянь-кось! — выпрямился Матюха.— И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать?
— На мне грехов нету,— сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил.
— С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал? — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса.— Мужик как мужик. Кисет на месте.
— Давай три, свиристун,— нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто.
— Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать.
Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну.
Касьян тоже не спеша, с цигаркой вошел в воду, забрел до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парная и ласковая, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь ее зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок.
— А меня, братка, тоже забарабали,— все так же весело выкрикнул Матюха.— Во, глянь…
Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушел под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когда вынырнул — оказался наголо обритым и еще больше неузнаваемым.
— Вишь? — выдохнул он, сплевывая воду.— Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко. Все одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело — без волос! Одна легкость.
Матюха туда-сюда провел ладонью по синей балбешке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове.
— Вошь теперь не цепится,— задрал он в смешке рассеченную губу.— Нет ей теперь державы. Не бросай, дай-кось докурю. А ты пока на мыльца.
— У меня свое в кошелке,— ответил Касьян, не настроенный на легкий разговор.
— Ну, будешь за своим бегать. На, мылься! Теперь вместе идем, твое-мое дома оставляй.— Лобов снял с шеи бечевку и протянул кусок.— Ты где двестительную служил?
— В кавалерии,— сказал Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло.
— Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе.— Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмем ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре… Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай палят. А на коне — не-е! Дюже мишень большая.
— Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову.
— Каких лошадей? А-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он еще ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку-Гыгу. Гыгочет во весь рот: довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздает, навоз подчищает. А кому еще? Больше некому.
Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду.
— Скоро и лошадей брать начнут, так что… Давай-ка и тебе шоркану спину.
Все еще чему-то противясь, должно быть Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жестким, еще не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла.
— Я тут уже человек шесть выкупал,— говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок.— С самого утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал?
— Пока нет…
— А я уже уложился. Я вчерась еще сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Еще седни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чем идешь? В сапогах али как?
— Еще не надумал.
— Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптешках! Мягко, ног не собьешь. Верно я говорю?
— Ну-к ясное дело, не осень…
— Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там все одно переобувать будут в казенное, в чем ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай донашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу.
Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надергав темно-зеленых стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна.
— У Кузьмы уже шумят,— докладывал он возбужденно, на всю реку.— Двери-окна нараспах, гармошка грает. Давеча мимо шел — вылетел сам Кузьма в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться — вместе идем. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем.
— Ну чего ж, раз подносят…— сказал Касьян, думая о своем: приедет Никифор, а он еще и в лавку не сходил, угостить будет нечем.
— А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошел, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле.
— Со вчерашнего, поди, не обсох.
— Кой со вчерашнего! Еще до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснемся напоследок. А он: я нынче в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ем внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться. Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать.
Лобов запаленно остановился, отшвырнул измятый пучок.
— Ну, все! — объявил он.— Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим.
Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улегшись на прокаленный песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку.
Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии разморенно обникли листвой уремные ветлы, и где-то в этой зеленой кипени тоже разморенно и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживленно носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах…
— Да-а,— протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумленное выражение, как будто он впервые видел мир божий.— Благодать! Как и нет ничего…
Афоня-кузнец, должно, за все лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной остуды, молча обвел взглядом ту сторону.
— Мы вот тут лежим, покуриваем,— все так же задумчиво проговорил Лобов с растяжкой.— А он идет, иде-е-ет…
Кто это «он» и куда идет — было всем понятно, и Афоня-кузнец лишь углубленно принялся колупать ногтем запекшуюся ссадину на волосатом запястье.
— И вчера шел, и позавчера…
На самую береговую кромку опустился кулик-песочник, шустрая птаха, глянул на недвижных мужиков, но не убоялся, не отлетел подальше, а, тонко пискнув, принялся сновать по песчаной сыри, дергаясь головкой при каждом шажке.
И опять, не получив ответа, Матюха, вдруг оживясь, перескочил на другое:
— А верно ли, будто немец по часам воюет?
— Как это — по часам? — покосился на него Афоня-кузнец.
— Ну как… Сказывают: сперва побреется, надеколонится, кофею попьет. А тади уж разбирает ружья и начинает палять в нашу сторону. Пополдничает, снимет сапоги и — на раскладушку. Мертвый час, стало быть. Ну а потом еще сколько-то повоюет. Аккурат восемь часов получается. Вроде как в одну смену.
Афоня-кузнец, с интересом было начавший слушать, досадливо отвернулся:
— Мели, Емеля.
— Что намолото, то и просевай.
— И сеять нечего, так видно: брехня. Как это — в одну смену? Война — это тебе не фабрика какая.
— Немцу, можа, и хвабрика. Небось для того им всем часы дадены, чтоб глядеть. Сказывают, все как есть при часах.
Афоня пыхнул дымом, хмуро задумался, и по грубому крупнопористому лицу его было видно, как бродила под спутанными волосами какая-то упрямая мысль, какое-то несогласие.
— Ну ладно, по часам. А опосля чего делает?
— Как — чего? — легко удивился Матюха.— Руки моет, ужинает. А потом — спать. Ночью они — ни боже мой, чтоб идти куда. Ни за что не пойдет. Все до одного дрыхнут. Токо часовых выставляют. А остальные храпака. Во, гады, культурные какие, а!
Матюха и сам посмеялся такой несуразной аккуратности и тут же, пришлепнув пяткой по голому заду, спугнув присевшего было овода, сообразил:
— Тут бы на них и навалиться, когда улягутся. Тарараму б наделать, шухеру! А то тыкву из кустов высунуть. С глазами. А внутри свечку зажечь. Я еще малым так-то у дороги тыковку пристроил, возле кладбища, дак урядник как хватанул, чуть с коня не слетел.
— Ну и брехать ты здоров,— покрутил головой Афоня.— Сколько тебя знаю, одной брехней жив. Кабы б немец ночью спал, дак не токмо тыкву, а и фитиль пеньковый куда надо вставили б. Хороша брехенька, да, как пуп, коротенька.
— Я-то тут при чем? За что купил, за то и продаю.
— У кого куплено-то, спросить.
— Дак я ж говорил, шуряк ко мне приехал. На проводы. Это уж он меня постриг. А самого его не берут. На него броня наложена. Потому как на железной дороге он. Сцепщиком работает.
— Ну?
— Говорит, поездов, эшелонов на станции — пропасть! Все путя забиты, никак не разъедутся. Бабы, детишки — эуи… куированные называются. Из теих, стало быть, мест, из опасных…
— При чем тут поезда? Ох и талдон!
— Да ты слухай! Я — Емеля, а ты дак и весь Хвома поперечный. Не даст досказать. Чего люди, то и я. Народ бает, может, чего и правда. Не все ж сплошь брехня. Я мелю, а ты сей…
— Ну, ну, валяй.
— Дак шуряку один старичок про то и рассказывал. Потерялся он, отстал от своего поезда, ночь, деться некуда, его и подобрали, привели в служебку.
— Поди, шпиен подосланный, такое брешет.
— Кой там шпиен! Наварили ему картох, поел, пошамкал, а потом под окнами из крана вставленную челюсть споласкивал. А шуряку-то в окно и видно. Доходяга. А так башковитый, про немца долго сказывал. Он еще из самой этой… как ее… Мне шуряк и город называл, да… А! Из Львова! Вот откуда! Будто часовым мастером тамотка был. Он и часы отдавал, только не за деньги, а чтоб за хлеб або за крупу. Кабы знато, дак я б и пшенца подослал. Ну да не об этом… Дак энтот старичок повидал их вдосталь, вот как я тебя. Сказывал, страховитые, и будто каски на них глубокие, по самые плечи. Чтобы, значит, никакая пуля не задела.
— Погоди, погоди,— остановил Лобова Афоня-кузнец.— Ежли по самые плечи, дак это ж вроде ведра должно. Ну-ка, надень на себя ведро — куда глядеть-то будешь?
— Дак, можа, там дырки прорезаны.
— Ну-ну…
— И на касках по бокам вроде бы рожки.
— А рожки для чего?
— Энтого я тебе не скажу, не знаю. Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога. Дак вроде как я уже таких где-сь видал, на картинках. У моей Верки, в букварях, кажись… Тоже с ведром на голове и с рогами.
Матюха озадаченно поскреб в стриженом затылке.
— Во, братки, какую козюлю нам бить придется,— сказал он.— Боись, не боись, а куда денешься? А сапоги у него, сказывают, кованые — не то чтобы одни каблуки, а и вся подошва…
— Ну уж это точно враки,— не согласился Афоня.
— Это ж почему?
— А ходит-то он как, ежли вся подошва? Ну вот давай я тебе на подметку сплошную железку накую — далеко ли пойдешь?
— А черт его знает, как он ходит. Это ж немец! У него вон и штык не как наш — чтоб и человека колоть, и колбасу порезать. Все продумано. Дак, может, и ноги у него как у коня…
— Понес, понес неоколесную! Поди макнись вон трохи.
— А чего? Глядь-кось, сколь за десять-то ден прошел. Беги бегом — столь не пробежишь.
— Дак на машинах — чего б не пробечь.
— Что ж у него, пехоты нету, что ли?
— И пехота на машинах.
— Ох ты! Какая ж это пехота, ежли пешки не ходит. Чудно!
— Тебе, вишь, и чудно. Села баба на чудно, наступила на рядно.
Афоня-кузнец сердито заплевал окурок и договорил:
— Подол оборвала, чудно бабе стало.
Матюха умолк и, сунув свой чинарик в песок, стал засыпать его из горсти, хороня под медленно нараставшим ворошком.
Кулик-песочник все еще бегал вдоль кромки, тыкал шильцем в человечьи следы, налитые водой. Время от времени он останавливался и косил черный глазок на мужиков, будто спрашивал: я не мешаю? Но вот по чистым пескам Окунцов пронеслась расплывчатая тень. Кулик замер, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку. Все трое подняли головы и увидели в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружила над плесом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывала на солнце, по пескам проносилась быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружил над мирными берегами…
Кулик больше не суетился, не тыкался в следы, а настороженно замер, вглядываясь в небо то одним, то другим глазом. Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением черной птицы. Смолкла, больше не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных ветлах горлица…
В другое время мужикам было бы наплевать на коршуна, но нынче и им почему-то сделалось неуютно и беспокойно от повисшего над головой молчаливого хищника.
— У хвашист! — выругался Матюха.— Свежатины захотел.
Но вот коршун, должно быть все же убоявшись лежавших в песке людей, широким полукругом переместился в займище и повис там над уремной чащобой. Со стороны он еще больше походил на самолет, что-то разведывавший на земле.
— Ну что, братцы,— приподнялся Лобов.— Пошли еще ополоснемся. В последний разок.
Касьян достал из кошелки пеньковую мочалку и свое мыло и, зайдя в воду, еще раз прошелся по всему телу, не спеша и обстоятельно. Афоня-кузнец только поокунался, а Лобов, улегшись на спину, долго и неподвижно лежал так, сносимый вниз по течению, предавшись каким-то думам, а может, и блаженному бездумью.
Потом одевались в чистое, прыгая на одной ноге, продевая сполоснутые ступни в подштанники, напяливали на еще не обсохшее тело каляные, выкатанные рубахи. И уже одевшись, но еще босой, Матюха заскочил в реку и, зачерпнув пригоршню, припал к ней губами.
— Забыл попить на прощанье,— сказал он, вытираясь рукавом.— Доведется ли в другой раз…
А выйдя на береговую кромку, где еще недавно бегал кулик,— босой, в неладной большеватой рубахе, прикрывавшей подвязанные у щиколоток подштанники, будто приговоренный к исходу — обернулся к реке и низко трижды поклонился лопоухой стриженой головой.
— Ну, матушка Остомля,— проговорил он виноватой скороговоркой,— прости-прощай. Какие будем пить воды-реки, в какой стороне — пока незнамо. Пошли мы…
Афоня-кузнец, тоже весь еще в белом, сутулясь крутой спиной, насупленно, быковато уставился на реку.
— Ну все,— говорил Матюха, отступая от берега и все еще оглядываясь.— Пошли.
Они надели верхнее, сложенное на траве под красноталом, обулись, еще раз поглядели окрест и молчаливой цепкой прошли по узкому перешейку. И тут, уже на лугу, распрощавшись, пожав друг другу руки до завтрашнего дня, разбрелись по своим тропам.
Шагая выгоном, дрожавшим у краев полуденной марью, Касьян видел, как встречь, то справа, то далеко слева, кто с кошелками, кто с белыми свертками под мышкой, спешили к Остомле еще несколько мужиков.
12
Еще у калитки изба повеяла на Касьяна житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне было уже прибрано, печное устье задернуто занавеской, а на столе под волглой дерюжкой парили выставленные хлебы.
В детстве Касьян всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать, возясь в межхлебье по дому, время от времени подходила к таинственно молчаливой печи, в черной выметенной утробе которой свершалось нечто необыкновенное, томительно-долгое, приоткрывала на пол-устья жестяную заслонку и легкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумянившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала ее, тетешкала, перекидывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько обверху, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдергивала лицо, и это означало, что хлеб еще не в поре, полон внутреннего сырого жара и надо его снова досылать в печь. Но вот приходило, когда мать, сначала робко, а потом все смелее прижималась носом к ковриге, наконец и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо ее радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, кто был тут и не был, объявляла: «Слава тебе…» С легким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закутки в избе начинали полниться теплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице. Возбужденные хлебным запахом воробьи облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались у порога, пытливо заглядывая в дверь, и все тянула воздух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась сквозь воротние щели запертая в хлеву корова.
А тем временем мать, омочив в свежей, только что зачерпнутой колодезной воде гусиный окрылок, взмахивала им над хлебами, кропила широким крестом, и те, без остатка вбирая в себя влагу, раздобрело вздыхали побархатевшими округлостями и начинали ответно благоухать, как бы дыша в расслабляющей истоме и успокоении. Потом караваи задергивали чистым суровьём {33} и оставляли так до конца дня остывать и тем дозревать каждой порой до потребной готовности. И не было у тогдашнего Касьянки терпения, чтобы, улучив минутку, не подкрасться и не выломать исподтишка где-нибудь в незаметном месте теплый окраек, еще в печи порванный жаром и так и запекшийся хрустким дерябистым разломом. Да мать и сама догадывалась, отрезала, где он указывал, наливала в блюдце конопляного масла, посыпала солью, и он, подсев к кухонному оконцу, оглаженный по голове теплой материнской рукой, счастливо лакомился первохлебом, роняя зеленые масляные капли в посудинку. Вот и вырос давно Касьян, и уже за него Сергунок с Митюнькой, боясь отцовского ремня, тайком обламывали на все том же столе коврижные корки, но и до сих пор памятно и радостно ему это, да и теперь иной раз не отказался бы он от прежнего озорства, не будь самому стыдно перед мальцами долить хлеб раньше времени.
Но нынче Касьян даже не приподнял покрывала, чтобы взглянуть, удался ли хлеб, как делал и радовался он прежде, а лишь вскользь покосился в ту сторону, уведенный от самого себя своим новым и непривычным отрешенным состоянием.
Следовало бы уже вернуться посланному Сергунку вместе с Никифором, Касьяновым братом. С этим ожиданием встречи Касьян и вошел в дом. Но изба встретила его безмолвием, было лишь слышно, как со скрипучей хромотой тикали на простенке ходики да иногда глухо постанывала мать, прикорнувшая после ранней колготы у себя на полатях.
В горнице тоже было прибрано и торжественно-тихо. Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел чистой свежей скатеркой, повешенные занавески притемняли оконный свет, и в полутьме красного угла перед ликом Николы Угодника ровно светилась лампадка. Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окрашивая беленый угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было здесь все по-рождественски умиротворенно, будто за стенами и не вызревал еще один знойный, томительно-тревожный день в самой вершине лета.
Касьян в свой тридцатишестилетний зенит, когда еще кажется далеким исходный житейский край, а дни полны насущных хлопот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже перезабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница-бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то когда отыскивал какой-нибудь налоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампады, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то отчуждение от своего же собственного дома и, все еще держа кошелку со сменным бельем, остановился в дверях и сумятно уставился в освещенный угол, неприятно догадываясь, что сегодня лампада зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Ее бестрепетное остренькое пламьице размыто отражалось в потускневшей золоченой ризе старой иконы, видавшей поклоны еще Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с темнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и еще до сих пор тайным, неразгаданным укором озирали дом и все в нем сущее.
Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремленного на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожного старца, что иногда захаживал в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожка. Словно такой вот старец забрел в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряженной немотой, вот-вот должны были сорваться скопившиеся слова упрека, что чудились в его осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его осудные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идет, идет…»
И Касьян тихо вышел, почему-то не посмев оставить в горнице свою кошелку, и затворил за собой дверные половинки.
Во дворе он в раздумье постоял над корытцем с недорубленным табаком, но досекать не стал, а только зачерпнул на цигарку и закурил все с тем же саднящим чувством вынесенного упрека. Ему вдруг представилось, как те идут, идут густыми рядами по усвятскому неубранному полю, охваченному огнем, и сквозь дымную пелену и огненные хлопья зловеще маячат насунутые по самые плечи рогатые сатанинские каски.
Пора и на самом деле было начать собираться, заблаговременно уложить мешок, пока не подошел Никифор, а может, и еще кто. Тогда, на людях, некогда будет, а завтра чуть свет вставать, бежать на конюшню за лошадьми, которых обещался подать к конторе под поклажу. Но тут же вспомнил, что сумку унес с собой Сергунок, и, чертыхнувшись, а заодно подосадовав на Натаху, которая не ко времени забежала невесть куда, направился к амбару, где у него хранились сапоги.
В амбаре было, как всегда, сумеречно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул крепкий успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины, наломанной и развешенной по стенам Натахой еще прошлой осенью — от мышей. Рябина, подсыхая, роняла ягоды, и теперь их сморщенные бусины повсюду попадались глазам — и на полу, и на крышке закрома, и даже на тесовых полках. Из года в год амбар впитывал каждым бревном этот хлебный дух, и пахло здесь обманчиво и сытно даже в те памятные годы, когда закрома были пусты. И теперь Касьян, не веря этому духу, приподнял крышку и, не заглядывая, сунул руку в ларь. Рука ушла под самую подмышку, прежде чем пальцы торкнулись зерна: хлеба оставалось в обрез, едва прикрывалось днище. Правда, на полке кургузился располовиненный мешок помола, и этого с лихвой хватило бы до новины, а там за ним уже числилось полтораста заработанных ден. Да кто ж его знает, как оно обернется: хлеб в поле — душа в неволе… И опять ему навязчиво померещились те железные рога над неубранной рожью…
— Эх, не в руку, не в пору затеялось,— почесал он за воротом.— Что б малость повременилось-то…
Новые Касьяновы сапоги висели на деревянном штырьке, а старая расхожая пара вместе с распаявшимся самоваром валялась в углу — каждому по своей чести. Касьян постоял, оглядывая те и другие, в чем ему идти завтра. Висевшие сапоги были еще совсем новые, на спиртовой подметке, прошпиленные в два ряда кленовыми гвоздями. Шил он их на заказ к прошлому Покрову в Верхних Ставцах за мешок жита и кабанью лопатку. Касьян берег их от будничной носки, всю зиму старался обходиться старыми, пока те окончательно не подбились, так что заказные остались, считай, нехожеными. Идти в таких было жалко, да он, по правде, и не собирался, а только так — взглянул, что за них можно взять при случае. Прежнего мешка, конечно, не вернешь, хлеб, ясное дело, будут придерживать, осторожничать с хлебом, но все же вещь и теперь стоящая, не про мякину. Пусть-ка себе висят, мало ли чего… А то и сама походит, у самой не во что ступить. Пару портянок навернуть, дак ей в самую пору. Небось не плясать.
И больше не раздумывая, подобрал старые, сунул под мышку и, выйдя, запер дверь на засов.
При свете Касьян еще раз оглядел обутку. Уходил он чоботы, что и говорить, донельзя: на задниках подпоролась дратва, да и гвоздочками бы подкрепить не мешало. Можно было загодя сносить к деду Акулу, да теперь когда ж чиниться, чиниться и нет времени. Ну да ладно, смазать теплым деготьком, авось к утру помягчают. Всего-то на один раз и нужны: дойти до призывного, а там — в эшелон, на железные колеса. Обойдется.
Касьян подлез под амбар, достал оттуда подвешенную под полом дегтярку и, пристроившись на каменном приступке, принялся деревянной лопаточкой расчищать загустевшую жижу, снимая с поверхности влипшие куриные перья. За тем и застала его Натаха. Она вошла в калитку, одной рукой ведя за собой Митюньку, тогда как другой придерживала что-то над животом, завернув в подол передника.
— Сережи еще нету? — спросила она, остановившись перед Касьяном.
Касьян со вчерашнего не мог побороть объявшего его отсутствия и, не отрывая глаз от дегтярки, глухо выдавил:
— Нету пока…
— Ох, что ж это он! Не заплутался ли где? Послала — сама не своя.
Касьян промолчал.
В растоптанных парусиновых башмаках, осоюженных кожицей, Натаха выжидательно стояла над ним, и Касьяну было не по себе от этого ее привязчивого стояния, шла бы уж занималась своим, что ли… Он ее ни в чем и не винил за вчерашнее, чего было спрашивать с такой никудышной. Но вот помимо воли захрясла в нем и не отпускала какая-то мужицкая поперечина.
— Где ходила-то? — спросил он, строжась.— Укладываться надо, а ты из дому.
— В лавку бегала. Никифор придет, а у нас и подать нечего.
Касьян вскинул бровь, одноглазо покосился на ее скомканный передник.
— Седни две подводы привезли, а уже нету. Мне Клавка последнюю отдала.
Касьяну хотелось сказать, что одной будет мало, может, Никифор с женой подойдет, да там кто заглянет, но промолчал. Ему бы след самому об том подумать, самому и в лавку сходить, но вот замешкался, запамятовал как-то. Да и не хотелось ничего нынче, вчера с мужиками перегорел, сбил охоту.
— На-ка, сынок, отнеси в дом.— Натаха высвободила из передника бутылку.— Да смотри не урони.
Митюнька, держа бутылку обеими руками впереди себя, боязно, будто с завязанными глазами, поковылял к сеням.
— А ты чего затеял-то? — спросила Натаха, все еще тяжко пышкая после недавней ходьбы.
— Поди, видишь.
Она нагнулась, подняла правый сапог за голяшку, повертела его в руках. Под ее пальцами чобот ощерился черными подгнившими шпильками.
— Не рви! — потянулся к сапогу Касьян.— Чего насильно рвешь-то?
— А я и не рвала. Такой и был раззявленный.
— Дай, дай сюда! — осерчал Касьян.
Он отобрал сапог, поставил за себя на приступок.
— Ужли в этих пойдешь?
Касьян молчал, уставясь себе под ноги.
— Ох, Кося, не след бы в последний день так-то. Слова не вытянешь. В этих, что ли, надумал?
— А чего… И в этих ладно,— неохотно буркнул Касьян.
— Да куда уж ладней. Глянь, как спеклись, водянки набивать токмо. Куда ж в таких-то?
— Я с подводами. Поклажу повезу.
— Дак с подводами не до самого фронту. А ежели дальше пешки погонят? Да паче невзгода зайдет? Не на день, не на неделю идешь. Мало ли чего…
— Лобов вон дак и вовсе в лаптях. Все равно менять будут, казенные дадут.
— Да уж когда их дадут-то. Не вдруг и дадут.
— Дадут! Босыми на немца не пойдем.
— Не дури, не дури, Касьян. Надевай новые.
— Чегой-то я буду попусту губить?
— Ну как же попусту? Разве на такое итить — попусту?
— А так и попусту: хорошие снимут, а кирзу дадут. А то продашь, ежели что…
— Как это — ежели что? — подступилась Натаха.— Ты об чем это? Ты что такое говоришь-то?
— Не к теще в гости иду,— обронил жесткий смешок Касьян.
— Ничего не знаю и знать не хочу этого! — запальчиво отмахнулась Натаха, и ее пегое лицо враз заиграло пятнами.— И ты про такое загодя не смей! Слышишь?! Не накликай, не обрекай себя заранее.
— Пуля, сказано, дура. Она не разбирает.
— Нехорошо это! — не слушала его Натаха.— Со смятой душой на такое не ходят. Не гнись загодя. Этак скорее до беды.
— Ты откуда знаешь, что у меня?
— А кто ж должон знать?
Касьян отложил лопатку, полез в карман за кисетом. Долго молча вертел-ладил неслушную самокрутку. И все это время Натаха тяжелой горой стояла над ним, ждала чего-то.
— Гляжу я,— лизнув языком по цигарке, сумрачно вымолвил Касьян,— вроде как не чаешь туда спровадить. Еще и повестки не видела, а уже сумку сшила.
— Ох, дурной! Ну, дурной! — Натахины глаза замокрели, она потянула к лицу край фартука.— Дак как же язык-то твой повертывается этакое сказать? Побойся совести! Господи…
Она отвернулась, угнула голову. Подол ее выцветшего платья мелко подрагивал. Отечные щиколотки взопревшей опарой наплыли на края запыленных башмаков.
Его полоснуло внезапной жалостью. Сболтнул, конечно, напрасное. Дак ведь и сапоги оставлял не из жадности, ей и оставлял, понимать бы надо.
— Ну, будя, будя,— виновато проговорил он.— Я не гнусь. Откуда это взяла?
Натаха не отвечала, утиралась передником.
— Не стану ж я песни кричать? А что выпало, то мое, на чердак не поглядываю. Мне, поди, тоже обидно такое слышать — не гнись.
— Ох, Кося…— выдохнула она давившую тяжесть.
— Ну, сказано, будя. Я и так казнюсь: они вон идут, а я еще доси тут…
— Вот и ладно,— обернулась она.— Так и держи себя, не послабляйся. И нам будет через то легче. А уж ежели что, дак сапоги твои нам не утеха.
— Так-то оно так. А все же не бросайся, девка,— пытался урезонить Касьян.— С чем остаетесь-то? Вон в закроме дно видать. А из колхоза то ли будет чево… А то пуда два за сапоги возьмешь — тоже не лишек.
— А мне мало за тебя два пуда! — Натаха снова всхлипнула, содрогнулась всем животом.— Мало! Слышь? Мало! Ма-ало!
— Да охолонь ты, не ерепенься! Не знай, как подопрет.
— И слушать не хочу! — Закусив губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень.— Пойдешь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ!
Касьян растерянно глядел на дегтярку, потом молча встал, пнул с приступка оставшийся сапог, открыл амбар и снял со стены новые.
Натаха тоже молча ушла, оставив выбежавшего во двор Митюньку, и, как только она скрылась в сенцах, оттуда с заполошным кудахтаньем, перепрыгивая одна через другую, посыпались куры, а вслед им вылетел березовый окомелок.
— Новые так новые,— передернул плечами Касьян.
Ожидая Никифора, он вместе с Митюнькой возился во дворе: смазал и подвесил сапоги в тенек под амбарной застрехой, досек табак и, заправив его тертым донником, набил добрую торбочку. Потом принялся за хворост, перерубил чуть ли не весь припас и сложил под навесом. Никифора все не было, и он, подвострив топор, взялся дорубливать остальное.
Время от времени Натаха, высовываясь из растворенного окна, уже ровно, примиренно выкрикивала:
— Кося! Табак готов ли? Давай-ка сюда, буду пока собирать.
Или:
— Митюня-я! Ты не брал ли карандашика? Папке надо. Письма нам будет писать папка. А я никак не найду карандашика.
13
Пришла с лугов, толкнув рогами калитку, корова Зозуля — в черном чепраке {34} по спине, будто внапашку от духоты и зноя. Корова сытно взмыкнула и, покосившись на сапоги, повтягивав ноздрями расплывшийся дегтярный дух, протяжно выдула из себя негожее снадобье. Потом, сама источая парной запах переваренной зелени и накопленного молока, пощелкивая, будто новой обувью, начищенными травой, еще крепкими копытцами, не спеша, домовито побрела по двору, принюхиваясь и приглядываясь ко всякой мелочи.
Вскоре мимоходом набрел Леха Махотин — в новой синей рубахе с косым воротом, опоясанный узким кавказским ремешком, уснащенным, ровно выездная сбруя, мелкими бляшками. Чуб у Лехи вороными кольцами, черные глаза маслено щурятся — навеселе мужик. Леха размашисто, точно год не виделись, шлепнул по Касьяновой ладони.
— Ну как, шлемоносец? Снарядился?
— Да подь ты… Уже приклеили.
— Ладно тебе! И шуткануть нельзя. Чего делаешь-то?
— Да вот…— Касьян кивнул на выложенную стенку дров.— Хоть на первое время.
— Давай кончай, теперь уж не напасемся. Бери Наталью да айда ко мне, посидим напоследок.
Касьян оглянулся на недоприбранную порубку.
— Дак лучше ты ко мне. С Катериной и приходи.
— Чем же лучше? У тебя, гляжу, тоже никого. А я сейчас за теткой Апронькой да за Михеем сбегаю, да и сядем. Михей своих двух еще теми днями отправил, дак теперь все на задах стоит, мается один.
— Нет, Лексей, спасибо на добром. Сам гостей жду. Малого послал за Никифором, с минуты на минуту должны.
— И Никифора бери, всем хватит.
— Нет, Леха, нет. Ты уж прости. Не тот день, чтоб из дому ходить. Сам понимаешь. С тобой мы еще и завтра свидимся, и потом. Глядишь, не разлучат, вместе будем. Последние часочки дома надо побыть. Может, зайдешь, выпьем моей?
— Да чего уж… Всю по дворам не перепьешь. Ну, раз так — бывай! Пойду к Зяблову заверну.
— Дак и он не пойдет. Не тот день, говорю…
— Вот черт, никого не докличешься. Э-эх, рраскувшин с прростоквашей…
Сверкая сатиновой спиной, Леха шагнул к дворовому окну, боднул головой занавеску и шумливо гаркнул:
— Здорово, Натальюшка, душа любезная! Здравствуй, теть Фрось. Дайте на вас в последний разок погляжу. Ну, Наталья, ну, молодец! Эка рясна!.. {35} Я-то? Спасибо, спасибо… А тебе благополучного третьего, богатыря-селяниновича… Не-е, теть Фрось, ничего не бойся… Да уж постараемся, бабоньки, постараемся… Придем, теть Фрось, куда мы денемся… Ну, прощевайте! Не поминайте лихом, ежели что не так…
Кивнув еще раз Касьяну, Леха, возбужденный этим беглым разговором, вышел задней калиткой, и там, под вишенником, вырвалось у него растроганным всплеском:
Ах, кабы на цветы да не морозы, И зимой бы цветы расцветали-и…Раза два Касьян выходил за ворота и, слушая, как уже начала то здесь, то там пошумливать деревня, выглядывал в дальнем ее конце Сергунка. Но он, пострел, объявился аж под самый вечер, когда солнце, обойдя Усвяты, покатилось к своей летней обители где-то за ржаным полем. Перекрещенный белыми лямками, волоча за собой пыльную, в листьях лозовую хворостину, Сергунок заскочил во двор, один, без Никифора.
— Вот! — протянул он Касьяну сложенную бумажку.— Велели передать.
Касьян, недоумевая, развернул синий клочок от рафинадной пачки. Неровными полупечатными буквами там было накорябано: «Родной брат Касьян Тимофеич. Кланяется тебе твой родной брат Никифор Тимофеич и Катерина Лексевна. А притить мы не можем, со всем нашим удовольствием, а нельзя. Завтра я призываюсь, так что притить не могу, нету время. Сережка твой говорил, тебя тоже берут. Тогда пойдем вместе. Только возьми своего табачку и на меня. Твой табак добрый. Одно жалею, не увижу матушку нашу Хросинью Илинишну. Пусть обо мне не убивается. А если пойдем шляхом мимо Усвят, то, может, наведаюсь попрощаться. А так у нас все хорошо, все живы-здоровы.
Твой родной брат Никифор Тимофеич».
Касьян так и этак повертел сахарную бумажку. До сей минуты ему и не мнилось, что Никифора тоже призовут. Он был на восемь годов старше Касьяна. Правда, после него народились еще два мальчика, а уж потом сам Касьян четверт. Но те умерли еще в младенчестве, и остались Касьян да Никифор, как две вереи, между которыми зияли никем не подпертые эти восьмилетние разверстые ворота. Никифор еще в первый год женитьбы отошел от двора, обжился в Ситном на тестевой земле, как раз к тому времени умершего, да и остался там за хозяина. И вот, оказывается, и его берут, старшого. Мать теперь и вовсе разгорюется. Обвыкаясь с этой новостью, Касьян устраненно смотрел на Сергунка, все еще стоявшего перед ним с холщовой сумкой и со своим ивовым пропыленным скакуном. Мальчонка отмерил на нем в оба конца верст двенадцать, даже немного осунулся лицом, но глаза его распахнуто голубели от исполненного поручения.
— Дак чего там дядя Никифор? Готовится?
— Куда готовится? — не понял Сергунок.
— На войну. Куда ж еще?
— Не-е! — зазвенел голоском Сергунок.— У них там никакой войны нету.
— Как это нету?
— Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить.
— Так… А тетка чего?
— А теть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала.— Сергунок поддал сумку спиной.
— Ага… Ну ясно… А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истекалась: нету и нету.
— Ну дак дядя Никифор на речке был! — обиделся Сергунок.— А когда пришел, вот это написал и велел передать.
Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью.
— Молодец.
Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своем топтании по дому, уже обряженная в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до нее не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись.
— Ну-к што ш…— обронила она, помолчав.— Тади садитесь обедать.
И, ссутулясь, тенью побрела в катаных порках на кухню, оставив за собой тягостную тишину.
Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс или, как Матюха Лобов, наголо обстрижен. «А они-то идут, идут…» — опять напомнил он одними глазами.
— Это твое, Кося,— почему-то шепотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым.— Проверь, что не так…
Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и еще какие-то узелки и свертки.
— Табак там? — спросил он о самом главном.
— И табак, и спички — десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке — нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи…
— А в сумке что?
— Сухари. Про всякий случай.
— Куда столько всего? Благо ли носить?
— Носить — не просить, Кося. Лишком и поделиться можно.
— Пап! — Сергунок дернул Касьяна за брюки.— Пап, а ножик не забыл?
— Какой ножик? — не сообразил Касьян.
— Складничек который.
— А-а…
Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку.
— Так уж и быть, это тебе.
— А ты? — не решился принимать Сергунок.— Как же на войне-то без ножика?
— Бери, бери. Отца вспоминать будешь.
Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог.
— А бритву я пока не клала,— напомнила Натаха.— Ты сперва побрейся, покуда соберем обедать. И на-ка надень вот это.
Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила еще к маю,— черную, с частым рядом белых пуговиц.
Касьян послушно достал из-за ходиков завернутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно, старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, еще пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томленная на сковороде картошка, желто заправленная яйцом миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую — отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе. Не каждый день на стол выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была — вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданого празднества. И было слышно, как они возбужденно перешептывались:
— Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.
— Какой?
— А вона. Который самый зажаристый.
— Ага-а, хитленький!
— А кто в Ситное ходил?
— Ну и сто? А я в магазин зато.
— Ох, даль какая. Небось мамка несла?
— Как дам…
— А во — нюхал?
— А ты… а ты Селгей-волобей. Селый! Селый!
— А ты Митя-титя.
— А зато мне кулиную лапку, ага!
— Прямо, тебе!
— А сто, тебе, сто ли ча? Все тебе да тебе.
— И не мне.
— А кому за?
— Это папке курицу. Папка на войну идет, понял? Когда вырастешь большой, пойдешь на войну, тади и тебе дадут.
Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну.
— На-ка, кормилец, почни,— сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол.— Не знаю, удался ли…
Ребятишки притихли, оборвали свои пререкания.
Бессчетно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал или стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе.
Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его бело-дымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жесткие руки, измозоленные веревками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав ее белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами — по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней — женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому.
Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую еще не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно, молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.
Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал:
— А ну-ка, сынок, давай ты.
— Я? — встрепенулся Сергунок.— Как — я?
— Давай, привыкай,— сказал Касьян и положил перед ним ковригу.
От этих отцовых слов мальчик опять пунцово пыхнул и, все еще не веря, не шутит ли тот, смущенно посмотрел на хлебный кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой.
— Давай, хозяин, давай,— подбодрил его Касьян.
Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжелую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож.
— А как… как резать? — нерешительно спросил он.
— Ну как… По едокам и режь.
Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьезнев и как-то повзрослев лицом, но все еще полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с легким хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца, так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно, откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитал едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой серединный кусок и взглядывая то на отца с матерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу.
— Это тебе, пап.
— Сначала матери следовало б,— поправил его Касьян.— Учись сперва мать кормить.
— Тогда уж первой бабушке,— сказала Натаха.— Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый.
В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила:
— Отцу, отцу отдай. Нам еще успеется, мы — дома.
— Ничего,— сказала Натаха,— всему научится. Давайте ешьте, а то лапша простынет. Нате-ка вам с Митей по куриной ножке. Ох, что ж это я! А про главное и забыла…
Оделив ребятишек, Натаха принесла из кухни бутылку и поставила ее перед Касьяном.
— Что ж это Никифор-то? — сказала она.— А то и выпить вот не с кем…
— Ох ты, осподи…— вздохнула бабушка и уставилась на лежавший перед ней ломоть хлеба, забылась над ним.
Натаха, взглянув на свекровь, тихо обмолвила:
— Ну да что теперь делать? И нам к нему не бежать. Оно и всегда: радость — вместе, беда — в одиночку… А ты, Кося, выпей. Авось умягчит маленько.
Между тем, пока обедали, а заодно и ужинали, подкрались сумерки. Долог был для всех нынче день, а и он прошел, и бабушка, внеся самовар, запалила лампу.
Сразу же после чая Митюнька забрался к бабушке на колени и, не доев пирога, прижимая его к щеке, обмяк в скором ребячьем сне. Перебрался, прикорнул к бабушкиному плечу и засмиревший, набегавшийся Сергунок, и та недвижно сидела, терпеливо оберегая сон своих внуков.
Еще перед обедом выпив полстакана водки, Касьян заткнул остальное и составил бутылку со стола. Пить больше некому было, а одному не хотелось, не любил он прикладываться в одиночку. Но и та малость как-то сразу нехорошо ударила в голову, заклубила прежнее, уже передуманное, переворошенное. Со вчерашнего Селиванова застолья он больше ничего не ел ни утром, ни днем, но и теперь, едва схлебнув малость горячего, отложил ложку и закурил.
— Да ты выпей, выпей-то как следует,— сама понуждала Натаха.— Глядишь, клин клином и вышибешь. Да, может, и поешь тади.
— Не тот это клин,— отмахнулся он.— Да и завтра вставать рано.
Так и сидел он, подпершись рукой, одну вслед за другой зажигая цигарки, лишь иногда словами обнажая непроходящие думы:
— Слышь, а корову, что б там ни стало, а побереги. Без коровы вам край.
— Да уж как не понять,— кивала Натаха.
— Родишь, а то мать прихворнет,— ежли трудно будет на первый раз обходиться с коровой, к Катерине сведите. Опосля пригоните.
— Ладно, поглядим.
И еще через цигарку:
— А паче с сеном заминка выйдет, лучше амбар продать, а сена купить.
Уже при сонных ребятишках Натаха принесла сумку и молча принялась перекладывать в нее приготовленное на сундуке. Касьян глядел, как она сперва затолкала белье, всякую нескорую поклажу, сверху положила съестное, а саму ковригу приспособила плоским поддоном к спине — чтоб ловчее было нести.
— Не забыть бы чего,— проговорила она, оглядываясь.— Табак… бритва… Кружку я положила… Должно, все.
— Про то в дороге узнается,— отозвалась бабушка.
Встряхнув раздавшуюся сумку, Натаха затянула шнурок и набросила лямочную петлю. И, завязав, безвольно опустила руки, притихла перед белым мешком с вышитыми на уголке буквами.
— Да! Вот что! — вскинул голову Касьян.— Возьми-ка ножницы, состриги мне с ребят волосков.
Натаха выжидательно обернулась.
— Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говорено: давай в город свезем, карточки сделаем. И твоей вон нема.
— Дак кто ж знал…— повинилась Натаха.— Разве думалось…
— Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику.
Она принесла из кутника ножницы и расстелила на столе лоскут. Сергунок и не почуял даже, как щелкнуло у него за ухом… Сероватая прядка ржаным колоском легла на тряпочку. Митюнька же лежал неудобно, зарылся головенкой в бабушкину подмышку, его пришлось повернуть, и он, на миг разлепив глаза и увидев перед собой ножницы, испуганно захныкал.
— Не бойся, маленький,— заприговаривала Натаха.— Я не буду, не буду стричь. Я только одну былочку. Одну-разъединую травиночку. Папке надо. Чтоб помнил нас папка. Пойдет на войну, соскучится там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митины! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну вот и все! Вот и готово! Спи, золотце мое. Спи, маленький.
И еще один колосок, светлый, пшеничный, лег на тряпочку с другого конца.
— Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, пряменький,— Сережин. А который посветлей, колечком — Митин.
— Не спутаю.
— Я их заверну по отдельности, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митин, а какой Сережин?
— Да не забуду я. Еще чего!
Натаха долго, вопрошающе посмотрела на Касьяна.
— А меня?
Касьян глянул, ответно вспахал лоб складками, не поняв, о чем она.
В своей новой, просторно и наскоро сшитой кофте цветочками-повителью, нисколько не сокрывшей ее несоразмерной и некрасивой грузности, а лишь еще больше оказавшей нынешнюю беспомощность, с маленькой для такого тела, округлой головкой, к тому же еще и простовато причесанной, туго зашпиленной позади роговым гребнем, она в эту минуту показалась Касьяну особенно жалкой и беззащитной, будто сиротская безродная девочка.
— На и меня,— повторила она, засматривая Касьяну в глаза.
— Что — тебя? — переспросил тот, все еще не понимая.
— Отрежь…— понизив голос, моляще шепнула Натаха и, выдернув гребень, тряхнула рассыпавшимися волосами.— Или тебе не надо?
— Дак почему ж…— проговорил он и, вставая, не сразу выходя из застольного оцепенения, смущенно покосился на мать: содеять такое при ней ему было не совсем ловко. Но та сидела по-стариковски застыло, склонившись над Митюнькой, в рябеньком платке; темные руки, опутанные взбухшими венами, сцепленно обнимали приникшее ребячье тельце, и он сдержанно прибавил: — Давай и тебя заодно.
Натаха протянула ему ножницы и, будто на добровольное отсечение, покорно склонила голову.
— Погоди… Так вот и сразу…
— А чего ж еще?
— Дак где стричь-то? — Неловко распяленными пальцами, скованными грубой силой, он боязно разгорнул мягкие, еще совсем детские подволоски над шейными позвонками.— Тут, что ли?
— А где хочешь,— нетерпеливо отозвалась она.
— Ну дак как… Ты ж не дите. Остригу, да не там…
— А ты не бойся,— пробился ее жаркий шепоток сквозь завесу ниспадавших волос.— Где понравится. Везде можно.
Касьян осторожно, подкрадливо поддел под одну из прядок ножничное лезвие и сам весь стянуто напрягся, почувствовав, как Натаха от неловкого-таки щипка вздрогнула нежной, не загорелой на шее кожей.
— Дак и хватит,— сказал он, взопрев, словно выкосил целую делянку.
— А хоть бы и всю остриг.— Выпрямившись, она обеими руками отбросила волосы за спину и, словно вынырнув из воды, встряхнула головой, через силу засмеявшись.— Все и забери. Я и в платке до тебя похожу, монашкой.
— Буробь {36}.
Касьян положил выстриженный завиток на середину тряпочки — между Митюнькиным и Сергунковым.
Натаха потом удивлялась своему хвостику, сохранившемуся в этом ее тайничке от прежней детскости, который и сама отродясь никогда не видела и который, оказывается, почти ничем не отличался от Митюнькиного, разве что был поспелее цветом.
— Теперь и не спутай,— сказала она.— Дай-ка я свои узелком завяжу. Как глянешь — узелок, стало быть, я это…
Касьян не ответил, потянулся под стол за бутылкой и, налив себе еще с полстакана, не присаживась, отвернувшись, выпил.
— Ну ладно,— объявил он, утершись ладонью, и забрал со стола кисет.— Кажись, все…
Холодно обомлев, поняв, что приспел конец ихнему сидению, конец прошедшему дню и всему совместному бытию, Натаха робко попросила, хватаясь за последнее:
— Поешь, поешь. Что ж ты ее, как воду…
— Чегой-то ничего не идет.
— Ну хоть чаю. Ты и пирожка не испробовал. Твои любимые, с горохом.
— Да чего сидеть. Сиди, не сиди… Пошел я.
Потоптавшись у стола, оглядев растревоженную, но так и не съеденную ни старыми, ни малыми прощальную еду, он нерешительно, будто забыл что-то тут, в горнице, вышел.
Натаха, как была, с распущенными волосами, не успев прихватить их гребнем, проводила его померкнувшим взглядом, не найдясь, что сказать, чем остановить неумолимое время.
Поздняя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно темным, и глаза не сразу обвыклись, не сразу отделили от земли белые груды притихших гусей и неясное пятно беспокойно вздыхавшей под плетнем, должно, еще не доеной коровы. Но сразу, еще с порога учуялось, как в паркой ночи разморенно, на весь двор дышали дегтем подвешенные сапоги.
Не зажигая спичек, Касьян ощупью пробрался к саням, разделся и залег в свое опрохладневшее ложе. Но сразу уснуть не смог, а еще долго курил от какого-то внутреннего неуюта, немо слушая, как само по себе шуршало сено и похрустывал, покрякивал перестоялыми на дневной жаре стропилами сарай, как разноголосо встявкивали собаки, наверно в предчувствии скорой луны. И как сквозь собачий брех где-то на задах, скорее всего на Кузькином подворье, ржавыми замученными голосами орали:
Последний нонешний денечек Гуляю с вами я, друзья…Уже забываясь, он безвременно глядел в глухую темень нависшего сенника, и в ожидании окончательного забытья, когда уже ни о чем не думалось, а только пусто, отключенно стучало в висках, ему вдруг почудился, будто из давно минувших дней, из далекого детства, и не сразу осознался явью знакомый и убаюкивающий звон ведерка под нетерпеливыми молочными струями. И то ли уже тогда же, ночью, то ли на самой утренней заре внял сторожкий Натахин шепот:
— Это я, Кося…
14
Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльями, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомли,— так тяжек и провален был сон, простершийся б до полудня, если не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха, уже в который раз, привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая:
— Пора, Кося, пора, родненький.
— Ага, ага…— бормотал он одеревенелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впитывая в себя последние минутки сна, бессильный пошевелиться.
— Вставай! Глянь-ка, уже и видно.
— Счас, счас.
— Тебе ж к лошадям надо,— шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки, не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморенным, все забывающим сном.— Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел…
— Ага, к лошадям…
Она послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжелым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не понимающие, младенчески-отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живинка, еще не вспугнутая осознанием предстоящего, еще теплившая в себе одно только минувшее — ее, Натахино, умиротворяющее в нем присутствие.
— Уже? — удивился он свету, не понимая, как же так, куда девалась ночь.
— Уже, Кося, уже, голубчик,— проговорила она, спуская босые ноги с саней.
И он, наконец осмыслив и бивший в чуть приоткрытые ворота теплый утренний свет, и Натахин тревожный шепот, приподнялся в санях.
— Сколько время?
— Да уж солнце. Седьмой, поди.
— Ох ты! Заспался я.— Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево.
— Сразу и курить. Выпей вон молока.
— Ага, давай,— послушно кивнул Касьян, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника.
Он принял от Натахи ведро и через край долго, ненасытно попил прямо в санях.
— Ва! — крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и все в нем свинцовело от прерванного сна, на душе, однако, уже не было прежней тошнотной мути, и он попросил озабоченно, будто собирался в бригадный наряд: — Подай-ка, Ната, сапоги.
Потом, поочередно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянками ноги в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам еще в одних только брюках и нижней рубахе, урывками говорил:
— Я с тобой не прощаюсь… Еще свидимся…
Натаха присмирело глядела, как он обувался.
— И детишек не колготи… Пусть пока поспят.
— Ладно…
— Потом приведешь их к правлению… Поняла?
— Ладно, Кося, ладно…
— Часам к девяти. Мать тоже пусть придет…
Он встал, притопнул сапогами: ноги почувствовали прочную домовитость обужи.
— А вдруг там больше не свидимся? — думая над прежним, сказала она поникшим голосом.
— Куда я денусь? — кинул он и вышагнул из сарая, на ходу набрасывая вчерашнюю черную рубаху.— Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку.
— Дак что ж в дом не зайдешь? — Натаха следовала за ним, держа под шеей стиснутые ладони, будто ей было холодно.— Больше ведь не вернешься… И не поел на дорогу.
— Когда теперь есть…— проговорил он, торопко застегивая на рубахе мелкие непослушные пуговицы.— Покуда туда добегу, да там…
— Ну как же… С домом хоть простись…
— Дак еще ж, говорю, свидимся.
В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку,— и все, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог еще по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последнюю, трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколько старую мать. Ребятишки — ладно: поцеловал бы сонных да и пошел, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошел в дом, весь внутренне напряженный и стянутый.
Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свертки. И Касьян, глядя на ее согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чье-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-то чужой, не признававший Касьяна.
— Ну, мать, пошел я,— негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном и видом смягчить и облегчить ей это прощание.
Нынешней ночью она, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо ее еще больше обрезалось, жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначали очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему свое:
— Хотела найтить… Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек…
— Потом, мать, потом…— перебил Касьян.— Идти надо. Побег я.
— Побег? — повторила она за Касьяном, все еще странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи.— Уже и пошел? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собою… Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало. Да как же это пошел? Деток не повидавши… Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе…
— Не надо бы их,— попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог.— Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свидимся.
— Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитёв, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! — Она подхватила на руки младшего, все еще никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего ее на бабушкино плечо.— Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам байдюже. Придет ли опять…
И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришел в себя и, еще ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька.
— Ох да голубчики мои белы-ы…— наконец вырвался на волю бабушкин взрыд.— Да сыночки ж вы мои последнии-и…
Глядя на нее, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги, подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя.
— Ох да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а,— раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка.— На то ль берегла-а… на черну да на бяду-у…— И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг, в плаче же, запросила-запричетывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о… Не молчи, не томись, каса-а-тик… Да нешто не видишь, горя какая наша-а…
Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки.
— Да что ж ты не плачешь, упорна-ай… Пожалей, пожалей свово батюшку-у… Ох да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить…
Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдернул с гвоздя пиджак. И, уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.
— Ну все, все! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки.— Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.
Перетянутый лямками по черному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом.
— Сядьте, посидим,— объявил Касьян.
Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели.
И стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды…
Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:
— Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.
Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлепнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.
— Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян.— Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну дак и уступлю тебе все свое. Избу вот… Струмент всякий… Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?
Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот все ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.
— Подойдет время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая? Чтоб знать наперед, понял? — Он говорил случайное, не зная, что еще наказать непонятно затворившемуся мальцу.— Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой.
Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.
— Да чего с ним сдеялось-то? — охнула бабушка.— Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырем молчать? Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет…
— Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он… И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай.— Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол.— Ну, ступай к мамке, ступай!
Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слезы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.
— Ну, дак пора мне,— опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены.— Миром живите.
Поочередно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нем, топча ее сапогами, крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке.
И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:
— Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, пап-ка-а-а!
Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов,— крутился вертким вьюном, бил-колотил ногами, тянул к колу руки:
— Папка-а! Я с тобой!
Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради бога!» И он поспешно рванул калитку.
И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго еще настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:
— А-а-а…
15
Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя, оттого что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо изб, ворот и палисадов.
С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту…
Но пришел этот день, и бежал Касьян задворьями, обрывая сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветия июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На Полевой улице, против Кузькиной избы, оглядываясь назад, на Сергунков крик, едва не угодил в какую-то ямину, вырытую рядом с тропой, и не сразу понял, к чему она тут, для чего она Кузьке. И лишь когда попалась и другая, и третья — вспомнил, что и сам вырыл такую же под своими окнами, когда собирались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтели взрытой глиной почти против каждой избы, и он, обегая их, с неприятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом, негоже, нехорошо оставлять заготовленную яму, зиявшую против двора. Все равно теперь некому будет ни ставить столбы, ни тянуть проволоку.
На Селивановой свертке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запаленно бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, не нашел своего двора за сокрывшими его соседними садами, да особенно и не вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что наконец обрезалась пуповина и он теперь сам по себе с одной только своей ношей.
Деревня в этот уже неранний час была затаенно нема и безлюдна: все, кому предназначалось идти, еще досиживали свое по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, еще только подходили к прощальной маете, бабьему крику, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочную улицу, свернул в заулок.
На все том же конторском выгоне, в полуверсте от деревни, вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина — под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошел уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя.
На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их еще никто не разбирал и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штанах Пашку-Гыгу. Дед Симака, подважив плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка-Гыга, присев на корточки, с детским любопытством заглядывал в черную дегтярную дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахи висело на бечевке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья.
Пашка-Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул было с плеча ружье, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь.
— А мы тут мажем… Чтоб немец не услыхал,— доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул.
— О, глянь-кось! Вот он, воитель! В полном соборе! — обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна.— На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.
— Уже смазаны,— сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.
— Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.
Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чоботы — пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та — мелким пшенцом по блекло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая.
— А Ванюшка-то Дронов еще вчерась надвечер улепетнул,— сообщил он со свежей утренней бодростью.— Один да пеший. Да-а… Побег, побег, соколик… Заглянул я к ему перед тем — молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди, и тамотка, тридцать верст отсчитал по прохладцу. А то небось уж и в ашалоне едет.
— Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет,— сказал Пашка-Гыга.— Иди сюды, иди сюды — пальцем, гы-гы-гы.
— А ну! — повел бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться.— Выправь-ка лучше телегу на выезд.
Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место.
— Двух извозов хватит ли? — спросил дедушко Селиван.— С полста мужиков ежли?
— Хватит.— Дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей.— Хватит и двух — не на Азов поход.
— Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? — весело поинтересовался дедушко Селиван.— Выбирай любых, напоследок проедешь.
— Все едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?
— А то как же,— степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.
— Засыпали, засыпали овсеца,— уточнил дедушко Селиван.— Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану.
— Овес бы поберегли. Не зима — всем овес травить,— заметил Касьян.— Теперь сыпь, да оглядывайся.
— Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты.
— Это наладится,— покашлял дед Симака.— Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришел, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо хоть вон Павел попить привез.
Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днем и ночью,— прихварывал старик, маялся грудью.
— Позавчоры стучит в окно Дронов,— сказал он, откашлявшись.— Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам все одно где топать — дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну да я сам и поговорю с которыми.
— Дак и я пособлю чего ни то,— отозвался дедушко Селиван.— Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим.— И распорядительно крикнул: — Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать.
Пашка, сняв ружье и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке.
— С сеном нонче разор,— проговорил дед Симака, уставясь в землю.— Ладно ишшо дожжей нет…
Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял еще не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и теса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стоял чужой, незнакомый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Надо всем этим, под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем, торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесенные дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жилье, но пока здесь было мусорно и неуютно, и все это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка-Гыга.
За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян, тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла {37}. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем же чувством своей отторженности, и когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться.
— Данька! Данька! — позвал он еще издали.
Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была не старушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее на безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова — молоком, а конь — работой. Опробовать бы надо…» — «Спробуем, как не спробовать,— радовался Касьян.— Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок,— ладил в самый раз по кобылке.
Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать — так и нечего голову морочить… Хорошо ему, Прошке, фигу показывать — сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И, подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь? — вскинулся тогда Прошка-председатель.— Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания — как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом — вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой…
За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов {38}, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Челку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле — подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось,— Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка,— красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно — откуда… Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут…
Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки — всякие, но Данька шла по особь статье: своя лошадь.
Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька — три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной,— от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит — видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочно-топленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное — получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме — лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет,; а чуть что — и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету… И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут — молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье — свежие полосы {39}, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче…
Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.
— Данька, Данька! — позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.
Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и недолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.
— Это я! Али не видишь? — поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.— Эк поспешает! — обиделся Касьян.— Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.
Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы — «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху написал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.
— Ну дак чего… Пошел я…— растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена.— Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.
Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.
— Ну не буду, не буду… Твое теперь дело: кто дал — у того бери, кто ударил — тому беги,— проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади.— Ну, бывай! Пошел я…
Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней застарелой болячкой, и, отступая от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах,— каждый против своей лошади,— подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.
— А-а, это ты! — обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза.— Ну как ты тут, а? Живой?
Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.
— Узнал, а? Узна-ал! — растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.
Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.
— Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать… Сколь болячек повымазал…
Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.
— А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили… Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости… Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался… А ты дак не забыл — помнишь! Вот, видишь, как оно…
Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежу, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.
— Как же я, а? Нету, нету ничего… Забыл начисто.— И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер: — Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток…
Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.
— Ну как же нет? Вот же…— бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек.— На-ка, друг, испробуй солдатского!
Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря — не по чести,— заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело гуркающую челюсть в одну сторону, в другую…
— Ешь! — подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок.— Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война…
Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его Подпряхин аж в девятнадцатом году в Ключевском яру в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху — Касьян тогда мальчишкой был — ходили конные сотни, секли друг дружку — то белые налетят, то красные,— и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.
— Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни… Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше…
Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.
Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.
— А-а, Варвара! — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах.— И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же… На, на, матушка. Тебе да не дать…
Он и ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул жеребенку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.
— Экий дурак! — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обостренный ко всему, то горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова, обращаясь к Варе, говорил: — Тебя с дитем на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру,— тех подберут. Дак и Пчелку, само собой… Ласточка с Вегой в извоз патроны возить або пушку. Куда ни назначь — добрая пара. Дак и Ясень… А Пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит — не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор!
То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовой Ясень… Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверино, саданул в доски — не иначе Данька, ни с кем не уживается, подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же…
На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.
— Дядька Кося! — встал в солнечном проеме ворот Пашка-Гыга.— Каких выводить? Которых?
Но увидав, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.
16
Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока.
Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с богом! С богом!» — остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану.
Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блеклой непотребности.
На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятней на порожках, Касьян догадался, что и Леха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всем: и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети,— чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного, у коновязи одиноко и настораживающе стоял нездешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропыленный конь в темных, еще не просохших подпотинах: кого-то он доставил казенным посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным верстам… Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте отобрать намеченных людей и доставить их в организованном порядке.
А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой еще недавно бежал и сам Касьян, всё шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недовыголосил дома, и теперь из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали все те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то женки.
Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошел к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, красноязычил:
— А все ж должны мы ево уделать, курву рогатую! Хоть он и надеколоненный и колбасу с кофеем лопает, а — должны.
— Ужо не ты ль? — подзадорил кто-то.
— А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б…дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла!
Лобов сдержал обещанное, пришел-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обернутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги {40}. Картуз он подсунул под гармонь и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовным интересом: коротали время.
— Али пешки итить. Нате, мол, вам по полста верст. Ему полста и мне полста: кто поперед добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных.
В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то еще чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармонью и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то, по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нем Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп.
Касьян не все слышал, что там еще загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев.
— Я солдат недорогой,— говорил он, оглаживая стриженую макушку.— Много за себя не спрошу, кофею не затребую: шинелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть вонливо, зато комар не ест… Три дня кухню не подвезут — ладно, сухарика из рукава поточу або гороху за окопом пощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать,— тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать — пужанный всяко. Не на того наскочил, халява.
Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью.
— Один на один да без ничего — это и я согласный,— отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок.— А то ведь, сказывают, на машинах он да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины…
Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел свое:
— Робятки! Слышите ль? Давайте пехтеря-то свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте складывайте.
Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора́, весело приговаривал:
— Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя — и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Все как есть к месту доставим.
Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебирал пуговицы на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и ее хозяин выдал скороговорицу:
Ты, телега, ты, телега, Ты куда торопишьси-и-и? На тебя, телега, сядешь — Скоро ли воротишьси-и-и…На гармонь, на лобовскую запевку откуда-то из-за толпившегося народа внезапно отозвался жестяной надсадный выкрик, вырвавшийся из охрипшего и ободранного горла:
Ох, д’кричу песни-и-и…И через промежуток:
Кричу вволю-ю…И еще через паузу:
Ох, д’напоюсь на всю недолю-ю-ю…Все обернулись на эту охрипшую частушку: по выгону к правлению двигалась толпа, человек двенадцать Кузькиных родичей и гостей, в основном баб, наехавших из окрестных околотков, и в середине сам Кузьма, поддерживаемый под левый закрылок Давыдкой, а под правый — своей бабой Степанидой. На Степаниде, так же как и на Давыдке, белели лямки холстинного мешка, туго, до желваков набитого снедью. Кузьма, ведомый под руки, сморенно волокся, загребая пыль форсисто осаженными сапогами, обвисая головой со сбитой набок кепкой. Выглядывая одним глазом в расселину свалившегося чуба, словно в заборный пролом, он искал игравшего, пытался пристроиться к ладу:
Голосок мой д’хриповата-а-ай… Ох, тут никто… не виновата-а-ай…Кузька потряс головой, сбросил в пыль кепку, и Степанида, подхватив ее, обтрусив о колено, надела на себя, поверх косынки. Было похоже, будто не она провожала Кузьму, а Кузьма заместо себя отправлял на немца свою жену, облаченную по-походному — в мешок и кепку.
Подступившие бабы, встав коридором, молча глядели, не ввязывались, но старая Махотиха не вытерпела, вскинулась руками:
— Да куда ж ты его такого-то? Степанидка!
— А чего с ним теперь! — отозвалась бледная, намучившаяся тащить Степанидка, озираясь по обе стороны.— Знал, паразит, чего делал? Нехай теперь срамотится. Я уж и язык об него излаяла.
— Может, его водицей полить, охолонуть? К колодезю б сперва…
— К-каво? — вскинулся Кузька.— Мне к колодезю? Ха!.. Н-на дворе большой колодезь… упаду — не вылезу… Ежли выпить не дадите… я помру — не вынесу…
— Иди, горла! — дернула его Степанида под руку.— Токмо бы хлебал… Разинь пузыри: все люди как люди, а ты аггел беспамятный.
Позади Кузькиной свиты, чуть поотстав, давая ветру отнести на сторону поднятую ногами пыль, шла, шамкая юбкой, тыча дорогу клюкой, долгая сухая старуха в черной суконной шали — мать Кузьмы. Она шла, ни на кого не глядя, не слушая, а может, никого и ничего не слыша…
Кто-то, однако, сбегал до правленческого колодца, отцепил ведро, и Кузьку окатили-таки, намыли голову, а потом положили за конторой в тенек, не давая ему шутоломить, появляться перед окнами.
Между тем народ подобрался, подошли последние, кому должно тут быть, и Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском въезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян еще издали узнал ее не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколько по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и переваливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлетывая на встречном ветру белыми волосенками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.
Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.
— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании. В одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым облегчающим всхлипом: — Папка…
— А я жду, а вас нету и нету,— сквозь терпкую горечь проговорил Касьян.— Нету и нету…
Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посередь дороги, пока не подошла Натаха.
— А где же мать? Мать-то чего?
— Ох, да ну ее! — перевела она дух.— Сичас да сичас… Чегой-то ищет… Говорит, идите пока… Ну чего тут у вас? Скоро ли?
— Да вот ждем… Уже небось десять, а пока ничего.
На выгоне Касьян определил их в сторонке на непримятой траве, но не успел, присев рядом, искурить папироску, как на крыльце появился Прошка-председатель вместе с прибывшим лейтенантом. Тут и там толпившиеся люди ожили, повалили к конторе, и Касьян, предупредив: «Пока тут будьте», направился к крыльцу и сам, тянясь шеей, заглядывая поверх голов.
Прошка-председатель был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно, по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок.
Рядом с ним у перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным, пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему и Прошка был при нем за переводчика.
Прошка-председатель пошатал руками перило, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные, и, когда воцарилась тишина, сказал:
— Значит, так, товарищи… Ну, зачем вы тут — все знаете. Так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых семнадцать человек. Я и сам тади думал, что этого, может, и хватит и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех семнадцати. Но дело заварилось нешутейное, тут таить нечего, понимаешь… Приходится, стало быть, нам еще пособлять…
Прошка-председатель достал из-за края пиджака какие-то листки, заглянул в них.
— Повестки уже розданы, но мы тут с представителем военкомата еще раз поуточняли, чтобы, значит, никакой путаницы…
Говорил он каким-то серым голосом, пересовывая листки бумаги, будто они жгли ему пальцы,— нижние наперед, верхние под низ, потом опять все сначала.
— Пойдете отсюда организованно, чтоб не тащиться одним по одному, не затягивать время. Так что слушайте теперь вот его, вашего командира, и все его исполняйте. У меня пока все.
Он сунул листки в руки лейтенанта, нетерпеливо прошелся у него за спиной, остановился, передвинул кепку, еще раз прошелся и, подойдя к перилам, опять пошатал их обеими руками.
Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взялся неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку под низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину. После чего без всяких предварительных слов и пояснений сразу же выкрикнул:
— Азарин!
С ответом почему-то не поспешили, возможно, потому, что уж слишком вдруг было выкликнуто,— по пальцу ударь — и то не сразу больно, а сперва лишь удивительно,— и лейтенант, оторвавшись от бумаги, переспросил:
— Есть такой? Эм… Вэ?
— Есть! — послышался встревоженно-оробелый отклик.
— Азарин! — повторил опять лейтенант и прицелисто поводил по площади строгими глазами.
— Я! Я! — поспешил объявиться вызванный.— Тут я.
— Азарин, три ш-шига вперед!
Из толпы, весь в смущении, с растерянно-виноватой улыбкой на опаленно-красном дробном лице, бормоча сам себе «иду, иду», протолкался невеликий мужичонка, по-уличному Митичка, числившийся скотником на усвятской молочной ферме.
— Тэ-эк…— протянул лейтенант, помечая что-то в листке карандашом.
Митичка, стоя перед крыльцом, стесняясь своего на виду у всех одиночества, продолжал улыбчиво озираться, перебирать парусиновыми туфлишками — вертелся, будто червяк, выковырнутый из земли.
— Азарин, смир-р-но! — вдруг резко скомандовал лейтенант, которому, видимо, была неприятна и оскорбительна такая разболтанность, и вздрогнувший Митичка враз замер навостренным коростелем — крылья по швам, клюв кверху.
Лейтенант внимательно, изучающе посмотрел на Митичку, как бы оценивая материал, с которым придется работать, и, опять сказав «тэк», уткнулся в бумагу.
— Витой!
— Я Витой! — готово отозвался Давыдко.
— Три ш-шига вперед! В одну ширенгу стынови-и-ись!
Давыдко провористо выбежал, пристроился к Азарину и поровнял по его парусиновым туфлям с коричневыми, как у жуков, нососпинками свои юфтевые ботинки.
— Горбов!
— Есть Горбов,— раздался сдержанный бас с покашливанием. Крупным тяжелым шагом выступил Афоня-кузнец в своей особой, афонинской одеже: старом, жужелично лоснящемся пиджаке, негнуче вздутых штанах, тускло поблескивающих на коленках, заправленных в разлатые сапожищи. Свою белую сумку из подушечной наволочки он никуда не сдавал, словно бы позабыл о ее существовании за широченной сутулой спиной, и та уже успела вымараться пиджачной смагой.
Лейтенант дольше, чем предыдущих, осматривал Афоню, даже обернулся с каким-то вопросом к ходившему позади него Прошке-председателю и, ставя против Афониной фамилии энергичный отчерк, дважды повторил свое «тэк».
Вскоре подобрали Николу Зяблова, который тетешкал, успокаивал раскапризничавшегося неходячего младенца, мешавшего ему слушать фамилии. Намаявшись и от мальчонки, и от ожидания своего вызова. Никола, когда его наконец окликнули, даже позабыл отдать жене пацана, а так и шагнул было в строй вместе с дитем, отчего народ маленько развеселился, посмеялся этому курьезу. Потом через несколько человек вызвали Матюху Лобова, ожидавшего череда с перекинутой через плечо гармошкой. И сразу за его спиной завыла Матюхина Манька — с таким же, как и у Матюхи, носом розовой редисочкой, с упавшим на плечи платком,— замахала обеими руками, будто отбивалась от налетевших оводов:
— Да Матвеюшка мой едина-а-ай…
— А ну цыть! — огрызнулся Матюха, безброво насупясь, отдергивая рукав, не даваясь жене ухватиться.— На-ка, подержи гармонь.
— Да че мне гармонь! Че гармонь…— голосила Манька, невидяще цапая протянутую ливенку, и та, расшеперясь мехами, подвыла ей какой-то распоследней пронзительной пуговицей.
Лобов беззвучно, как кот, вышагнул вперед в своих обмятых покосных лапотках и, перемогая бабий позорливый плач, досадно погуркав пересохшим горлом, проговорил, преданно глядя на лейтенанта:
— Развылась тут… Небось не в гроб заколачивают, реветь мне.
Однако лейтенант не обратил внимания на Матюхины слова, а лишь со вниманием поглядев на его лапти, продолжил чтение списка.
Шеренга все увеличивалась, от тесноты и скученности обступавших людей строй начал кривиться левым наращиваемым концом, и Прошка-председатель уже раза два обращался к собравшимся:
— Товарищи, попрошу дать место. Отойдите лишние. Сколько говорить, понимаешь!
Лехой Махотиным закрыли первый ряд человек в двадцать. Солнце начало припекать, становилось жарковато, и Леха, оставив жене пиджак и кепку, занял свое место во вчерашней небесно-синей блескучей косоворотке, перехваченной наборным кавказским ремешком. Выполосканный в Остомле чуб играл на ветру и солнце крупными смоляными завитками, да и сам Леха был какой-то весь выполосканный, прибранный и ясный, каким бывал он, пожалуй, раз в году, после своей пыльной комбайновой работы. Лейтенант откровенно засмотрелся на него и тоже с нажимом отчеркнул в бумагах, после чего выкликнул Недригайлова.
На эту фамилию никто не откликнулся, и лейтенант, тоже порядком упревший в своих ремнях, нетерпеливо повторил, добавив для ясности инициалы — «Кэ… Вэ».
— Есть такой?
— Пишите — есть! — подала голос за мужа Степанида, так и не снявшая Кузькиной кепки.
— Тут, тут он! — подтвердили и мужики.
— Недригайлов, три ш-шига вперред! — наддал осерженным голосом лейтенант.
Кузьма по-прежнему не выходил, и пришлось вмешаться Прошке-председателю:
— Кузьма! Кова ляда? Шуточки тебе, что ли? Степанида, чей картуз на тебе? Где мужик, понимаешь?
Бледная Степанида виновато молчала, убрав вовнутрь рта покусанные губы.
— Да тут он, Прохор Ваныч,— пытались разъяснить из толпы.— Токмо он тово… маленько не рассчитал… А так — тута, за конторой находится.
— Эть, понимаешь…— сдавил челюсти Прошка-председатель.— Позорить мне ополчение! Макнуть его, подлеца!
— Да уже макали. Щас ничего уже. В телегу, дак за дорогу оклемается. За это похлопочем. К месту как есть выправим.
— Меру надо знать…— буркнул Прошка и отвалил от перил.
К Касьяну тихо подошла Натаха, тронула за рукав, но он, прикованный вызовами, не сразу осознал ее присутствие.
— Сейчас тебя, Кося,— сказала она, стиснув его руку.— Ох…
— Ага, скоро должны,— не отрывая взгляда от крыльца, вытягивая шею, отозвался Касьян.
Ожидая этого момента, он присмаливал одну цигарку за другой и, когда его назвали, не сразу признал свою фамилию. Касьяну показалось, будто вызвали не его, но кровь уже сама откликнулась, ударила напором в шею, и он, услышав, как выкликнули его вторично, подтолкнутый Натахой: «Тебя, тебя кличут»,— так и вышел оглохший, с липким звоном в ушах, будто саданулся о невидимую притолоку. Стоявший в первом ряду Матюха, обернувшись, что-то сказал ему, приветно заулыбался, но Касьян ничего не понял и, как бы не узнав Матюху, уставился на лейтенанта, делавшего очередную пометку.
Кого еще выкликали, он долго не слышал, пока не рассосало этот застойный гул в ушах, пока не отпустило плечи, онемело скованные какой-то неподвластной силой.
— Разиньков! — продолжал выкликать лейтенант.
— Я!
— Рукавицын…
Отсюда, из строя, разила глаза всякая мелочь и ерунда, на которую прежде и не глядел бы, не видел этого: ненужно раздумывал, откуда взялся под конторским окном куст крыжовника. Сто раз бывал здесь и ни разу не видел. То ли Дуська-счетовод когда посадила, то ли так, сам по себе, самосевка. Та же Дуська небось сплевывала в окно кожурки, они и занялись расти… Потом углядел под крыжовником пестрявую курицу с упавшим на глаз красно-тряпичным гребнем. Странно, что она не боялась всей этой толкотни, будто здесь никого и не было, она одна-разъединая со своим делом. Курица, лежа на боку, словно кайлом, долбила край ямки, обрушивала комья под себя, после чего, мелко суча свободным крылом, нагребала на спину наклеванную землю, топорщилась всеми перьями, блаженно задергивая веком единственный глаз. За такое дело курицу следовало бы потурить, потому как оголяет, подлая, корни. Но куст был уже без ягод, должно, еще зеленцой обнесли пацаны, и теперь стоял никому не нужный, разве что этой заблудшей птице.
— Сучилин Вэ Пэ!
— Так точно, я!
— Сучилин А Мэ!
— Иду!
Солнце жгло спину сквозь пиджак, калило суконный картуз, и было странно Касьяну стоять вот так стреноженно, самому не своим в виду своей же деревни, в трех шагах от жены и детишек. Он заискивающе обернулся, и Натаха, прижимая к себе, к животу своему обоих ребят, растерянно, принужденно улыбнулась, дескать, здесь мы, здесь…
— Сучилин Лэ Фэ!
— Я-а!
— Сучков!
— Есть Сучков!
Оставшиеся на воле немногие мужики, стомясь ожиданием, выходили на оклик с поспешной согласностью, будто опасаясь, что им, последним, уже не найдется места. Но место находилось всем, и уже начали лепить четвертую шеренгу. Набиралось не, как думалось раньше, пятьдесят ходоков, а, поди, все восемьдесят! И сразу стало видно, с чем остаются Усвяты — с белыми платками, седыми бородами да с белоголовыми малолетками.
Лейтенант сложил бумажки пополам, затолкал их в планшетку и, оглядев строй, спросил:
— Вопросы есть?
Вопросов не было.
— Больные? С потертостями?
Не нашлось и таких.
Лейтенант вынул из брючного кармана часы и посмотрел с ладони на их время.
— Так, товарищи…— сказал Прошка-председатель, оглядывая пустырь перед конторой — молчавших мужиков в строю, присмиревших женщин вокруг ополчения.— Если кто хочет чего сказать — выходи сюда, на крыльцо, и скажи.
Люди молчали.
— Дак будет чье слово?
— Ясно! — выкрикнул за всех из строя Матюха Лобов, белевший новыми веревочноперекрещенными онучами.
— Ну тогда дайте мне…
— Давай, Прохор Ваныч! — опять выкрикнул Лобов.
— Ну дак вот…
Председатель кинул взгляд в ветреное поле, потом, пройдясь туда-сюда по крыльцу, поперебирал чего-то в карманах и снова вернулся к перилам.
— Я вон хоть и велел повесить новый флаг, но нынче у нас не праздник. Не до веселья нам. Война — тут объяснять нечего. А повесил я флаг за той надобностью, чтобы каженный видел, чего вы идете оборонять.
Все стоявшие перед конторой невольно подняли глаза на крышу. Там, над коньком, билось и хлопало, гнуло и шатало на ветру долгий оструганный шест свежее кумачовое полотнище. И многие за сутолокой утра видели его впервые, в первый раз подняли взгляд выше конторских окон.
— Но,— продолжал Прошка,— оборонять вы идете не просто вот этот флаг, который на нашей конторе. Не только этот, не только тот, что в Верхних Ставцах либо еще где. А главное — тот, который над всеми нами. Где бы мы ни были. Он у нас один на всех, и мы не дадим его уронить и залапать.— Прошка постоял, скосив голову набок, будто прислушиваясь к трепетному биению флага над головой, и добавил, уточняя сказанное: — Дак тот который один на всех, он, понимаешь, не флаг, а знамя. Потому что вовсе не из материялу, не из сатину или там еще из чего. А из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть…— Прошка окинул взглядом присутствующих, проверяя по лицам, понятно ли он сказал, и продолжил: — Конечно, кличут вас, ребята, не на сладок пир. Об этом и говорить нечего. Идешь драть чужую бороду — не во всяк час уберегешь и свою. Тут уж не плошай. Ну да, как сказывали наши деды, в бранном поле не одна токмо вражья воля, а и наша тож. А с нами еще и справедливое дело. Потому как не мы, понимаешь, на него, а он посягнул на нашу землю. А своя земля, ребята, и в горсти дорога, и в щепоти родина.
В эту тихую на площади минуту кто-то опять тронул сзади Касьяна. Он обернулся и, враз ватно обмякнув, увидел мать. Серая в своей сарпинковой одежке, в сероклетчатом бумажном платке, она пробралась через ряды и мышью потеребила Касьяна.
— Дак нашла, нашла я! — радостно шептала она, торопливо вкладывая в его ладонь тряпичный комок.— Тут пуповинка твоя. Пуповинка. От рождения твово. На случай берегла. Дак вот и случай. Бери, бери, милай. Так надо, так надо…
Касьян пытался заслонить мать спиной, уберечь ее от лейтенанта, но тот, заметив какой-то непорядок в строю, уже строго нацелился в его сторону, и Касьян отстранил от себя мать:
— Ступай, мама. Нельзя…
— Иду, иду…— поспешно, согласно закивала она и, воздев руки,— маленькая, едва по Касьяново плечо,— немощно потянулась к нему с лихорадочно-поспешным поцелуем.
— Ну, час добрый! Час добрый, сынок. Смотри там… Храни тебя Господь.
17
По тому, как уходило усвятское ополчение, пыля знойным проселком меж еще не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил свое необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде, сказывали старики, будто бы перед тем как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной, не столь ранимой земле.
Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшееся на ветру, ходившее косыми перевалами, то заплескивая дорогу, то отшатываясь от нее обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья.
Версту, а то и две провожали отряд бабы и ребятишки, толпой волоклись позади, глотали дорожную пыль, иногда забегая вперед по тесной, заросшей полыном и осотом обочине, запинаясь о пашенные окраинные комья, прикрытые пустотравьем, чтобы сказать что-нибудь еще или хотя бы взглянуть на своего суженого, отца или брата. Было душно и жарко идти рядом с колонной, занявшей собой весь узкий проселочный коридор, тяжело топавший и густо, непродыхаемо пылившей даже на этом вольном степном ветру. И только лейтенант, качавшийся в седле над мужицкими головами, обдуваемый этим ветром, еще не успел пропылиться и тем смешаться со всеми.
За ветряком, стоявшим на древнем могильном кургане, бабы, надорванные внутренней безголосой скорбью, начали отставать одна по одной, останавливались, махали сорванными с головы платками, что-то еще докрикивая издали, или же молчаливыми изваяниями замирали среди поля. Лишь Лобова Манька долго еще не поворачивала вспять. С гармошкой через плечо, которую она, облегчая Матюху, не хотела отдавать, сопровождаемая тремя босоногими девочками с испуганно-строгими личиками, безмолвно бежавшими за матерью растянувшимся выводком, она время от времени появлялась то справа, то слева от третьего ряда, где шагал, снявши картуз, Матюха, размашисто вышлепывая своими лаптешками.
— Давай гармонь! — завидев жену, всякий раз кричал Матюха, пытаясь спровадить ее домой, и, когда та опять не отдавала, поддерживая тем самым свою причастность к строю, он строго отворачивался, не хотел больше ни о чем говорить.
— Ты иди, иди знай,— шурша по краю колосьями, выкрикивала она.— Али мы тебе мешаем?
И снова молча шли, дружно, охотно по первым верстам, храня торжественность начатого дела, гукали и шлепали сапогами, лаптями, ботинками, веревочными чунями.
— Ну ладно, прощай, Мотя! — наконец выдохнула Манька.— Глаза видят, а уже все одно не наш. Прощай!
Она на ходу сняла гармошку, передала крайнему новобранцу и, остановясь, дернув под горлом косынку, распахнув душу, крикнула своим девочкам:
— Побегите, девки, побегите! Поглядите на отца еще! А я уже не могу…
И, пьяно сойдя с дороги, волоча по земле платок, ничком, как в бурную, невзгодную воду, пала в ходуном ходившее жито.
Касьян, окликая с дороги отстававших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу держась поодаль от колонны, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался еще у конторы, обе, и мать, и Натаха,— без ног, на последнем пределе, куда ж им было еще бежать, какие там провожанья… Взяв с собой ребятишек, все время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний раз обходил лошадей, поправлял упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Все, все, Наталья! Мам, все!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но еще до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей: «Ну, сынки…» — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руки, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд.
Обогнав Селиванову повозку, Касьян отпустил вожжи, лошади перешли на шаг, отфыркиваясь, радуясь недавнему бегу, и он полез за кисетом, чтобы в первый раз за все утро покурить без спешки.
Когда дорога очистилась от провожатых, дедушко Селиван, оставив своих лошадей идти самих по себе, подсел к Касьяну. Был он торжественно-возбужден этим нарядом и все время озирался, радовался езде, дороге, глядел, как плескались у колес матереющие хлеба.
— Ну, пошли наши! — воскликнул он, засматривая из-под руки на колонну.— Пошли, соколики!
— Как там Кузьма? — поинтересовался Касьян.
— А ничего. Храпит во все заверти.
Часть мешков с Селивановой повозки Касьяну пришлось переложить на свою, а на высвободившееся место, на дно, уложили Кузьму. Уже перед самым отходом Кузьма, встрепанный, с отекшим лицом, вылетел вдруг из-за угла конторы, кинулся было в ряды, но его оттащили, и он, отпихиваясь, расталкивая мужиков, ударил кого-то, крича: «Кав-во? Меня не пущать? Да я вас…» Пришлось его связать, уложить в телегу и прикинуть плащом. Кузьма долго вертелся, пытаясь освободиться, выкобенивался и матерился, но потом его утрясло, и он, угомонившись, снова захрапел. Деревня еще долго виделась позади, сначала кровлями, потом одними только купами старых темных ракит над светлой нивой, пока не перевалили за первый пологий увал, убравший за себя Усвяты, и только старый, за ненадобностью давно уже распятый ветряк все еще одиноко маячил среди поля, томя душу последним видением родимых мест.
— Подтяни-и-ись! — покрикивал лейтенант, поворачиваясь в седле и оглядывая колонну.
После часу ходьбы отряд заметно растянулся, пожижел рядами. Только самые первые еще старались идти согласно, тогда как прочие мужики, толкая друг друга плечами от непривычки ходить нога в ногу в такой тесноте, уже давно сбились, потеряли шаг, а в хвосте и вовсе каждый топал сам по себе нестройной ватажкой. Но, несмотря на то, шли споро, со свежей размашистостью, будто стремились поскорее отбежать от Усвят, за пределы своей округи.
Дедушко Селиван, поглядывая в их сторону, укоризненно прокричал Касьяну:
— Гляжу я, никак не могут командой ходить) Нешто это строй — кто в лес, кто по дрова. Еще и не шли, ветряк видать, а уже хвост волокут. Во, слышь, командир опеть «подтянись» кричит. Эдак и горла не хватит, кричать так-то.
— А он пусть не кричит. Сердитый больно,— буркнул Касьян.
— Командир-то? Не-е! Он нужное требует. Вы ведь, поглядеть, чурки сырые, неошкуренные. Командирское дело какое? Его дело задать шаг, швыдко али нешвыдко. А уж строй сам должон ногу держать, как задано. Тади и марш не уморен, и кричать командиру нечего. До настоящих-то солдат — ох ты, братец мой!
— Как думаешь,— спросил Касьян,— ситнянские какой дорогой пойдут? На Разметное али на Ключевскую балку?
— Какой же им резон на Разметное итить? Ясное дело — на Ключики. А чего?
— Да Никифор мой должен пойти.
— Ох ты! И его взяли?
— Поше-ел! Да хотел повидаться…
— Ну да перед Ключами Верхи будут, оттуда и поглядим. Ежели ситняки напрямки двинут, полем, как мы, дак с Верхов далеко видать. Человек не иголка, а целое ополченье и вовсе в поле не утаится. В прежние времена, сказывают, на теих Верхах сторожевая вежа стояла.
— Это для чего?
— Для догляду. Караулили, не набегут ли с дикого поля хангирейцы. Ежли что, дозорные люди сразу и подадут знать. Подпалят наверху вежи бурьян або хворост А уж за Остомлей, за лесом, другая вежа была. Та потом себе дымить зачинала. Так аж до самых Ливен, а то и дале — дымы. Мол, татары идут, хангирейцы. Доедем до Верхов — глянем твоего Никифора, коли ситняки нонче выступили.
— Дак и савцовские тоже седни идут.
— Ага, ага… Стало быть, всех одним днем кличут.
Тем временем кончилось усвятское поле, открылась пологая балочка, коих в этих местах — за каждым увалом. По дну лощины сквозь осочку и лозняк несмело пробивался только что народившийся безымянный ручей.
Лейтенант свел отряд до самого долу и тут остановил, объявил перекур.
В логу стояла тишина, никем не топтанная трава медово млела под безоблачным солнцем, и там, в вышине, будто вечная музыка, совсем как весной, звенели и ликовали невидимые жаворонки.
Долго ли шли строем, всего и одолели одно поле, но мужики, ровно малые дети, обрадовались перевалу, и не столько самому отдыху, сколь возможности рассыпаться, разбежаться в разные стороны. Теперь можно было сесть, развалиться на бархатной травке, покурить в охотку, и все это представлялось нежданым благом. Но все первым делом наперегонки, треща кустами, ринулись к ручью, вставали перед ним на колени, пластались на животы и пили, пили, зачерпывая пригоршнями и картузами или дотягиваясь губами до воды. Напившись, принимались плескать себе в пыльные лица, на потные загривки и, утираясь, кто тем же картузом, кто подолом рубахи, благодарно поглядывали на лейтенанта, что, сидя поодаль от всех на старой кротовой кочке, покуривал свой «Беломорканал», придерживая в поводу жеребчика.
В повозке застонал, завозился Кузьма, было видно, как он, вскидывая голову, бодал изнутри брезент.
— Чего тебе, милай? — сдернул с него плащ дедушко Селиван.— Не жарко ли?
Опутанный веревками по рукам и сапогам, со сведенными за спину посиневшими кулаками, Кузьма боком лежал на дне телеги со сложенными вдвое, подобранными под живот долгими, саранчуковыми ногами и, жмурясь от света, всем спаленным нутром не принимая дня и солнца, хватал и жавкал воздух сухими, спекшимися губами.
— Дак чего надоть? — переспросил Селиван.
— Стешку мне… Степаниду…
— Хе, когда хватился! — Дедушко Селиван отмахнул от Кузькиного носа невесть откуда налетевшую синюю муху, учуявшую дурное.— Проспал, проспал бабу-ти. Да-алече теперь твоя Степанидка.
— Сумка игде…
— Дак и сумка при ней. С отрядом баба ушла. Утрехала Степанида. Говорит, ежли мужик ружья держать неспособен, то нехай печь топит, ухватами бренчит. А я, дескать, за него, за негожего, сама на немца пойду. Да и пошла вот.
Кузьма метнул кровяным заспанным глазом, должно, не в состоянии набрякшим умом понять, шутит ли Селиван или же бает чего похожее…
— Ладно тебе…
— А чего — ладно? Ладно-то чего? Рази это ладно, ежли баба заместо мужика оборону держать идет? Завтра, глядишь, и присягу со всеми приймет. Перед полковым знаменьем стоять будет. Дак а чего? Со Степанидой все станется. Как погрозится, так и сделает, мешкать не подумает. Твою бабу токмо штыку обучить, дак она какого хошь немца упорет. Вот вишь какое твое нехорошее положение.
Кузьма, налившись синюшной, перепорченной кровью, задергал плечами, силясь одолеть веревки.
— Развяжи, слышь…— потребовал он.
— Э-э нет, братка! В этом я не волен. Не мною ты сужен, не мной и в узлы ряжен. Это уж как обчество. Его проси. А ежели охота по-маленькому, дак и так можно. Телега — не корыто, вода дырочку найдет.
— Пусти, говорю…— клокотал горлом Кузьма.
— Дак опамятовался ли? Вспомнил хоть, за чего тебя? Не за то, что кого-то там ударил, а за то, сукин ты сын, что сраму не знаешь, в святое дело на четверях ползешь.
Кузька молчал, сопел в чей-то мешок, подсунутый ему под голову.
— То-то же…— И, обернувшись, старик крикнул Касьяну: — Как думаешь, Тимофеич, время ли отпускать орла-сокола? Не порхнет ли куда не след?
Касьян подошел к телеге, оценивающе оглядел похмельем измятого, полуживого Кузьму и молча потянул конец веревки под его коленками.
Орел-сокол, однако, не только не вспорхнул после этого, но, попробовав было перелезть через грядку и так и не сумев приподнять себя, оброненно осел на дно телеги, проговорив лишь пришибленно:
— Попить дайте…
Касьян отцепил ведерко, притороченное к задку Селиванова возка, сходил к ручью и подал Кузьме напиться.
— Ох, гадство,— потряс тот головой и, окончательно сморясь от воды, потянув на себя дождевик, упрятался от бела света и всего сущего в нем.
Меж тем дичком глядевшие поначалу мужики, теснившиеся друг к дружке в щемящем чувстве бездомности, особенно остром на первых отходных верстах, мало-помалу начали прибиваться к лейтенанту. Рассаживаясь по извечной деревенской неназойливости в некотором отдалении, большей частью — за его спиной, чтобы не мозолить глаза своим присутствием, и поглядывая, как тот уже по второму разу закурил «беломорину», они и сами лезли за баночками и кисетами, как бы выражая тем свое молчаливое расположение.
В них самих все еще саднило, болело деревней, еще незамутненно виделись оставленные дворы и лица, стояли в ушах родные голоса, стук в последний раз захлопнутых калиток, и, не ведая, чем притушить эту неотвязную явь, невольно тянулись к сидевшему поодаль лейтенанту, послеживали за каждым его движением. Неосознанно нуждаясь в его понимании и сочувствии, они, как это часто бывает в разломную минуту с глубинно русским человеком, сами проникались пониманием и сочувствием к нему — одинокому в чужих полях, среди незнакомого люда, и только ждали, чаяли минуты, чтобы протянуть руку товарищества и братства на начатой вместе дороге. И первым, бродя поблизости, делая вид, что интересуется щавелем, подошел к лейтенанту легкий на все Матюха Лобов.
— Товарищ лейтенант! Давай конька попою. Пристал на жаре конек.
Матюха безбоязненно подшагнул под лошадиную шею и, взяв коня под уздцы, сочувственно погладил горбатое переносье.
— Щас, милай, щас,— заговорил он с лошадью, осыпанный по стриженой голове конской гривой, и лейтенант, задержав взгляд на Матюхиной рассеченной губе, улыбчиво обнажавшей зубы, снял с руки повод и молча бросил его Лобову.— Дак ты и сам помойся,— обрадовался поводу Матюха.— Сними, сними рубаху-то. Чего ж в ремнях сидеть? И ноги ополосни, побудь босый. Глянь, травка-то какая.
— Времени нет полоскаться,— отозвался тот.— Пора выступать.
— Дак ить это ж недолго. Минутное дело. А хоть сюда ведро принесем.— И, не дожидаясь ответа, кивнул мужикам: — Эй, ребята, неси сюда воды. Товарищ лейтенант умываться будет.
Сразу двое подскочили бежать за ведром, но дедушко Селиван и сам догадался, что к чему, проворно сбежал вниз и зачерпнул по самую дужку. Видя, как Давыдко перехватил у старика ведро и уже мчал с ним по пригорку, лейтенант привстал и расстегнул поясной ремень.
— Ладно, давайте,— сказал он.— И в самом деле жарковато.
Он обнажил себя до пояса, наклонился перед Давыдкой, и тут все вдруг увидели на его левой лопатке сизый, напряженно-стянутый рубец в добрую четверть. Занесенное было ведро повисло в воздухе, и лейтенант, не понимая, в чем дело, отчего мешкают, нетерпеливо поторопил:
— Лей, кто там…
— Дак можно ли? — оторопело спросил Давыдко.— Это чегой-то у тебя на спине?
— А-а! — засмеялся согнувшийся лейтенант.— Давай валяй.
Давыдко осторожно, тонкой струей прицелился в лейтенантову шею, боясь попасть на страшное место.
— Лей, лей! — ободрял тот.— Поливай, не бойся.
— Чем это тебя, товарищ лейтенант?
— Было дело,— гудел сквозь струи лейтенант, радостно отфыркиваясь.— Хасан это… Озеро Хасан…
— Не болит?
— Болело б, так не служил бы. Рана ведь неглубокая, по кости только чиркнуло.
— Вот это дак чиркнуло! — с уважительной опаской таращились на рану мужики.— Эко боднула костлявая! Чуть бы что — и, считай, лабарет.
— Ничего! — крякнул лейтенант.— Зато мы ему тоже всыпали. Долго будет зализывать.
У кого-то в сумке нашлось и полотенце — побежали, принесли долгий самотканый рушник с красными мережками, и, утираясь им, раскрасневшись от каляного суровья, лейтенант просиял белозубо:
— Хороша водица! Спасибо, товарищи.
Мужики польщенно оживились.
— Водица тут редкая, это верно. Из мелов бежит. А ты из каких мест? Где родина-то?
— С Урала я. Тагильский.
— Так-так… Мать-отец есть? Живы ли?
— Отца давно уже нет. Белоказаки расстреляли. Чего-то там в депо сделали, их и сцапали, восемь человек. Завели в пустой вагон, там и постреляли. А вагон потом сожгли… А матушка жива. И две сестренки. Уже б должна пойти на пенсию, да вот война, теперь не знаю как…
Пока утирался, а потом надевал гимнастерку и застегивал ремни, был он в эти минуты прост и доступен свежим, умытым лицом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, и мужики радовались этой обыденности, до той поры таившейся под строгостью армейской фуражки.
— Товарищ лейтенант, на-ка покури нашего домашнего.— Матюха Лобов протянул свернутую газетную книжечку. Он уже сводил командирского коня к ручью, и теперь тот пасся неподалеку на нехоженом склоне.
— Да погоди ты с махоркой,— перебил дедушко Селиван.— Человеку, может, перекусить охота. А ну несите-ка, чего у вас там.
— А и верно! — вскинулись мужики.— Что ж это мы…
— Нет, нет,— запротестовал лейтенант и достал свои часы-луковку.— Время выступать. Предписано сегодня же прибыть на сборный.
— Поешь, поешь, сынок,— настаивал дедушко Селиван.— Тебя как звать-то?
— Александр… Саша.
— Ну дак, вишь, и зван по-нашему. А по-нашему такое правило: хоть ты генерал будь, а от хлеба-соли не отказывайся. А по-солдатски и того гожей устав: ешь без уклону, пей без поклону. Я солдатом тоже бывал, дак у нас так: где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лег. За спасибо чина не прибавляют.
— Ну, отец, от тебя, видать, и ротой не отбиться! — засмеялся лейтенант.
— Была б причина со мной войну затевать,— тоже рассмеялся дедушко Селиван.— Неси самобрань, робяты! Какое время за хлебом потеряно, то вдвое в дороге нагонится. И конь, говорится, не ногами бежит, а овсом…
Тем временем Леха Махотин принес свою дорожную торбу, развязал ей хобот и принялся выкладывать припасы на разостланном рушнике — разломил смугло обжаренную курицу, высыпал пригоршню пирожков, достал свежих огурчиков, редиски. Мотнулся к своему припасу и Матюха Лобов и под одобрительный перегляд мужиков бережно, чтоб не расплескать, выставил на рушник голубенькую кружицу с белым на боку цветочком, чем и вовсе привел лейтенанта в смущение.
— Давай, товарищ лейтенант,— сказал он, почтительно отступая в сторону.— На здоровьице.
— Ну это уж вы зря…— смутился лейтенант.— Честное слово…
— Да чего там! — загомонили новобранцы.— Экое дело выпить перед едой. Выпей да закуси.
— Ну ладно, раз так.— Лейтенант поднял кружку.— За что выпью, так это за нашу победу.
— Вот это верно! — дружно одобрили мужики.
— Давай, товарищ лейтенант. Чтоб ему, Гитлеру, пусто было.
— Ни дна ему, ни покрышки.
И всем почему-то сделалось радостно оттого, что их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего уха.
— Ужли не победим? — ухватился за слово Никола Зяблов, подбивая лейтенанта на больной разговор.
— Побьем, ребята, побьем,— спокойно сказал тот.
— Дак и я говорю,— подхватил дедушко Селиван.— Не все серому мясоед. Будет час, заставим и его мордой хрен ковырять.
— Правильно, отец! — захохотал лейтенант.— Это точно!
— Сколько уже замахивались на Россию,— ободренно продолжал Селиван,— а она и доси стоит. Уже тыщу годов. Эвон какое дерево вымахало за тыщу лет: шапка валится на верхушку глядеть.
— Насчет дерева это ты, отец, хорошо сказал,— кивнул лейтенант.— Нам бы еще немного заматереть, каких пяток лет, тогда ни один топор не был бы страшен.
— Это б хорошо,— поскреб под картузом Никола.— Да сучья, слышно, уже летят…
— Ничего! — сказал лейтенант.— О сучья ведь тоже топор тупится. Покамест до главного ствола дело дойдет, и рубить будет нечем. Нам, товарищи, главный ствол уберечь, а сучья потом снова отрастут. А за те, что порублены, он еще поплатится. Мы из них ему крестов наделаем.
— Что и говорить, к главному-то стволу его никак не след допускать,— сказал Никола.— Уж коли само дерево гниет — конец и всем его веткам.
— За тем и идем,— баснул Афоня-кузнец, лежавший особняком под кустом конского щавеля.
— Выбьем, выбьем у него топор, товарищ лейтенант,— покряхтывая, подал голос Матюха. Кривясь от цигарки, дымившей под рассеченной губой, он взялся перематывать ослабленные на онуче завязки.— Не все-то одним нам в ус да в рыло, будет ему и мимо. Брехня! Ежли скопом навалимся, все одно передушим. Нам бы только техникой помочь, а мы сдюжаем. Я их, падлу, не пулей, дак зубами буду грызть. Я им покажу деколон.
— В каких частях служил? — поинтересовался лейтенант.
— В разных. Три года пехота да три еще кое-где… На спецподготовке,— засмеялся Матюха.— Между прочим, тоже на Урале. Только на Северном. Выходит, вроде как земляки с тобой.
— Понятно.
— Так что топором и я обучен махать,— уточнил Матюха и, встав, потопал лаптями, попробовал, ладно ли обмотался.
Поблагодарив за еду, лейтенант достал пачку «Беломора», протянул ее в круг. Мужики, смущаясь, бережно разобрали угощенье.
— Дак а ты нашего тади дерни,— предложил Лобов.— Знаешь, как в сельпе махорка называется?
— Ну-ка, ну-ка?
— Смычка! Ты нам «беломору», а мы тебе нашей рубленки. Вот и посмыкуемся.
— С удовольствием, землячок! — засмеялся лейтенант.
18
Вскоре объявили построение. Матюха изловил и подал посвежевшего коня лейтенанту, и тот, оглядев из седла замерший строй, скомандовал к маршу.
За ручьем начиналась чужая, не усвятская пажить; рядами разбегались и прыгали через узкое руслице на ту сторону, за первые пределы отчей земли, своей малой родины, иные при этом норовили макнуть напоследок руку, потом, опять сомкнувшись, одолели зеленый склон и, выйдя на дорогу, подравняли шаг.
Касьян с дедушкой Селиваном, напоив лошадей, тронулись в объезд на жиденькую жердяную гатку {41}.
Дорога потянулась на долгий пологий волок, сливавшийся где-то впереди с дрожливым маревом. По обе стороны топленым розоватым молоком пенилась на ветру зацветшая гречиха, и все оживились, войдя в нее, пахуче-пряную, гудевшую пчелой, неожиданно сменившую однообразие хлебов. За гречихой начались подсолнухи, уже вымахавшие в человеческий рост и местами тоже зацветшие, и было светло и как-то празднично идти среди этих ярких золотых цветов, терпко пахнувших лубом, повернутых, как один, к полуденному солнцу. И вообще, отдохнув и малость пообвыкнув в строевом ходу, шли легко, без изначального скованного напряжения, уже не вздрагивая от окрика лейтенанта, который в низко насунутой фуражке, подстегнутой под подбородком ремешком от встречного ветра, еще недавно казался в своем седле чем-то вроде ниспосланного рока, глухого ко всему и неумолимого в своей власти. Теперь все знали, что зовут его Сашкой, что, как и у всех у них, есть и у него где-то мать, что сам он, в сущности, неплохой компанейский малый и что в его полевой сумке вместе со списками новобранцев лежит пара Лехиных пирожков с капустой, которые уговорили взять на тот случай, если захочется пожевать в седле. Помнилось и о том, что под его гимнастеркой на левой лопатке сизым рубцом запеклась не очень давнишняя пулевая рана, и в строю поговаривали, что нехудо бы с ним, уже понюхавшим пороху, идти не до одного только призывного, а и дальше. Чтобы так вот всех как есть, не разлучая, определили б в одну часть, а он остался бы при них командиром. И когда лейтенант время от времени поворачивался в седле, опершись рукой о круп лошади, оглядывал колонну и зычно, со звонцой кричал «подтяни-и-ись!», все уже понимали, что покрикивал он не от какой-то машинной заведенности и недоброй воли, а оттого, что, стало быть, кто-то там и на самом деле замешкался и поотстал, закуривая или отбежав до ветру.
И лишь однажды, когда взошли на самый гребешок и дальше дорога должна была покатиться долу, лейтенант рассерчал не на шутку, потому что строй вдруг без всякой причины сбился с шагу, затопал разноногим гуртом, мужики, притушая ход, заоглядывались, и по колонне прошелся какой-то возбужденный ропот. Ехавший позади отряда Касьян, заговорившись с дедушкой Селиваном, едва не врезался дышлом в последние ряды.
— На-аправляющий! — гаркнул лейтенант.— Сты-ой!
Колонна приостановилась, и командир, упрятав глаза под посверкивающий козырек, поворотил коня в хвост отряда.
— В чем дело? Что за базар?
Мужики виновато отмалчивались.
Лейтенант обогнул колонну и, подвернув к повозкам, как бы пожаловался дедушке Селивану:
— Ведь только что отдохнули, покурили, черт возьми! Еще и трех верст не прошли.
— Дак вона, командир, причина-то! — Дедушко Селиван ткнул кнутовищем в обратную, уже пройденную сторону.— Туда гляди!
С увала, с самой его маковки, там, позади, за еще таким же увалом, бегуче испятнанным неспокойными хлебами, виднелась узкая, уже засиненная далью полоска усвятского посада, даже не сами избы, а только зеленая призрачность дерев, а справа, в отдалении, на фоне вымлевшего неба воздетым перстом белела, дрожала за марью затерянная в полях колоколенка. А еще была видна остомельская урема и дальний заречный лес, синевший, как сон, за которым еще что-то брезжилось, какая-то твердь.
Глянул туда и Касьян и враз пристыл к телеге, охолодал защемившей душой от видения и не мог оторваться, хотя, как ни силился, как ни понуждал глаза, не разглядел ни своего двора, ни даже примерного места, где должно ему быть. Но все равно — вот оно, как ни бежали, как ни ехали. Еще и ветер, что относил в ту сторону взволнованные дымки цигарок, долетал туда за каких-нибудь три счета и вот уже кудрявил надворные ветлы, курил золой, высыпанной под откос из еще не остывших печей, трепал ребячьи волосенки и бабьи платки, что еще небось маячили кучками на осиротевших улицах…
— Чего ж не сказали? — глухо проговорил у телеги лейтенант, поглядывая на повернувшихся мужиков.— Разве я не понимаю…
— А что они тебе скажут? — Дедушко Селиван поддел кнутовищем под козырек, поправил картуз.— Вот сичас зайдут за бугор — и весь сказ… А там уж пойдут без оглядки. Холмы да горки, холмы да горки…
Лейтенант с места наддал коню, рысью обогнал смешавшуюся молчаливую колонну и, привстав в стременах, уже сдержаннее выкрикнул:
— Ну что, ребята? Пошли, что ли? Или вернемся?
— Пошли, товарищ лейтенант! — отозвался за всех Матюха.
— Тогда — разбери-и-ись! Ши-а-го-о-ом!..
Но в остальном, исключая это маленькое недоразумение, отряд продвигался споро, не задерживаясь, минули и одно, и другое угорное поле, один и другой дол с садовыми хуторами и в третьем часу вошли в Гремячье, первое большое сельсоветское село. Следовало бы сделать передых, но решили в селе не останавливаться, не муторить народ, а идти до Верхов и уж там уединиться и перекусить без помехи.
Гремячье занимало оба склона распадка с мелкой речушкой между глядевшими друг на друга улицами. Колонна пересекла село поперек, с горы на гору, и пока шли ложбиной, на виду у обеих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропыленных мужиков.
— Чьи, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону.
— Усвятские! — выкрикнули из рядов.
Старик трудно, опершись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку.
— Кто еще через вас проходил, отец? — спросил Давыдко.
— Того часу Никольские пробегли да хуторские,— оповестил старик.
— А ваши пошли-и?
— Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одне галицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ.
— На Верхи верно ли правим?
— На Вершки? Дак вон они, за нами и будут.— И уже вослед крикнул больным, надрывным голоском: — Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знамё-он!
— Постоим, отец! Постоим!
— Тади легкого поля вам, легкого поля!
Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой.
За гремячьей околицей привязалась собака — полугодовалый волчьей масти кобелек, еще плоский, большелапый, с никак не встающим на зрелый манер левым ухом. Кобелек поначалу долго глядел на уходившую колонну, потом вдруг сорвался, нагнал и, то робея и присаживаясь, то обнадежив себя какой-то догадкой, опять догонял и озабоченно продирался подступившими к дороге овсами. Время от времени он привставал зайцем на задних лапах и проглядывал отряд с переменчивой тоской и надеждой в желтых сиротских глазах.
— Иди домой, милый,— крикнул ему Матюха.— Нету тут никого твоих.
Но кобелек не послушался и долго еще шуршал овсами, выбегал позади на дорогу и в поджарой стойке тянул носом взбитую пыль. И только когда лейтенант бросил ему пирожок, щенок, взвизгнув, шарахнулся от него, будто от камня, и постепенно отстал, запропал куда-то…
Верхи почуялись еще издали, попер долгий упорный тягун, заставивший змеиться дорогу. Поля еще цеплялись за бока — то просцо в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменек, но вот и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди которых, красно пятная, звездились куртинки суходольных гвоздик. Раскаленный косогор звенел кобылкой, веял знойной хмелью разомлевших солнцелюбивых трав. Пыльные спины мужиков пробила соленая мокреть, разило терпким загустевшим потом, но они всё топали по жаркой даже сквозь обувь пыли, шубно скопившейся в колеях, нетерпеливо поглядывая на хребтину, где дремал в извечном забытьи одинокий курган с обрезанной вершиной. И когда до него было совсем рукой подать, оттуда снялся и полетел, будто черная распростертая рубаха, матерый орел-курганник.
Усвятцы, наезжая в район, редко пользовались этим верховым проселком, хотя и скрадывавшим путь версты на четыре, но уморным для ездоков и лошадей, особенно в знойную пору. Чаще же ездили ключевским низом, по людным местам, прохладным и обветленным, никогда не докучавшим пылюкой. Но всегда тянуло побывать здесь, на манивших горах, хотя за делами не всякий того удосужился. И вот занесло всех разом аж на самую маковку!
— Правое плечо, вперед! — скомандовал лейтенант, и отряд свернул с дороги к подножию кургана.— Переку-у-ур!
Как ни упехались мужики за долгий переход, но, и пав ничком на жесткую траву, каждый все-таки лег не как попало, а все до единого головой на восток, куда крутым овражным обрывом метров на семьдесят, а то и на все сто неожиданно обрезались Верхи. И открывалась отсюда даль неоглядная, сразу с несколькими деревеньками, нанизанными на блескучие петли Выпи-реки, с мельничным плесом и самой мельничкой, бело кипевшей игрушечным колесом, с клубившимися левадами приречных ольх и ракит, россыпью коров во влажнозеленых лугах, мерцающих озерками и болотцами, с бугорками сенных стожков и сизыми капустными бахчами,— все это звалось той самой Ключевской балкой, питавшейся обильными ключами из-под Верхового уреза, было тем самым низом, по которому и проходила излюбленная дорога. А по-за балкой вновь поднималась, дыбилась холмами материковая земля, и дивно было глядеть сразу на всю эту уймищу хлебов, уходивших верст на пятнадцать вправо и влево. И еще было дивно, что над всем этим, казалось, вот оно, только дотянуться рукой, неслось по ветру невесть откуда взявшееся одинокое облако, будто белый отставший гусь-лебедь, и тень от него, пересекая долину, мимолетно темнила то светлобеленые хаты, то блестки воды, то хлебные нивы на взгорьях. А еще выше, там, где царило одно только солнце, кружил в восходящем паренье тот самый старый курганник, что неслышной тенью сорвался с дремотных Верхов.
Так и не сойдя с седла, лейтенант вместе с конем остановился у самого края и долго глядел вниз с жутковатой высоты.
— Да-а…— протянул он и, обернувшись к подъехавшим телегам, изумленно спросил у дедушки Селивана: — Как же я утром этого не видел?
— Дак ты, мил человек, в ста саженях мимо и проскочил. Эвон где дорога-то!
— Пожалуй… А это что за курган?
— А он завсегда тут был. Спокон веку. Может, кто насыпал, а может, и сам по себе. На нем и стояла дозорная вежа. Вишь, макушка срезана? Для того, видать, и сровняли, чтоб вежу поставить.
— Ясно. Ну, а те откуда же шли? С какой стороны?
— Татары-то? Дак тамотка и шли, по заречью. Гляди, во-он на той стороне по хлебам пыль курится. Это и есть ихняя дорога. Муравский шлях. Туда, туда, за Остомлю, а там уж и Куликово поле — вот оно. Тамотка и шли поганые. Дак и оттуда, с Куликов, тем же путем и бежали, кто уцелел. На Дон да по-за Дон, в свои степя.
— Ребята! — вдруг подхватился Давыдко.— Дак ведь это, должно, ситнянские идут!
— Где?
— Да вон пыль!
Касьян насторожился, принялся глядеть в заречную сторону. И верно, поле клубило долгим низким облаком. Людей было не разобрать, но хорошо виделись катившие позади две не то три подводы.
— Небось ставские,— предположил Леха Махотин.— В самый раз ставцам быть.
— Ох ты! Ставцы низом должны, им низом ближе. А это, точно, ситнянские. Кому ж еще?
— У меня там сродный должон итить,— сказал Матюха.— Так и не свиделись.
— Дак и у Касьяна братан. Тоже не попрощался.
Лежа на краю обрыва, усвятцы наблюдали, как дальнее заречное ополчение медленно плелось меж телефонных столбов, и по этим столбам, забежав глазами вперед, можно было догадаться, что колонна неминуче сползет в Ключевскую балку — если не здесь, то где-то потом, за поворотом.
— А что, братцы, ежли вдарить наперехват, а? — загорелся Матюха.— Им ведь все равно за Верхами перебредать на нашу сторону. Они сюда, а мы — вот они!
— Поесть бы сперва…— напомнил Никола Зяблов.
— Ладно тебе! Токмо от стола.
— Да где ж токмо?
— Расшеперимся тут с сидорами, а они и пройдут. А встретимся вместе и поедим. Да и пойдем заодно. Вместе куда веселей-то. Считай, в Ситном половина усвятской родни. Ну что, братцы? Как, Касьянка? Ты ж Никифора хотел повидать.
— Я что — я на телеге.
— Как командир поглядит,— вяло согласился Никола.
Доложили лейтенанту. Тот внимательно посмотрел за реку, сказал, что если это действительно ситнянские, то их должен вести его хороший приятель, тоже уралец, лейтенант Фарид Халидуллин, и что он, в общем, не возражает против такого маневра. Правда, некоторые были недовольны хлопотной затеей, но большинство обрадовалось повидать своих, и лейтенант снова объявил построение, добавив, что там, на перекрестке, будет объявлен большой привал, можно будет распрячь лошадей, сходить на речку искупаться.
Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну. Тем более что трава оказалась невелика, а главное, не было осточертелой пыли. Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется еще какой-то отряд, и, судя по обозу, не маленький. Возникли толки, что, мол, не те ли ситнянские? Если они, то их уже не нагнать, а стало быть, и нечего пороть горячку. Но тут же кто-то усомнился, что для Ситного, деревни в сотню дворов, отряд, пожалуй, великоват и что те, первые, скорее всего, из Разметного. И порешили, что ситняки все же не те, а эти, ближние.
— А и ладно! — обрезал споры Матюха.— Раз пошли, то чего уж гадать. Шире шаг, ребята! Идти так идти!
В Селивановой повозке опять завозился Кузьма, высунулся наружу, сел, потер кулаками глаза, и Касьян слышал, как тот спросил:
— Где едем, батя?
— Далече уже, служивый. По Верхам едем.
— Ну-у? — не поверил Кузьма.— Вот это дак дали!
— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снах видел?
— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут, на чужой тератории бить будут?
— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.
— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу.— Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж доси не прут?
— Ну дак ежели не поперли,— передернул плечами Селиван,— стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.
— Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма.— Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она, та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил: — «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?
— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.
— А меня стращать теперь нечего,— огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны.— Дальше фронта не зашлют.
— А на то я тебе так скажу.— дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков.— Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдка, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием… А другой больше армии нету. И ждать неоткуда…
— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.
— Э-э! Малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван.— Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже никольские прошли, разметненские… Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!
Дедушко Селиван шевельнул лошадей, морозно припискнул на них губами и вдруг, поворотившись, осведомился:
— Ты что, Кузьма Васильич, никак оклемался уже? Дак тади, может, со строем пойдешь? А то ведь этак прямо на губвахту можешь угодить.
— Погожу маленько,— неохотно признался тот.— Башка чегой-то трещит. Закурить нет?
— Закурить у Касьяна проси.
Касьян, услыхав про себя, придержал свою пару.
Разломанно кряхтя, Кузьма перевалился через край телеги и нетвердо, будто после затяжной болезни, поковылял к переднему возу.
— Дай-ка курнуть,— потер он зябко ладони.
— Ты вот что…— Касьян потянулся за табаком.— Ежли голову уже держишь, лезь-ка сюда, за меня побудешь.
— А ты чего?
— С ребятами пойду. А то ноги онемели сидеть. На, держи…
Касьян сыпнул в Кузькины дрожащие ладони жменю махры, бросил сверху свертыш газеты со спичками и, на ходу надевая пиджак, побежал догонять ополченцев.
— Давай сюда! — обрадованно крикнул Леха.— А ну, ребята, пересуньтесь, дайте Касьяну место.
Касьян пристроился с краю рядом с Махотиным, подловил шаг и затопал в общую ногу. И радостна была ему эта невольная забота о том, чтобы не сбиться, поддерживать дружный гул земли под ногами.
— А гляди-ка, братцы! — возликовал Матюха.— Обходим, обходим этих-то! Ситников да калашников. Небось напехтерили сидора. Сичас мы вас уделаем, раскаряшных! Куда вы денетесь!
Поглядывая на заречную колонну, неожиданно поворотившую от телефонных столбов на какой-то проселок и явно косившую на переправу, усвятцы, подгоняемые замыслом, какое-то время шли с молчаливой сосредоточенностью, в лад шамкая и хрустя пересохшей в верховом безводье травой. Но вот Матюха Лобов, мелькавший в третьем ряду стриженой макушкой, пересунув со спины на грудь запыленную гармонь, как-то неожиданно, никого не предупредив, взвился высокозвонким переливчатым голоском, пробившимся сквозь обычную матюхинскую разговорную хрипотцу:
И эх, в Таган-ро-ге! Эх, в Таган-ро-ге!Лейтенант, державшийся левой, береговой, стороны и все время поглядывавший в заречье, удивленным рывком повернулся на голос и, увидев в руках Лобова гармошку, одобрительно закивал головой, дескать, молодец, земляк, давай подбрось угольку.
И как это ни было внезапно, все же шагавшие вблизи Лобова мужики не сплошали, с ходу приняли его заманку и пока только первыми рядами охотно подхватили под гудевшую басами гармонь:
Да в Таган-роге приключилася беда-а-а…Касьян, еще не успевший обвыкнуться в строю, не изловчился ухватить давно не петый мотив и пропустил первый припев, но, уже загоревшись азартом назревающей песни, ее неистовой полонящей стихией, улучив момент, жарко оглушил себя накатившимся повтором:
В Таган-роге д’приключилася беда-а-а…А Матюха, раскачивая от плеча до плеча ушастой головой, сладко томясь от еще не выплеснутых слов, подготавливая их в себе, в яром полыме взыгравшей души, даванув на басы под левую ногу, снова выкинул мужикам очередную скупую пайку:
Эх, там убили-и… эх, там убили-и-и, Там убили д’молодого каза-ка-а-а…И мужики, будто у них не было больше никакого терпения, жадно набрасывались на брошенную им строку и тотчас, теперь уже всем строем, громово глушили и топили запевалу:
Там убили д’молодого каза-ка-а-а…Но Матюхин голосок ловким селезнем выныривал из громогласной пучины и снова взмывал, еще больше раззадоривая певцов:
И эх, схоронили-и… эх, схоронили-и-и, Схоронили при широкой до-лине-е-е…А тем временем над Верхами в недосягаемом одиночестве все кружил и кружил, забытый всеми, курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху.
1977
Фагот
Он объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до ее начала.
По строгой мерке война — та, большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка,— занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окурок, брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком, тем более что случилось это далече и Красной армии, пожалуй, вовсе не светило в нем поучаствовать, показать себя… А хотелось: ведь все мы наизусть знали, что «броня крепка и танки наши быстры» и уж «если завтра война, если завтра в поход», то…
Томимые неопределенностью, мы как-то нехотя пошли в школу и сели за свежевыкрашенные парты без обычной праздничной приподнятости.
И вот наконец, кажется, началось…
Недели через две от гарнизонных казарм к городскому железнодорожному вокзалу потянулись первые колонны пехотинцев в полном походном снаряжении с перекинутыми через плечо шинельными скатками, противогазными подсумками и новенькими, необношенными вещмешками.
Роты шли молча, без привычных банных песен, и только глухой резиновый топот кирзовых сапог создавал строгий ритм согласованного движения.
Потом две не то три ночи по булыжной мостовой громыхали обозные пароконки, походные кухни, санитарные фуры с красными крестами на округлых крышах. Фыркали и всхрапывали застоявшиеся в кирпичных стойлах полковые кони, с железной звонцой клацали подковами, высекая голубые искры из лобастых сверкачей. Терпко пахло ременной сбруей, колесным дегтем, свежими конскими катышами.
Ребятишки допоздна просиживали за воротами, обомлело вглядываясь в мельтешащие сумерки, где под редкими фонарями в клубах потревоженной пыли нескончаемой лавиной катилось наше тогдашнее конно-тележное воинство. Наверное, так же оно уходило в поход еще во времена Крымской кампании {42}. И только иногда, словно примета текущего времени, уличную темень пронизывали лезвия желтых лучей из прорезей подфарников начальственной эмки, должно быть объезжавшей боевые порядки.
Тогда еще никто не знал, что наши курские полки тоже отправлялись освобождать из-под панского гнета братские народы Западной Украины и Белоруссии.
С рассветом передвижение войск прекращалось, и город как ни в чем не бывало снова наполнялся обычными прохожими: кто спешил на службу, кто — на рынок, а ребятишки, в том числе и мы,— в школу, на занятия. Дворники же, вооружась совками и метлами, принимались сметать и выскребать следы ночного столпотворения.
Однако по прошествии недолгого времени возбужденный город постепенно успокоился, воротился к своему прежнему неспешному бытию. Были отпущены по домам некоторые возраста, излишне прихваченные переусердствовавшей мобилизацией. Газеты и уличные говорящие устройства приподнято сообщали, что недавняя частичная переброска войск, проведенная в некоторых военных округах,— всего лишь осуществление освободительной миссии нашей Красной армии. Трудящиеся Львова, Ужгорода, Владимира-Волынского, а также Брест-Литовска, Гродно и Белостока уже встречают своих освободителей охапками цветов и благодарными возгласами. Говорилось также, что все эти города были освобождены без сопротивления польских гарнизонов, которые выбрасывали белые флаги при одном только появлении наших неудержимых войск.
…Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая позолотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишневой смолкой из уже начавших багроветь вишенников. А на главной городской площади, возле кинотеатра «Октябрь», переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на «Красных дьяволят». В новеньком цирке, возведенном на месте толчка — шумной, горластой, вороватой барахолки — успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный {43}, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрестке. В Пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего шапито трещали и подвывали мотоциклы, проносившиеся у самого потолка. Случалось, какой-либо тучной тетке делалось плохо — не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков, и ее спешно выносили в соседний скверик — на свежий воздух.
В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны по обыкновению собрались на уличном крылечке соседнего детского сада. Раз в неделю это кашеманное учреждение не работало, входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещенное ранним заспанным солнышком, приятно согревало теплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ватажке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед порожками, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносьем. Парень был облачен в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень-то атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам.
Особую неприязнь вызвал маленький франтоватый чемоданчик с металлическими нашлепками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Сережка-Махно окинул многозначительным взглядом настороженные лица, что означало: «А не посчитать ли ребра у этого оторванца?» Их было человек шесть — вполне хватило бы разом налететь, дать подножку и завалить фраера в дождевую канаву.
А он как ни в чем не бывало, непринужденно, улыбчиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился в глубь двора, на его сарайчики, голубиную решетку, пестрые постирушки на веревках — глядел с въедливым интересом, будто выцеливал что-либо слямзить.
— Вы тут живете? — спросил он, не переставая подозрительно озираться.
— А тебе чево? — набычился Серега.
— Да так просто…
И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул ее сперва Сережке, потом всем остальным и каждому по-приятельски, со встряхиванием, пожал руку, называя при этом свое имя: «Ванюха», «Ванюха», «Ванюха»…
— А ты что, настоящий футболист? — примирительно спросил Махно.— Бобочка на тебе клубная… Или где-нибудь с веревки сдернул?
Парень ничуть не обиделся на ехидный выпад Сереги, а только еще больше и расположительней растянул губы в улыбке.
— А в чемоданчике взаправду буцы? — настырничал Махно.— Покажь! Никогда близко не видел!
— Да нет там ничего! — Ванюха переложил чемоданчик в другую руку.— Так, барахлишко всякое. А эту футболку я у одного спартаковца во Мценске за финяк махнул. Вместе с чемоданчиком.
— А Мценск — это чево?
— Город такой… Сначала Орел будет, а потом уже Мценск. Это если отсюдова ехать… А если сюда, то — наоборот, понял?
Серега, конечно, ничего не понял, но согласно кивнул.
— Я там в детдоме жил,— пояснил Ванюха.
— Урка, что ли?
— Ну почему же — урка? — рассмеялся тот.— Я в прошлом году на конкурсе детских домов второе место по фаготу занял.
— А это чево?
— Фагот? Это такая деревянная дудка с клапанами. И с тростниковым язычком. Тросточкой называется. Когда дуешь — тросточка и телеблется, мозжит, значит. Получается звук. У фагота свой звук, фаготовый. Его ни с кем не спутаешь.
Ванюха поставил чемоданчик на землю и, зажав нос большим и указательным пальцами, нагундел мотивчик из «Лебединого озера». Звук получился глухой, гнусавый, будто возникший под ватной шапкой. Слышать это было забавно и непривычно, и все дружно рассмеялись.
— Чево, чево это? Как ты назвал?
— Так звучит фагот.
— А ну, Фагот, подуди-ка еще! — развеселились пацаны.— Ловко получилось.
— Ну, я только показать,— уклонился Ванюха.— Фагот — это тебе не бузиновая сопелка. Он может выдать сорок два звука — от си-бемоль контроктавы до ми-бемоль второй октавы. Во сколько!
— Ух ты! — просто так удивился Сережка.— А мы думали: ты шпана. Тогда как же финяк? Что на футболку променял? Откудова он у тебя? Скажешь, нашел…
— Да не-е. Мы их сами делали. Когда по слесарному занимались. Втихую от воспитателя. Столовым ножиком разживемся, а ручку к нему из всякой всячины набираем: из старых телефонов, костяных гребешков. Алюминий за серебро сходил, если надраить. Ножики с наборными ручками хорошо шли, братва на курево зашибала. Или меняли на чего-нибудь.
С того момента как Ванюха зажал нос и попытался показать, как звучит фагот, его почему-то больше не называли по имени, а тут же окрестили Фаготом, и тот, нисколько не противясь, легко принял это близкое и даже льстящее прозвище, каковые имел каждый. Ну, скажем, Серега, за то, что с началом летних каникул напрочь переставал стричься и к осени зарастал свалявшейся папахой, был обозван батькой Махно, чем оставался весьма доволен и горд.
— Слушай, Фагот, а ты к нам по какому делу?
— Хожу вот, мать ищу.
— Потерялась, что ли?
— Десять лет не виделись.
— Как это?
— Долго рассказывать.
— Ты что, из дома убежал?
— Да не, не так… Мы тогда в деревне жили. Тут, где-то недалеко. Не помню названия.
— Ну и чево?
— Ночью отца забрали и увезли куда-то. Потом добро наше вывезли: хлеб, скотину. Это мать мне рассказывала, когда мы по станциям куски собирали. С нами еще двое пацанов было, братья мои. Как звали, тоже не помню. Меньший — совсем пеленочник, еще грудь сосал. А грудь-то у матери — сморщенная кожа. Орал до посинения. Бывало, мать трясет тряпичный сверток, а сама тоже плачет. К тому времени я уже кое-чего кумекал: сам попросить мог, а то и стибрить чего на станции у бабульки: огурец, оладик картошешный. Небось, посчитав, что без нее я уже не пропаду, она выждала, когда поезд тронулся с места, подхватила меня под закрылки и запихнула в побежавший тамбур. «Прости, сыночек!» — услыхал я вдогон ее сорвавшийся выкрик. И вовек не забуду, как она, прижимая к груди спеленутого братишку, другой рукой, щепотью крестила застучавшие колеса, будто посыпала их чем-то.
— А ты чево же? Взял бы да выпрыгнул…
— Ну да… Поезд уже вон как раскочегарился! Когда далеко отъехали, проводница нашла у меня за пазухой измятую бумажку. Мать моя не умела писать, кого-то попросила назвать в той бумажке мои имя, фамилию, год и месяц рождения. Должно, заранее обдумала, что со мной сделать. Ведь у нее на руках еще двое совсем никчемных оглоедов осталось. «А бумажку эту ты береги! — сказала тогда проводница.— Без бумажки ты никто, понял? Снимай-ка штаны, я к ним карман подошью. Там будешь ее хранить».
В служебном купе она налила мне кипятку, дала кусок сахару и настоящую белую булку, а сама принялась метать карман, которого у меня дотоле еще не было: его заменяла побирушная сумка.
Во Мценске на вокзале проводница сдала меня дежурному по перрону, а тот переправил в тамошний приют. А когда вырос, принялся писать, запрашивать. И вот только теперь сообщили, где моя мать… Я и приехал…
Фагот достал из заднего кармана казенную открытку, сличил написанное в ней с обозначением на уличном фонаре.
— Все сходится! — еще раз уверился он.— И улица, и номер дома. Значит, где-то тут она, матушка моя!
— А зовут-то ее как?
— Катя! Катерина Евсевна!
Серега растерянно заморгал.
— А фамилия какая?
— Да Чистикова она! Екатерина Чистикова.
— Погоди, друг…— Серега еще больше раззявился смущенно.— Дак я и сам Чистиков! Пацаны! Скажите ему, что и я Чистиков! И вот он, Миха, тоже… Который меньший, который после меня родился… Что же получается? — развел руками Махно и озернулся на сотоварищей, будто ища у них какого-то последнего слова истины.— Выходит ты — братан мой? А я — твой! Родня друг другу?
— Выходит, так! — Фагот радостно соглашался быть братом этому чумазому и до сих пор босому (октябрь на дворе!) забияке с багровым, рубленым шрамом на подбородке — прошлым летом он подкрадывался к залетному чужаку, сорвался вместе со ржавой водосточной трубой и ударился подбородком о край дождевой бочки. Потом месяц ничего не ел, кроме жиденькой кашки.
— Ну, тогда давай еще раз поздоровкаемся! При свидетелях! Ведь мы давеча хотели тебе морду набить.— Серега ступил навстречу Фаготу.— А ты братаном оказался! Во дела! Миха, и ты давай подходи: он и тебе теперь свойский…
Тем моментом кто-то из пацанов стукнул в крайнее оконце надворного строения, где теперь обитали уцелевшие Чистиковы, и следом, будто заполошная курица, вылетела тетка Катя, то есть то, что оставила от нее лихая судьбина,— маленькое, щупленькое существо в косом платочке, вся какая-то серенькая, ветошная от мелкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежки. Она еще издали распахнула бесплечие ручки, будто готовясь повителью обвиться вокруг нашедшегося сына, но вместо объятий упала перед Ванюхой на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в тихом бессловном плаче.
До появления Фагота никому из обитателей этого переполненного странноприимного дома не было ведомо, что у тетки Кати, тихой, покорной женщины, помимо двух мазуриков — Михи и Сереги,— был где-то на стороне еще и третий сын, которого она сама, своими руками придала безвестности и беспризору. Лишь в глубокой ночи, за сдвинутыми занавесками извлекала она со дна деревянного ларца бронзовый старообрядческий складенек {44} с житием Пресвятой Девы Марии и покаянно выкладывала заветному образу собственный грех, прося Матерь Божью уберечь, не дать загинуть большенькому отроку.
Младшие побродяжки, Серега и Миха, оставшиеся при бездомной матери, убереглись от мора тем, что в самую голодню добрые люди пожалели Катерину и взяли ее в заводской детский садик истопницей и посудомойкой. Ей было дозволено для своих детей соскребать со стенок котлов пшенные пригарки. Кастрюльные сполоски Катерина тоже не выплескивала зазря, а добавляла в них подзаборную крапиву, овражную сныть или щавелевые побежки. Иногда такой похлебкой она потчевала и других пацанов своего подворья.
Постепенно петля повальной голодухи ослабила свою затяжку. К Польскому походу витрины магазинов повеселели от выбора конфет печений, обсыпанных маком баранок и причудливо заплетенных хал. На перекрестках открылись павильоны с мороженым, розовым морсом и сельтерской водой. Над уличными забегаловками красовались намалеванные раки и пивные кружки, оплывшие кучерявой пеной. В табачных ларьках, еще издали заманчиво пахнущих своим товаром, вновь появились дорогие коробчатые папиросы: «Казбек», «Ялта», «Наша марка», «Дерби» и «Герцеговина-Флор», вкус которых вездесущая пацанва уже изведала по окуркам, подобранным возле изысканного тогда кинотеатра Щепкина. Видных посетителей он привлекал буфетом с фарфоровыми кувшинчиками ликера «Кюрасо», симфоническими новинками, исполнявшимися в верхнем фойе, и алым бархатом амфитеатра.
Фагот как-то быстро и непринужденно, без всяких претензий втиснулся в свою новую жизнь, как будто всегда тут и был.
Десятиметровая комнатенка, в которой ютилась Катерина с двумя ребятишками, имела единственное оконце, выложенное в старинной метровой кладке, отчего подобилась богоугодной обители. К тому же окно было заставлено по-зимнему сдвоенными рамами, умалявшими свет и не пропускавшими воздух. Проживать вчетвером в таких условиях сделалось тесновато. Но неисчерпаемая Катерина и тут нашла выход. Свою узенькую послушницкую кроватку она отдала старшенькому, а Махно и Миха, как и прежде, остались на топчанчике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней дощатый настильчик для спанья. Сама же перебралась в детское заведение, где на кухне у печной стеночки приспособила раскладушку. Проявляя понимание, заведующая садиком дооформила Катерину еще и ночным сторожем, чтобы та могла ночевать на кухне с полным основанием, вопреки запретам общественного надзора.
Продолжать ученье в школе Фагот не стал: не хотел снова школьного занудства, зубрежек, вызовов к доске, контрольной писанины, осточертевших еще в режимном Мценске. Вместо школы он облюбовал себе Механический завод, что располагался неподалеку, сразу же за Пролетарским сквером. В отделе кадров его взяли без всяких препон, тем более когда узнали, что он прежде играл в духовом оркестре. Такие люди профкому были нужны, и Фагота зачислили учеником токаря-универсала с предложением приступить к своим обязанностям хоть завтра. Под изданный приказ его провели в бухгалтерии и нежданно-негаданно тут же выдали четвертной — новыми, хрустящими пятерочками.
Фагот, выйдя за проходную в приподнятом настроении, накупил домой гостинцев: шоколадных конфет «Южная ночь» в звездной обертке, белых мятных пряников, изображавших лошадок и петушков, засахаренных маковок в клетчатых плитках, два сорта «Микад» — с клюквенным и абрикосовым вареньем, словом, постарался выбрать то, чего ни он, ни Катерина, ни братья никогда в жизни не ели вволю, от души. А самой матери в подарок высмотрел фильдеперсовые чулки. Катерина поделила гостинцы всем поровну и с радостной голубизной в глазах поставила во дворе самоварчик. Чулки же, ужаснувшись их невесомой паутинности, тут же заперла в свой заветный ларец.
— Куда мне такие? — упрекнула она Фагота.— Только зря потратился. От ногтей сразу же изорвутся. Мне бы в резиночку В самый раз. Вся таковская. А эти нехай лежат до скончания. Может, тади и нарядят к Господу явиться…
— Ты мне брось это! — повелительно осудил Фагот.— Сейчас и носи. Подумаешь, невидаль!
— Да куда ж мне носить-то? У печек да котлов шлендраться?
— А мы с тобой давай в Совкино сходим. Как раз «Волгу-Волгу» показывают {45}.
— И не выдумывай даже!
В следующую получку Фагот уже щеголял в настоящих брюках с заутюженными стрелками и задним кармашком на пуговице. А заодно постригся. Правда, стричь ему было нечего, еще не больно наросло, даже парикмахерша развела руками. Но он, как все подростки, торопил свое время, спешил посолиднеть, покраше выглядеть и потому велел маленько поправить сзади, подрубить пейсики. Зато теперь от него шикарно пахло одеколоном. Пацаны завидовали этой его настырной взрослости. Серега же Махно, бывший батька всей дворни, беспрекословно уступил Фаготу эту свою предводительскую должность и даже был готов передать ему в полное распоряжение голубятню и всех своих турманов, которых любовно подбирал и сколачивал в дружную, слетавшуюся стаю. Но Фагот резонно отказался от голубей:
— Это ж надо с утра шестом махать! А мне теперь, браток, к семи на завод.
Но самое ошеломительное произошло на другой день октябрьских праздников. Ошиваясь в Первомайском саду, гремевшем музыкой, полыхавшем кумачом, Серега и Миха со приятелями нечаянно напоролись на Фагота. Он сидел под полосатым тентом летнего павильона за белым столиком в ловком сером куропатчатом пиджаке с красным бантиком над грудным карманом — весь какой-то не такой, не виданный прежде: праздничный, сияющий, разговорчивый. Но пацанов удивил не столько сам Фагот, ни даже настоящая, наполовину отпитая бутылка пива, пузырившаяся воздушными кубиками, сколь сидевшая напротив него живая, настоящая дева́шка с желтой косой поверх голубого плащика. Совсем юная девашка сидела в профиль, у нее был маленький пупсиковый носик, который в момент улыбки то и дело прятался за округлую щеку. Вишенно-спелыми губами она с неторопливой праздничной усладой слизывала мороженое с витой десертной ложечки.
Почти непрерывно играла музыка, перемежавшаяся с бодрыми песнями, где-то неподалеку хлопало на ветру праздничное полотнище, и потому вовсе не было слышно, о чем весело и оживленно разговаривал Фагот со своей подружкой. А так хотелось услыхать хотя бы по одному словечку: что он сказал, что она ответила… Ведь никто из них еще никогда в жизни по-человечески, по-взрослому не разговаривал с девчонками, тем более не сидел вот так рядом за белым столиком. От одного вида этого мраморного столика с пивом и вазочками с мороженым пронизывало чувство волнующего озноба, тем более — от позолоты девичьей косы.
Наконец Фагот своим оживленным взглядом запнулся о всклокоченного Серегу, тотчас погас лицом и приподнялся из-за столика, поднятой рукой давая понять своей спутнице, что он на минутку. Подойдя к пацанам. Фагот сунул руку за лацкан, извлек зеленую трешку и, вручив ее Сереге, шипяще произнес:
— А ну брысь отсюдова! Подглядывать мне!
— Уж и поглядеть нельзя…— обиделся Серега.
…В том году музыка играла в Первомайском саду в последний раз. Не успели прибраться после октябрьских праздников: смотать лампочную иллюминацию, собрать в кучи опавшие листья, как после сентябрьской мобилизации в городском воздухе снова повеяло тревогой. На этот раз паленым донесло с Карельского перешейка. Как объясняли тогда, белофинский барон Маннергейм {46} отклонил нашу справедливую просьбу несколько отодвинуть общую границу на запад, с тем чтобы обезопасить от конфликтных случайностей многолюдный Ленинград. Маннергейму вежливо разъяснили, что такую подвижку надо сделать еще и потому, что Ленинград почитается как колыбель революции, в нем собраны бесценные реликвии: стоит легендарная «Аврора» {47}, на башне броневика возвышается вдохновитель всех наших свершений товарищ Ленин. Казалось, чего бы упрямничать? Ведь все убедительно, обоснованно. Тем более что не за так просят отодвинуться: не за здорово живешь, а взамен предлагается хороший кусок в другом месте Карелии, гораздо больший, чем на перешейке. Но Маннергейм, паразит, начисто отказался говорить на эту тему. Даже третьеклашке было ясно, что Маннергеймка не прав, и в школьных туалетах его поносили во все тяжкие, а в карикатурах у подлого барона выкалывали глаза. По-хорошему — следовало бы проучить этого прохвоста. Так и не поняв, с кем имеет дело, он сам вскоре напал на наших пограничников: обстрелял заставу из орудий… Кто ж такое потерпит? Мы и не потерпели.
Ночами по городу снова понесли повестки. На этот раз уже никого не возвращали из-за мобилизационного перебора.
Тем временем по школам прошла негласная кампания: мальчишек-старшеклассников по одному приглашали в кабинет где за директорским столом сидел военный с голубыми петлицами авиатора. Он приветливо предлагал сесть, даже пододвигал папиросы, расспрашивал про учебу и вдруг задавал вопрос, не желает ли приглашенный продолжить образование в авиационном училище, где будет все так же, как и тут, лишь с добавлением некоторых технических дисциплин, но зато всем абитуриентам выдается летное обмундирование и даже портупея, что, разумеется, весьма немаловажно для молодого человека. В заключение резидент в голубых петлицах просил подумать и никому не рассказывать об этом их разговоре.
Некоторые пацаны выходили из кабинета какие-то отсутствующие, никого не узнающие, будто уже парили в заоблачной голубизне. Нам, мелкоте, тоже хотелось в летчики, но на тайные беседы нас пока не приглашали, поскольку семиклашки в сталинские соколы пока еще не требовались.
И мы, никому не нужная школьная шантрапа, на большой перемене отправлялись во двор, где в глухом его конце предавались игре в любимую стеночку по трюшнику за пядь: «выпядил» — твои три копейки, «недопядил» — трюшник с тебя.
Финская кампания предполагалась тоже быстрой и необременительной, подобно Польскому походу, из которого, почти ничего не потеряв, разве что самую малость, да и то от непредвиденных случаев, личной нерасторопности или несвежей пищи, войска вернулись бодрые и посвежевшие, с трофеями в заплечных мешках, подобранными по пути, иногда нелепыми и забавными, вроде утюга, беговых коньков, уже начатых школьных тетрадей или банки маринованных огурчиков, добытых со дна Буга, где они хранились вместо погреба.
Карельский же поход, напротив, из прогулочной кампании обернулся войной, нудной и малоуспешной.
Пока день за днем, неделя за неделей,— вот уж и новый, девятьсот сороковой год на дворе,— добывалась та Карельская перемога, создавшая в местных аптеках нехватку бинтов и марли, город изрядно поутих и потускнел, будто сам потерял сколько-то своей крови. Сложился и умотал парусиновый «шапито» вместе со своими шумными и дымными смертельными номерами. Многие месяцы собиравшую сотенную очередь «Волгу-Волгу», после которой каждый раз на улицу выплескивалась поголовно улыбающаяся толпа, заменили созвучной моменту пронзительной дзигановской трагедией «Мы из Кронштадта» {48}, пережив которую зритель замолкал и мрачно уходил в себя. С перекрестков куда-то девались павильоны с выносными столиками, витрины магазинов тоже потускнели, сократили ассортимент, а отпуск масла, столовых жиров и суповых наборов снова вернули к упорядоченному регламенту. Опять появились очереди, в которых часто случались недовольные выкрики: «Не давайте по стольку в одни руки! Куда смотрит милиция?» Иногда, озираясь, гневясь вполголоса, высказывали наболевшее: «Да что мы чикаемся с какой-то там Финляндией?! Ведь моська же! Всего четыре миллиона с детишками и старухами. Ну, врезали бы как следует! Проучили бы этого ихнего Маннергейма. А иначе опять до хлебных карточек доцеремонимся».
Через финские гранитные доты и надолбы наши войска перевалили только к весне сорокового, заплатив за это одоление почти триста тысяч… но, к сожалению, не рублей, а человеческих жизней… Хотя о таких несоразмерных потерях тогда не сообщалось, было стыдно признаваться в этом перед остальным миром, но и так, без признаний, было нетрудно догадаться, сколько стоит финский лед и камень.
Вообще в том злопамятном сороковом мы не раз принимались ультимативно помахивать пороховницей. Едва вывели дивизии из-за поверженной линии Маннергейма, как тем же летом направили солдатские кирзачи в Прибалтику, где тамошние правители, заключив с нами договора о дружбе, сами же тем часом заигрывали с Германией. Сходили, освободили. Одновременно весьма удачно порешили вопрос и о румынской Бессарабии, присоединив ее после долгого и незаконного пребывания за нашими пределами. А заодно протянули руку помощи и Северной Буковине {49}.
Историки потом напишут: «Все эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам Советского государства». Вроде бы все получалось. Фортуна благоволила нашим высоким замыслам.
В долгожданное, давно просчитанное утро Фагот спешил к проходной своего завода. Он проснулся в легком, приподнятом настроении, которое всегда сопутствует ожиданию каких-либо перемен. Бодрости прибавлял и морозный, хрусткий снежок, легший, должно быть, окончательно, до самой весны. Он выбелил Пролетарский скверик, который всякий раз охотно пересекал Фагот по пути на работу. Над бетонным кольцом фонтана снуло склонились засахаренные изморозью ивы. Оставшаяся на дне лужица неспущенной воды подернулась ледком оконной ясности, на котором кто-то, опередив его, уже успел оставить в легкой пороше следы мальчишеской пробежки.
Убеленные крыши окрестных домов, отражая заревой свет, добавляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние. Ощущение светлой утренней чистоты и собственной легкости было столь велико, что Фагот, взойдя на ступени проходной, перед тем как открыть дверь, невольно, шаркающим движением, отер подошвы своих ботинок.
В профкомовском зальчике, уже заполненном народом, на возвышении за долгим красным столом сидел Ван Ваныч — местком, он же председатель квалификационной комиссии, и сама комиссия — представитель из отдела кадров по профобучению Гвоздалев, мастер цеха Ничевохин и Фаготов наставник дядь Леша. Ван Ваныч вертел перед своими утолщенными очками эту самую КС-16, которую было поручено изготовить Фаготу в порядке экзаменационного задания. Такую же деталь уже вовсю точили несколько других токарей цеха, но Фагот имел с ней дело впервые. Для чего она предназначалась, он не знал, и даже наставник дядь Леша, помогавший освоить рабочий чертеж, отвечал уклончиво и неопределенно: «Я и сам не в курсе…» И, понижая голос, будто говорил одному только Фаготу, приоткрывал самую малость: «Оборонный заказ! Так что ты, парень, старайся!»
Деталь оказалась не ахти какая, на первый взгляд — продолговатый фланец, но зато с двухступенчатой внутренней проточкой. В самом узком месте — всего полдюйма. Попыхтеть, конечно, пришлось. Две заготовки спортачил. Но потом ничего, получилось. А уже следующие пошли легко, даже приятно было добавлять подачу.
Фагота пригласили на помост. Он мазнул ладонью по непокорной макушке и, весь в трепетном смущении, не вошел на сцену как положено, по трем ступеням, а одним подскоком запрыгнул на помост перед самой комиссией.
В зале засмеялись.
От Ван Ваныча поделка перешла в руки кадровика Гвоздалева, который даже взглянул через патрубок на свет в окошке. После мастера цеха деталь принял дядь Леша, но рассматривать ее не стал и первым высказался по существу вопроса:
— Ну, чево? Резцом парень владеет. Прогоны чистые. Точность — по нулям. Такая тут и не требуется. А он, вишь, постарался: довел до классности. Я бы сделал не лучше…
— Владеет так владеет,— согласился Ван Ваныч.— Так и запишем. На третий разряд все согласны? Нам сейчас каждая пара рук дорога.
— Да чего там! Вполне заслуживает… По работе видно.
Ван Ваныч через стол вручил Фаготу свидетельство о присвоении ему разряда, крепко, отечески пожал руку, и, когда тот, на ходу пряча заветную зеленокорую книжицу, собрался было спуститься в зал, председатель комиссии окликнул вдогон:
— Погоди, еще не всё. На вот… Это — мера всей твоей жизни.
И вложил в ладонь Фагота новенький, ясно блеснувший штангель.
Потом, в коридоре, Ван Ваныч зазвал Фагота в свой кабинет и, обняв его за плечи, обдавая упаристым теплом подмышки, заговорил:
— А насчет твоей дудки, про которую ты все спрашиваешь… Гобой, кажись?
— Да нет, фагот.
— Ну, теперь все едино. Ты пока с этим не докучай. Не до свистелок нам теперь. Вишь, что в мире творится. Гитлер целую Францию заглотил. Кто знает, куда он дальше направится? Благо бы — на Англию. Там до нее совсем близко. А мы тем моментом подготовились бы, как следует изгородились… Хорошо, что успели Западную Украину с Белоруссией освободить. Вон ведь куда граница ушла! — Ван Ваныч ребром ладони широко махнул по сукну столешницы, показывая пареньку, как далеко отодвинулась граница.— А фагот тебе еще будет: куда он денется?
Та большая война ворвалась внезапно и сокрушительно. Она враз опрокинула на своем пути все эти территориальные нагромождения, как пустые тарные коробки. Что и говорить, удар был ошеломляющий, будто рубанули между глаз свинцовым кистенем. У нашего буденно-ворошиловского командования мигом померкло в очах, зашумело под маршальскими папахами, так что от Черного до Балтийского моря дыбом встали роковые вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»
Уже через неделю танковые клинья Гудериана вышли к Днепру {50}.
Но так бывает: даже смертельно опасную травму пострадавший воспринимает не сразу, а на первых порах не ощущает самой боли и пытается вести себя по-прежнему, будто с ним ничего не произошло.
Так и с целыми странами, особенно с такими обширными, как наша.
Нечто подобное произошло и с нашим городом. Даже суровое, проникновенное обращение Молотова {51} не вывело людей из нежелания верить тому, что произошло. По крайней мере внешне многое еще делалось так, как свершалось и день, и два, и неделю назад.
Как всегда, в привычном, узнаваемом тембре прогудели заводские гудки; неподалеку, на Дзержинской, перезванивались трамваи с утренним рабочим людом; по прибазарным улицам скорым бежком торговки на коромыслах несли огородную снедь: вымытые бликующие огурчики, пучки перьяного лука, гроздья нежно-розовой, совсем юной редиски, штабельки перевязанного укропа, оставлявшего после себя долгий шлейф аромата.
Возле Троицкой церкви по давнему обычаю, поди с тех пор, как на крутояре возвысился этот храм, приходские пастухи, сменяя друг друга, подудывая на рожках, из века в век со смежных улиц скликали стадо. В это утро оно, сонно мычащее, поредевшее, изживаемое временем, под чириканье касаток продолжало сходиться перед белой умолкшей звонницей…
Жизнь шла своим привычным чередом: еще никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками.
Серега проснулся в своем сарайчике, где под лестницей в голубятню он приладил себе полок для спанья. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Серега зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего любимца по кличке Белое Перо, придержал в горсти концы его обоих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решетку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суетясь и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Серегу за палец, но, доверясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздергивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распускал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делившее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Серегу в счастливое изумление. Наличие белого пера в хвосте считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность.
— Ну что, покажем класс? — влюбленно сказал Серега, прижимая головку птицы к своей щеке.
Середь двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запулил вожака строго над собой. Тот как мог дольше протянул свой бескрылый лет и, когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко, азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним.
Оставшиеся на голубятне турмачи принялись было крутиться возле голубок, и Серега поднял всех на крыло сначала шестом с тряпичным мотовилом, а потом и забористым свистом в два пальца. Стая, выстроившись полукружьем, начала набирать высоту, слаженно, в одном ритме взмахивая крыльями.
Заслышав свист, во двор набрели и остальные закоперщики: Миха-братан, Николка и Петрик Тарубаровы, двое с соседнего подворья и Пыхтя из дома через дорогу.
Ребята, наблюдая за голубями, разлеглись на кучерявой спорышевой муравке. Уже через полчаса стая дружно взмелькивала под самыми облаками, что порознь, белыми громадами, с ленцой тянули к северу. Отсюда, с дворового пустыря, на белом лучше виделись темноперые турмачи, на синих просветах белокрылые птицы были заметнее.
Заспорили о погоде. Толстяк Пыхтя уверял, что такой денек с просинью в облаках больше нравится голубям: летать не жарко, пригашенное солнце не слепит, не мешает среди множества крыш и дворов видеть свою голубятню.
— Ну да, сказал! — не согласился Серега.— Наоборот, турман не любит летать под тучками. Всегда старается сбросить лишнюю высоту.
— А чего ему сбрасывать-то?
— Сапсана остерегается. Когда небо ясное, турману вокруг себя все видно. Тогда он и летает в свое удовольствие. А за тучками сапсан может подобраться. От него лётом не уйдешь: только камнем вниз. Бывает, голубь вовремя не вырулит и насмерть бьется о землю.
Ребята приумолкли: послышался отдаленный невнятный рокот.
— Гром, что ли? — предположил Пыхтя.
— Вроде не должно. Небо не грозовое. Если быть грозе — голубя с крыши не сгонишь,— авторитетно успокоил Серега.
Рокот быстро нарастал. Уже улавливались его глуховатые перепады, и, пока пацаны пытались определить, что это такое, из встрепанного верховыми ветрами одинокого облака вдруг вырвался самолет и несколько мгновений летел открыто, на виду у всего распростершегося под ним города. Он летел чуть в стороне и не так высоко, не выше пятисот метров, как раз на уровне Серегиной стаи, так что был четко виден весь его прогонистый профиль.
От внезапности и явной чужести самолета ребята вскочили с земли, и, хотя бомбардировщик виделся всего несколько секунд, прежде чем снова нырнуть во встречное облако, многим удалось разглядеть и запомнить его приметы. Был он странно окрашен в желтое и зеленое, что придавало ему сходство с летящей рептилией. Оба моторных капота были далеко выдвинуты вперед, между ними помещалась лобастая и взгорбленная пилотская кабина, за стеклами которой кто-то из ребят даже разглядел будто бы самих летчиков.
Вид у самолета был какой-то устрашающий. Наверно, конструкторы заботились не только о том, чтобы он летал, но и о том, чтобы угнетал своим обликом все живое, попавшее под узкие сапсаньи крылья.
Но больше всего поразила и ужаснула главная его примета: на долгом фюзеляже, ближе к хвостовым рулям, отчетливо проступал черный крест, отороченный белым кантом. Нанизывая на себя облака, то исчезая в их рыхлой белизне, то снова выныривая на солнце, самолет облетел всю городскую пристанционную округу, потом, сделав разворот, еще раз промелькнул своим желтым ящерным брюхом в самый раз через то место, где все еще трепетала стая Серегиных голубей. Он не строчил из пулеметов, не бросал бомбы, но и в него тоже не стреляли, не поднимали истребителей, которых, по правде, тогда на наших коровьих лугах еще и не было из-за нехватки таковых или неглавности направления.
Чужак летал молча, безнаказанно вглядываясь в настежь распахнутое бытие города, его враждебное присутствие в небе, наверное, впервые дало всем видевшим эти черные кресты леденящее ощущение реальной и близкой войны.
В тот день из четырех пар голубей домой вернулись только две. Турмачи опускались на конек голубятни порознь. Последней была голубка Лыска, напарница Белого Пера. Она объявилась перед самым закатом, вся еще перепуганная, недоверчиво озирающаяся. Когда Лыска уже потемну наконец переступила порог летка, Серега не стал запирать голубятню, оставил планчатый рештак распахнутым. Но Белое Перо так и не вернулся — ни в этот вечер, ни с восходом нового дня…
В конце августа с той, военной стороны через город зачастили товарняки с демонтированным заводским добром. В тесовых обивках под брезентовыми пологами и просто под навалами древесных веток везли снятые с крепежа станки, целые узлы разобранных агрегатов, какие-то фермы, занимавшие сразу несколько платформ. Среди этого груза во всевозможных щелях и пустотах скопились беженцы, которых называли странным и труднопроизносимым словом «эвакуированные». Из-за плохой проходимости дороги многие эшелоны опасно задерживались на запасных путях, и тогда «эвакуированные» разбредались по станции и прилегающим улицам в поисках туалетов, кипятка и какой-либо еды. А возле недвижного поезда собирался самопроизвольный базарчик, где местные бабульки и пацаны выменивали всяческие вещички на неказистую снедь. Особенно выгодно шла мена с беглыми евреями, пробиравшимися в глубь страны с многодетными семьями аж из самой Польши, из ее восточных городков и местечек, оставленных нашими войсками.
Среди прочих беженцев они выделялись хорошо пошитой одеждой, но были изнурены дальней дорогой, суматохой пересадок, налетами вражеской авиации. Никто их специально не эвакуировал, не заносил в списки, не выделял мест в поездах: они были сами по себе. У них всегда можно было разжиться чем-либо из заманчивого польского шмутья и обихода. Пацаны чаще всего выменивали непривычное заграничное курево. Особенно в ходу были длинные табачные палочки с коротким мундштучком под названием «Фемина», на коробке изображалась огненная красотка с папироской в слепяще белых зубах. Петрик разжился перочинным ножичком со множеством причиндалов, а Пыхтя на ведро ночью выкопанной чужой картошки выменял, например, шикарно хлопающий портсигар с оттиском на крышке какого-то позолоченного лысого дядьки, в котором Фагот предположил папу римского.
Вскоре, однако, поток беженцев внезапно прекратился, будто у этого потока где-то перекрыли вентиль. Это означало, что долго и беззаветно оборонявшийся Киев все-таки пал… От раненых бойцов, успевших вырваться из киевского окружения, пошли слухи, будто впереди теперь нет никакого фронта и что в нашей обороне образовалась дыра километров на двести, куда вот-вот устремятся фашистские танки.
Становилось ясно, что надвигалась неотвратимая драма в судьбе нашего незащищенного города. И коли не было штыков — он ощетинился лопатами. Они зазвякали и засверкали возле школ, у дверей учреждений и заводских ворот. За город, на окрестные холмы и высоты, двинулись сотенные колонны оборонокопателей. Кроме лопат рекомендовалось также запасти носилки для перемещения грунта, кирки для рыхления слежалых глин и корчевки древесных корней, ведра для приготовления горячей пищи, клеенки от непогоды, а главное — бодрость духа и веру в окончательную победу.
Одновременно сколачивались отряды гражданского ополчения. Фагота зачислили в истребительный отряд из двенадцати человек во главе с присланным выздоравливающим младшим лейтенантом Зайнуллиным. Он все еще припадал на раненую ногу, но за командование отделением взялся неотложно и с бодрой требовательностью. В обязанности отряда вменялось охранять производственную территорию, выслеживать лазутчиков и диверсантов, а также привести в действие взрывные устройства под заводскими объектами, о которых пока никто не должен знать.
По вечерам отряд собирали в сквере для прохождения боевой подготовки. После построения и списочной переклички Зайнуллин попарно направлял отряд по внутреннему периметру сквера, после чего принимался за боевые приемы, заставляя курсантов деревянной винтовкой, вытесанной в заводской столярке, колоть мешок с соломой или же бросать на дальность и точность металлическую болванку. Настоящее оружие выдавать не спешили, как объяснил Зайнуллин, до особого распоряжения.
— Будет надо, тогда и дадут.
— А если и взаправду — диверсант? — дознавался Фагот.— А у меня — сосновая деревяшка?
— Разговорчики! — оборвал младший лейтенант.— Ты сперва этой научись, понимашь.— Оружие, может, в другом месте нужнее. Столицу, понимашь, надо защищать…
Винтовки все-таки в отряд привезли. Зайнуллин распределил их поименно: против каждой фамилии проставил номер оружия и дал расписаться. Фаготу и еще одному пацану из литейки, Федьке Чухову, расписаться не дали, потому что в ящике оказалось всего десять винтовок, а бойцов в отряде было двенадцать.
— А мы как же? — обиделся за двоих Фагот.
— Что ты, понимашь, все качаешь?! — вспылил Зайнуллин.— Ну нету, нету пока. Поступят — и вы получите. Это тебе не дров напилить… Давай, я одну винтовку на вас двоих запишу?
— Не надо! — отказался Фагот.— Я свою хочу.
— Ну, тогда жди.
После этого разговора с Зайнуллиным обиженный Фагот перестал ночевать дома, коротая глухую темень в цеху на ворохе обтирочного тряпья. Он выжидал, пока все разойдутся, а вахтеры запрут проходную на засов, запускал свой бесшумный токарный станок и, посвечивая себе притененной переноской, принимался мастерить задуманное. Сперва он пытался изготовить обрез под винтовочный патрон. Но эта штуковина требовала сложной фрезеровки, а старик-фрезеровщик, закончив смену, запирал инструмент в заначной печурке, открыть которую Фагот не сумел, хотя и перепробовал всякие исхитренные отмычки. А просить Кузьмича выстрогать ему заготовку затвора, которую он потом напильником довел бы до ума, так и не решился: побоялся, что Кузьмич станет допытываться: пошто да к чему, а дознавшись, ехидно высмеет его затею. Он умел так сощуриться, так покачать головой в замасленной камилавке {52}, так потрогать лоб заказчика, что сразу убеждал в напрасности и никчемности замысла. Вместо неполучившейся Фагот из полудюймового гаечного прута вырезал новую ствольную заготовку, оставив нетронутыми все шесть граней. Так гляделось внушительней и убойней. Долгим наварным сверлом он прошел в граненом отрезке ствольный семимиллиметровый канал, но не насквозь, а в конце оставил хороший, надежный целяк. У дна просверленного хода, там, где начиналась торцевая заглушка, он надфильком пропилил запальник, после чего тонко заправленным пробойничком протюкал в этом месте пороховой ход. Оставалось вытесать деревянное цевье, что он и сделал из круто изогнутого кленового корневища.
Получился отличный самопал, походивший на старинную пистолю.
Грянула первая военная осень. Октябрь пришел без милостей, без золотого листопада. По неубранным полям с остатками колхозной техники едкий сиверко кувыркал бесприютные жухлые листья. Сеялся непроглядный и нещадный дождец, обративший сельские немощеные дороги в безысходную погибель.
Наступать стало немцу в убыток, но и нам обороняться — тоже не доход. Однако немцу поделом: он позарился на чужое, а вокруг нас все нашенское, святое.
В траншеях и противотанковых рвах, опоясавших дальние и ближние подступы, почти без сна и роздыха под вражескими налетами выкопанных, высеченных и вырубленных в иссохших глинах и обнаженных мергелях тысячными усилиями горожан, теперь, с ненастьем, хлюпала мутная жижа и начали оседать и рушиться насыревшие стенки накопанного. Но регулярные войска что-то не спешили занимать приготовленные для них оборонительные рубежи. Лишь разрозненные ватажки ополченцев, которые потом назовут полками, перемогались под дождем в окопных канавах с одними только винтовками и зажигательными бутылками да еще, может, двумя-тремя станкачами. Их самоотверженную отвагу не собиралась поддерживать армейская артиллерия, которой почему-то вовсе не оказалось в распоряжении гарнизонного начальника. Ну, а как же обороняться без артиллерии? Не одними же винтовочными пшикалками да огородными лопатами?!
…А враг тем временем приближался. Уже был взят город Льгов, что всего в полутора часах езды на машине. Несмотря на осенние хляби, опоясывая полукружием, будто заводя огромный невод, в нашу сторону двигался 48-й танковый корпус, поддержанный дивизиями 34-го армейского кулака, а на Фатеж, что вообще в пятидесяти верстах, нацелилась 9-я танковая дивизия.
У озябших, промокших ополченцев оставалась надежда на 13-ю армию, которая, будучи сама в окружении, вела ожесточенные бои совсем близко от Курска — в соседних брянских лесах. Верилось, что еще одно усилие,— и она наконец вырвется на свободу. Но уповали на нее напрасно. Из свидетельства члена военного совета армии генерала Козлова: «После неимоверно трудного марша в условиях холодной осени промокшие, истощенные от недоедания, ведя бои днем и ночью, причем далеко не всегда ясно представляя, где находится противник — впереди, справа или слева,— воины 13-й армии… вышли… из окружения в составе 10 тысяч человек». Уцелевший отряд был лишен техники, транспорта, боезапаса и продовольствия.
«После всестороннего анализа сложившейся обстановки (нескончаемый дождь со снегом, непроходимое бездорожье, полное отсутствие горючего, налеты авиации, вылазки противника),— вспоминает далее генерал Козлов,— военный совет армии 17 октября принял трудное для себя решение: уничтожить автотранспорт и другое имущество, сковывавшее маневры армейских подразделений. Моторы автомобилей простреливались бронебойными пулями, а сами машины пускались под откос в глубокий овраг. Артиллеристы гаубичного полка, выпустив все снаряды по скоплению противника, последним выстрелом приводили орудия в негодность, в канал ствола насыпая песок».
В таком виде армия заняла рубеж Фатеж — Макаровка, выполнив свою главную задачу: вырваться из лап фашистов. Но оказать помощь Курску она уже не могла и сама нуждалась в пополнении, техническом обеспечении и просто физическом и моральном восстановлении.
Вместо нее на курские рубежи направили 2-ю гвардейскую дивизию, которая сама только что с большими потерями вырвалась из окружения и, следовательно, не имела полного личного состава и необходимого вооружения. Ею просто жертвовали, бросая на растерзание во много раз превосходящему противнику.
Судьба этой дивизии, как и самого города, была решена в пятиминутном телефонном разговоре Верховного главнокомандующего И. В. Сталина с первым секретарем Курского обкома партии П. И. Дорониным:
Доронин: Обстановка под Курском тревожная. По данным разведки, на город наступают три фашистские дивизии. Оборону Курска ведут вторая гвардейская дивизия и бойцы народного ополчения, вооруженные в основном стрелковым оружием.
(Доронин умолчал, что не каждый ополченец имел винтовку а многие вышли за город с охотничьими ружьями и бутылками с горючей смесью. Вторая же гвардейская «дивизия» тоже выступила налегке, без минометов и артиллерии, которых у нее попросту не было.)
Сталин: Под Москвой тоже сложилась исключительно тяжелая обстановка. Необходимо, товарищ Доронин, усилить сопротивление врагу, укрепить полки второй гвардейской дивизии за счет коммунистов и комсомольцев. Силами народного ополчения необходимо прикрыть отход дивизий Красной армии на новые боевые рубежи.
На другой день приказ главнокомандующего не тратить боеспособные войска на защиту Курска был действительно получен по секретной связи, и в ночь на 27 октября, то есть за пять дней до появления противника у городских стен, части гарнизона покинули места своего расположения. Вместе с ними оставило город и перебралось пока в авиагородок и все областное руководство, прихватив с собой работников кухни и буфета: не сидеть же у костра и не варить в ведерке гороховый похлебанец!..
Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда, было отдано еще одно страшное распоряжение: город поджечь, все стратегически важное взорвать! Но рубежей не покидать, а продолжать до последнего противостоять немецкому наступлению.
И взрывники принялись за работу.
Умерщвление города во многом похоже на насильственную многострадальную смерть человека. Тут и там в небо вскидывались пыльные кирпичные выбросы. От ударных волн, льдисто звеня, сыпались и разлетались оконные стекла. Рухнули в воду искореженные фермы и опоры железнодорожных и шоссейных мостов. Потрясали землю и воздух тротиловые закладки под силовыми установками, трансформаторами и столбами электропередач. Взлетевший на воздух соляной склад на улице Радищева запорошил солью дворы и крыши окружавших его домов. В центре занялись полымем служебные здания и магазины, гудящий огонь выедал до кирпича мудрые кабинеты горкома ВКП(б). Дымные мебельные языки пламени, роняя на мостовую хлопья полыхающих штор гостиничных номеров, где некогда останавливались Горький и Маяковский, вырывались из карминно раскаленных и потрескавшихся рам наружу и жадно объедали ветви близких лип и вязов. К гигантскому всеобщему костру присоединились пожары на мельницах и крупорушках, на фабриках и лесных биржах, на больших и малых складах и продовольственных базах. Было облито керосином и подожжено зерно на многокорпусном хлебном элеваторе. Особенно зловеще и смрадно, застя полнеба округлыми клубами, полыхала нефтебаза, время от времени выфыркивая из этих черных клубов багровые вспышки взрывающихся газов. Смешавшееся воедино общее полотнище дыма тяжело пласталось над сирой осенней землей на многие километры за горизонт, укрывая собой уходящие на восток войска и навьюченные вереницы машин, покинувших авиагородок… Каждый день в дымном небе появлялся наш Су-2, одномоторный бомбач {53}, он же разведчик. Самолетик туда-сюда пролетал над городом, видимо, наблюдал и фиксировал на пленку, что и где горит и хорошо ли занялось.
Осада города началась вовсе не так, как представлялось пацанам, уличным гаврошам, которые уже изготовились к многодневному планомерному обстрелу из орудий и минометов, свирепым налетам пикировщиков, перемежавшихся с волнами атакующих пехотных цепей. Все оказалось как-то буднично и неинтересно.
В этот день Фагот вместе с несколькими членами отряда заводской обороны продолжали демонтировать и приводить в негодность оборудование цехов. Посередине двора горел большой костер, куда бросали папки с чертежами многолетних заказов, снятые со станков электромоторы, бухты запасной высоковольтной проводки, пластмассовые переключатели, промасленную обтирку, чтобы костер не гас, не ленился трудиться. Пламя каждый раз меняло свою окраску, в зависимости от того, что в него было брошено. Дым то серел и шипел от чего-то малогорючего, то начинал закручиваться в бурые завихрения. Из столовой уборщица баба Паша приперла целый столб вложенных одна в другую алюминиевых мисок. Она собиралась было бросить их тоже в огонь, чтобы оплавились и пришли в негодность, но ей не дали это сделать, чтобы не замедлять горение, а вручили лом, которым она принялась долбать посудины, азартно приговаривая, должно быть адресуясь к вражеским солдатам: «Вот вам! Вот вам! Нате ешьте теперя!..»
Заводской дым смешивался с уличными дымами, было тяжко дышать, слезились глаза, першило в горле, и Фагот время от времени выбегал за ворота, чтобы отдышаться и одновременно послушать, что делалось там, на передовой. Но за воротами было так же дымно и непроглядно, особенно от пожаров на близкой городской товарной станции, питавшейся специальной железнодорожной веткой. Со стороны московских шпилей и Казацкой слободы доносились нестройные, разрозненные, как бы лишенные злобы, винтовочные хлопки, которые потом надолго затихали, и было не понять, кто куда стрелял и кто куда девался.
Помимо территориальной обороны, куда входил Фагот, на заводе сколотили еще и ополченский отряд, комиссарить в котором райком назначил кадровика по фэзэошке Гвоздалева. У Зайнуллина закончился срок пребывания на излечении, и его тоже куда-то забрали, а руководство дворовым отрядом передали дядь Леше, недавнему Фаготову наставнику.
Отряд Гвоздалева, состоявший из восемнадцати добровольцев, занял оборону на северной окраине, где-то возле трепельного поселка, и теперь оставшиеся тут волновались и переживали: «Как там наши?!»
Но уже под вечер Гвоздалев неожиданно объявился в заводском дворе. На его груди, на шейной петле висела забинтованная рука с алым подтеком выше кисти. Но сам он по виду нисколько не унывал и находился в приподнятом и даже в каком-то радостном возбуждении.
— А-а, пустяк! — усмехнулся он, когда баба Паша, глядя на повязку, принялась сердобольно квохтать и страшиться глазами.— Малость зацепило! Зато мы ему дали как следует! Век будет помнить!
— Ты, голубь, присядь, отдохни! — тоже радостно засуетилась баба Паша, пододвигая к кострищу резной дубовый главбуховский стул, вынесенный на сожжение.— Небось, от самого трепельного пешком шел?
— А на чем же? Трамваи уже не ходят.
— Тади садись, рассказывай, как и что было. Какие они хоть, немцы эти? Больно страховитые?
— Да обыкновенные, бить можно.
— И как же вы?
— Ну, притопываем себе в окопчиках. Холодновато, конечно. С самого вечера ждем незваных. Огня, как тут у вас, не распалишь: передовая. Часу в восьмом развиднелось. Глядим: на шоссе мотоциклы с колясками тыркают. Штук пять, а то и больше: не очень было видать. И все немцами облеплены. Поставили мотоциклы под деревья, а сами рассыпались цепочкой и — к нам, сюда, на поселок. У каждого на шее автомат, на голове каска: лиц не видать. Идут, негромко переговариваются. Офицер молча делает рукой какие-то знаки.
— Страхи-то какие! — Баба Паша обжала щеки ладошками.
— Кто-то из наших возьми и пальни. Другие тоже начали стрелять. Надо было подпустить поближе. А они не утерпели… Первый раз воюют.
— Дак и ты впервой!
— Я тоже… Но я хоть «звездочку» в лагере водил… А все равно, удачно получилось, немцы залегли, а потом вскочили и бежать. Один захромал. Посели на свои мотоциклы и драпанули с шоссе куда-то направо. Наверно, поехали искать, где место послабее. Наши аж «ура» закричали: так мы им врезали!
— А тебя как же поранило-то?
— Да это с мотоцикла из пулемета прострочили, вроде как на прощанье. Меня вот в руку, а одного нашего насовсем. Васина из литейки.
— Олежку? — ужаснулась баба Паша и опять обжала щеки ладошками.
— Ну, он, он. Обещался родным сообщить. Пойду вот схожу. Решили там и похоронить.
— Да уж на кладбище бы, по-хорошему!
— Тоже скажешь: до Никитского вон сколько! Как понесешь? Это же гроб надо! Да человек восемь с передовой снимать, чтоб напеременки нести. А теперь каждый человек на счету: вдруг опять полезут? Дак они и полезли! После обеда на шоссейке танки показались. Штук десять. Хорошо, что с насыпи свернули, видать, пошли на Знаменку. Мы потом в той стороне сильный бой слыхали. Конечно, тоже не прошли, наверняка понюхали кукиш.
Гвоздалев здоровой рукой попялся за пазуху, достал вчетверо сложенную бумагу.
— Нате вот, почитайте… Совсем свежая. Нарочный оттуда принес…
Это оказался боевой листок за первое ноября, написанный от руки на типографской заготовке. Листок взял дядь Леша и, морщась от дыма, стал читать всем:
— «Отважно сражался истребитель танков Дзержинского полка комсомолец Вячеслав Звягинцев. Он погиб, но не пропустил на своем участке танков».
— Гляди-ко! Молодец-то какой! — похвалила баба Паша и тут же пожалела: — А погиб пошто?
— Погиб — зато не пропустил! — разъяснил Гвоздалев.— Теперь это важнее всего.
— Погиб — стало быть, пропустил…— жестко возразил дядь Леша и вернул листовку Гвоздалеву.
— А вот, Андреич, ответь мне, старой, по всей правде,— допытывалась баба Паша, пытаясь заглянуть в глаза Гвоздалеву.
— Чего говорить-то? — насторожился тот.
— Удержите немца али побежите? Скажи как на духу…
— Да ты что? — снова расслабился лицом Гвоздалев и даже облегченно заулыбался.— Ну ты, баб Паша, даешь! Такое говоришь! Честное слово…
— А чево?
— Так и думать-то нельзя! Как это — побежите? Какое мы имеем право?
— Ежли про это и думать нельзя, то пошто всё палите да взрываете?
— А чтоб им не досталось!
— А тади опять — пошто горелое да порушенное защищаете? Вон хлеб керосином облили и подожгли. Стало быть, оставаться не собираетесь.
— Таков закон войны. Чтоб врага не кормить. Иначе нельзя.
— А народ чево есть будет? А дети малые?
— По закону войны народ перед лицом нашествия уходить обязан. Ибо сказано: кто не с нами, тот наш враг.
— Куда ж мне за вами бежать: у меня и ноги-то в ботинки не лезут…
— Да не ерепенься ты! — посоветовал Гвоздалев.— И не болтай лишнего…
— Чего уж тут лишку? Вон народ всё тащит. На кожзаводе мокрые вонючие кожи — на драку, на взорванном соляном складе соленую землю, соленую щебенку нарасхват… Стало быть, больше не верят писаному да говореному. А я, дура, все сижу, все на что-то надеюсь… Надо хоть этот стул домой снести: буду помнить Ефремыча, как мы у него на облигации подписывались.
— А насчет немца — не пустим! Не пустим! — Гвоздалев примирительно и весело похлопал по бабы Пашиной спине.— Когда шел сюда — центральная улица вся в баррикадах! Люди ничего не жалеют для этого…
Завод не работал: расплавленно не светился окнами в ночи, знакомым, с бархатной хрипотцой, каким-то фаготовым голосом не звал к станкам — молчал и не дышал уже несколько дней, с той поры, как сделала свой последний выдох котельная, демонтировали и куда-то увезли силовые трансформаторы. Тогда же вывесили приказ о роспуске коллектива, за исключением охраны, из которой несколько человек отдали в ополчение. Фагот тоже порывался, но его оставили в заводском охранном наряде, поскольку он, к огорчению, так и не получил своей винтовки.
В конце приказа крупно, заглавно было напечатано на машинке: «Спасибо за работу, товарищи!» Каждому, в последний раз переступавшему порог проходной, давняя, потомственная вахтерша Афанасьевна возвращала личный жестяной номерок — на память, чем окончательно ввергала людей в щемящее чувство. Некоторые пускались обнимать Афанасьевну, осыпать прощальными поцелуями, задавая почти один и тот же вопрос, будто вахтерша заведомо знала, что ответить:
— Неужто больше не вернемся?..
Женщины из цехов, а больше из отделов управления уносили с собой оконные цветы. Не чуя беды, зеленые любимцы продолжали цвести как ни в чем не бывало, особенно доверчивые гераньки, источавшие свой уютный, примиряющий запах.
Но и после приказа в цехах и на территории вроде ненароком все еще появлялись люди, наверное, из тех, кто не сумел сразу отбросить напрочь привычное. Многие помогали строить баррикаду, прикрывавшую подступ к проходной со стороны тыльной улицы Карла Либкнехта, название которой кто-то тайно вымарал на всех домах.
В основу баррикады легло спиленное на углу дерево. Его растопыренные ветви принялись забрасывать всяким заводским хламом: порожней тарой, карбидными бочками, кухонными столами и столовскими табуретками, в литейке разобрали торцовый пол, наковыряли толстых кряжей и на тачке свезли в ту же кучу, туда же бросили и самое тачку. Все это засыпали токарной стружкой, которой порядком накопилось на заводском задворье. Получилось что надо: высоко и внушительно.
— Ну, наварнакали! — оценил наведавшийся старый фрезеровщик Кузьмич, завсегда зривший против шерсти.— Что твой торт!
— А чего не по-твоему? — поинтересовался Ван Ваныч — местком, тоже оказавшийся здесь якобы по делу.
— Эта ваша городьба ни одной пули не задержит. Потому как внутри пустая. А надо бы класть мешки с песочком.
— Да где ж мешки взять-то? — Ван Ваныч запачканной рукой поддернул разношенные очки.— Да и песок тоже?
— Тогда нечего и затеваться…
— Ну как же — была разнарядка…
— Разнарядка…— ехидно усмехнулся Кузьмич.
— Ладно тебе,— как всегда и всех, примирительно похлопал Кузьмича по плечу Ван Ваныч.— И так сойдет. Немец с ходу не перелезет — тоже дай сюда.
— А ты чего тут? — поинтересовался Кузьмич.— Все руководить тянет? Еще не наводился руками? Твои приятели-рукомахатели уже небось за Щигры утрехали?
— Еще успею…
— А то гляди, попадешь, карась, в ихнюю вершу — не поздоровится. За Дальними парками уже стреляют…
— Да вот вспомнил: в кабинете карту с флажками забыл снять.
— Места последних боев проставлял?
— Было интересно, где и что. А теперь не надо, чтоб карта осталась висеть. Да еще с флажками…
— Ну еще бы: такой позорище! Флажки-то в нашу кровь мокнутые!
— Хотел позвонить, да забыл, что телефон больше не работает. Пришлось самому… А ты по какому делу?
— Я, Ваня, не по бумажной надобности. Парок-то из котлов выпустили, манометры свинтили, водомеры побили, а про гудок забыли. Пойду, думаю, сниму. Не хочу, чтоб немцу достался. Вот не хочу — и всё! Конечно, можно и его сничтожить: молотком по свистку жахнул, и делу конец. А не могу я так — как по-живому. Я по этому гудку полжизни деньки считал… Вот ключи взял, пойду свинчу да заберу домой. А вдруг опять понадобится?..
Ночью, пока окрест было тихо, Фагот отпросился сбегать домой, на всякий случай попрощаться с матерью: не исключалось, что вот-вот и его охранный отряд вступит в бой. Катерина бессловесно всплеснула руками, когда он появился на пороге незапертой двери в свете тоскливо мерцавшего ночника. Она ткнулась лицом в его телогрейку и только теперь подала свой тихий, на краю шелеста, голос:
— Дымом пахнешь…
— Да вот палим… А где братья?
— Те всё по городу шарятся. Вчера Серега где-то полмешка проса раздобыл: голубей кормить. Говорю: будет ли тебе с голубями вожжаться — война кругом. А он, упрямец: голубям тоже есть надо. Они в войне не виноваты… У нас тут наверху дедушка живет, без одной ноги. Сам-то он на землю не спускается, потому может, ты его ни разу и не видел. Он все больше в окно глядит. А зиму, от Покрова до Пасхи, сидит взаперти. Так у этого дедушки есть самодельная коляска на четырех катках. Серега выпросил эту каталку и вот, как смерклося, укатил с ней кудай-то… Говорил, будто на швейной фабрике народ машинки курочит, дескать, если успеет, то он одну привезет… А Михаил — тот себе шарится: вчерась картузом рокса разжился. Может, помнишь такие конфетки: рисунок насквозь виден. Где ни откусишь — там опять эта ж картинка: грибок или вишенка… А еще карманы конфетных оберток набрал: теперь из них фантики заламывает — с ребятами в кон играть. Так, ветер в голове… А вот не удержишь! Все на чужом помешались. Пусть бы одни дети по недомыслию, а то и взрослые туда же: магазины бьют, аптеки растаскивают, пуговицы и те сумками волокут… А кто запретит, кто остановит натуру, дорвавшуюся до греха?! Властей нетути, милиция разбежалась. Серега говорит, будто по Дзержинской ветер вместе с конторскими бумажками трояки да пятерки носит… Люди гоняются, друг у друга отнимают… А у меня вся душа выболела: где их, непутевых, носит… Дак за чужое и подстрелить могут…
— Ладно, мать, отыщутся. Есть захочется — прибегут.
— Ты, может, тоже поешь? Я борщичка наварила.
— Да некогда мне! — Фагот озабоченно взглянул на ходики.
— Я моментом! — засуетилась Катерина возле примуса.— Там у вас теперь и вовсе ни крохи. Вон как обрезался.
— Да пока обходимся. Муки разжились. Лепешки печем, чай кипятим.
Катерина налила тарелку горячих щей, возле положила ложку и несколько вареных картофелин — вместо хлеба.
— А-а! — не устояв, крякнул Фагот и, сбросив телогрейку, подсел к манящему вареву.
Щи, несмотря на их жаркость, он выхлебал с поспешностью бродяги. Катерина не дала ему отодвинуть тарелку и подлила еще. И пока он вычерпывал добавку, она, созерцая торопливую еду, тихо радовалась этой его жадности.
Собиралась налить еще и чаю, но он, отстранив тарелку, сложил руки на краю стола и хмельно, отрешенно уронил на них голову. Катерина хотела было перенести сына на топчан, даже просунула руки под мышки, но поднять не смогла, а только нащупала на крестце под рубахой что-то жесткое, непривычное. Она бережно высвободила из-за его пояса незнакомый предмет и, поднеся его к ночнику, поняла, что это что-то военное, стреляющее.
…Фагот очнулся, когда за окном начало сереть.
— Что ж это я? — испугался он и, увидев на столе самопал, торопливо спрятал его под рубаху. Потом схватил коробок спичек, потряс им возле уха и сунул в карман.
— Ты же не куришь…— заметила Катерина.
— Скажи братанам, пусть не проса, а спичек побольше раздобудут…— И, торопливо застегивая ватник, заговорил: — Слушай, мать. Сегодня вечером от заводских ворот машина пойдет с теми, кто хочет уехать. Может, и ты надумаешь? Вещичек у тебя почти никаких. Соберись по-быстрому. Ребята пусть помогут.
— Нет, Ваня,— вздохнула Катерина.— Хватит с меня: наездилась, находилась. Сам все знаешь. Вот, есть у меня в белый свет единственное окошко — других уже не хочу. Нету на это сил. А ты, сынок, ступай! Я тебе уже не подмога. Все теперь будет без меня. Отныне у тебя одна мать — Матерь Божья. Надейся, Ваня, на нее.
— Ну, тогда я побежал! — Фагот неловко, полусогнуто ткнулся губами в Катеринину запавшую щеку.— Меня, наверно, ищут уже…
Он бежал по улице, почти не воспринимая ни знакомых домов, ни самой местности с отцветшими газонами, покинутыми табачными и газетными будками, опрокинутыми уличными скамьями и мусорными тумбами. Иногда возле магазинов и прежних закусочных под ногами хрустело битое витринное стекло…
Он бежал и, будто почтовый голубь, неосознанно чувствовал лишь одно направление своего бега.
В той стороне, где находился завод, шла беспорядочная стрельба. Среди поредевших винтовочных хлопков все чаще слышались короткие всхрапы автоматов, как если бы вспарывали серую рассветную наволочь. Время от времени в хмурое предзимье, прослоенное дымами затухающих пожаров, вскидывались красные и зеленые ракеты, наполняя вислое небо и мрачные после ночи окрестности обманной красивостью блуждающих всполохов. Фагот тогда еще не знал, не мог знать, что на языке сражений зеленые траектории указывают, куда следует двигаться, красные — на неожиданные препятствия, на очаги сопротивления. Фагот только про себя отметил, что зеленых ракет было больше, чем красных.
Ближе к Пролетарской площади навстречу Фаготу все чаще стали попадаться куда-то спешащие, озирающиеся мужчины. Некоторые из них, должно, чтобы избавиться от сквозной уличной прямизны, торкались в запертые подъезды и калитки, растворялись в неразберихе проходных дворов. На аптечном углу наспех перевязанный прямо по всклокоченным волосам встречно бегущий человек озлобленно выкрикнул:
— Куда, дурак?! Там же немцы! Всем велено отходить…
«Где — там же?» — не понял Фагот и, не успев уточнить, где именно, ответно еще пуще прибавил бегу и тут же очутился между двух тускло мерцавших рельсов на главной трамвайной улице.
Ниже, в нескольких шагах, на рельсовом спуске, под висячим знаком трамвайной остановки навзничь лежал убитый с на сторону разбросанными руками. Живот его в голубой рубахе круто возвышался меж распахнутых пол пиджака, а на сизой картошине носа меркло светились толстые близорукие очки, и Фаготу почудилось, будто это был Ван Ваныч — местком. При виде убитого он невольно пригнулся и поднырнул под нависшую крону плакучей ивы. Перебегая от дерева к дереву в Пролетарском сквере, он испытывал гнетущее чувство оттого, что опаздывает куда-то или уже опоздал вовсе.
Он собрался было прошмыгнуть к близкой баррикаде и за ней укрыться, но та была разметена на два вороха, с проездом посередине. Под разбросанным баррикадным мусором виднелись еще двое, не то убитых, не то раздавленных гусеницами.
У него воистину обмякли ноги, когда из-за последнего дерева, что укрывало его возле чугунной ограды, сквозь обникшие древесные пряди он вдруг увидел у самого порога проходной фашистский танк. Сперва Фагот принял его за полуторку, которая должна была вывезти из города заводских беженцев, но сквозь путаницу никлых ветвей разяще обозначился белый немецкий крест в черной окаемке.
— Ничего себе полуторка! — возразил Фагот самому себе.
Танк был по самую башню заляпан вязкой осенней грязью, словно покрытый бугорчатой крокодильей шкурой. Между гусеничными катками и рессорными блоками намоталась хлебная солома с еще неотцветшими желтыми ястребинками и придорожным осотом. В башенном люке с откинутой крышкой высился танкист. Он был в нашенской ватной телогрейке, но в своей разлатой каске с каким-то знаком на левом виске. Позади башни желтела притороченная плетеная корзина, из которой танкист брал и хрустко кусал и ел янтарное яблоко. Он жевал не спеша, с видимым наслаждением, как едят вызревшую курскую антоновку.
Немец аккуратно огрыз семенной стержень, оглядел его со всех сторон и, убедившись, что выедать больше нечего, размахнулся и запустил огрызком в крону ивы, укрывавшую Фагота.
Может быть, этот надменный и самодовольный жест врага был последним толчком, после которого Фагот извлек из-за пояса свое оружие, всегда заряженное и готовое к выстрелу. Он вставил в запальник обломок спички с полноценной серной головкой, после чего осторожно раздвинул ветки, просунул между ними граненый ствол и все так же расчетливо, с холодной неприязнью навел мушку на перекрестье глаз и носа танкиста. Утвердив покрепче ноги, он чиркнул серником коробка по коричневой округлости спички. Жестко, рублено грохнул выстрел, заполнивший сплетение веток сизым и кислым спичечным дымом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, Фагот пустился бежать от ограды, рассчитывая спрятаться за бетонным обводом фонтана. Но в тот миг, когда он вознес себя над цементным кольцом, вдогон раздалась автоматная очередь, и он, вскинув руки и выронив самопал, рухнул вниз, на заплесневелое днище фонтана.
…Его никто не искал, даже тот, в кого он целился, и Фагот еще долго лежал в донной мокроте, скопившейся как раз под ним и уже обагрянившейся от набежавшей крови. Он то приходил в мутное сознание, то снова терял его, все чаще и дольше. Лишь спустя несколько часов из дверей уго́льной аптеки, разграбленной и зиявшей черными провалами недавних окон, вышла женщина в белом халате, с брезентовой сестринской сумкой через плечо. В поднятой кверху руке она держала марлевое полотнище и озабоченно махала им над головой. Таким образом она добралась до Фагота, пощупала пульс и наложила йодовый тампон на грудную рану. Потом подняла его голову и положила ее на свое колено. Через какое-то время Фагот приоткрыл глаза и бледными, спекшимися губами попытался что-то сказать.
— Лежите спокойно, вам нельзя затрудняться. У вас серьезное грудное ранение. Сейчас придет наш человек, и мы попробуем перенести вас в провизорскую.
Фагот напрягся и снова попытался заговорить. Медсестра наклонилась к его лицу.
— Попал я или нет? — услыхала она горячечный шепот.— Только одно слово: да или нет?
— Кто попал? В кого попал? — не поняла сестра, но, увидев оброненный пистолет, наконец сообразила, о чем ее спрашивают. И убежденно заверила:
— Да попал! Попал! Молчи только…
2002
Тысяча верст
Федька и его младший брат Степка, натянув на косматые, давно не стриженные головы пальтишки и зябко подобрав под себя босые посиневшие ноги, сидели на столе перед окном.
В маленьком кухонном оконце после боя уцелели только верхние стекла, а вместо нижних были заткнуты переломленные пополам пуки соломы.
Ночью на подоконник намело горку снега. Стекла обросли толстой изморозью, солома заиндевела и смерзлась. В ее жестких стеблях мышью царапался и попискивал ветер.
Федька дыханием протаял в окне круглый волчок и глядел на дорогу: не покажется ли мать? Вчера утром она вынула из сундука отцовские сапоги, скатерть и еще что-то и пошла по соседним селам поспрашивать хлеба.
Прямо перед окном, за дорогой, начиналось поле. Убрать его так и не успели. Дожди перепутали и повалили хлеба, ветры выбили, выхолостили колосья, танки втоптали в грязь, понаделали проходов, а потом повалил снег, перемешался с соломой, лег вздыбленными сугробами, поле смерзлось да так и осталось стоять, взъерошенное, бездомное. Посередине поля маячили подбитый танк с черно-белым крестом и рыжий остов комбайна с развороченным боком. Две машины стояли одна против другой в смертельной непримиримости, как два быка из разных гуртов.
Федька припал щекой к заиндевелому окну и, кося глаз, старался как можно дальше оглядеть дорогу. Но проселок был пуст. Лишь возле свертка виднелась куча кирпичей, притрушенная снегом,— остатки хуторской школы. Из всего сохранились только школьные качели. Ветер болтал обрывки веревок под перекладиной, и теперь, среди развалин, они больше походили на виселицу.
Война накатилась на хутор ночью. Мать растолкала Федьку, подхватила на руки сонного братишку, и они забились в подпол. Всю ночь ахала и стонала земля, сползая в погреб целыми глыбами. А утром вылезли и не узнали места. От хутора осталась одна Федькина хата да еще несколько аж на другом конце. А между дальними дворами и Федькиным жильем чадно дымилась земля, по серым ворохам пепла пробегали огненные судороги. Война пришла и ушла ночью, она покатилась дальше и застряла где-то за лесом. Оттуда доносились тяжкие вздохи разрывов, от которых дребезжали стекла и рябило воду в ведерке. С тех пор больше никто не появлялся в сожженном, отбившемся от больших дорог хуторе, разве что случаем забредет какой-нибудь нищий старик, и оттого был особенно страшен неведомый враг.
Федька, морозя щеку, долго глядел на школьные качели, и у него защипало в носу от подступившей глухой тоски.
— Федь, чего видишь? — нетерпеливо спросил Степка.
— Ничего… Снегири вон…
— Ну-ка?
На куст бузины под окном присела стая снегирей. Каждую зиму появлялись они на хуторе. И вот прилетели опять… Чистые, розово-грудые, тепло одетые птицы покачивались на заиндевелых ветках.
— Хорошо быть снегирем,— сказал Степка.
— Тебе зачем?
— Куда хочешь, туда и лети.
— А куда б ты? Война кругом…
— К папке.— И Степка робко растянул блеклые губы в улыбку.— Мигом бы…
Снегири перепархивали по бузине, вытягивали шеи, озирались, будто не узнавали места: «Тот ли хутор? Или обознались?» Но за лесом бабахнуло, птицы вздрогнули сложенными крыльями и вдруг все разом сорвались с куста, подняв дымок морозного снега.
— Улетели! — вздохнул Степка.
Стая, тревожно пересвистываясь, нервным, волнистым скольжением перемахнула через дорогу, полетела было над засугробленными хлебами, но, чего-то испугавшись, круто развернулась влево и упала в школьном саду. Он стоял черным частоколом позади пожарища. Снегири осыпали крайнюю молодую яблоньку. Побеги и тонкие ветки на ней сгорели, и она тянула к серому, равнодушному небу обугленные сучья. Красногрудые птицы повисли на них странными веселыми плодами.
Ба-бах!..— опять громыхнуло за лесом, и яблоня разом осыпалась и почернела.
Дети еще долго сидели перед окошком, дули посиневшими ртами в ледяной волчок, скребли его ногтями, но мать все не шла. Со стола слезать не хотелось. Сквозь толстый слой изморози в хату проникал тусклый, серый свет, он даже среди дня не выгонял из углов таившиеся там сумерки. В горнице в темном промерзшем углу перед деревянной иконой светилась лампадка. Она горела и днем и ночью, потому что не было спичек. А еще не было керосина, чтобы, как раньше, до войны, зажигать большую лампу. Над лампадкой, наводя скуку, тускло-желтым острием торчал огонек с черной ниткой копоти. От фитиля, потрескивая, скакали искры, после которых оставались дымные, вонючие хвосты. Бог, худой, бородатый старец, похожий на тех нищих, что иногда забредали на хутор, стуча в окошко суковатой палкой, просили корочку, зябко грелся возле лампадки с тракторным маслом, подставив к огоньку свои сухие, сложенные вместе ладони.
Степка виновато прошептал:
— Есть охота…
— Чего ты? — не разобрал Федька.
— Есть хочу! — дрожа голосом и сердясь, повторил Степка, и глаза его налились слезами.
— Чего я тебе дам?
— Хлеба-а-а-а! — вдруг, широко разинув рот, вызывающе, на всю хату, заревел Степка, заревел больше оттого, что просил у Федьки невозможного, вкладывая сюда все: и то, что не шла мать, и то, что было холодно, неприютно в хате.
Федька сдвинул безбровый лоб:
— Где я тебе возьму?
— Хлеба-а-а дай! — тянул Степка, испуганно и зло глядя округлившимися глазами в лицо брата.
— Цыц!
— Да-а-ай!
— Цыц, Степка! — Федька схватил за полы пальто и затряс так, что Степкина голова заболталась, выкрикивая только: «А-а-а!» — Замолчи! Налуплю!
Степка не слушал и нудно скулил.
— У, гад! Думаешь, мне не хочется?
Он соскочил со стола, злым рывком сбросил с себя пальто и, открыв подпол, спустился вниз. Из черной дыры погреба в кухню полетела картошка. Они ели ее каждый день, без соли, без хлеба, и от этого щемило где-то за ушами.
— Чего ревешь? — крикнул Федька, высовывая голову.— Собирай в чугун.
Пока Степка ползал по кухне, подбирая раскатившуюся картошку, Федька, сбегав во двор, надергал из плетня хворосту. Он выложил на загнетке колодец из дров и поставил в середину чугунок. Потом взял длинную хворостину и пошел в горницу. Прежде чем достать огня, он малость постоял перед иконой. Седовласый старец неотрывно глядел на фитиль, и Федьке казалось, что он вот-вот скажет: «Ну и люто ноне в углу! Беда! Протопить бы». Федька однажды слышал, как мать, стоя перед иконой, тихо плакала и говорила полушепотом: «И как он там теперь, родненький? Ни обогреться, ни поспать в тепле. Помоги ты ему, Господи, побереги от напасти…»
«Разве он что может?» — раздумывал Федька.
Он протянул к лампадке хворостину, кончик ее дрожал, не попадая на огонек. Потревоженная копоть ленивой змеей зашевелилась под потолком. Наконец хворостина ткнулась в желтый косячок пламени, тот замигал и вдруг исчез.
Федька растерянно глядел на белый едкий дымок, тянувшийся от фитиля, все еще на что-то надеясь, но, постояв немного, опустил хворостину.
— Степ!
— Чего?
— Огонь потух.
— А как же картошка?
— Ничего, Степ. Скоро мамка придет.
Федька стал перед раскрытой топкой печи. Из нее давно выдуло хлебный дух, ютившийся там когда-то. Теперь ветер, посвистывая в трубе, тянул из черного пустого нутра только запах стылых кирпичей.
Привалившись к загнетке, дети уставились в темную печную пустоту и, присмиревшие, молчали, каждый думая о своем.
— Федь?
— Ну?
— А война — она отчего?
— Как отчего?
— Мы вот жили, жили — и война…
Ветер бездомным щенком скулил в трубе. Федька прислушивался и думал: отчего бывает война? Но, ничего не надумав, сказал:
— Война — она от пороха.
— А-а! — протянул Степка, будто и на самом деле все понял.— Федь, а немец какой бывает?
— Как какой?
— Ну вот у папки голова, руки-ноги… А немец какой?
— Не видел я.
— А я видел.
— Чего зря брешешь?
— Правда видел. Снился. Мне все время снится немец,— сказал Степка.— Я от него, а он за мной. Страшный такой! Весь железный. И голова и пузо — все железное. Я в него стреляю, а пуля не берет. Вдарит — в лепешку. А тебе снился?
— Снился…
— И мамка говорила — ей тоже.
— Всем снится.
Степка почертил палочкой по кирпичу, припудренному золой.
В трубе, над головами, глухо ухнуло. На загнетку посылалась сажа.
— Федь, полезем на печку.
— Нетопленая она.
— Ну и что ж? Полезем.
— Ты чего? Боишься?
— Нет… Там лучше. Будем разговаривать.
Федька еще раз выглянул в окно, но ничего не увидел: повалил снег. Его несло косо, над самой землей. Белые нити зачеркнули поле, дорогу, развалины школы.
Ребята залезли на печь, расстелили старый отцовский ватник и, укрывшись пальтишками, прижались друг к другу спинами. Печь за эти дни нахолодала, даже ватник не помогал, и Степка по-щенячьи вздрагивал всем телом.
— Что ж мамки нету? — сказал он, подтягивая коленки к самому подбородку.
Федька не ответил. Он тоже думал про мать. Где-то теперь она? По каким дорогам тащит санки с батькиными сапогами? И кто ей даст за них хлеба? Разве есть еще где-нибудь люди? Поди, теперь и сел нигде не осталось. Одни трущобы да пустая, голая земля. А теперь вот мести начало. Собьется мать, замерзнет. Он представил, как она, закутав лицо платком, согнувшись, бредет вьюжным проселком. Снег летит низко, цепляясь за малейшие бугорки на дороге. Сначала за каждым таким бугорком вырастают темные лезвия свежей намети. Сапог легко сбивает их, снег курится, летит прочь, забегает вперед и ложится под ноги целой косынкой. И уже не собьет его никакой сапог, разве только оставит отпечаток. А тем временем растут такие косяки по всей дороге и вот уже лежат целыми пластами и сугробами. И не заметишь, как и где сведет этот сугроб в сторону, и пойдешь валять целиной, забирая за голенища. А ей — ни конца ни края, особенно если завечереет…
В сенях тихо рыкнула дверь. Послышались тяжелые, скрипучие с мороза шаги.
— Федька, мамка пришла!
Федька ногами отшвырнул пальто, спрыгнул с печки и подбежал к кухонной двери. Следом подкатился Степка, нетерпеливо пританцовывал босыми ногами.
Федька, подняв крючок, толкнул дверь.
Пригибаясь, в низкий проем вошел человек, запорошенный снегом. Снег толстой шалью лежал на груди и плечах, облепил верх шапки и целым сугробом лежал на длинном козырьке. Высокий, весь заиндевевший от дыхания воротник скрывал лицо. Были видны только мокрые косматые брови и льдистые, будто вымерзшие, глаза с покрасневшими веками. Федька заметил под локтем заложенной за пазуху руки тускло блеснувший приклад винтовки и попятился.
Человек стоял, не закрывая за собой дверь, и казалось, что это от него самого тянуло холодом. Все на нем было чужое, незнакомое: и шинель, и шапка, и глаза, и то, что было за его глазами. И Федька почуял, что к ним пришла беда. Та самая, что ночью налетела на их землю, спалила хутор, вытоптала хлеба, обожгла сады, убила, искалечила людей, а уцелевших обрекла на голод. Немец!
Солдат прикрыл дверь.
Медленно поднял руку и полусогнутыми пальцами несколько раз поскреб заснеженную грудь. Но снег не осыпался, на шинели остались только глубокие рытвины от ногтей.
— Кайне ангст [1],— пробормотал он хрипло.— Кайне ангст…
Непослушными руками и подбородком он кое-как отвернул воротник. Потом, поддев под козырек тыльной стороной ладони, свалил шапку. Она упала у него за спиной и откатилась к печке. Рыжие свалявшиеся волосы колко топорщились на голове.
Он обвел глазами ребятишек, кухню, покосился на раскрытую топку печки. Заметил дверь, настороженно посмотрел в горницу.
— Кайне ангст,— бормотал он, облизывая сухие, порванные морозом губы.
Наконец, неуклюже переставляя ноги, солдат прошел к лавке у стола. Бурые, обглоданные метелью сапоги громыхали, как чурки. На каблуках круглыми шишками налип снег, и ноги солдата вихлялись.
Опершись рукой о стол, он опустился на лавку. Прикладом винтовки сколол налипшие между подковами лепешки и вытянул ноги. Было видно, как дрожали носки его сапог. Он сидел молча, опустив голову на заснеженную грудь шинели.
Федька глядел на немца, полный тревоги и ожидания чего-то страшного. Откуда он взялся?
Солдат нагнулся и, морщась, долго стаскивал одеревеневшие сапоги. Из голенищ посыпался сухой, как пыль, снег. Солдат отшвырнул сапог и уставился на ногу. Шерстяной носок серебрился изморозью.
Он нагнулся, обхватил обеими руками ступню и, оскалив большие желтые зубы, покачал ее взад-вперед. Послышался хруст. Так трещит мерзлое белье на веревке. Он дотянулся до ведра с водой, стоявшего у стены, и опустил в него обе ноги. Вода перелилась через край и растекалась по полу.
— Кайне ангст,— бормотал он, кривясь и всасывая меж оскаленных зубов воздух.
Держа ноги в ведре, он вытряхнул из широкой рукавицы, болтавшейся на лямке, пачку сигарет и зажигалку. Долго мял негнущимися пальцами пачку, пока под фольгой не нащупал тоненькое тельце сигареты. Солдат губами вынул сигарету, надавил зажигалку, прикурил и поджег пачку. Она горела на его ладонях, и он, перекладывая ее с руки на руку, задумавшись, глядел, как корчилась в огне, переливаясь радугой, серебряная фольга.
Синий дымок нескончаемой паутинкой тянулся кверху с кончика сигареты и петлями кружил над взъерошенной головой солдата.
Пачка догорела и потухла, а он держал перед собой ладонь, и было слышно, как остывая, тихо позванивала фольга…
Все это было непонятно, а потому страшно, и Степка, почувствовав тревогу брата, тихонечко захныкал, переступая ногами.
Солдат очнулся, взглянул на Степку, поморщился.
— Нихт вайнен [2],— сказал он и стал суетливо шарить по карманам. Но ничего не нашел и вымученно улыбнулся. Из треснувшей губы в небритую бороду скользнула струйка крови.— Нихт вайнен…
Степка, повиснув на Федькиной руке, заревел еще пуще. Лицо солдата исказилось.
— Нихт вайнен! — крикнул он с досадой.
Он потянулся к винтовке. Дети попятились к печке.
— Нихт — бум-бум! — выкрикнул солдат, глядя на плачущего Степку с болезненной гримасой.
Рывками он открывал и закрывал затвор, и патроны один за другим выскакивали из магазина винтовки и, вертясь в воздухе, падали на колени, в ведро, на пол.
— Нихт — бум-бум! — сказал он и прислонил винтовку к столу.— Нихт вайнен!
Он подобрал с колен патрон, взял его двумя корявыми пальцами за донышко и, поворачивая из стороны в сторону, как конфету, протянул ребятишкам.
Патрон был новенький, золотистый.
Конец пули выкрашен в черное, с красным ободком.
— О! Гут! [3] — хрипло проговорил он.— Ним. Шпиль! [4]
Федька, нагнув голову, исподлобья косился на солдата, протягивавшего им патрон.
Степка всхлипывал и прятал руки за спину.
Немец устало посмотрел на ребятишек и бросил патрон на стол.
Он вынул из ведра ноги. Ступни заметно распухли. Он разорвал носки и поставил ноги на пол. Он поставил их рядом — пятка к пятке, как ставят перед сном снятые ботинки. Откинув полы шинели, солдат долго разглядывал вздувшиеся ступни. Он глядел на них, как на чужие, тупо и равнодушно.
Рядом, в луже, валялись кованые сапоги. Даже снятые, они не потеряли своей бронированной формы. В правом сапоге между каблуком и подковой застрял измочаленный пшеничный колос. Это были одни из тех немецких сапог, что прошли тысячу верст по дорогам России.
«Теперь не наденет»,— подумал Федька.
Солдат выпрямился и обвел мутным взглядом кухню. Увидев на столе патрон, он поставил его торчком.
Запустив руки в спутанные волосы и тяжело мигая красными, воспаленными веками, солдат глядел на патрон. Патрон стоял перед ним браво, навытяжку, сияя начищенной бронзой, как некогда стоял он сам перед маршем на Россию.
— Энде… [5] — проговорил солдат и щелчком сшиб его со стола.
Солдат встал, отшвырнул винтовкой сапоги и, пошатываясь, взъерошенный, в длинной, широкой шинели, из-под которой торчали уродливые кочерыжки ног, пошел через кухню.
— Кайне ангст,— повторял он, не глядя на ребят.— Кайне ангст.
Он вошел в горницу. Там было сумрачно. Свет с улицы не проникал сквозь закрытые ставни, и только через дверь в комнату протянулась жидкая полоса света.
Солдат щелкнул зажигалкой, посветил, оглядывая комнату, и закрыл за собой дверь.
«Останется ночевать»,— мелькнуло у Федьки.
Сотрясая воздух, грохнул выстрел.
Что-то звякнуло об пол. Загромыхал упавший стул.
Федька и Степка забились в угол, где стояли ухваты, и, онемев, сверлили глазами дверь в горницу. Она медленно открывалась.
В тусклом квадрате света, упавшем в комнату, Федька увидел ноги. Они были широко раскинуты. Распухшие ступни, задранные кверху, судорожно вздрагивали. Федька и Степка одним прыжком выскочили из хаты. Разбивая голыми коленками сугробы, глотая ветер и снег, они бежали, падали, барахтались и снова вскакивали.
Они бежали на другой конец хутора, где еще остались живые люди.
1961
Фронтовые кашевары
В день Великой Победы давайте, братья-окопники, помянем добрым словом и наших фронтовых кашеваров. Что греха таить, не больно мы их жаловали в своей солдатской повседневности. Поругивали и за надоевшую пшенку, и за казавшуюся нам скуповатость, и за нерасторопность. Да и в каждом из нас, будь ты пехотинец, танкист или артиллерист, частенько проскальзывало высокомерное чувство к тыловой обслуге, которая-де пристроилась за нашей спиной на теплом местечке, да еще и службу несет неисправно.
И до сих пор к кашеварам сохранилась эта небрежительная прохладца: в кругу ветеранов они обычно помалкивают, сознавая свою укоренившуюся третьестепенность; грудь их, как правило, не украшают ордена, разве что кое на ком взблеснет весьма широкого толкования медалька за Будапешт или Вену; их не приглашают на встречи с пионерами, поскольку они не подбивали танков и не бросались на амбразуры и вообще не делали ничего такого, отчего глаза юнцов загорались бы восхищением. А представьте себе ущемленное самолюбие мальчишки, отец или дед которого был на войне поваром. Вот именно — б ы л, а не в о е в а л: кто же воюет черпаком?
Чтобы как-то восстановить справедливость, расскажу о нашем батарейном коке. Имени-отчества его я не знаю, да, пожалуй, никогда и не знал, поскольку такая форма общения, как, скажем: «Павел Иванович, что же вы, голубчик, не чистите свою винтовку?» или: «Иван Никифорович, подайте-ка вон тот снарядик»,— на фронте не бытовала, а потому помню одну только фамилию: Усов. Был он моим земляком, тоже курянином, но из каких мест, тоже, правда, не ведаю. Если еще жив, то, может, откликнется, назовет свою деревеньку, а то и пожалует с визитом. Я буду только рад в свою очередь отплатить ему хлебом-солью по-землячески, хотя, впрочем, в те времена он никак не выделял меня среди других и не набрасывал в котелок лишку как земляку. Стоя на подножке походной кухни, перед тем как зачерпнуть, он так раскручивал похлебку, как не крутят теперь даже лотерейные билеты, так что всякая донная гуща, самый смак взмывали неистовой круговертью, куда и запускался черпак без всякого соблазна подцепить что-либо существенное.
— Отходи-и! — сипловато выкрикивал Усов, плеснув в котелок, и принимался снова раскручивать.
Вообще-то со словом «повар» рисуется некая румяная личность в белом чепце. Наш Усов, вопреки ходячим представлениям, был заморенно-костляв, с каким-то серым, будто продымленным лицом, на котором наиглавнейшим предметом восседал нос «уточкой», а V-образно расставленные уши подпирали хлябающую пилотку. Еду он раздавал в солдатском ватнике, и лишь когда стряпал, подвязывал к бедрам мешковину, дабы, соблюдая гигиену, то и дело не обтирать мокрые руки о штаны, видавшие, как говорится, всяческие виды. Штаны эти были многократ протерты и заплатаны, поскольку топка под котлом располагалась столь низко, что Усову, к тому же маявшемуся от поясницы, приходилось многие часы ползать возле огня на коленках.
Ну а что такое батарейные тылы, скажем, в нашей противотанковой артиллерии, находившейся в боевых порядках пехоты, за которыми уже начиналась ничейная полоса, где по ночам шныряла вражеская разведка и было слышно, как в немецких окопах звякали саперные лопаты? Конечно, они, эти тылы, располагались всегда позади пушек, потому и называются тылами,— в каком-нибудь овражке, коли таковой окажется, или в ближайшем леске, ну триста, ну пусть пятьсот метров от орудий. Если пули туда и не всегда залетали, то снаряды и мины были общими — и для огневиков, и для тыловой обслуги. Так что, хотя Усов и старался как можно глубже зарыть свою кухню и замаскировать ветками, все же и она попадала в переделки и не единожды из котла, продырявленного осколками, убегал недоваренный кондер, после чего кухню отвозили к оружейникам заваривать автогеном. А случалось, немецкие автоматчики просачивались и до самых тылов, и там, позади нас, поднимался порядочный тарарам. Потому-то усовский автомат всегда висел рядом с поварешкой…
Да и то сказать: ежели на передовой более-менее спокойно, если фронт не двинулся с места, огневик всегда найдет время, как тогда говорили, покемарить. Положенные укрытия отрыты, снаряды много раз перебраны и протерты, слоняться по огневой на виду у противника не дозволялось, а к тому же, если командир не буквоед, не уставник, не дергает без насущной потребности, то солдат знай себе суркует, сурком отсыпается в норе, набирается сил перед боями. Разумеется, дрыхнет он в пересменке между несением дозорной службы у орудий.
У нашего же Усова пересменок не было, никто его не подменял и не заменял. Еще затемно выползал он из своей землянки-одиночки, где одновременно хранились и батарейные съестные припасы, зябко закуривал в рукав, разминал поясницу, прислушивался к передовой и, присев перед топкой, начинал набивать печь с вечера припасенными дровами. Тут, при растопке, тоже были свои тонкости: надо было уметь так топить, чтобы ночью не искрило, а днем не дымило, иначе не миновать вражеского «гостинца»… По этой же причине никаких фонарей зажигать не полагалось, и Усов на ощупь принимался колдовать в кромешной темноте: развязывал какие-то одному ему известные сумочки и мешочки, что-то выскребал из жестяных банок большущим тесаком, который всегда болтался на поясе в брезентовых ножнах, что-то крошил на пустом снарядном ящике, что-то бросал и сыпал в черное чрево котла.
Когда же батарея занимала особо танкоопасный рубеж и тщательно затаивалась, зарывалась в землю, жизнь на огневых переключалась на ночной распорядок. Нас кормили только с наступлением сумерек, и часы ужина превращались в завтрак, полночь — в обед, а где-то перед рассветом мы получали свой ужин, который чаще всего заменялся сухим пайком — сухарями и тушенкой. В такие-то напряженные времена молчаливый и угрюмоватый Усов всю ночь напролет топтался в своей кухонной яме, заполненной дымом, который валил из коротенькой трубы, задышливой еще и потому, что была она увешана самодельными пламегасителями, смастеренными Усовым из подручного материала. И слышался из этой ямы его надсадный застарелый кашель, когда он, пав на колени, в который раз начинал дуть и размахивать фартуком перед малиново-мерклым поддувалом.
После каждой раздачи надо было выскрести котел, а после обеда — сразу два: из-под супа и каши, где-то разжиться дровами, потому как не всегда останавливались в лесу, бывало и так, что окрест не встретишь ни бубочки, ни былочки. Да и вода не текла из крана, пойди разыщи ее да потаскайся, а надо и сварить, и посуду помыть, и накипятить заместо чая — в зимнее время и кипятку рады. Словом, тут не до спанья, тут повертеться надо, чтобы при любых обстоятельствах, в дождь и завируху, при любых обстрелах трижды в сутки одному накормить полсотни людей, составлявших батарею.
— Опять пшенка! — иногда не выдерживал кто-нибудь.
Да, пшенная каша, пшенный кулеш, заправленные комбижиром, всем осточертели до смерти. Иногда их перебивали ячневой крупой, горохом, реже — перловкой, прозванной шрапнелью. Картошка же на второе считалась лакомством. Даже летом солдат в основном питался бездушными концентратами. Теперь, спустя столько лет понимаешь, что в тех условиях снабдить фронт даже таким незамысловатым продуктом, как картошка, было делом нешуточным. Да и где ее хранить, скажем, в зимнее время или когда фронт приходил в движение? А уж о всяких прочих овощах и вовсе говорить не приходится. Тогда было не до деликатесов, управляйся только подвозить боеприпасы.
И все же Усов иногда изловчался, нет-нет да и придумывал что-нибудь. В короткие передышки между стряпней, перекинув через плечо автомат и пустой мешок, зимой он обхаживал выгоревшие дворища окрестных деревень и в уцелевших погребах находил то картошку, то квашеную капусту, то еще какую редкую для нас снедь, оставленную погорельцами. С наступлением же весны рвал по оврагам и пустырям молодую крапиву, мелко рубил ее и добавлял ко всякому приварку, взбадривая надоевший кондер первой вешней зеленью, которая и от цинги, сказывали, помогала. Вслед за крапивой в дело шла снытка, потом Усов умудрялся нарывать по луговинам чуть ли не по полмешка щавеля, и тогда еще издали от кухни будоражаще веяло зелеными щами, в которых помимо перловки находили и невесть откуда взявшийся лучок, и палочками поджаренную картошку.
Однажды Усов набрел на осиротевшую грядку с огурцами, и надо было видеть, как по-детски радовались солдаты, как бережно перекидывали в своих огрубелых руках, как упоенно внюхивались в полузабытую огородину, когда Усов перед ужином вдруг выдал каждому по свежему огурцу.
— Ну, братва, сегодня Усов отколол номер! Вот это уважил!
— Отходи, отходи! — неподкупно покрикивал тот на солдат, обступивших мешок с огурцами.
— Слушай, Усов, обменяй-ка. Глянь, какой мне желтый достался.
— Отходи-и!
Кажется, я никогда не слышал от него никаких иных слов, кроме этого «отходи», но и в нем, единственном, было столько всяких оттенков, что не трудно было уяснить, в каком настроении сегодня повар. В тот огуречный день Усов, хотя и покрикивал по-прежнему строго, но с заметной ноткой счастливого отца обширного семейства.
Даже такие мелочи для солдата оборачивались нечаянной радостью и праздничным настроением среди нескончаемых тягот окопной жизни.
Помимо всех этих поварских сюрпризов Усов запасал еще и всякие травы, тут же развешивал их в пучках для просушки, и при случае всегда можно было выпросить у него целебного взвару и от живота, и от зубной маеты.
Чувствую, что читатель ждет от меня под конец какой-нибудь неожиданности, какого-либо чрезвычайного случая, который сделал бы в его глазах Усова героем.
Нет, друзья мои, Усов так-таки ничего и не совершил героического, по крайней мере, до той поры, пока меня не ранило под Кёнигсбергом. Наверно, он дослужил до самого конца войны, до последнего ее дня, который мы сейчас всенародно празднуем. И последний свой кулеш заварил на воде из реки Шпрее, до того отчерпав многие сотни ведер из Днепра, Вислы и Одера. И, надо думать, благополучно вернулся домой, на курскую землю. Скорее всего, без орденов и повышения в звании…
Как-то наш старшина сказал одному ворчливому командиру орудия, не пожелавшему выделить бойца что-то там помочь по кухне. Он сказал так: «Кухня, если на то пошло, все равно что лишняя пушка на батарее». И старшина был прав. Ибо в залпах наших орудий была заложена посильная доля молчаливого и негромкого и его, Усова, мужества, не требовавшего за это никаких наград.
Пусть же сыновья и внуки его не стыдятся того, что их отец и дед прошел войну до самого ее логова безвестным фронтовым кашеваром!
1975
Синее перо Ватолина
На востоке отдаленно громыхало, будто ненастьем трепало железную кровлю. А по ночам в той стороне взметывались огненные сполохи, отчего разломы в плотных февральских тучах наливались багровым ознобом.
На пятые сутки перекатный гул усилился настолько, что на Подкопаньских выселках принялись вздрагивать оконные шибки, а на чердаке Марьиной избы что-то обрушилось и глухо покатилось по печным колодезям.
— Ма-а! — тревожно позвал Марью проснувшийся Николка.— Чтой-то?
— Должно, старый кирпич в трубе осыпался.
— Опять война к нам идет, да, мам?
— Это наши идут,— уточнила Марья.
В избе было темно, не светилась даже иконка,— кончилось лампадное масло, и только квадрат заиндевелого окна проступал неясной матовой мглой.
— И папка идет? — сквозь страх потеплел голосом Николка.
Марья не ответила, не знала, идет он или давно отходился, а, приподнявшись на локте, так что стали видны ее угловатые очертания против сумеречного оконца, перекрестила себя щепотью, после чего так же осенила Николку и спавшую рядом Любашку, никогда не видевшую отца.
Потом она, монотонно раскачиваясь, наплескивая на плоскую грудь распущенными волосами, торопко шептала что-то себе одной и наконец, оправив подушку, улеглась опять с глубоким провальным выдохом.
А шептала она каждую ночь почти одно и то же: «Матерь Божья, воззвах к Тебе, услыши мя, грешную, вонми гласу моления моего…» И просила смиренно, устало и почти безнадежно от множества прежних просьб: «Спаси и помилуй нас, Пресвятая Богородица, избавь от чужой напасти, от мора и глада, увечий и всяческой немочи живота нашего… А пуще упаси раба твоего Ивана, кормильца и поильца нашего, отца и радетеля деток наших, непорочных отроков Николая и Любови, не отыми его от нас, ныне пребывающего по ту сторону смертной межи…»
И, отрешенно уставясь в темноту, прислушиваясь, как все еще в трубе осыпалась короткими побежками потревоженная сажа, с обмирающим сердцем думала об Иване, вспоминала, как ушел он из дому в куценьком пиджачке, серая остриженная голова с красными ушами под ветхим от дождей картузиком, такой жалкий, нерасторопный и бессловесный — ни спросить, ни попросить, ничего, кроме вил да косы, в руках не державший, тем паче ружья. Марья так и не представляла его в шинели, с петлицами, опоясанного ремнем, а виделся он ей все так же обыденно и неспособно, тем более не могла увериться, как же он там в такой мороз и ночь?.. Под крышей или в поле, в заснеженных окопах? И как бежит на немца, его пули? А пуля, она ведь раз пролетит, другой, а в третий возьмет да не минет. Ничего б, если в руку или еще куда не опасно, чтоб своим ходом до санитара дойти… А ежели тяжело, так что не подняться и кровь хлыщет… ежели снег пометет? К рассвету один бугорок и останется или вовсе сровняет. Да так до весны и пролежит — без вести, без имени.
И незаметно переключалась на себя, ворочая в горячей памяти пережитое за эти две зимы без Ивана.
— Ох, ропщу я, гневлю суд Господень! — спохватывалась Марья.— Мы хоть дома, крыша над головой и в тепле, каждый день топлено, каждый день варено, и, слава те, все живы…
Марья затаивала дыхание, уже как бы не нуждаясь в нем больше, забывалась так и не отпускающим душу обморочным сном.
И впрямь, Подкопаньские выселки будто Бог оградил: когда наши уходили из этих мест, война стороной обошла редко разбросанные избы. Страшно даже: в самой Подкопани, что на той стороне мокрого торфяного лога, весь день шла пальба, расшибло церковную колокольню, дотла выгорел целый заулок, а тут, на выселках,— мертвая тишина. Даже ребятишки не прятались, будто кино на большом экране смотрели. Сюда немцы так и не пошли, должно, не захотели вязнуть в логу, а погнали наших дальше полевыми верхами. Ночью из лощинных ракитников, из камышовой хляби выползло на сю сторону несколько мокрых и грязных красноармейцев, перебыли в затайках, но потом и они куда-то девались, должно, ушли догонять своих. Еще одного раненого нашли утопшим в зыбких торфах, виднелась одна только рука, намертво обхватившая ветку. Его лишь зимой бабы вырубили из-подо льда и на сухом похоронили без всякого знака, поскольку не знали, что написать.
Немцы объявились на выселках аж после Покрова, в крестьянских розвальнях, на простой местной лошаденке.
Марья копалась в сундуке, искала шерстяную штопку для ребячьих надобностей, когда с улицы донесся скрип саней и громкий веселый говор, пересыпанный хохотом. Почудилось, будто ехали подвыпившие мужики, возбужденные бодрым морозцем, свежим снежком и самой санной ездой по первопутку. Однако окна в избе были прихвачены крепкой изморозью, пока не подышишь, не прокопаешь пальцем очко. Было не успеть разглядеть, кто ехали, такие веселые? Не свадьба ли чья непутевая по такому безвременью? И Марья, оставив свои поиски, набросила на себя ватник, чтобы выскочить за калитку.
Тем временем Шарик, дворовый криволапый кобелек с тугим крендельком на загузке, учуяв уличный гомон, раньше Марьи вышмыгнул под плетень и с ходу озлобился не столько на чужих шумных людей, сколько на сани и мослатую животину, забежал поперед лошади, зашелся в хриплом, задышливом лае. Встречно что-то бабахнуло, Шарик сразу взвился тонким, отчаянным плачем, как ушибленный ребенок, жалобно заойкал и враз затих, будто провалился куда-то.
— Ох, убили! — вскинулась руками Марья, поняв, что это никакая не свадьба…
Николка и Любашка, глянув на побелевшую мать, испуганно улепетнули в темное запечье, а Марья побежала во двор запереть калитку на засов.
И тут, с порога, она увидела немца. Вернее сказать, одну только голову. Голова эта торчала между кольями над верхним краем плетня. На ней была серая козырчатая камилавка с отвернутым на уши краем, а на багровом с морозу лице белели заиндевелые брови, из-под которых изучающе вызрились во двор блеклые, будто выстуженные глаза.
У Марьи защемило в низу живота, она хотела захлопнуть сенешную дверь, но руки ее потеряли волю, и она, цепенея, обреченно глядела на эту страшную, будто посаженную на кол голову.
Увидя ее, немец оживился, обрадованно выпустил пар изо рта:
— О, матка! Гутен таг! Их бин карашо!
Оцепеневшая Марья ничего не поняла, и тогда немец отвалился от плетня и толкнул калитку.
— Нихт шиссен! — объявил он, направляясь к Марье и размахивая перед собой суконной рукавицей.— Нихт бум-бум! Понимайт?
Марья убоялась запирать сени и отступилась назад, в избу, слыша, как следом под жесткими шагами морозно завизжало крыльцо.
— Их бин карашо! — повторял немец, переступая порог.— Нихт бум-бум!
Навевая холод, он сразу прошел к печи и, засунув за пазуху заиндевелой шинели разлатые рукавицы, припал ладонями к печному боку. Печь была еще не топлена. Марья поджигала ее к вечеру, чтобы теплее спать, и немец разочарованно опустил красные кисти рук.
— Млеко? Яйки? — произнес он, оглядывая кухонную утварь.
— Нету, нету ничево…— еле выдавила из себя охолодевшая Марья, боясь, что он дотянется до обитушка на верхней полке, где у нее было скоплено с десяток яичек.
— Шпиг? — продолжал выспрашивать немец. Для наглядности он пошлепал себя по бедру шинели.— Чушка! Чушка!
Марья развела руками.
— Их мёхте [6] торговайт. Гешефт! Айн гешефт абшлиссен! [7] — Немец достал кошелек, вытащил из него сложенную вдвое какую-то денежную бумажку и повертел ею перед Марьей.— Коммерция! Коммерция! Понимайт? Шпиг, яйки, шнапс… Совьетишер шнапс. Самогон! Дизер вайн гефельт мир! [8] Карашо-о!
— Нету ничего, ну нету-у! — упорничала Марья.
Немец испытующе посмотрел на нее и, гулькая подковками, прошел в горницу. Там он поозирался, поразглядывал фотокарточки в большой общей раме, потом шагнул к оставленному раскрытым сундуку и, сняв с плеча винтовку, пошуровал ею в тряпье. Подцепив мушкой ствола вязаную серую шалицу, он деловито оглядел ее, но, увидев дырку, проеденную молью, скривил губы и сбросил обратно в сундук.
Так же, винтовочным стволом, немец отдернул занавеску, отделявшую от горницы запечный закуток, откуда терпко дохнуло пересохшей ветошью, и тотчас раздался Николкин и Любашкин долго копившийся рев.
— Ой ля-ля! — усмешливо поморщился немец.— Ляйхте музик хёрен! [9]
Он приложил свободную ладонь к уху и так — с усмешливой гримасой и зажатым ухом — вернулся на кухню и, больше ничего не сказав Марье, вышел из избы.
Придя в себя, Марья на цыпочках прокралась к сенной двери, набросила крючок и глазом припала к прощелку между дверных досок.
Немец задержался на крыльце, на солнышке. Вокруг него сияла и лилась морозная голубизна позднего утра. Где-то возбужденно трещала сорока. Из плоской сверкающей папиросницы он достал сигарету и прикурил от чирикнувшей по-воробьиному зажигалки. Сладкий, нездешний дымок просочился в сени. А за Марьиной спиной все еще не унимались, всхлипывали оробевшие ребятишки, теперь уже оттого, что мать куда-то делась и ее долго нет.
Между тем в калитку протиснулся еще один немец, тучный и рыжий, даже какой-то розовый, как ошпаренный и выскобленный поросенок. На нем была долгая, широкая, неопоясанная шинель, похожая на церковный колокол. Под мышкой правой руки торчала винтовка, которой он поводил туда-сюда, пока озирал двор, а в левой руке держал большой мягкий кошель из болотной куги, в коих обыкновенно в деревнях держат репчатый лук или тыквенные семечки.
Оба немца, сойдясь, что-то погыргыкали, посмеялись, и первый остался на крыльце докуривать, а может, не выпускать Марью, тогда как другой, с кошелем, принялся неспешно обходить двор, оглядывая постройки. Было слышно, как под коваными, одеревенелыми сапогами капустно хрустел молодой снег. Послышался скрип смерзшейся двери амбарушки, через некоторое время скрежетнула по задубевшей земле воротинка пустого скотного ставца,— топтавшийся на крыльце немец иногда застил спиной дверную расщелину, но Марья и без нее, на слух узнавала каждый звук во дворе,— и вот наконец добрался-таки свиномордый: в курьей клетушке вдруг раздались хлопанье крыльев, заполошный крик и вопли перепуганной птицы, из проема полетели перья и ленивый пух, похожий на оттепельные выкрики петуха, который, увертываясь от рыжих пальцев, будто спрашивал, добивался знать: «Кто тако-ой? Кто тако-ой?»
Но и он наконец отспрашивался, и в клетушке все затихло…
Вскоре из курника выбрался тот, рыжий, и, встав с четверенек, принялся шумно охлопываться руками, подняв над собой облако пыли и пуха.
— Ви зист ду аус? [10] — засмеялся немец с крыльца.
Рыжий тоже расплылся и, показывая, приподнял над собой раздутый кошель.
— О! Курка! — довольно потряс он добычей.
— Вундерфоль! [11] — закивал первый немец и махнул рукавицей.— Генуг! Раус! [12]
Он подергал дверь, попинал ее сапогом, но ломиться не стал, а только произнес затаившейся по ту сторону дощатой заборки Марье, будто и взаправду знал, что она там стоит:
— Данке шен! Спасибо! Лебен воль! [13]
Марья заметила, как между дверных досок просунулась та самая свернутая пополам цветная бумажка, которую она осмелилась вытащить и развернуть лишь после того, как хлопнула за немцами калитка, а на улице застояло взвизгнули санные полозья.
Бумажка оказалась нашенской, советской зеленой трешкой — из тех, должно быть, кои все еще ветры войны гоняли по оставленной земле, будто опавшие, куржавые листья.
— Мама! Мама! — возбужденным шепотом встретил ее Николка, успевший продышать в окошке зрачок.— Они в санях чью-то козу повезли!
— Да чью же еще… Всех-то и коз на выселках, что у бабки Павлихи. Теперь и у нее порешили…
Куры были последней живностью на Марьином дворе, не считая Шарика.
Свинюшек она никогда не заводила, не лежала душа: хлопотно и нечисто, да и, пока хрюкают, детям от них никакой пользы. А вот корову держала с удовольствием, но тоже лишилась ее еще до войны, при Иване. Последняя, Ромашка, была уже в летах, как-то враз заплошала, сбросила надои, и потому решили ее продать, а завести телочку. Продать-то продали в заготскот, а с телкой не получилось. Председатель все обещал, все «обождите» да «обождите», как вот тебе война. Ивана забрали, председатель будто чумной ходил, голова не тем занята, чтоб про какую-то телку помнить… А тут пришла разнарядка весь скот гнать гуртом не то в Тамбов, не то в Саратов. Марья чуть ли не в ноги бухнулась, молила оставить. Но момент был упущен, и ей сказали, что скот раздавать по дворам строго-настрого запрещено, чтобы через то врагу не достался.
— Ну хоть какую-нибудь, лишь бы на ногах держалась,— не уходила Марья.— Она ить в дороге все равно падет, а я ее, Бог даст, выправлю.
— Ну и аполитичная же ты, Марья! — бураком занялся председатель.— Ить понимать надо: придет немец, заберет твою телку да и слопает ее на халяву. А нажравши морду, он — что? Он еще сильней сделается за наш счет. Стало быть, мы с тобой сами же станем ему пособниками. А нам надо такую политику против него устроить, чтоб, когда он сюда придет, ему бы ничего не досталось, чтобы он, шельмец, впустую лязгал зубами. Понятно теперь?
— Дак вы немца и не пускали б…— в слезах посоветовала Марья.
— Гм… Не пускали б… Ты вот что… Ты смотри мне, короти язык…
На том и пошабашили.
Невесть где теперь подкопаньский скот и та телка, что так и не пришлась к Марьиному двору. И куда девался сам председатель Фома Калистратыч, едва успевший вдогон гуртам утрехать на тракторном прицепе, на который погрузил два сейфа с колхозной и сельсоветской отчетностью, его любимые клубные духовые инструменты, чтобы немец не играл на них свои марши, да еще повезли четверых председательских ребятишек и старую больную мать, уложенную на соломе в тесовом лотке, чтоб не трясло излишне.
Сначала Марья серчала за телку, а потом и жалела Фому порой: где он теперь с такой уймой пацанов, последний из которых еще и не ходил до дела, да с квелой старухой, да хуже того — без жены, без Клавдии, помершей и схороненной тут, в Подкопани, после четвертых родов… Ему бы край новую хозяйку, да все, бедному, некогда было приглядеть, поправить свою судьбу… А ить в дороге и сварить, и постирать, и зашить-заштопать надо, и от хвори уберечь… А еще, сказывают, по дороге бомбят самолеты, гоняются за каждой машиной. Дак у трактора какая же сноровка?.. Спаси и сохрани… Теперь вот, за временем, видно, что зря обижалась, по его все и получается: будь у нее телка, немцы, поди, и впрямь забрали бы ее. А так — одних только кур… Больше всего Шарика жалко. С ним все веселее. Хоть тявкнул бы когда… Или в глаза поглядел. Глаза у него, как у дитя малого,— всему верят.
Это — что касается живности. А с хлебом такое вот получилось…
Отъезжая, Фома Калистратыч велел подпалить все, что не успели убрать: часть хлебов как раз на выселковском поле, подсолнухи, скошенные клевера. Весь день поджигалыцики скакали окрест, тыкали в спутанную солому огненной паклей на длинных шестах. Жгли хлебный перестой, немолоченые копны, сено в стогах… Бегал, поджигал и сам Фома Калистратыч, сколь позволяла одышка, опалил себе брови, продырявил рубаху и все выкрикивал одержимо:
— Не нам, дак и не ему! Никому дак никому!
Двое суток на Подкопаньские выселки густо несло черных мух, обугленные трубки соломы, от гари даже кровля на крышах потемнела. Особенно жарко, с патронным треском, горели вызревшие подсолнухи, дым от них был тучен, как в грозу, и за много верст пахло жареными пирожками, будто в престольные дни.
Страшно было глядеть на опаленные увалы, но еще боязнее думать, как оставаться без хлеба, с неоплаченными трудоднями, без единой бубочки в закромах. А оставаться приходится: с сумой да детишками в белый свет не пойдешь, а тракторных прицепов на всех не приготовлено.
И тут кто-то донес, будто народ вовсю тащит зерно с брошенных складов на станции Большие Ветряки. Дескать, охраны никакой нет, ворота нараспашку, бери сколько хочешь, сколько унесешь… Уж не брехня ли? Такого не может быть, чтоб с хлебом чего-нито да не сделали б.
Но выселковские бабы все же побежали. Марья отвела Любашку к соседской бабушке, собрала мешки, прихватила Николку и пустилась догонять. А до станции не шуточка, а, поди, верст восемь, а то и все десять. Николка на что гонять шустер, а и тот притомился, запросил пить.
Прибежали, а там и вправду муравейник: кто пеший, кто с ручными колымажками, а кто и на лошадях и даже на коровах. Двери заготзерновских складов настежь, народ туда-сюда, туда-сюда. Туда порожняком и с жадной ошалелостью, оттуда — кряхтя и горбясь под взбухшими сидорами. Иной переберет лишку, вгорячах отпыхтит десяток-другой шагов да и примется отсыпать зерно прямо под ноги. Вокруг складов, на железнодорожных путях и дальше за путями все засыпано пшеницей. А пшеница-то что твой перл: зерно к зерну, чистая, желтая — ну впрямь золото!
Марья, возликовав, пустилась бежать, боясь, что ей не достанется. Николка впереди запрыгал через рельсы.
Влетели в ближние ворота — зерна еще полно, даже при входе засыпалось за голяшки. Тут, на пороге, Марья и задохнулась, перехватило дыхание: из темного складского нутра густо, тошнотно шибануло керосином. Зачерпнула ладонью с пола, понюхала и точно: живой керосин! Небось, собрались подпалить, да что-то помешало.
Потом в толпе говорили, будто один склад уже подожгли было, занялось в крайней секции, да народ не дал дальше гореть, пыхнувшее пламя забили огнетушителями, а всех поджигателей изловили, вывернули им карманы, отобрали спички, складские ключи и отпустили на все четыре стороны. А может, никто поджигать и не собирался, а так только, покеросинили, чтоб запахом отвратить врага. Ну, небось, немец такой хлеб есть и не станет, да окрестный люд не побрезговал, бросился нагребать кто во что горазд и тащить во все ближние села и деревеньки.
— Чего стоишь, дура, нюхаешь? — почти гневно крикнул Марье пробегавший мимо мужичонка с чувалом во всю спину.— Хоть такое, чем никакого. К вечеру и это разметут.
«А ить верно!» — испугалась Марья и враз вдохновилась и осатанела от работы: пала на колени и обеими руками, как латвинами, принялась нагребать в распластанный мешок. Морщась от керосиновой вони, рядом пыхтел и загребал Николка.
Домой все это было не унести, многие старались отволочь зерно только за станцию и опять бежали за новой поклажей. Там, в поле, возникли целые становища. Зерно рассыпали по свежеутоптанным плешинам, ворошили, пытаясь проветрить, рассыпали на удобные ноши и просто приходили в себя от столпотворения. Многие даже ночевали, охраняя обретенное добро. И пока Марья с двумя поклажками — одна на спину, другая на грудь,— бегала эти восемь верст до Подкопаньских выселков, Николка тоже оставался возле своего припаса, бередил палкой ворох, а потом вместе с другими коротал зябкую ночь под порожним мешком, не смея развести костерок, остерегаясь самолетов.
На другой день Марья сделала еще две ходки, но за остальным зерном больше не пошла: обессилела, обезножела, ключицы поистерла до сукровицы. А тут еще Николка, ночуя в поле, остыл, сморился ознобом. Надвечер она забрала его, и Николка едва доволокся, за юбку держась.
Ушиблась вся, но на душе теплинка: все-таки наносила. Правда, половина в поле осталась, но унести успела порядочно — пудов пять, а то и все шесть. Центер!
Первым делом сыпанула пригоршню курам. Те кинулись под хлебный дождь, тесня друг дружку. Но вот одна выпрямилась, другая… Повытягивали шеи, озадаченно таращатся. Да и разбрелись понуро, переживая обман. И только дотошный петух Ватолин, известный искатель жемчуга, не покидал токовинку: крючковатым носом, будто острием кайла, так и эдак поворачивал обызренную пшеничку, истово разгребал под собой лапами, швыряя далеко за спину комья земли и само зерно.— все, дурак, добивался какой-то истины…
Потом, после тех немцев, от Ватолина в сарайке осталось долгое синее перо с изумрудным игривым налетом. Марья подобрала его, бережно огладила на ладони по уклону, по все еще живым, упруго сцепленным шелковинам, и, не зная, что с ним делать, принесла домой, воткнула в землю рядом с багряно млевшей геранью на подоконнике.
А пшеничка все ж таки оберегла их от неминучего мора, считай, протянули с ней ту зиму да половину этой — самые злые немецкие зимы.
Поначалу лепешки из столченного зерна никак не елись. С виду белые, румяные, но это только глядеть. Николка кривился, бросал на мать вопрошающе-тоскливые взгляды, но все-таки пытался жевать, поскольку сам же нагребал на складе, а Любашку откровенно мутило, и та, зажав рот, мчалась к лохани.
Но потом, слава Богу, помаленьку наладилось: то ли пшеничка со временем пообветрилась, то ли сами едоки пообвыклись. Особенно пошло со всякими добавками: с картошкой, с травяной мучкой, с сушеным молотым клевером. От клевера лепешки делались черными, но зато и керосином почти не пахли.
Охотнее всего елась кутья. А рецепт кутьи такой: на глиняный горшок (размер горшка — чем больше, тем лучше) — две пригоршни пшеницы. Залить водой и дать покипеть (тоже — чем дольше, тем лучше). Пусть побурлит хотя бы с полчаса, чтоб побольше вытянуло керосина, а потом слить. На слитой остывшей воде могут быть видны коричнево-зеленые блинцы. Это и есть керосин. После этого горшок еще раз залить свежей водой, прокипятить и опять слить. Можно этак проделать и в третий раз — это у кого как душа принимает. Марья кипятила два раза по полчаса — так меньше уходило дров.
Оставшийся душок Марья в первое время забивала постным маслом (можно, конечно, и сахаром, да какие там сахара: магазины размели в первые же дни войны, соли — и той не всем досталось!). А когда масло вовсе искапалось, ошелушивала в ступе подсолнуховые семечки, которых Николка украдкой натеребил и натаскал целую наволочку до того, как Фома Калистратыч принялся их палить. Набив ошкуренного зерна, Марья отвевала кожурки, а зерновую сечь измельчала в муку, поджаривала на сковородке и эту запашистую лоснящуюся мучку перемешивала с разваренной пшеницей. Так же потом поступали со стручками дикой горчицы, которую собирали на межах и брошенных задичалых полях. Из стручков вышелушивали бурые мелкие семена, поджаривали и толкли в ступе для той же надобности.
Слава те, ребятишки не уродничали, выбирали до последнего зернышка.
И довыбирались.
Как ни тянула Марья, как ни жалась, под конец чуть ли не по счету отсыпая зерно на варево, но на Рождество сварила последнюю кашу с Больших Ветряков…
Зерно, может, столько и не потянулось, если бы не картошка. На картошку Марья больше всего и надеялась, в этом отношении ее душа была спокойна: своя, некупленая, огород за сараем.
В тот год, прямо перед немцем, копать начала рано, в середине августа: торопилась прибраться, мало ли как повернет… Собрала мешков сорок. А по правде, и не считала сколько. Николка с Любашкой подбирали, она таскала. Засыпала хороший закром в погребе, набила земляную утайку на огороде — на семена, на весеннюю продажу, на всякий непредвиденный случай. При мысли о картошке приходило приятное чувство защищенности, даже перед уже близким врагом. «Не убьют,— думалось,— дак с картошкой живы будем».
Но и эта, казалось, надежная стена вдруг обрушилась непоправимо.
После тех немцев-курощупов на Подкопаньские выселки еще раз наведывались гости.
Вскоре, на Варварин день, вдруг наехал пароконный возок, обшитый досками наподобие закрома.
Из саней вылезли трое: подкопаньский староста Гришака и два незнакомых молодых вислоусых мужика в черных суконных шинелках с белыми повязками на рукавах — должно, полицаи.
Гришаку, обряженного в свой прежний кожушок, в коем ходил еще при Советах, Марья знала с самого детства: когда он бегал в почтарях, но ошугнулся в полынью и застудил ноги. Сначала на печи лежал, травами обкладывался, а потом стал ковылять с палкой. Оставив почтовую сумку, Гришака прибился к подкопаньской церкви в сторожа. Церковь к тому времени не служила, там хранили удобрения и ядохимикаты, однако сама православная служба на селе не прекращалась, местный отец Никодим крестил и отпевал надворно, по тайному приглашению, а Гришака состоял при нем как бы в послушании — подать чего, запалить свечу или кадильце и все такое разное.
На том и состарился, ходил ссутулясь, вынося вперед шею с безволосой головой, отчего походил на свою клюку с загнутой вперед головастой ручкой. Дряблое Гришаково лицо постоянно кривилось гримасой, будто его одолевали неизбывные хвори.
— Здорово, Марья! — Гришака снял шапку, встретив Марью во дворе.— От Ивана слышно чево?
— Дак чево услышишь за фронтом…— сдержанно ответила Марья, оглядывая вошедших.
— Для вестей фронтов не бывает,— покхекал в кулак Гришака. Говорил он скрипуче, одышливо, с затяжными перерывами между словами.— Детки как?
— А чево детки? Из всех одежек-обужек повырастали. А купить негде и не на чево. Теперь вот дома сидят.
— Хай сидят. Целее будут,— кивнул Гришака.— Время такое, лучше дома посидеть, матери помочь. Э-хо-хо… Я к тебе чево?
— Не знаю.— Марья вся натянулась.— Не с добром, поди…
Гришака усмехнулся, поиграл клюкой.
— Картошка у тебя есть? — наконец спросил он, сощурясь.
— Есть маленько,— подняла глаза Марья.— А что?
— Где она у тебя?
— Да где ж… В погребе.
— Дай-ка погляжу сколько…
Марья, поджав губу, молча вступила в сени, отковырнула ладно пригнанное творило: Иван постарался, чтобы ход не бросался в глаза.
Гришака, кряхтя, болезненно морщась, спустил черные валенки на верхние ступени и, поворотясь, попросил:
— Зажги-ка чево-нибудь…
Со стеклянным пузырем-каганцом в руке, ронявшим квелый и шаткий свет, Гришака спустился в темень подполья, помолчал там сколько-то и, оставив каганец, высунулся из горловины.
— Это все у тебя?
— Все…— соврала Марья.
— Больше… нигде нету?
— Все тут…
— Гм-м… А должно быть больше… Огород-то какой… Картошка не по огороду…
— Дак я часть продала,— продолжала врать Марья, сама вся холодея.— Прямо с огорода ворохом и продала.
— Ну-ну… Ладно тади…— болезненно сгримасничал Гришака, выбираясь из погреба.— Значит, так, голуба моя… Надобно картошкой поделиться…
— С кем это? — не поняла Марья.
— Ну, не со мной, конечно. Власти требуют.— Гришака поотряхивал рукав полушубка, словно что-то погребное прицепилось к нему.— Давай так… Давай пополам: тебе ведро, властям второе…
— Да вы что? — ужаснулась Марья.— С чем же я останусь? Ить и на семена надо оставить.
— До весны еще дожить надоть… Да ты картохами и не сажай.
— А чем же?
— Ты каждую картоху режь на четыре доли,— посоветовал Гришака.— Я уже давно таким манером сажаю. И ничево! Родит!
— Ох, не знаю, не знаю…— Марья, будто снимая паутину, обеими руками провела по лицу.— Не знаю я, как тади жить…
— Ну брось, брось! — скривился Гришака, выражая несогласие.— Тебе ли роптать… У меня с собой бумага есть. Сам себе составил. Чтоб на каждого картина была, а не чесать всех под одну гребенку. Надобно знать, у кого какое положение: каков состав семьи, сколько стариков, сколько живности. У тебя, Марья, ежели по правде, дак картошку и есть-то особо некому.
— Да как же некому? День встает, и сразу — за картошку.
— А вот гляди давай. Стариков у тебя нема. Скотины не держишь. А детки — они ить что птички божие, какая на них трата…
Марью это смутило, и она, понимая, что так все равно не отделаешься, пошла на уступку:
— Ну, хоть так: ведро — вам, два ведра — мне?
— Ох, Марья, Марья! — Гришака, сложив ладони, возвел кверху глаза.— Знала бы ты мое!.. Черта мне твоя картошка, если б на шее петля не висела. Вынь и положь двести тонн. А это со двора — тонну. А я с тебя разве тонну требую? Я ить по совести. На ущерб себе иду. Сам в петлю лезу. Не сделаю, стало быть, вот!..— Гришака краем ладони провел по горлу…— Как мы с тобой, там торговаться не будут. Хоп — и под перекладину… А у меня тоже внуки…
Марья молчала. Теперь ей и Гришаку сделалось жалко.
— Так что давай ведра, будем делить…— подытожил Гришака.— И не делить даже… А скажу наперед: по твоим запасам заберу у тебя сразу тридцать ведер, остальное твое. Договорились? А кто будет уклоняться — велено картошку забирать полностью. Но я-то такого не допущу, зачем силой ломить?
— Воля ваша…— Марья тоскливо посмотрела в темный угол сеней.
Один из полицаев, нырнув в погреб, принялся зачерпывать ведром и подавать, другой — подхватывать под дужку и относить в ящик.
Когда Гришака, отмерив ровно тридцать ведер, велел закрывать ящик соломой, ходивший за сарай полицай вдруг усмешливо объявил:
— Дурить усе: у нее на городи ще яма картопли. Гляджу, а там снип соломы от земли сторчит… Не инакше душница…
— М-да…— поскреб подбородок Гришака.— Стало быть, обманула…
И, нагнувшись к Марьиному уху, просипел сердито:
— Дура! Надо было солому-то прибрать… Я-то не видел, да они видели… А теперь что ж… Сама виновата.
На другой день приехало сразу двое саней-грабарок, полицаи вскрыли в огороде утаенную яму и выгребли все, до последней картофелины. И сколь ни просила Марья, не оставили даже на семена.
Сказали, будто Гришака велел.
Наступившей весной Марье пришлось-таки сажать картошку по Гришакиному рецепту: каждый сбереженный клубень резала крестом, на четыре доли, да и то хватило засеять четыре огородные борозды.
Так негаданно перевелась Марьина картошка, пала главная стена ее обороны.
Стратеги и полководцы измеряют войны раздвижными циркулями. Пируэты циркуля, его шажки и броски, оцениваются звездами и лучезарными орденами.
Минувшие полтора года войны, из коих основное время занимали долгие зимы, Марья измеряла своей меркой: до какого рубежа хватит этой пшеницы с Больших Ветряков; сколь ден потянется истолченная в ступе мучица, на добывание которой тратится столько времени и последних сил, в том числе и Николкиных полупрозрачных, с голубыми косточками ручонок; как растянуть последние картошинки и изгрызенные мышами бураки или последние щепоти соли, куда уже добавлено сверх меры калийных удобрений, которые, хотя и горчат и цапают за язык, но тоже солонят сколько-то… А еще спрашивалось с Марьи, в какую ветошь одеть, в какие опорки засунуть детские ноги; чем в кромешной зимней ночи поддержать усыхающую зернинку света, чем избыть голодную тоску в запавших детских глазах…
Главным на этой упорной и бессловесной бабьей войне было единственное: во что бы то ни стало выцарапать детвору из засасывающей трясины голода и нехваток.
Но где было брать пороха для этой виктории, никто не сказал и не скажет, даже в молитвах…
Опять всю ночь за ближним полем, за снежным краем холма тяжко, с раскатами рвалась морозная стынь, и Марья к своим прежним шептаньям прибавила мольбу, дабы полымя обошло их стороной и чтобы уберегло от скитания по бесприюту.
«Услышь мя, Матерь наша, а я есть и буду вечной рабой Твоей, в долгу преклоненной».
А утром из зарева рассвета объявился самолет и два раза на бреющем облетел и саму Подкопань, и Марьины выселки. Мотор могуче ярился на поворотах, резко и дробно строчил выхлопами, отчего над верхушками ракит зависали сизые хвосты.
Долго еще над логом волнующе и празднично пахло бензином, как бывало прежде в день первой борозды.
Выбегавший на крыльцо Николка влетел в избу, запинаясь от волнения:
— Мамка! Мамка! Это ж наш самолет! Разведчик! Он стал поворачивать, а на крыльях — красные звезды!
И Николка, раскинув руки, принялся показывать Любаше, как летал и разворачивался над выселками самолет.
— Я и летчика видел! — ликовал Николка.— Он глядел из кабины.
— На тебя? — позавидовала Любашка.
— Ага!
— Так уж…
— Правда! Он как раз летел над нашим колодезем. Низко-низко! Все заклепочки видать.
— И чево-о?
— Я помахал ему рукой, а он мне тоже помахал.— И, обняв Любашку, с жаром зашептал: — Может, это папка наш? Хотел узнать, как мы тут живем?
Любашка, никогда не видевшая отца, согласно закивала. От этого ее кивания теперь и Николка уверовал, что это точно был их отец и что он не посмотрел бы на немцев и непременно посадил бы самолет прямо на огороде и зашел бы в дом, если бы не снежные заносы. Пока немцы спохватились, он успел бы со всеми поздороваться и посмотреть на Любашку, какая она получилась, а ему, Николке, подарить зажигалку.
От этого перешептывания ребятишек, а может, оттого, что вдруг пахнуло близкой развязкой, Марьины глаза подернулись пленкой, а по всему телу разлилась обволакивающая немощь, будто исподволь копившаяся в ней — как застарелая хвороба. Она оперлась о дверную притолоку и постояла так, почти ничего не видя,— стояла, пока не объявился свет, а с ним и чувство реального бытия, вернувшего ей прежнюю готовность что-то делать: карабкаться на отвесную стену, сгибаться в три погибели или вытягиваться в нитку чуть ли не до самых небес, где обитала Справедливость.
К полудню по зимнему шляху, наискось пересекавшему лобастый увал, обозначилось необычное движение. За две версты было видно, как по искрящемуся полю черно, муравьино отходили немецкие войска. В снежных раскопах дороги, сдерживаемые заторами, медленно, с частыми остановками двигались короба крытых грузовиков, тащились конные фуры, на всю округу визжавшие коваными колесами, плелись разреженные и нестройные кучки солдат. Время от времени в той стороне появлялись черные дымные выбросы, медленно сносимые ленивым безветрием, а через миг доносились вздроги мерзлой земли.
Войска двигались в обход Подкопаньских выселок, направляясь к удобным, наезженным спускам через торфяники, после которых главная дорога устремлялась дальше, на запад. Выходило, что немцы не собирались задерживаться на Подкопаньском разлоге и шли напрямик к Большим Ветрякам.
Однако после полудня возле Марьиной избы внезапно объявился белоокрашенный мотоцикл с коляской. Один из немцев, в маскхалате, остался за рулем, другой, в белой бараньей дубленке и с автоматом на груди, громыхая подковками, поспешно вбежал на крыльцо и появился на пороге избы.
Он был в глубокой каске, тоже выпачканной белым и надетой поверх вязаного подшлемника, обрамлявшего лицо заиндевелым овалом. На темных, заветренных скулах проступали мясные пятна обморожений. От всего его облика, даже от белого полушубка, замызганного соляром и грязными пометами кострищ, веяло суровым дыханием войны, как и цепенящей стылостью завоеванных пространств, которые пришло время отдавать обратно.
Николка и Любашка инстинктивно почувствовали его отчужденную непримиримость и в страхе припали к матери.
— Ир зольт алле веггеен! [14] — хрипло проговорил он сквозь иней подшлемника, закрывавшего подбородок. Он покивал автоматом в сторону двери, добавил жестко: — Вег! Вег раус! [15]
Марья не поняла ни одного слова, но по тону и жестам догадалась, что их почему-то выгоняют из дому. От ее лица толчками отлила кровь, и губы враз сделались бесчувственными и чужими, не способными что-либо проговорить.
— Алле зи лос! [16] — повторил он нетерпеливо.— Ди цайт дренгт! Лос! Лос! [17]
Внезапно за дорогой, на грядках нижнего огорода, грязным кустом из пыли и дыма вскинулся взрыв. В уличную стену избы толкнуло так, что посыпалась глиняная обмазка.
Немец, указав на окно, где под расковыренной землей все еще висел серый клок дыма, повысил голос:
— Ман дарф нихт хир зайн! Хир ист ди фронт! Дарауф штетт тодесштрафе! [18]
Поозиравшись по сторонам, немец схватил висевшее на гвозде Николкино пальтишко и бросил его к Марьиным ногам.
— Цит ойх шнель ан! [19]
Марья принялась одевать Николку. И как нарочно, все застегивала не ту пуговицу.
— Шнеллер! Шнеллер, тойфельсвайб! [20] — Немец снова дернул автоматом.— Их хабе кайне цайт! [21]
Он достал из-за пазухи полушубка карманные часы на цепочке, распахнул крышку и раздраженно выкрикнул:
— Цейн минутен! Цейн минутен! [22]
Резко повернувшись, немец поднырнул каской под дверной косяк и вышел в сени.
Под окнами забубнил мотоцикл, неожиданно злобно рявкнул и помчал по уличной дороге к Затулихиному подворью — должно, выгонять Затулиху.
— Ох, куда ж это?! — заломила руки Марья.— Да деточки вы мои!
Переняв Любашкину дрожь, она бестолково, суетно забегала по избе, не зная, что делать, что собирать. Наконец распахнула сундук и бросила на пол шалицу, растянула углы. На ее середину покидала кое-какие свои и ребячьи пожитки, под тряпье подсунула когда-то купленный Иваном ридикюль, набитый семейными бумагами и налоговыми квитками, сверху бросила соль в тряпочке, кружку, початую свечу со спичками и самую малую иконку — Казанскую. В последнюю минуту вспомнила про еду и завернула в клеенку еще теплый чугунок с пареными бураками. Больше брать было нечего, и она, поозиравшись и перекрестясь в святой угол, где сиротливо оставался большой померкший Никола, дрожащими руками свела и затянула над поклажей концы платка.
Того сердитого немца все не было, поди, расправлялся с Затулиной Катериной. Той хоть есть куда бежать, у нее в Подкопани двоюродная сестра, только лог перейти… Дак а если и оттуда выгоняют? Не приведи господи…
Наконец снаружи послышалось натужное нытье мотора, но это оказался не тот белый мотоцикл, а два крытых грузовика с пушками… Потом проехало несколько конных фур, и следом торопко, вразлад мелькая касками, прошамкали сухим истолченным снегом пешие немцы.
И тотчас где-то совсем близко рвануло, резко звякнули горничные стекла, и стало слышно, как застонало надрубленное дерево, как зашлось оно долгим надсадным скрежетом и наконец тупо грохнулось о мерзлую землю.
— Мамка-а…— тихо заплакала Любашка.— Я боюсь… Я не хочу туда…
— Что ж мне с вами делать? — Марья уронила руки.
— Я не хочу туда…— вздрагивала плечиками Любашка.— Там стреляют…
— А мы и не пойдем! — не веря самой себе, утешала Марья.— Куда ж нам идти? Из своего-то дома? Вот и не пойдем… Пусть стреляют! А мы не пойдем!
Любашка мокро посмотрела на мать, а та вдруг, как бы на что-то решась, вскинулась голосом:
— Коленька, сынок! Побеги отвори погреб! Да сбрось туда узел. А я водицы начерпаю… Ох, побыстрей, родненькие… А то страшный немец опять явится.
В темном, глухом подполье сразу стало надежней и безопасней, хотя и тревожило неведение: что там снаружи… Дети поутихли и молча, настороженно сидели рядышком на пустой перевернутой бочке, прислушиваясь к потолку. Марья знала, что даже здесь, под полом, под толщей земляного настила, она услышит шаги, если кто войдет в сени. Надо только надеяться, чтобы не нашли погребной лаз. Спускаясь, она набросила на дощаное творило старую изношенную попону, которой прежде укрывала картошку, и лишь потом опустила его за собой. Брошенная в сенях истертая попона — вполне неприметная, не вызывающая чужого интереса безделица.
«Даст Бог, все обойдется…» — думала про себя Марья и лишь тревожилась, чтоб не застудились дети. Здесь было, как в нетопленом закутке: если долго сидеть недвижимо, начинали зябнуть руки, и Марья набросила на спины ребятишек пустой крапивный мешок.
Время от времени в разных местах на выселках раздавались взрывы, иногда по нескольку сразу, отзывавшиеся в погребе тихим струением сухой земли по-за обшивкой. Наверно, еще не село солнце, когда по содроганию погребных стен и проникающим звукам Николка с матерью догадались, что к ним во двор въехала какая-то большая машина. Она долго ревела мотором, слышались крики, треск рушимой древесины, затем послышались размеренные удары по мерзлой земле, видимо, долбили киркой или ломом. Марья не понимала, что означала эта возня во дворе, должно, что-то там переиначивали на свой лад, для своих надобностей.
В сенях и далее по избе тоже раздавался топот: туда-сюда ходило сразу много людей. В доме чем-то стучали, что-то тяжелое грохалось о пол, потом принялись пилить, и по тому, как скрежетало дерево, Марья поняла, что в сенях пропиливали дыру, как раз в той стенке, что прежде глухо гляделась в поле.
Через час или два машина уехала, но в доме по-прежнему прослушивались шаги, и это означало, что оставшиеся немцы собираются тут ночевать.
«А я-то, дура,— вяло корила себя Марья,— я-то саморучно натолкала в печку дров, думала, как всегда, вечером истопить. Осталось только поднести спичку… А не натолкала б, дак и лавку начнут палить, и сундук изрубят… Им все нипочем: нынче здесь, завтра там… А наши бедолаги, Ванька мой, поди, теперь в поле ножка об ножку стукают, в кулаки дуют. Ну ладно, пусть топят, глядишь, наши придут, в самый раз и погреются. Хуже, если вздумают разжиться съестным. Тогда неминуче примутся искать погреб».
Но погреб, кажется, искать не стали, хотя много раз немецкий сапог наступал на деревянное творило под попоной, отчего Николка и Любашка несколько затаивали дыхание.
Было и такое, когда в избе вовсе затихли шаги и умолкли разговоры, и уже казалось, будто немцы наконец находились и полегли ниц. Но немцы еще не спали. Просто Марья не знала, что пришло время их штатного ужина, кем-то принесенного из общей кухни, и они, выпив по оловянной плошке солдатского шнапсу, на время затихли, ковыряя ложками гороховую кашу с баночной колбасой. А что они выпили, можно было сообразить по тому гвалту, который вдруг поднялся, едва были только выскреблены котелки. Тут же комарино запикала губная гармошка и даже всплеснула какая-то бодрая и шагалистая песня, которая, однако, тут же оборвалась и перешла в короткий удовлетворенный хохот.
В наступившем затишке Марья вспомнила, что ее ребятишки еще ничего не ели. Она выпростала чугунок и оделила каждого свекольной четвертинкой.
— Мам, а чего наши стреляют-стреляют, а не идут? — прошептал Николка.
— Сегодня уже поздно. Слышишь, уже и не стреляют.
— А когда?
— Завтра придут,— обманула Марья.— Переночуют, а завтра утром и придут И мы давайте спать тоже. Поешьте пока, а я тут на мешках постелю. Проснемся, а немцев уже не будет, наши придут…
— И папка придет?
— Дак и папка наш…
Утомленные дети окончательно сморились и затихли в углу на подстилке.
И только Марья недремно слушала ночь.
Было неведомо, который шел час, когда выселковская земля вдруг заходила, завздрагивала от множества разрывов и погреб наполнился запахом сухой пыли. В кромешной темноте Марья нащупала детей и, раскинув руки, прикрыла их своим телом.
— Ничего, ничего, маленькие,— торопливо уговаривала она.— Все будет хорошо. Это наши стреляют… Это наши…
Но и «не наши» тоже начали стрелять. В сенях, как раз над подпольем, раздались резкие прерывистые выстрелы: «бамс-бамс-бамс…» А спустя снова: «бамс-бамс-бамс-бамс…» И каждый раз на пол со звоном падало что-то металлическое и пустое: «день-делень-делень…» И опять: «день-делень-делень…»
«Га-а-ах!» — вздрагивала земля где-то на огородах.
«Бамс-бамс-бамс…» — отвечали из сеней.
«День-делень-делень…» — скакало и катилось по полу.
И тут с Марьиного двора, перекрывая все прочие звуки, долбануло басовито и звеняще: «Бдо-о-он-н!»
Марья, конечно, не ведала, что это ударила противотанковая пушка с надульником. Еще вчера, завалив курятник, немцы установили ее в образовавшемся проеме.
«Гк-ах! Гк-ах!» — тупо рвалась окоченевшая земля.
«Бамс-бамс-бамс…» — методически содрогался воздух.
«Бдо-о-он!» — вздрагивали одновременно воздух и земля.
И тут рвануло так, что заложило уши.
Наверху, в избе, с тяжелым треском и грохотом что-то завалилось и рухнуло, раздались крики и следом затопотали сапоги…
В погребе же от сотрясения осыпался угол, все заполнилось густой затхлой пылью, забившей ноздри и глаза. Дети тяжко закашлялись, особенно Любашка, которую тут же стошнило, и она заплакала.
— Ничего, ничего…— как могла утешала Марья.— Все мы живы и здоровы. Ничего страшного…
Она оторвала от нижней юбки лоскут и плашмя приложила к Любашкиному лицу.
— Подержи-ка! И ты, Коленька, приложи: так дышать лучше! Все будет хорошо…Уже скоро, уже скоро…
То самое, что звонко бамцало из сеней, после недавнего грохота в избе перестало бамцать. И вообще, кажется, в доме никого не осталось. Но во дворе по-прежнему продолжали стрелять — еще чаще, чем прежде. Бабахали до тех пор, пока не послышался грозный моторный храп и ледяной лязг гусениц. Сразу же что-то железно загремело, заскаргыкало, заскребло жесткую, колчеватую землю, и вот уже гусеницы пролязгали через Марьин двор в самой малости от сеней, от содрогавшегося погреба. А там совсем не стало чем дышать, в обрушенный угол тянуло дымом, дети плакали, совсем не скрывая голосов, и Марья, отчаявшись, решилась приоткрыть входную дверцу — приоткрыть самую малость, лишь бы только глотнуть свежего воздуха. И первое, что проникло под попону, был хриплый горловой выкрик:
— Свистунов, мать твою так! Не пускай, не пускай их к лесу! Отсекай дава-ай!
И следом полоснула долгая автоматная очередь.
С радостным и нетерпеливым порывом Марья отбросила неволившую крышку подполья, но тут же окуталась плотной пеленой дыма, вихрастыми клубами валившего в сени из распахнутой кухонной двери. А когда, подцепив под мышки сразу обоих детей, выносила их на волю, оттуда уже бил огонь, облизывая дверной косяк и соря искрами под самый латвинь.
Марья перенесла детей через дорогу, подальше от занявшейся избы, посадила на упавшую яблоню, что еще вчера росла в начале ее нижнего огорода, и села сама, подперев непокрытую голову руками. Дворовый конек камышовой крыши был разрушен давешним взрывом, из пролома ощеренно торчали расщепленные доски и стропила, и сквозь них валил сизый, туго закрученный дым, который высоко над избой распускался вширь и розовел от взошедшего солнца.
Марья смотрела на пожар обреченно и бесстрастно, с упавшей и замершей душой, уже ни о чем не просящей, и даже не осознавая, что пробившийся наружу яркий огонь змеино облизывал не только сухой устоявшийся сруб, но и поглощал ее минувшее, а может, и будущее… Ее остановившийся взгляд удерживал даже не сам пожар, а одинокий цветок герани на еще не тронутом огнем подоконнике, хотя и на него она смотрела отстраненно и без сожаления, как на завораживающее алое пятно.
Но еще тягостнее был взгляд ее уставших и притихших ребятишек.
Было по-утреннему морозно, но от избы начинало навевать теплом, и это приносило ей какое-то подсознательное животное удовлетворение, заставлявшее ворочаться единственную мысль о том, что хоть дети погреются.
В сквозном теперь дворе, с порушенными плетнем и сарайками, вспаханном колесами грузовика и танковыми гусеницами, вразброс валялись гильзы, багрово мерцавшие от пожара, и сама пушка, опрокинутая и раздавленная, с долгим погнутым стволом и страховитым набалдашником, еще недавно плевавшим в ночь это свое гнусавое «бдо-о-он-н! бдо-о-он-н!»
Марья смотрела на все это, как на сор, не выделяя и не замечая ничего в отдельности.
И когда обернулась и окинула глазами позади себя заснеженные гряды своего нижнего огорода, приютившегося между уличной дорогой и лесной зарослью торфяной излоги, она так же, как на сор, поглядела и на трех убитых немцев, к каждому из которых тянулись от Марьиного двора пунктиры свежих следов на упавшем инее.
С восходом солнца стрельбу унесло, как ветер уносит гром и черные тучи, и на выселках выстоялась какая-то вязкая, звенящая в висках тишина. Было тихо и на той стороне, в Подкопани. Куда-то девались сразу и немцы, и наши, занятые убеганием и догонянием, засадами и перехватами, и Марья еще так и не видела ни одного своего солдата. Лишь много спустя по выселкам как-то запоздало и ненужно проехала полуторка с дымящейся кухней в кузове. Там же торчало несколько серых, похожих на детдомовцев красноармейцев в подвязанных под бороду ушанках. Марья уже не испытывала к ним никаких чувств: они выглядели так обыденно, что казалось, будто никогда и никуда не пропадали.
Заметив ее, сидящую на поваленном дереве, один солдат помахал культяпой рукавицей и послал бодрое приветствие:
— Все, мать! Дали прикурить! Теперь полный порядок!
Полуторка скрылась в иссохших заиндевелых бурьянах междудворья, оставив после себя крутой запах варившейся пшенки. Николка и Любашка невольно задвигали бескровными, обострившимися носами, жадно ловя этот густой и, казалось, съедобный воздух.
— Мам, а мам…— шепотом, как прежде в погребе, позвала Любашка.— Мам, а где мы будем жить?
Марья, продолжая глядеть, как исчезала со свету ее изба, промолчала, а может, и не услышала Любашку.
И та больше не спрашивала.
Между тем перегруженная слежалым снегом крыша шумно обвалилась внутрь сруба, оттуда взметнулось слепяще белое, все в нежных округлостях облако пара, огненные языки, багровея и чадя, убрались вовнутрь засквозившей бревенчатой решетки, но вскоре, как бы опомнясь, снова полезли во все дыры и проемы и, не встречая больше препятствий, слились над избой, над ее коробкой в единое гудящее пламя, которое почти не исторгало дыма, а обращало морозный воздух в дрожащую перегретую зыбь.
Теперь даже здесь, в двадцати метрах от этого яростного кострища, сделалось жарко и тягостно. Марья машинально расстегнула свою ватную стеганку и поглядела окрест, куда бы отодвинуться, на что бы пересесть.
И… что такое? На том месте, где только что валялись три немца, остался только один…
Подумалось, что те двое были всего лишь ранены и теперь, отлежавшись, уползли в лог, потому что туда, в заиндевелые заросли, протянулись две свежие, ровно пропаханные борозды.
И в этот момент из-за кустов объявилась женщина, глухо закутанная толстой суконной шалью и с мотком веревки в руках. Взбивая снег, она пробралась к оставшемуся на пустыре немцу, набросила веревочную петлю на оба его сапога и, перекинув веревку через плечо, тужась и нагибаясь, поволокла труп к кустарнику. Раскинутыми руками немец загребал рыхлый пушистый снег, поверху припорошенный еще более легким инеем, будто упрямился и не хотел, чтобы его тащили в болотные дебри.
Наливаясь остервенением, Марья кинулась вдогонку.
— Стой! Сто-о-ой! — заорала она чужим, неузнаваемым голосом, какого она сроду за собой не слыхала.— Стой, гадина!
Женщина перестала тянуть и вяло, медленно обернулась.
— Чево ж ты делаешь, а? — крикнула Марья, замахиваясь кулаком.— Ах ты, тварь бесстыжая!
Женщина молчала, испуганно мигая в глубине шали.
— Ты чево ж разбойничаешь, а? — Марья вырвала из ее рук веревку.
— А што? — не поняла женщина.
— Он твой, что ли, что ты волокешь ево? Твой?
— А чей? — проговорила та слабо, прокапывая в обвязке шали лазейку для слов.— Он же немец. Ничей, стало быть…
— Да как же ничей, ежли на моем огороде?! Или у тебя зенки повылазили? Чево ж у себя не шкодишь, а по чужим дворам шастаешь?
— Дак у нас там сразу всё обобрали. На нашем краю было много убитых, две машины пожгли, да ничево не досталось. Подкопаньские опередили. Толечко пальба стихла, а они уже вот они — с салазками да сидорами… У меня третий день шею свело, пока раскачалась… А тут, гляжу, будто тебе не надо…— оправдывалась женщина.— А то неш я посмела б?
— Тоже нашлась совестливая! — продолжала ненавидеть Марья.— Из-под самого носа уже двоих уволокла!
— А чево с них… Простые оба… Шинели только. А штаны все потертые, небо видать. Исподнее полно вшей. Я в снег закопала, пусть вымерзнут, потом приду заберу.
— Ну да, ври… Ищи дуру,— отчуждалась Марья.— Часов, поди, двое, да кольца посрывала… А у меня тоже двое, вон на колоде сидят, от пожара греются… Хоть бы подумала, а мне чем жить? Чем, скажи? Все дотла погорело!
— Ну, дак забери этова,— предложила женщина.
Она готовно сняла с немца веревку.
— Дак и с тех забери, коли твои. Я рази не понимаю? У меня у самой сироты. С похоронкой второй год живу.
Марья очнулась, прояснилась разумом, будто опал вставший дыбом какой-то пещерный загривок.
— А ты откуда сама? Разве не подкопаньская?
— Да Прасковья я ж! — назвалась женщина.— Палашка Букасова. С выселок я, с того конца. Ай не признаешь?
Марья пытливо поглядела под нависшую шалку.
— Вместе бригадничали, ревматизму проворили…— подсказывала женщина.
— А ить и правда, Палашка! — признала-таки Марья.— Я ж тебя чуть не поколотила! Ей-бо, побила бы…
— Дак ты этого-то забери-и! — продолжала настаивать Палашка, желая сделать Марье что-нибудь хорошее, дружеское.— На нем шуба баранья. Небось, и внутри побогаче. Офицер, поди… Продашь чево, перешьешь детишкам…
Обе оценивающе поглядели на немца.
— Знала бы его жена, где он теперь…— неожиданно пожалела Марья.— И никто ей не скажет этова…
Она вдруг разглядела в нем того, сердитого, с белого мотоцикла. Лицо его, запорошенное снегом, было неузнаваемо, но на нем, кроме знакомой дубленки, был еще все тот же вязаный подшлемник под белоокрашенной каской. А с левого бока каски свисало и волочилось петушиное перо, приклеенное хлебным мякишем.
— Ох, не надо мне ничево-о-о! — Марья вскинула руки, внезапно обняла Прасковью и, ткнувшись лицом в шаль, заголосила, запричетывала в ее холодной темноте.— Ох, ничево… Ни серебра, ни злата… Не мое это… Не мое… Я ить на тебя со зла, от лихоманки…
И, отстранясь от Палашки, жестко пнула немца ногой:
— Забирай, если хошь… Все равно закапывать… А мое только вот…
Она присела и отколупнула от каски долгое синее перо, все еще игравшее бегучей позолотой.
1995
Переправа
То лето прошло в стремительном наступлении. Еще в конце июня наша батарея вела огонь с плацдарма на берегу Днепра, а уже к сентябрю, продвинувшись чуть ли не на шестьсот километров, подступили к Польше.
Впереди, над черепичными крышами и зелеными кущами городков и местечек, стали маячить непривычные силуэты темных готических костелов, начиналась иная земля, и в частях царило возбужденное оживление: Европа!
В одну из коротких передышек старшина выдал нам свежее обмундирование взамен вконец износившегося, комбат, оглядев построенную батарею, приказал всем постричься, побриться и начистить сапоги.
Но уже на другой день новые гимнастерки да и мы сами запылились до прежней обыденности. Войска валили нескончаемым потоком. В клубах дорожной пыли грохотали танки, артиллерия, шли зачехленные катюши, оседали под тяжестью боеприпасов грузовики, скрипели конные обозы со всякой солдатской пожитью. А мимо, уступая главную дорогую технике, по обочинам и тропкам все топала и топала матушка-пехота.
Иногда от нечего делать кто-нибудь задевал с машин:
— Эй, пехота! Сто верст прошла — еще охота! Давай сюда, перекурим!
Однако усталые, взмокшие пехотинцы, обвешанные скатками, подсумками, саперными лопатками, молча и сосредоточенно продолжали гуськом обтекать забитую машинами дорогу.
Но вот за пыльной, прореженной обстрелом рощицей вдруг открылась какая-то река с понтонной переправой. С высокого склона нам было видно, как скопившиеся войска вздулись гигантским клубком, из которого медленно выпутывалась узенькая лента машин и орудий и, вытянувшись по переправе, устремлялась по ту сторону.
— Все, братцы, припухаем…— заметил один из батарейцев, опасливо озираясь по сторонам.— Не хватало еще немецких пикировщиков.
— Прошло их время,— отозвался другой.— Гляди-ка!
Над переправой пронеслась четверка «лавочкиных» {54} — недавно появившихся на фронте скоростных истребителей, прикрывавших с воздуха это уязвимое и опасное место.
Сидеть на застрявших машинах, время от времени продвигавшихся на десяток-другой метров, вскоре наскучило, и мы с командиром нашего орудия старшим сержантом Боярским спрыгнули за борт. Нам не терпелось поскорее спуститься к реке, попить заграничной водицы, умыться и просто так полежать на зеленом лужку до той поры, пока пустят на переправу и нашу батарею.
Внизу, на въезде, шумел, размахивал руками запаренный и охрипший капитан. По красной повязке на рукаве кителя мы догадались, что это был сам начальник переправы. Его осаждали шоферы и ездовые, напирали со всех сторон, что-то кричали и требовали, но он, увертываясь и ошалело мотая головой в запыленной фуражке, неприступно твердил:
— Ничего не знаю! Нич-чего не знаю!
Он только что пропустил на мост колонну тяжелых гаубиц и, заглядывая в блокнотик, превозмогая шум и галдеж, сипло вызывал:
— Триста восьмой полк! Где триста восьмой?!
Пехота триста восьмого, не спрашивая разрешения, уже давно была на той стороне, но полковые обозы, оттесненные мехчастями, съехали на берег и только теперь, дождавшись своей очереди, на рысях начали выкатываться из прибрежных лозняков. Погромыхивали походные кухни, некоторые уже кадили дымком, зеленые армейские фуры и просто крестьянские телеги, нагруженные патронными цинками, санитарными носилками, мешками с крупой и сухарями, тюками прессованного сена. Кони тоже были далеки от прежних кадровых стандартов — иные по-домашнему под дугой, с веревочными вожжами, мослатые, вислобрюхие, с бабьими распущенными косицами по глазам,— неказистые обозные лошаденки, невесть где добытые за время долгого наступления из глубины России. Начальник переправы, поглядывая на них, хмуро кривился, должно быть, оттого, что вынужден был пропускать такую пеструю обшарпанную базарщину на ту сторону. Казалось, будь его воля, он завернул бы весь этот колхоз, свалил бы в кучу и поджег к чертовой бабушке. Но война не признавала никакой эстетики, и по ребристому настилу моста, разя дегтем и конским потом, обыденно и скучно затарахтели обозные телеги.
И вдруг начальник переправы, всякое повидавший, вздрогнул и обалдело вытаращил глаза: над задком очередной повозки, покачиваясь из стороны в сторону, возвышалась над сенными тюками какая-то лошадиная не лошадиная, баранья не баранья, а черт знает какая морда с круглыми ушами и рыжим кудлатым коком.
— Стой! Стой! — Капитан сорвался с места и вскинул руки запрещающим крестом.— Стой, говорят!
Ездовые, не понимая, в чем дело, недоуменно натянули вожжи, затпрукали, обоз остановился. На крик повалили любопытные. Вскочили с лужайки и мы с Боярским.
— А это еще что такое? — доносился голос начальника переправы.
Над толпой, что-то жуя, шевеля дряблыми синими губами, рыжим валенком торчала голова верблюда. Протиснувшись, мы увидели длинную телегу с решетчатыми бортами, сквозь которые выглядывало несколько станковых пулеметов. Коренастый, дочерна загорелый возница, похожий на фотографический негатив еще и оттого, что на нем сидела почти добела выцветшая пилотка, непонимающе мигал белыми ресницами.
— Что еще за новость? — гневно добивался начальник переправы, тыча блокнотом в сторону верблюда, должно быть олицетворявшего в его глазах крайнюю разболтанность и непорядок.— Тебя спрашивают!
— Сами видите… Верблюд это…— промямлил наконец обозник.
— Какой еще верблюд?! — побагровел капитан оттого, что животное это было все-таки названо со всей очевидной определенностью.— Какой еще, спрашиваю, верблюд?! — побагровел капитан.— Ты бы мне еще корову в оглобли поставил… Заворачивай к едрене фене!
— Как же так, товарищ капитан…
— А вот так! Никаких верблюдов!
— Мне назад никак нельзя. У меня пулеметы.
— Ничего не знаю!
Возница растерянно посмотрел на собравшихся.
— Товарищ капитан…
— Всё! Всё! Не задерживай мне движение, а то вызову караульных. Совсем разболтались, понимаешь… Армия это тебе или цыганский табор? Да ты хоть соображаешь, кочанная твоя голова, куда вступают наши войска? Перед нами Европа, вот она, а ты прешься со своим верблюдом, позоришь Советскую армию. Тьфу!
Капитан ожесточенно сплюнул и брезгливо окинул воспаленными от колготы и бессонницы глазами громоздкую скотину в лохмах бурой шерсти на опавших горбах и тощих ляжках, столь нелепую здесь, на фронтовой дороге. Верблюд же продолжал с буддийским спокойствием перекидывать из стороны в сторону нижнюю челюсть, как бы по-своему, по-верблюжьи пренебрегая людской суетой и перебранкой и даже тем обстоятельством, что перед ним простиралась Европа — за тысячи верст от его родных колючек и солончаков.
— Хороши, скажут, освободители…— продолжал распаляться капитан.— И куда только командир смотрит? Такой же, наверное, разгильдяй.
Неожиданно по всему спуску, забитому войсками, вспыхнула какая-то суматоха. Разбредшиеся было артиллеристы опрометью бежали к своим орудиям, пехотинцы спешно строились в колонны, командиры, придерживая планшетки, торопились к своим подразделениям.
По склону, пробираясь сквозь сгрудившиеся войска, спускались две черные эмки. И вот уже до переправы донеслось сдержанное и настороженное:
— Командующий! Командующий едет!
Капитан торопливо одернул китель и, погрозив ездовому пальцем: «Вот я т-тебя! Чтоб духу твоего здесь не было!» — побежал от моста.
Перепуганный обозник задергал вожжами, зачмокал: «Чоп! Чоп!», но пока все это дошло до верблюда, пока тот раскачивал свои долгие ходули и потом неспешно воротил телегу на сторону, и вовсе перегородив ею въезд на переправу,— где-то совсем рядом уже хлопнули автомобильные дверцы. Сквозь ряды солдат замерших по стойке «смирно», к предместью направлялась группа генералов и штабных офицеров. Среди них, возвышаясь над остальными чуть ли не на голову шел ладный, молодцеватый генерал с крутым разлетом бровей под алым околышем фуражки. Это был Рокоссовский {55}.
Начальник переправы, выбрасывая носки пыльных брезентовых сапог, хватил строевым и, шлепнув задниками в пяти метрах перед командующим, запел хриплым речитативом:
— Товарищ командующий! Вверенные вам войска ведут переправу через…
— В чем дело, капитан? — остановил его Рокоссовский.— Что за базар на переправе?
Начальник переправы, вытянув руки по швам, мельком обернулся, пытаясь удостовериться, стоит ли этот распрю клятый верблюд. Но командующий уже заметил злополучного зверя и, обходя капитана, вместе с остальными генералами и офицерами направился к повозке, возле которой, спрыгнув на землю, стоял ни жив ни мертв вконец перепуганный возница.
— Верблюд, товарищ командующий,— семеня сбоку, пытался пояснить ситуацию начальник переправы.— Я ему: нельзя, а он не понимает…
Командующий, подойдя к повозке, со вниманием оглядел верблюда. На его живом лице обозначились мальчишеское любопытство и удивление.
— Каков, а? — обернулся он к генералам.— Философ! Ну и почему вы его не пропускаете, капитан?
— Прямое политическое недомыслие, товарищ командующий! Мы теперь не у себя дома, чтобы ездить на чем попало. Его здесь и сфотографировать могут, и вообще… А потом пойдет по газетам, поднимут шумиху: русские, мол, выдохлись, на верблюдах воюют…
— Да-а, политическое недомыслие.— Рокоссовский вскинул бровь.— Какой части солдат?
— Ездовой Товарняков, второй роты, второго батальона триста восьмого полка…
— Какая армия?
— Шестьдесят пятая, товарищ командующий.
— Сталинградец, значит?
— Так точно, товарищ генерал армии!
— Выходит, вместе воевали. Ну а верблюд у тебя откуда?
— Тоже оттуда, из тех мест.
— Что же ты на лошадей не поменяешь?
— Да где же их было взять? — развел руками ездовой.— Моих под Сталинградом побило, я и запряг вот его. А теперь и менять жалко, привык. Еду — доеду. Вон уж сколько проехано вместе. Хотели его на мясо забить — исправный, не хромает.
Командующий усмехнулся, снова с интересом посмотрел на верблюда.
— Но не по уставу ведь, а? Вот и начальник переправы не пускает…
— Дак, товарищ командующий! Верблюд, ежели разобраться, он получше лошадей будет. Он у меня вроде долгоиграющий.
— Какой, какой?
— Недельного заводу,— оживился солдат.— Лошадь кажинный день есть-пить просит. А этот и день идет, и неделю — ничего не требует. Вот как под Волковыском {56} охапку веников съел, так и по сей день. А уже которые сутки в походе. Очень экономная скотина.
— М-да… Ну вот что, капитан.— Командующий похлопал верблюда по мягкой шее.— Нечего нам перед Европой стыдиться. Кроме этого верблюда вон у нас еще какая техника — мостов не хватает. Кстати, сегодня же начинайте наводить новую переправу. Тут же рядом, чтобы в два потока.
— Есть! — вытянулся капитан.
— А верблюда пропустите, пропустите. Пусть в Европе смотрят и на него. И кое-кто лишний раз вспомнит, что мы пришли от самых стен Сталинграда {57}.
Обрадованный ездовой, забежав вперед, схватил верблюда за повод.
— Постой,— удержал его Рокоссовский.— Что же ты — сталинградец, а наград не вижу? С пустой грудью вступаешь в Европу. Иль воевал плохо?
— Так ведь…— Ездовой дернул погонами.— В обозе я… Какие награды?
Рокоссовский обернулся к адъютанту:
— Запишите-ка бойца. Сообщите в полк, пусть представят.
Верблюд, не внемля ничему, все в том же невозмутимом раздумье продолжал глядеть поверх переправы на затуманенные шпили готического собора.
— Ну, солдат, догоняй, догоняй своих. Не задерживай движение. До встречи в Берлине!
И командующий, улыбнувшись, взял под козырек.
1975
Красное вино победы
Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.
Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.
После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,— после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.
Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки… Белое, белое, белое… Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель…
Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.
Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.
— Опять букет располовинили,— журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина.— Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!
От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте…
С тех пор койки их пустовали.
В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые,— со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.
После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.
Было видно, что теперь все кончится без нас.
В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах {58}, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже мало-мальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках…
Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.
Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.
Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.
Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.
Наконец хирург выпрямился и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.
Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа… Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.
Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:
— Солдат, а солдат… Солдат, а солдат…
Она произносила это с механической однотонностью, как, наверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю…
— Солдат, а солдат…
Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:
— Унести!
Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.
— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони…
Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посредине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.
Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.
В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим! — И, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: — Самосадик я садила, сама вышла прода-а-ва-ать…»
Но все это было еще в январе.
Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.
— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска и зависть.
Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро {59}, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло…
— На войне, как в шахматах,— сказал Саша.— Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.
Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.
К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.
— Теперь мат будут ставить без нас,— задумчиво продолжал он.
— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.
— Да как-то ни то ни се… Шел-шел и никуда не дошел… Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.
— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать… Под самый конец.
Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак.
Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.
Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа {60}. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств… От ран моих попахивало собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание… Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое… Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то, для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями…
— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.
Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась самолетом.
Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.
— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.
— Дак какие медали…— слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин.— За езду рази дают…
— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?
— Как не видел. За четыре-то года… Повида-а-ал…
— Стрелять-то хоть доводилось?
— Дак и стрелял… А то как же. В окруженье однова попали… Вот как насел немец-то, вот как обложил… Дак и стрелял, куда денешься.
— Убил кого?
— А шут его разберет. Нешто там поймешь… Темень, пальба отовсюдова…
— Небось перепугался?
— Дак и страшно… А то как же.
— Это где ж тебя так разделало?
— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. Поехали за старшим… Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что… Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было… А тут вот и получилось нескладно…
В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.
— Ты давай ешь,— наставлял его Бородухов.— Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.
Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.
— Ему бы клюквы надавить,— говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях.— Дак где ж ее взять… Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как до́бро жар утушает, клюква-то.
Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.
— Из дому? — спросил Бородухов.
Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.
— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?
Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.
— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.
Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.
— Сам хочет, сам,— догадался Самоходка.
— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов.— Своими-то глазами лучше.
Косячок развернули и вставили ему в руки.
Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал… Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными, неловкими буквами, написанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».
Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.
Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.
Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко остриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.
Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.
— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю ему, давай, милай, помогу. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся… Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.
Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.
В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.
— Чего ему? — поднял голову Бородухов.
Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.
— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.
— Солнце вижу… Поле вижу…— не оборачиваясь, ответил Михай.
— Далеко, спрашивает? — переводил я шепот Копешкина.
— Поле? А там… За рекой.
— Какое оно? — говорит.— Что посеяно?
— Зеленое. Хлеб будет.
Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены,— очистившемуся, синему, высокому,— чувствовалось, как там теперь привольно.
— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.
— Дома, люди…
— Девчата ходят?
— Ходят.
— Красивые? — допытывался Самоходка.
Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.
— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?
— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.
— Ему теперь не до девок,— сказал Бородухов.
— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка.— Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!
Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую,— упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.
Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.
А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое, в общем-то, открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.
Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:
— Нэ надо… Что тебе стоит?
— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?
— А! — морщился молдаванин.— Ты послушай, послушай… Птица поет.— Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику.— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!
Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.
Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.
Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов… Но все-таки не верилось, что это и есть конец.
И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого… Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.
От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.
Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.
А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.
— Спишь?
— Да нет…
— Кажется, Дед приехал.
— Похоже — он.
— Чего бы ему ночью…
По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды {61}. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее,— поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы, в общем-то, догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду,— сказал он ему,— одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.
И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены.
— …Выдать все чистое — постель, белье.
— Мы ж тильки змэнилы.
— Все равно сменить, сменить.
— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.
— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.
— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба…
— Потом вот что… Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?
— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.
— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то… День! День-то какой, голубчик вы мой!
— Та яснэ ж дило…
Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу-бу…»
Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи… Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время… Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.
Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.
— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он.— Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.
Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерся глазами о правый обрубок руки.
— Михай, победа! — ликовал Саенко.
Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.
— Сашка, проснись!
Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:
— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?
— Это у меня… нога привязана…— сопел Самоходка.— Я бы тебе… вставил, куда надо…
— Бросьте вы, дьяволы! — окликнул Бородухов.— Гипсы поломаете.
— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:
Эх, милка моя, Юбка лыковая…Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.
У меня теперь нога Тоже липовая…За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.
— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты.— Эй, ребята! Слышите!
Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.
Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.
— Это что еще такое? Сейчас же по местам!
Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.
— Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети… Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит…
Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.
— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!
Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее, Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.
Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.
Город тоже не спал.
Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок…
Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье,— повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.
— Что там, Михай?
— А-ай-ай…— качал головой молдаванин.
— Что?
— Цветы несут… Обнимаются, вижу… Целуются, вижу…
Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.
— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какаято женщина, разглядевшая Михая.— Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а…
— Мам, не надо…— долетел взволнованно-тревожный детский голос.
— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! — продолжала вскрикивать женщина.— Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а…
— Ну, не плачь, мам… Мамочка!
— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится,— уговаривал старческий мужской голос.— Мало ли что…
— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и…
И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой…Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна…Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева.
Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:
Идет война народна-йя-яя…От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас…
Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблуки.
Эх, Гитлер-фашист, Куда топаешь?! До Москвы не дойдешь — Пулю слопаешь!Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.
И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:
Я по карточкам жила Четыре годочка — Ненаглядного ждала Своего дружочка! Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их…Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.
Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.
Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.
— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.
— Разрешите?..
В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.
— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь.— Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?
— Какие тебе, батя, фотографии,— сказал Саша Самоходка.— На нас одни подштанники.
— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас… Доверьтесь старому мастеру.
Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.
— Это все в наших руках. Пара пустяков… Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу.— Позвольте начать с вас, молодой человек.
Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.
— Все будет в лучшем виде,— приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы.— Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку… Прекрасно! Можете удостовериться.— Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя.— Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?
— Как — «чину»? — не понял Михай.
— Сержант? Старшина?
— Нэ-э…— замотал головой Михай.
— Он у нас рядовой,— подсказал Саша.
— Это ничего… Если правильно рассудить — дело не в чине.
Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.
— Желаете с орденами?
— У него при себе нету,— ответил за Михая Самоходка.— Сданы на хранение.
— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?
— Нэ надо…— покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль «За боевые заслуги».— Чужих нэ надо.
— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге.— Я вам могу подобрать точно такие же.
— Нет, нэ хочу.
— Скромность тоже украшает. Так… Одну секундочку. Смотреть прошу сюда… Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах какой день! Какой день!
После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.
— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.
— Пожалуйста, пожалуйста.
— И «Славу» повесь.
— Можно и «Славу». Можно и полного кавалера,— нимало не смутившись, предложил старичок, видимо поняв, что Саша все обращает в шутку.
— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму,— изумленно хохотал Самоходка,— как же меня с такой ногой? Койка будет видна.
— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке.— Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.
Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.
— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.
— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка.— А гранату не дашь? Противотанковую?
— Этого не держим,— улыбнулся старичок.
На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.
Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.
— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.
— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.
— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?
— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.
— Тоже «в боевой обстановке»?
— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.
На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.
— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья.— Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.
Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:
— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.
— Тогда давайте вы.— Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.
— К нему, дед, не лезь,— сказал строго Бородухов.
— Но, может быть, он желает?
— Ничего он не желает Не видишь, что ли?
— Понимаю, понимаю.— Старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.— Хотя можно было и его… Что-нибудь придумали б… У меня, знаете, были очень трудные случаи…
— Давай кончай…
— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула… Владимир… Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету… Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец…
Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.
— Трупоед…— сплюнул Бородухов.
Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце.
Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.
Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом, тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.
— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие.— Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.— Суп-то нынче добрый… Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои… Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню…
Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.
— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталося…
Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.
— Погодьте, погодьте исты!
На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.
— З победою вас, товаришчи! — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?
— Семеро осталось.
— Ага, точно… Тут вам вид имени администрации… Саенко, распорядысь.
— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.
— Ни, хлопци. Нема часу.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як…
Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.
— Так вы давайте… А то суп охолонет.
— Спасибо.
— Було б за що.
Он ушел.
Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.
Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.
Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.
— Ну что, солдаты… Что задумались? Давайте колыхнем, что ли…— предложил Саенко.
— Да давайте.
— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.
— Верно, пусть он сперва. А то как же ему…
— Это само собой.— Бугаев взял Михаев стакан.— Ты давай присядь, а то не дотянусь.
Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.
— Ну, браток… за Победу!
— Ага.
— Жаль, нельзя с тобой чокнуться…
По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.
— Ну ничего… поехали.
Мы посмотрели, как Бугаев, наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.
— Во, парень,— удовлетворенно сказал Бугаев.— Это дело. Ничего, наловчишься…— Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.— Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка!..
— Вино пить можно. А как его теперь дэлать будешь? — Михай тряхнул узлами рукавов.— Вину руки нужны.
— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет
— А-ай-ай…— Михай покачал головой.
— Ну, будет, будет про это…— прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем… Как она дальше пойдет… Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.
Мы выпили.
Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.
Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.
— Ты ему винца вплесни,— посоветовал Саенко.
— Вы что, смеетесь?
— А что? Пусть солдат разговеется.
— Ему же нельзя.
— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.
— Не говорите глупостей.
— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.
— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,— решительным тоном сказал Саша Самоходка.
Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.
— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!
— По дороге потеряешь,— засмеялась Таня.
— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться.— Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами.— Ребята, поехали? Нашими дру́жками будете. Такую свадьбу сварганим… Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко, а внизу Волга… Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Парохода идут, гудки, бакены по вечерам… Михай, поехали?
— Нэ-э, я домой.
— Что у тебя там? Успеешь.
— Как что? — Михай вскинул рыжие брови.— Как что? Не был — не говори!
— Нет, брат.— Самоходка мечтательно уставился в потолок.— Где Волга не течет, там не жизнь.
— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.
— Квас, знаю.
— Что понимаешь? — горячился Михай.— Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую,— он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке.— Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?
— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон.— Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами…
— А у нас на Мезени пиво теперь варят.— Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.
— Сегодня везде празднуют,— сказал Саенко.
— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени… А пиво я люблю чтоб с брусникою.— Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену.— Благо! Давно не пивал.— И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить…
Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла.
Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее…
Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.
Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.
«Сколько разных мест на земле»,— думал я, слушая разговоры.
Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой… Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.
Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю…
— Тише, ребята…— Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами.— Чего тебе, браток?
Мы насторожились.
— Пить?
Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.
— Утку?
Копешкин поморщился.
Припрыгал Саенко, наклонился над ним.
— Ты чего, друг?
Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.
— Так, так… Ага, понял…— Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас… Это где ж такое? А-а, ясно… Пензяк ты. Ну, и что там у вас?
— Хорошо тоже…— разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.
— Заладил: хорошо да хорошо… А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?
Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.
Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.
В палате воцарилась тишина.
Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые… И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания.
Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде…
Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.
Потом прошептал:
— Домок прибавь… У меня домок тут… На дереве…
Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.
Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.
Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался.
Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.
Но Копешкина уже не было…
Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни.
А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.
В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов…
Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.
Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.
Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто… Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной.— Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился…
Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытии… Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.
— Ох ты,— проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.
Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает… Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется…
Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них…
Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.
— Зря-таки солдат не выпил напоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.— Что ж… Давайте помянем. Не повезло парню… Как хоть его звали?
— Иваном,— сказал Саша.
— Ну… прости-прощай, брат Иван.— Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку.— Вечная тебе память…
Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.
В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.
1969
Шопен, соната номер два
После первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентами, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.
— Эй, завлекалки! — задевали их ребята.— Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?
Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-болоньей, рвал студеный осенний воздух рублеными пронзительными звуками «Лебединого озера»: «Лата-та-та-та-а-тара-та-а-а…»
В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу
— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку.— Чего урожай расходуете!
— Взяли б да помогли! — кричали девчата.— Ишь вырядились! Тунеядцы!
Машина проносилась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.
— Эх, соскочу! — хохотал Пашка.— Ой, поймаю курносую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт один только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ти-та-тата-та-а-а…»
Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.
— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!
Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригибать голову, обернулся и осадил парней:
— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься?
— А что ему сделается? — Пашка с недоумением повертел никелированными дисками.
Дядя Саша нахмурился.
— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.
— Все, старшой, все!
Ребята нехотя рассаживались по стульям. А дядя Саша ворчал:
— Разбаловались, понимаешь… Не на свадьбу едем. Понимать надо.
— Ну все, отбой. Мир-дружба!
Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.
Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречь дорогу.
Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел КрАЗ. В кузове, нарощенном грубыми неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.
Великая Русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.
И может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фасе. К маленькой станции Прохоровке {62}, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей соляркой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», наши самоходки и тридцатьчетверки {63}, союзные «черчилли», «шерманы», громоздкие многобашенные «виктории». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди них можно было и заблудиться.
Дядя Саша курил на ветру, оглядывая высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.
— Зойка приехала? — слышался возбужденный Пашкин голос.— Заливаешь?
— Сам видел,— рассказывал Роман.— Юбка — во! До пят. С каким-то флотским.
— Хахаль небось.
— Да похоже — муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».
— Про меня не спросила? — с неловкостью хохотнул Пашка.
— Нужен ты ей больно!..
Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов, танки, казалось, по-прежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом…
— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши.— Нет, спорим?!
— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.
— Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!
— Брось, дело дохлое,— успокаивал Ромка.— Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одни красненькие.
— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.
— Ты первый? Ну, трепач!..
Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.
Дядя Саша, иногда наведываясь в поля с ружьецом, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковей, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печально сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости всё прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не полегший тогда во рву, прорастает одним из них…
— Дядь Саш! — не сразу услыхал старшой.— А дядь Саш!
Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной челочкой было деловито-озабоченно. От хода грузовика водка всплескивалась, подмачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.
— С нами за компанию,— поддержал Иван, по прозвищу Бейный, высокий нескладный парень с белесым козьим пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басе.
Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты паршивец! Ты ж еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:
— Я не буду. Спасибо.
— Дядь Саш! Ну, дядь Саш! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.
Дядя Саша недовольно молчал.
— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка.— Холодно ведь. До костей продуло.— Он зябко потер ладони.— А ты не будешь, так и мы не будем.
— Нет, ребята,— твердо сказал дядя Саша.— Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть,— и отвернулся.
— Так и нам играть! — почему-то обрадовались ребята.— Что ж теперь, выливать за борт?
— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.
— Севка! — обиженно крикнул барабанщику Пашка.— Дай сюда стакан! Дай, говорю,— и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку.— Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого.— Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.
Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штакетниками багряно кучерявилась вишенная молодь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.
— Ну, честное слово, как маленькие,— досадливо обернулся дядя Саша.
Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассеивал золу с горячих еще пепелищ.
Громыхнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.
Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни — на запад, к Днепру {64}, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.
За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно, по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины {65}. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.
Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела «Волга». Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор.
К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.
— Давай, ребята, струмент сюда,— хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке покачивались белые и желтые медали.— На травку струмент несите, на травку.
Он принял через борт самую большую слепящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядком еловые венки с яркими бумажными цветами.
— На траве оно мягче,— уважительно приговаривал дед Василий.— Струмент все-таки. Вещь ценная.
По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девчатами. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.
Несколько мужчин, должно быть председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.
Фронтовики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.
— У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? {66} — спросил дядя Саша.
Федор махнул рукой сокрушенно:
— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, на́, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.
— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку.— Дед Василий смеялся беззубым ртом.— Понятия никакого нету, чем за это плачено.
— Дак, они, медали-то, вроде как уж и без надобности были,— сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах.— Победу и ту однова забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выряжаться. Это вот теперь опять надевать начали.
Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.
— Медали пришпилить — куда ни шло,— сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия.— От них на одежке никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырявить жалко.
— Оно ежели б как раньше: навинтил да и носи без съему,— поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.
— Ну да, ну да,— кивнул Холодов.— Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.
Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:
— Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?
— Уж и не помню… Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.
— Выходит, трешку по-нонешнему?
— Дак нынче и вовсе ничего,— заметил Тихон Аляпин.
— Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.
— Всем платить — ого сколь надо!
— Да уж сколь? Всего-то рублишко за «Отвагу».
— Тебе рубль да другому рубль — мильон и набежит. Одной «Отваги» и то, знаешь, сколько?
— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось,— возразил Холодов.— Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят…
— Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает…
— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.
— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор.— Дай награду тебе да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!» Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.
— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики.— Ничего не скажешь!
— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов.— Мне разве деньги нужны, чудак-человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.
— Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.
— Да не дюже-то раздвигаются.
— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий.— Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!
К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный «лев», который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжко дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.
— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.
Дед Василий плутовато сощурился:
— Упрел, однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит — наедай не наедай.
В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.
Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:
— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.
— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий.— Это не я. Это мне баба надраила.
Фронтовики засмеялись.
— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.
— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич.— Вот кому ордена носить — женщинам нашим!
— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А это ничуть не слаще войны.
— Значит, это старуха тебе так наблистила?
— Она, она! Да и как не наблиститъ? — развел руками дед Василий.— Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель,— все едино гаснут. Нету того блеску, как было.
— Время, отец, время работает,— сказал Иван Кузьмич.
— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились,— заметил Федор.— У всех вон седина из-под шапок.
— А у меня дак и вовсе волос упал.— Дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: — Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.
— Ну ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой.— Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.
— А я и не ропщу! — готовно кивнул дед Василий.— Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем нет.
— Ох и верно, мужики, бежит время! — Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путейскую фуражку с молотками.— Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел… Совсем мало нас остается…
— А что ж ты хотел,— сказал Федор.— Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года…
Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.
Наконец подкатил райисполкомовский газик, остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФа Бадейко {67}. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:
— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!
Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набежали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.
— Значит, так…— Дядя Саша оглядел строй оркестрантов.— Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.
— Да не волнуйся, шеф.— Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало.— Слабаем, что надо.
— Вы мне бросьте это — «слабаем»! — Дядя Саша нахмурился.— Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.
— А что? Я все по уму. И в нотах указано: форте.
— Форте, форте… Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.
Пашка обиделся:
— Зря придираешься, старшой.
Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек — и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.
— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью.— Матери и отцы… братья и сестры… дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память… кто отдал свои жизни…
Быть может, под гулкими сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где послышнее. А Пашка все гудел обиженно:
— Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего…
— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.
Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:
— …Дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами… Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память…
Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.
— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.
— Павел,— прошептал дядя Саша гневно,— встань в строй.
Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.
— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.
Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:
— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.
Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнулся пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:
АГАПОВ Д. М., рядовой
АНИКИН С. К., рядовой
БОРВЕНКОВ В. В., мл. сержант
ВЯТКИН К. Д., рядовой
ГАРКУША И.С., рядовой
ЗАХАРЬЯН А. Ш., сержант
ИВАНОВ И. П., сержант
МАХОВ А. Я., старшина
Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.
МОКРЯКОВ Т. С., рядовой
МУРЗАБЕКОВ Б., рядовой
НЕЧИТАЙЛО Х. И., рядовой
НОГОТКОВ С. С., мл. лейтенант
НУРИЕВ А., рядовой
ОБРЕЗКОВ П. С., рядовой
ПАРФЕНОВ А. М., мл. сержант
Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «п» — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может — под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту…
Ему уже махали рукой, делали знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.
— Три-четыре! И-и…— Вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.
Медь дружно рванула: «Союз нерушимый республик свободных…» Он не услышал своего корнета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь инструмента. Сотни раз на своем веку играл он гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.
Засекин первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Женщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них кепчонки и, скорбно понурившись, теребили непокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навытяжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.
«…Мы в битвах решали судьбу поколений…» — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отсекают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. «Молодец! Вот может же, когда захочет».
Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян знакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосо, нестройно бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали нить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли гимн вразнобой — один взвод так, другой — этак. Но зато слова знали все назубок.
Дядя Саша дал отмашку, и музыка смолкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоев.
— Спасибо, ребята,— поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом.— Молодцы!
— Ну вот, а ты все ворчал.— бросил Пашка.
К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали пионеры в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть подкрашенных, волос, и тоже в красном галстуке.
Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.
Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте. Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками. Митинг начался.
Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осинкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синтетический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботинки,— он быстрыми шажками сменил военкома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый «Тимоня», инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами и каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осинкина, да он и сам бы не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осинкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде дня тракториста или праздника урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку «на ветер», и прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем дождевальную установку или суперзерносушилку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханных под зябь гектаров, надоенных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом, любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.
Здесь, на открытии памятника, Осинкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основание обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.
А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.
ПРАВЕДНИКОВ Г. А., рядовой
ПРОСКУРИН С. М., рядовой
ПЫЖОВ A. C., лейтенант
РОГАЧЕВ М. В., мл. сержант
РОДИОНОВ Н. И., рядовой
Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, но имена неотвратимо притягивали к себе.
— …Итоги подводить нам еще рано,— продолжал Осинкин,— но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести тысяч пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахару на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.
РОМАНОВ Ф. С., мл. сержант,—
про себя читал дядя Саша.
САЛЯМОВ М., рядовой
САНЬКО А. Д., рядовой
— …Вот сейчас закончим свои дела в поле,— воодушевленно говорил Осинкин,— подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ — пожалуйста, еще один диплом привезли.
Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.
СЫРОМЯТНИКОВ B. C., рядовой
ТИХОМИРОВ П. К., рядовой
ТУГАРИНОВ М. З., рядовой
Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.
…Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженой головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприютного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем нарос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое… Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, повел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава…
УЗЛЯКОВ С. Н., рядовой
УМЕРЕНКОВ К. Г., рядовой
ФЕДУНЕЦ М. С., старшина
Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество…
И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если… Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое… А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровениться…
ФОМИЧОВ В. А., мл. сержант
ХОДОВ С. М., сержант
ЦУКАНОВ А. Ф., мл. сержант
В это время пионервожатая выкрикнула:
— Никто не забыт, ничто не забыто!
Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.
Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — женщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел было первые три строчки:
Воткнув копье, он бросил шлем и лег. Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга Колола грудь, а спину полдень жег…—но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: «а спину полдень жег…», «а спину полдень жег…», однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «извините, извините»,— отступил в толпу.
Вышла и еще женщина, видно из колхозниц,— в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: «Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.
— Ничего, пусть постоит,— сдержанно улыбнулся Засекин.— Ишь ты какой герой!
А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:
— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже поранетая на всю жисть…
И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.
Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:
— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война!..
Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.
От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.
— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышливо начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов.— Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию {68}. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну, конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и поименитей специалистов, поставить и повыше, и поосновательней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы — в миллионерах ходит…
Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкал скрипучими штиблетами.
— …Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.
— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осинкин.— Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели — там тоже такой, наш даже повыше.
— Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника,— продолжал Селиванов,— а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю.— Селиванов перевел дыхание.— Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они,— Иван Кузьмич указал на обелиск.— Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами — от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей… Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!
В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:
— Заканчиваю, товарищи… Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.
Ему дружно похлопали.
Больше желающих выступать не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:
— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.
Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.
Засекин вышел в круг и взглянул на часы…
Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.
Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а, возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.
Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.
Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пупа рубахе, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежавшую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:
— Ты домой меня не гони! Нечево меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..
Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:
— По какому такому праву? Я тоже воевал!
— Но, но! Раскудахтался! — весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действом.— Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!
— А чево она, зануда!.. Указчица! Нынче наш день. Хочу — гуляю!
Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак. Засекин молчал, сдержанно покашливал — пережидал.
— Это твой артист? — спросил он наконец Осинкина.
— Да тут один… В примаках живет.
— Зачем привезли такого?
— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь… Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!
— Нехорошо получается, товарищ Осинкин.
Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова неслось разудало:
И все отдал бы за ласки взора-а, Лишь ты владела б мной одна-а…— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно журили в толпе мужики.— Вот ведь и печник хороший, а — с изъяном.
Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска и мужчины не надевали шапок.
— Все, товарищи! Все! — вскинул руки Бадейко.— Спасибо за внимание!
Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.
Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомнив: «Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!» — направился со своими спутниками к урчавшему мотором газику и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.
— Василий Михайлович! — окликнул из своей «Волги» Селиванов.— Садись, подброшу.
— Да вот не знаю…— растерялся дед Василий.— Тут робяты маракуют того… Я, поди, еще побуду маленько… Дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.
— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — ни-ни!..— Иван Кузьмич положил руку на ордена.— Барахлит что-то…
— Ну, ежели так, то конешно…
Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малышни, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старенькая машина…
Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатили мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.
— Все отдал бы за ласки взорра-а…— продолжал выкрикивать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова.— И ты б… и ты б…
Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:
— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.
Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.
— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий.— Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.
Фронтовики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая дополна, в дяди Сашину руку вложили помидор.
— Давай, товарищ лейтенант,— кивнул дед Василий.— А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.
Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.
— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом…
— Вечная память… Вечная память,— нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки.— Вечная вам память.
Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.
Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.
— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.
— Да… хотел узнать… Играть больше не будем?
— Нет.
— Тогда нам тоже можно порубать?
— Садись, пожалуйста,— подвинулся Федор.
— Да нет, спасибо. У нас своя компания.— Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: — С нами так не стал, старшой.
— Иди, Павел,— попросил дядя Саша.— Я сейчас приду.
— Да чего уж, сиди,— сказал Пашка.— Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.
Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.
Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассевшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.
— Давай, Степ, бери… Тихон, твой черед…
Фронтовики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашицу соли и, не дожевав еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликали:
— Эй, мужики! Вы чего там колдуете? Поехали!
— Да сейчас! — отмахнулся Федор.— Сейчас едем.
— Ждать не будем! — кричали с машин.
— Ох эти бабы! — подосадовал дед Василий, вставая.— Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.
Фронтовики нехотя начали подниматься.
— Так пусть себе едут — сказал дядя Саша.— У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?
— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.
— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.
Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.
Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:
— А вот, братцы, был у нас один случай!..
— Ну-ну, давай.
— Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а по низу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та… Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилося, да не было при нас никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!
— Ну дак вы б ее ночью-то, по-темному…
— Погоди ты, ночью… До ночи вон сколь было ждать. Да… Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно,— даю слово, после обеда сковырнем немца.
— А что ж ему такое нужно-то было?
— Не перебивай. Сказать, так не интересно будет. Слушай… Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь — вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину зайдет…
— А-а! — засмеялся Федор.— Разгадал — зеркало!
— Ну, разгадал — нечего теперь и рассказывать…
— Давай, давай!..
— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну, конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.
— Да это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.
— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.
— А то вот раз было…— начал фронтовик в резиновых сапогах.
И пошло, и пошло… Заговорили мужики, закраснелись лицами, заблестели глазами — не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и геройского, и горше горького…
Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.
— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.
— Сорок девять,— ответил дядя Саша.
— Да-а… Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.
— Дак они из разных мест, должно.
— Ну, это я так, к примеру.
— Сорок девять еще немного.— Холодов полез за новой папироской.
— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.
— А говорят, будто теперь по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено,— сказал Холодов.— Лектор один приезжал, так рассказывал…
— Вполне может быть.
— Сколь же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.
— А вот и считай…
— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.
— Сказано: всего двадцать миллионов.
— А немца сколь?
— Что-то миллиона четыре с небольшим.— сказал дядя Саша.
— Только-то? — удивился Холодов.
— А что — мало?
— Н-да… Как же так, били-били, а только четыре миллиона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых.
— Дак, чудак человек,— сказал Федор.— Мы одних только ихних солдат, а они кого попадя: и баб наших, и пацанов. Вон у военкома — и женку и обеих девчушек… А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.
— Ох, лихо, лихо,— вздохнул дед Василий.— Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить…
Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:
— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем — святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я? Ну, еще покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял — это уже смерть вон какая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.
Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:
— Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.
— Не скажи! Вот увидишь, воткнут.
— Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.
Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.
— Ты говоришь — четыреста…— сказал он.— Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.
Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые еще обелиски.
— Надо бы раньше начинать ставить-то,— сказал Федор.— По свежим следам. Молодняк вон подрос, должен видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Ровно, гладко, как ничего и не было.
— Я вам так скажу.— Дед Василий обтер ладонью усы.— Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.
Возле барабана дружно смеялись ребята.
— Вот дает! Заливает!
— Чего? — кипятился Пашка.— У них один Зюзя чего стоит!
— Дерьмо твой Зюзя.
— Зюзя — дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.
Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.
— Н-да…— Тихон поскреб под черной путейской фуражкой.— Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади Вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле Вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли? А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим. Марш, говорю, по домам! Осерчал я. А они в толк не возьмут. Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной. Во как!
Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо убегали из виду. Его лучи отыскали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне, медным отливом затеплились пашни, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.
Фронтовики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись невольно на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.
И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножия — эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов — показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с погребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоют с лент непрочные слова, написанные зубным порошком, и нет ничего печальнее — видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.
Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. А вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.
— Пора, однако, по домам.— Дед Василий оглядел небо.— Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.
Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтовиков по домам.
И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.
К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез. Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды. Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем ненастном поле.
— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты.
Дядя Саша молча возвращался к стогу.
— Небось самогон трескает,— заключил о шофере Пашка.— Это точно.
Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.
— А у меня сегодня верная десятка гавкнула,— сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами.— А то и побольше.
— А тебе куда? — поинтересовался Иван-Бейный.— На «жмурика»?
— Ха, на «жмурика»…— Сохин брезгливо поморщился.— На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, трояки там сшибаешь? На свадьбу в одно место приглашали.
— Свадьба — это дело,— согласился Иван.— Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.
Иван-Бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.
— Гаммы проигрывает,— усмехнулся Ромка.
Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван-Бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками {69}, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую болонью, попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ и, как затравленный хорек, свирепо зыркал по сторонам.
— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой.— Теперь вот припухай.
— Да, тут старшой перемудрил,— отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживается вдоль стога.
Остальные сдержанно помалкивали.
— Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! — продолжал распаляться Пашка.— Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей.— Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под болоньи выкрикнул: — Небось старшой сам и напросился!
— Да помолчи ты, наконец! — оборвал его дядя Саша.
Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:
— Разобрать инструменты!
Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.
— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.
Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.
— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами.— Что это он, а?
Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджаков и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы.
Послышались раздраженные голоса:
— Чья альтуха?
— Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!
— Заткнись!
— Иван, забирай свою иерихонскую {70}.
Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:
— По три разбери-ись!
Ребята недовольно запротестовали:
— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?
— Прекратить разговоры!
Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты — вперед, за ними тенора, альты, басы… Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.
— Да брось фасонить, старшой,— снова попробовал отговорить Сохин.— Ну, чего ты?
— Стать в строй! — Голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.
— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.
— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.
— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.
— Бейный бас?
— Ну вот он я…— неохотно отозвался Иван.
— Шагом ар-рш! — Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз.— И не отставать.
Шли в отчужденном молчании, было только слышно липкое чавканье подошв на ослизлом проселке да бряцание труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застясь от дождя, закуривал на ходу И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.
— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.
— Куда, куда! — сразу пыхнул Пашка.— С кудыкиной горы — в тартарары.
— Ясное дело: теперь до большака,— предположил Жора.
— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?
— А там — на попутку.
— Плевать! — фыркнул Пашка.— Идем до первой деревни.
— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин.— Мне завтра в первую заступать.
— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.
Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь ногами, спускались, будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.
Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.
— Все! Начерпал в корочки,— кисло объявил Пашка.— На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.
— А ты ходи по камушкам,— усмехнулся Ромка.
— По каким камушкам? Какие тут камушки? Сплошное болото.
Дорогу обступили черные громады ракит, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветки пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлюпом выбрызгивалась грязь. Иван-Бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.
— Вот увидите, запремся куда-нибудь,— ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим слегам.— Днем, когда ехали, никакого болота не было.
— Это точно! — злорадствовал Пашка.— Завел, Сусанин! И чтоб я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!
Дядя Саша остановился, подождал Пашку.
— Ты вот что, Павел,— сказал он, придерживая парня за рукав.— Возьми-ка у Севы барабан.
— А почему, спрашивается, я?
— Да потому, что у тебя одни тарелки.
— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.
— Нет, понесешь ты,— жестко сказал дядя Саша.
— Все Павел да Павел,— передразнил Пашка.— Целый день придираешься.
— Ну, хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.
Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашиных пальцев. И вдруг заорал:
— Севка, паразит, давай свое грохало!
— Ладно, дядь Саш, я сам,— откликнулся Сева.— Мне еще не тяжело.
— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед.— Пусть понесет.
Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.
— У, оглоед!
Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.
Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.
Наконец кончился ракитник, и постепенно начался угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнущего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанной вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.
…В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать — сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забытья — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем…
И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «виллисе» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. «Поздравляю со вступлением в действующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка.— Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: «Утро красит нежным светом…» {71} Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» — звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник.— Благодарю за службу, сынки!»
В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый форсированный бросок.
Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись…
— Подтяни-ись! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.
На взгорке возле крайней избы старшой остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике взахлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван-Бейный снял с плеча свою иерихонскую, опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуяв за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре послышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.
— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкающие на свету трубы.
— Бременские музыканты {72},— нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девчатами.
— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — Девушка убежала, бросив дверь открытой.— Ма, там пришли-и…
В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврике, постланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.
Вышла женщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.
— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог.— Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.
Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:
— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает… Машина невзначай колесами наедет или еще что… Чего ж бросать.
Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно ушмыгнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озирались по сторонам.
— Проходите, проходите в горницу,— ободрила их женщина.— Машина мимо пойдет, никуда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее и в доме будет слыхать.
Покидав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.
Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, настороженно поглядывавшие на незваных гостей.
— Еще раз здрасьте,— вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился:
— Рома.
Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь и, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:
— Вера.
— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке:
— Рома.
— Серафима,— охотно назвала себя другая девушка в черном спортивном костюме.
— Рома.
— Надя.
— Рома.
— Нонна.
— Очень, очень приятно. А это все моя охрана.— Ромка повел рукой, указывая на обступивших его оркестрантов.— Знаете, как поется: «Ох, рано встает охрана!»
Девушки засмеялись.
Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже Ромка, подкладывая хворост в занявшийся костерок беседы, допытывался:
— Значит, все четверо — родные сестры?
— Ага, сиамские близнецы,— подтвердила Серафима.
— Ясно.
— Бурачные побратимы,— уточнила Надя.
— А это уже неясно.
— Что ж тут неясного? Приехали в колхоз бурак копать.
— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?
— Когда? — удивились девушки.
— Где? — спросил Ромка.
— Что — где? — переглянулись девчата.
— Это вы спрашиваете — где.
Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.
Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведерко с прессованным углем.
Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождь ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим женщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураками по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на уборку. Та вон, в халатике,— ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый кончает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отправили на бурак.
Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая невольно усвоена безмужними деревенскими женщинами.
— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежку, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасливо — дымить начнет, столько времени нетопленая. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитами обходятся. Меньше хлопот. Это ж раньше сами хлеба пекли да скотине всякого варева на каждый день. А теперь все это отпало. Думала даже сломать печку-то, в доме попросторнеет, да как-то рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сиживала, уж годов, годов той печке!
— Дом-то вроде новый,— заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.
— Да, домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками поиссечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку отколупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй,— улыбнулась хозяйка.— Жалко разорять теперь.
Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.
— Да вот, мам, про нашу печь заговорили.— чуть громче обратилась к ней женщина.— Как ее пулями-то посекло.
— А-а.— Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку.— Было, было,— она уже оживленней поглядела на нового человека.
— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел,— сказала женщина с добродушной веселостью,— вылезли мы из погреба на свет божий, а света божьего и нет. От нашего двора — ни былочки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то. До того высокая да страшная! А окрест глянули — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.
— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи,— напомнила старуха.
Женщина засмеялась:
— У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, сковырнули крышку-то, а там одна сажа.
Старуха улыбнулась слабо:
— Упарились.
— Ага… Ну дак что было делать, с чего начинать? Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна накидали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.
В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:
— Мам, можно яблок ребятам дать?
— Да разве жалко? — готовно согласилась Пелагея.— Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.
Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоновки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать уже освоившись, трепался там вовсю, и девчонки то и дело прыскали смехом.
— Может, и вы чего покушаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка.— Весь-то день, поди, в поле играли.— И, не дожидаясь ответа, засуетилась у полки, достала хлеб, из крынки налила молока в кружку, обтерла донышко и поднесла гостю.— Оно бы лучше чего горяченького, да девчатки пришли, все подобрали.
— Кушай, кушай,— закивала старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?
— Да вот там, за вашей деревней,— указал дядя Саша.— Как мостик перейти.
— Ага, ага…
— На заяружной пожне, мама,— пояснила Пелагея.
— Ага, ага… На заяружной…— повторила за дочерью старуха.— Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так изрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захолонет. Сколь покалечило беспонятных!.. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туда бегали.
Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим вниманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.
— Ох-хо-хо,— вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, наверно, давно за этим столом не кормили мужчину и давно, должно быть, живет в этом доме тоска по хозяину.
Вера опять выбегала в сени с опорожненным решетом, и в горнице весело гомонили, наперебой хрустели яблоками.
— А чем рассчитываться будем за такой сервис? — слышался голос Ромки.
— Да что вы! Ничего и не надо,— отвечала Вера.— Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.
— Это всегда пожалуйста.
Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:
— Наш Лексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся и ну шуметь.
— Дак и Коля тоже играл,— живо заметила Пелагея.
— И Коля, и Коля…— согласно закивала старуха.— Коля тоже веселый был. Они обои веселые были.
— Сыновья? — спросил дядя Саша.
— Сыно-очки, сыно-очки,— опять закивала старуха.— Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.
Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же как и цветочные горшки на подоконнике, как рукомойник в углу, и, на ходу протирая стекло передником, сказала извинительно:
— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной раме, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.
Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:
— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.
— Это Коля с дружками. Еще в эмтээсе снимались.
— Ага, ага… Дак а это кто же тогда, не пойму?
— И это тоже Коля.— И уже дяде Саше пояснила: — Колиных тут целых три карточки. Вот еще он. С Василием. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Лешина одна-разъединственная. Леша-то наш, вот он. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого краю был.
— Дак, может, переставили когда…— оправдывалась старуха.— А так, как же, помню… Лексей… сыночек…
Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтовым фотографом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженой голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха-мать, сама угасающая и полуслепая, уже не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застланные черты. И только верным остается материнское сердце.
— Лексея-то помню…— как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха.— Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикусит, бывало…— Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.
— Ну, а это мы тут со Степой,— встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея.— Сразу как поженились. Это уже опосля войны.— Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девчонка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уже в летах мужчины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом, добавила: — Со своим Степаном Петровичем…
Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.
— Ну, а это всё двоюродные да тетки. Весь наш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождались. Все есть, а его нету…
Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:
— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и не счесть.
— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша.
— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже опосля войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылися. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда…
Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.
— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный,— вздохнула она, не поворачиваясь от плиты.— И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело… А уж как те мои родненькие лежат, и где они… Ездила я года два назад поискать папину могилку. Сообщали, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около станции Локня. И верно, стоят там памятники. Дак под которым наш-то? Вечная слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди сказывают, будто и теперь еще из омшар да болот костяки достают… С тем и вернулась я… Ну, а Николай в морской авиации служил.— Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего… А Леша наш до сего дня без похоронной… Я раньше тоже ждала, да что ж теперь… Столько лет прошло… Одна мама все надеется…
Старуха ревниво прислушивалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полушепот:
— Ох, светы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!
— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея.— Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже…
Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, синими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костьми и прахом…
А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, наверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.
В соседней горнице девчата опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:
— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?
— Шейк? Босса-нова? — небрежно кинул Ромка.
— А играете? — обрадовались девушки.
— Спрашиваете!
— Ой, шейк, мальчики! Шейк!
— Ну как, братва, слабаем?
— Рванем!
— Ой, давайте, давайте! — студентки забили в ладоши.
На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалясь на косяк, возбужденно сказал:
— Шеф, там девчонки шейк просят сбацать. Как смотришь?
Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.
Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:
— Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?
Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:
— Сыграй, милый, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой… Дак и Коля тоже любил… Сыграй, милый, сыграй.
Дядя Саша пристально вгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:
— Давай, правда, сыграем, Роман.
И убежденно добавил, вставая:
— Несите-ка инструменты.
В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонке к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.
— Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?
— А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.
— Я не буду,— замялась Вера.— Я не умею такие.
— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.
И девушки скрылись за занавеской.
— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.
— Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.
— Ты мне нужен как раз. Иди возьми.
Сохин передернул плечами, недовольно вышел.
Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшого, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкающий чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.
Дядя Саша постучал ногтем по корнету. Трубы замерли в изготовке.
И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:
— Шопен… Соната… номер… два…
Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшого, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? при чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.
Дядя Саша опять постучал по трубе:
— Играем часть третью. Вы ее знаете.
— Ну, знаем, конечно…— сдержанно кивнул за всех Ромка.
— Прошу повнимательнее.
Он еще раз оглядел оркестр.
— Начали!
И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.
Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыта глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.
Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван-Бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.
Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша.
И Пашка с его не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.
Звуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.
Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.
Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела неподвижно и прямо.
Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.
И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.
Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами…
И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.
Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней.
И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома,— так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.
Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.
Освободившиеся от игры ребята — басы, баритоны — в немой завороженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучавшим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаивала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.
И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.
Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.
— Ну, вот и ладно…— проговорила она.— Хорошо сыграли… Вот и проводили наших… Спасибо.
И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол. Оркестранты молча закуривали.
Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.
Проходили набухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взахлеб брехали из глубины дворов.
Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.
Как тогда, в сорок третьем…
И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:
— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем…
1973
Костер на ветру
Ровный майский ветер, напористый и упругий, нагрянувши из теплых краев, разбередил, раскачал старые ветлы, и те, оживая от долгого оцепенения, заплескались, заразмахивали никлыми космами, соря на прудовую воду багряной чешуей лопнувших почек. Дол до краев наполнился этим их пробуждением: старческим скрипом стволов, потрескиванием просыхающих корьевых рубищ, порохом падающих стручков и прутьев, не доживших до весны. И все эти низовые шумы перекрывались главным, процеженным сквозь кроны, ветровым солнечным шумом, веявшим горьковатой прянью молодой клейкой листвы.
Из расходившейся ракитовой чащи взмыли два черных коршуна. Подставив ветру рыжие тельняшки, парусно простерев крылья, коршуны норовили отвесно удержаться в поднебесной сини. Но властный ветер опрокидывал и отбрасывал их вспять. Низвергнутые птицы, трепеща каждым пером и оглашая высь отчаянными воплями: «Кью-ю-ю! Кью-ю-ю!»,— скользяще пикировали в ракитовую глушь, с тем чтобы тут же снова стремительно взлететь и еще раз попытаться замереть на ветру в распластанной стойке, подобной гербовому распятию на старинной российской монете.
Временами коршуны как бы теряли управление собой, и тогда ветровой поток сталкивал их друг с другом. Обе птицы падали вниз в едином комке, но над самыми вершинами дерев вдруг стремительно разлетались в стороны, после чего больший коршун, лавируя меж верхушек, с пронзительным вскриком: «Ки-ки-ки!» яростно и смертно пускался догонять меньшего.
— Вот бы пальнуть! — вожделился Авдей Егорыч, сощуренно наблюдая за птицами.— Выждать, когда они вместе сойдутся, да и сразу обоих…
— А тебе зачем? — поинтересовался Алексей, весь заплаканный от огня и дыма.— Для варева, поди, непригодны.
— А чего они тут? Мало ли других мест…
— Ну и пусть себе,— благодушно дозволил Алексей.
— Как это — пусть? Есть такая примета: где коршун загнездует, там и разор…
— Дак куда еще разоряться-то? — не согласился с приметой Алексей.— От нашего селенья всех-то мужиков осталось: я да ты! Ну, ты хоть с бабкой, а я дак и вовсе запечный сверчок — один трюхаю. Вот скоро приберемся, да и прощай, родимый хутор Белоглин. Сотлеет наша с тобой городьба, уйдут в почву черепки да пуговицы, падут на погосте последние кресты, все землей обровняется, как было допрежь, до потопа, и порастет нехоженой муравкой.— Алексей переломил о колено ракитовую сушинку, подсунул ее в костер.— Однако ж ты, Авдейка, не скоро угомонишься. Хоть мы и погодки, а мужик ты справный, доси бреешься. Вон и челюсти стальные вставил… Стало быть, намерен еще долго хлеб перемалывать.
— Ну, понес, понес!..— досадливо покривился Авдей Егорыч и перевел взгляд с коршунов на свои валенки, заправленные в глубокие мокроступы, на носках которых поигрывало солнце.
— А я, кажись, последнюю весну колтыхаю,— весело оповестил Алексей.— В глазах уже черные мушки начали летать. Гляжу как-то в окно, еще зимой: что такое? Неужто скворцы прилетели? Вверх-вниз шальной стаей носятся. Перевел глаза на печь, а они и по печи тако же!
— Это бывает,— согласился Авдей Егорыч.— От магнитных бурь. Або с перебору. В таком деле рассол помогает.
— Дак оно, может, и лучше, ежели я первый сапоги откину,— дробно засмеялся Алексей, весь сморщась печеным яблоком.— Хоть буду знать, что ты меня на бугор отволокешь. А я тебя, братка, извини-прости, никак не осилю: в тебе, небось, поболе центера дармоедины-то? Так что живи давай…
Алексей, долгий, жердеватый, весь в костлявых остряках, с козьим ошметком сивой изреженной бороденки, и впрямь был ветх и квел с виду. Под его щипаным ватником не просматривалось никаких телес, будто одежка висела на голом тесовом кресте. И штаны его, запихнутые в бродни, тоже были пусты, так что ветер трепал и полоскал их вольно и беспрепятственно. И только живые, емкие глаза в подлобных впадинах светились цепко и взыскующе, неусыпно жаждя какой-то истины. Глядя на него, так и вязло назвать, как записано в имяслове: «Алексий — Божий человек».
Авдей Егорыч, напротив, был коренаст и грузен, багров прибранным одутловатым лицом с труднодоступными глазками, затерявшимися в складках подглазий. Одет он в теплый пятнастый бушлат, опоясанный по экватору округлой тушки широким командирским ремнем с двумя рядами дырочек. Чувствовалось, что Авдей Егорыч уважал все военное, прочное, обстоятельное, и даже на фронтоне его серой цигейковой шапки углядывалась вмятина от армейской кокарды. Всю эту экипировку быстрого реагирования, как я узнал впоследствии, Авдей Егорыч приобрел наездами в районе, на привокзальном базарчике в загульные времена дембелей.
Избы — беленая под очеретом Алексея и щелеванная под шифером Авдея Егорыча — стояли друг против друга по обе стороны ставка на взгорьях, поверх низинных ветел. Выставляет ли Алексей новый скворечник или развешивает по плетню для просушки вентеря, красит ли Авдей Егорыч оконные наличники или охаживает ульи в задворном вишеннике — все как есть зримо, что деется у супротивного соседа. Так что когда на Алексеевой стороне заметался по ветру белесый дымок, в скором же времени объявился и Авдей Егорыч.
Я был смущен, что присевший у костра Авдей Егорыч оказался тем самым человеком, который вчера насыпался на меня на плотине. Не успел я сойти с велосипеда, а лишь только опорно опустил уставшие ноги, дивясь переменам, тому, как неузнаваемо урезался зеркалом, зачернел обнажившимся коряжником пруд за время, пока я тут не был, как за моей спиной, будто и в самом деле свалясь с неба, восстал вот этот пегий десантный бушлат.
— Та-а-ак! — устрашающе предварил он дальнейший разговор.— Разрешение имеется?
Я вздрогнул и обернулся растерянно:
— Н-нет… А что? Какое разрешение?
— А вот! — указал он пальцем.— Тут сказано какое…
Я посмотрел в то место, куда мне указывали.
Высоко на раките висело жестяное объявление с восклицательным знаком, оповещавшее о том, что ловля рыбы в оном пруду строго запрещена и что за нарушение сего — штраф — пятьдесят рублей. К числу «50» впоследствии был добавлен мелом еще один ноль, должно, означавший поправку на инфляцию.
— Ты что, дядя?! — сразу завелся я.— Штраф-то за что? За прорванную плотину? За те твои черные пеньки?!
— Ничего не знаю! — напирал бушлат.— Не положено — стало быть, нельзя.
— А-а, пошел ты…
Мы громко заперечили, зажестикулировали, не слушая один другого. Уже опасно заискрил матерок, и я не знаю, чем бы все закончилось, если б не Алексей, прибежавший на неладное.
— Что за рукопашная? — спросил он, хватая ртом воздух.— Это ты, Авдей Егорыч, шумишь? Кого заловил?
— Да вот… шляются тут всякие…— гневно пожаловался бушлат, ища подмоги у прибежавшего.
Но тот, должно быть, углядев в моих глазах зеленую тоску, душевный конец света, умягченно сказал:
— Да чего там! Пусть маленько посидит. Все равно ведь не ловится. Ветер-то какой!
— Ветер не ветер — нельзя, сказано,— упорствовал бушлат.— Закон есть закон.
— Ну все, защемило грыжу,— отмахнулся Алексей.— Пошли, мил человек, на мой берег, я найду тебе место.
— Ну, Леха…— взъярился бушлат.— Супротив все делаешь… Гляди, дособачишься…
— Ладно, не газуй на ровном…
Алексей сделал мне знак рукой и зашмурыгал сапогами по усохшей колчеватой глине грейдера. Я послушно повел за рога свой велосипед. Отойдя подальше, он воспел не своим, испорченным голосом:
— Зако-о-он! Зако-о-он! Сельсовет из себя корчит. И бушлат с ремнем для этого завел. А дай ему десятку, он и замолчит…
— Он что, от рыбнадзора?
— Да какой там! Когда пруд стоял в полном зеркале — сторожем числился. А плотину сорвало — заодно и его отстранили.
— Чего же он тогда?
— Да это он сам по себе. И насчет штрафа — тоже брехня. Сам же старое объявление и приколотил. Лестницу аж со двора приволок — чтоб повыше да не оторвали. Ну да на моем берегу его штраф не действует…
— Как это?
— А тут такая история,— пояснил Алексей.— Когда от пруда одна чуть осталась, Авдей и говорит: «Давай, мол, Алексей, остачу воды напополам поделим».— «Это зачем?» — спрашиваю. «А затем, говорит ,— что ты почти каждый день вентеря ставишь, а я иной раз по неделе дома не бываю. А когда меня нету, небось, и под моим берегом шаришься. А ежли разделимся, тади, дескать, все по справедливости будет: ты лови под своим берегом, а я — под своим». Вижу, Авдей под себя гребет: его сторона поуглубистей, там и русло от прежнего ручья проходит. А где русло — там и главный ход рыбы. Мне же отошла вся луговая, мелкая сторона с пеньками и с мертвостоем. Ладно, думаю, черт с тобой, взяли и поделили.
Алексей обернулся поглядеть, иду ли я, не отстал ли? Дождавшись, подхватил велосипед за левую рулевую поручню — вдвоем, мол, ладнее.
— Ну, да я за крупным карасем особенно не гонюсь,— не противился он разделу.— Мне и мелочь не в убыток. Я сперва сушу, опосля толку в ступе, муку делаю. Для муки все сгодится. Есть мне ничего нельзя, окромя болтушки. Карасиной мучкой и живу. А еще — детскими порошками. Такая моя планида… Ну а тот, Авдюха, накопит корзину и — в район на базар. В бизнец ударился.
Алексей привел меня на тесовое помостье, где я и провел остаток дня в тщетной попытке что-либо изловить на свою пару удочек. Упрямый ветер допоздна гнал косую зеленую волну, гулко и надоедно плескавшуюся под настилом, клал набок поплавки, дугой выгибал лесы, и было ясно, что при такой качке все живое убралось с мелких мест.
Ночевал я у Алексея в сарайке, на сеновале, а проснувшись на заре и выглянув в чердачное оконце, понял по неспавшему ветру, что и сегодня не будет никакого толку.
— Да, незадача…— жалел меня Алексей.— Да ты останься, останься на пару-то деньков. Глядишь, потишает. Майский карась скоро весь на мель пойдет.
Я развел руками, мол, ничего не поделаешь, надо ехать.
И тогда Алексей сплавал на своем дощанике, похожем на поильное корыто, тряхнул в коряжнике вентерек и привез-таки полведра мелочовки, среди которой попался и один с лапоть, пузцом и дородной сутулостью похожий на захолустного столоначальника.
— Нет, нынче нема делов,— сокрушался он, встряхивая в ведре неказистую добычу.
И вот мы сидим у воды под заслоном белооблитого черемушника. Рьяный костер, будто осьминог, далеко выбрасывал свои огненные щупальца, нехотя пробовал несъедобное ведерко, подвешенное на рогулинах, и, отыскав подкинутые сушины, жадно обволакивал их и не отпускал, обращая в тлен и пепел.
Ведро долго не закипало, но наконец забулькало, запарило сушеным укропом, и Алексей, спустив в него карасей, убрал огонь и оставил уху настояться и подобреть на малом жару.
— За ложкой сходить, али ты со своей пожаловал? — поинтересовался Алексей у Авдея Егорыча.
Тот промолчал, задетый, и только натужно покрякал.
— А мы тут решили поминальную ушицу состряпать.
— По какому делу? — не понял Авдей Егорыч.
— Ну как же… Через два дня великий солдатский день… Али забыл?
— А я вижу — дым, дай, думаю, погляжу, кто там балует… На той неделе утку у меня уперли. Гляжу, перья под кустом нащипаны.
— Ага… С дозором, значит. Ты ведь тоже обмотки мотал, давай входи в долю.
— Я обмоток не носил…
— Ну да, ну да… Конвой завсегда в сапогах, это верно. Дак, может, войдешь в долю? Наша уха, твоя выпивка.
— Я на минутку только,— уклонился Авдей Егорыч.
— А то — давай? За нашу Победу. Перваку, небось, уже выгнал?
— Да не гнал я ничего! — Авдей Егорыч засопел и в сердцах оперся о колоду, готовый подняться.
— Сиди уж…— Алексей придержал его за плечо.— Я ить вижу: уже принял маленько… Ну скажи, принял?
— Не бреши. Откуда видно-то? Я в трубку не дул…
— А зачем — в трубку? По глазам вижу…
— И что ты видишь?
— Шибко бегают они у тебя, моргают.
— Я всегда такой. Когда ветер, я и моргаю. Врачи признали: слезная железа ослабла.
— Ну да, ну да! Ослабла… Вот смотри на меня, а я по часам сверю, сколь разов сморгнешь. Самый верный способ! Давай смотри мне в глаза,— смеялся Алексей.
— Да чего мне на тебя глядеть? — сплюнул Авдей Егорыч.— Может, на тебя смотреть — не только заморгаешь, а и зажмуришься…
— А-а, забоялся! — Алексей довольно погрозил пальцем.
— Ну, было у меня на донце, ноги берег растереть…— прижался Авдей Егорыч {73}.
— А я разве что? Я ить не в укор, я — в поддержку компании. Одному пить грешно, убого. А на миру — душа нараспашку, как на исповеди! Вот и уха в самый раз поспела. Схожу ложки принесу.
Вместе с некрашеными ложками-самоделками Алексей принес в рушнике и разложил на опрокинутом тарном ящике все, что нашлось в избе об эту скудную пору: несколько штук бочковых огурцов, несколько уже тронувшихся в рост луковиц, черную хвостатую редьку, связку вяленых карасиков.
Я притянул к себе рюкзак, извлек встречно свою долю: пару плавленых сырков, кусок вареной колбасы, серый батон хлеба, набор полиэтиленовых туристских стаканчиков и бутылку «Столичной».
— Куда с добром! — возликовал Алексей и в свою очередь выловил из ведра и рядком, как безвременно погибших, разложил на рушнике белоглазых отваренных карасиков со смиренно сложенными по бокам плавниками, а в большую эмалированную миску начерпал знойно парившей ухи и поставил посередине, чтобы всем было доступно и ловко доставать ложками.
При виде этой щедрой столешницы, источавшей простой и крепкий дух огурцов, лука, крупно напластанной редьки и горячего варева, смешавших свои ароматы с запахом близкой черемухи, горьковатого ракитового ветра и взопревшей подножной земли, на которой все мы тут сидели и пылал наш костер,— от всего этого отмякла и занялась всепрощеньем душа и возжелала всеобщего братства и согласия.
Алексей расторопно распечатал бутылку, разлил по мягким манеркам и оповестил дрогнувшим голосом:
— Ну, мужики! Давайте вот за что… Мы с вами еще вон сколь прокоротали… Можно сказать, весь оборот жизни прошли… А те, братки наши шинельные, уже полвека где попало лежат… и по России, и по-за ее пределами. Кто под братской плитой, а кто и вовсе неприбранно… Давайте помянем их, бессловесных и безответных…
Мы с Авдеем Егорычем, сидевшие рядом на одной колоде, отрешенно, каждый глядя в свою чарку и бормоча виноватое «пусть будет пухом…», выпили свое. Не выпил только Алексей. Держа перед собой стаканчик, он отошел с ним в сторону, отвернулся, свободной рукой расстегнул ватник, задрал на животе рубаху и, как можно было понять по его движениям, вылил свою водку куда-то под одежку.
— Что это он? — удивился я.
— А-а…— хрустя огурцом, сказал Авдей Егорыч.— Он всегда так… В лейку сливает. Говорит, будто ранение у него такое.
Жалость ознобила меня, но Алексей как ни в чем не бывало повернулся со светлым лицом и, шутливо расправляя на стороны будто бы намоченные усы, весело похвалил:
— Хороша, родимая! Соколом пошла!
Я скорбно глядел на Алексея, забыв о еде, и он, перехватив мой сострадающий взгляд, добродушно загостеприимничал:
— Ешьте, ребята! Юшку стербайте! Она хороша, пока горячая. А меня простите, что я не с вами. Нельзя мне за столом, при людях. Не обращайте внимания. Эх, да чего там! Гляди, какая красота! Солнушко! Небушко! Землица проснулась! Ужли не диво!
Отхлебавши ухи, выпили и еще, на этот раз чокнувшись об Алексееву чарку под добрый знак: «Побудем живы!»
Алексей, все так же отойдя в сторонку и отвернувшись, слил свою долю под расстегнутый ватник, а следом сцедил туда и ушицу из припасенной баночки, предварительно выбросив ложкой картошины и вареный лук.
После двух стопок Алексей заметно охмелел, благостная улыбка не сходила с его лица. Он снял ватную ушанку, огладил книзу, на лоб, взмокшие седые волосы и, подставив вощеное лицо солнцу, зажмурился блаженно. И было видно, как на опущенных округло-выпуклых веках бились синие жилки — секунды бытия.
В весеннем азарте, утратив обычную осторожность, над нашими головами, бреюще, так что виднелись поджатые желтые лапы, стиснутые в кулачки, пронеслись один за другим все те же два коршуна. Черные птицы с упругим посвистом крыльев провиражировали в нервном зигзаге, правя свой стремительный лет чутким креном выемчатых хвостов. И разносилось окрест резкое, однобокое, рвущее ракитовый шум: «Ки-и! Ки-и! Ки-и!»
— А ить это мы с тобой, Авдейка! — объявил Алексей, поводя взглядом за коршунами до того момента, когда они вновь круто взмыли ввысь и там замерли друг против друга в мгновенном противостоянии.— Который поувалистей, погорластей — это ты.
— А ты какой же? — вяло отозвался Авдей Егорыч.
— Я — вон тот, что поплоше, поощипанней…
— Ну-ну… Чего еще наплетешь?
— Всё, как у нас: сколь живем, столь и шпинаешь ты меня, сживаешь со свету.
— Ну, понес! Понес! — Голос Авдея Егорыча обрел раздраженную трубность.— Ну и язык у тебя, Лешка! Минуты не пройдет, чтоб ты не намутил, не набрехал чего-нибудь. От языка твоего и весь несклад твоей жизни, вся худоба.
— Язык мой теперь свободный! — засмеялся Алексей.— Я им не ем, содержу в чистоте, только для разговора. С хорошим человеком — по-хорошему, с худым — по-иному…
— Это когда ж ты со мной по-хорошему балакал? — разгорался Авдей Егорыч.— Ты ж не можешь, чтоб сказать по правде.
— Это не язык мой, а уши твои кривят, прямое на кривое переиначивают. Почистил бы…
— Ну вот, ну вот! — Авдей Егорыч досадливо охлопал свои коленки.— Опять же брехня! Уши мои справные, никогда не отказывали. Комар за десять шагов летит, а я уже чую…
— Небось, на вышке натренировался…— весело предположил Алексей.— Это верно, туда тугоухих не поставят.
— Мели, Емеля! — огрызнулся Авдей Егорыч.— Ну и трепло ж ты, паразит! Что ни слово — все с вывертом, все врастопырку. Ты и про себя все напрочь врешь… Тут с нами посторонний человек сидит. Расскажи, расскажи давай, как ты будто бы один-разъединственный целую роту немцев разогнал… Вот давай свою брехеньку, а человек пусть послушает и скажет…
— Ну, было такое…— кивком подтвердил Алексей, жмурясь, закрывая глаза от солнца.— Ну, может, и не рота, а довольно их было.
— И как три танка захватил?
— Немцы сами их бросили…
— Хе-х! Как же это так — бросили?! Увидели тебя — и драпанули?
— Все верно…— лукаво кивнул Алексей.
— Ну, умори-ил! Во дает! — Авдей Егорыч откинулся так, что сронил с лысины шапку, зареготал язвительным хохотом.— Почище Васи Тёркина. Тот этак-то не брехал, край знал, докуда можно. А ты безо всякого края. Да за такие дела тебе Героя с ходу надо бы давать {74}. А у тебя и худой медали нету. Чего ж командование-то не оценило?
— А его там не было…
— А кто же был? Кто-нибудь да видел?
— Никто и никого…
— Один ты, что ли?
— Один я…
— Ну, елкой твою мать! — развел руки Авдей Егорыч.— Ну, что ты с ним будешь делать?! Врет, а ты терпи, слушай.
— Ладно, коршуна! — вмешался я.— Давайте на костер плеснем. А то искры больно летят…
С этим действом все были согласны, после чего, улучив благодушную минуту, я попросил Алексея все ж таки рассказать толком, как на самом деле было.
— Это где же, на каком фронте?
— Да какие там фронта! — поморщился Алексей.— Только начали выгружать наше пополнение — вот тебе «юнкера». Ну, и началось!.. Остались мы без жратвы, без боеприпасов да так и подрапали налегке… Только прикажут окопаться — немец уже эвон где: то справа, то слева обошел… И опять — дай бог ноги…
— Где хоть это было-то, ну, места какие?
— А леший его знает! В каком-то поселке, кажись, опосля Бобруйска. Я ить и не помню, где мы там блукали. Отходили всё больше ночами. Глядишь, там горит, там полыхает, а какие города, какие поселки — кто знает? Карта солдату не положена, ее и у командиров не было. Разве где школьную подберет. А днем от самолетов по кустам ховались, лесами и пёхали…
— Ну, и как же все получилось?
— А что получилось? — не понял Алексей.
— Ну… насчет того поселка?
— А-а…— поскучнел Алексей.— Да то был и не поселок вовсе. Так, пеньковый заводишко, кострикой заваленный {75}. Ну, а получилось как? Шли мы на переправу, совсем в другом месте от этого заводика. Где-то севернее немец завис над нашими тылами, было велено отойти за реку, чтобы не потерять последние пушки и все колесное. А на переправе — пробка на полторы версты: грузовики, трактора, упряжная артиллерия, телеги, беженцы с тачками, скот, пешей солдатни полно. Крик, ругань, бабы галдят, коровы мыкают… Небритый комендант нагана из рук не выпускает. Слава богу, хоть дождь моросил, самолеты не летали… Ротный побежал выяснять, а мы на всякий случай свернули в обочные сосенки.
Сидим, передыхаем, покуриваем, переобуваемся, портянки сушим…
Смотрим, ротный обратно бежит, планшетка по бедру хлопает. С ним какая-то бабенка в шинелке, между полами белый халат промелькивает. Ротный еще издали кричит нашему помкомвзводу: «Агапов! Бери десять-двенадцать человек, поедешь вот с ней… с этим товарищем».
«Товарищ» оказалась в годах, под береткой седые волосы, худая, опавшая, нос, как у вороны. Глаза, вижу, зареванные, небось, с комендантом ругалась, а может, и еще по какой причине… Стало как-то нехорошо, тревожно на душе: куда? что? А ротный наставляет: «Управитесь — догоняйте! Я коменданту записку оставлю, где нас искать. А про остальное — вот она все скажет. Вы теперь в ее подчинении. По званию она капитан, так что давайте…»А чего давать-то? И та ничего не говорит, а только торопит: «Товарищи, побыстрей обувайтесь, пожалуйста!» А сама долгие пальцы, сведенные стропильцами, всё к серым губам подносит…
Ну, мы, двенадцать человек, обулись, закинули за плечи вещмешки, Агапов прихватил «дегтяря» с двумя запасными дисками, потопали. Невдалеке санитарная газушка стоит с красным крестом на боку. У шофера голова забинтованная, сукровица на виске проступила, из-под бинтов опасливо в небо косится, видать, не нравится это людное место, машину не выключает. Спрашиваем его: «Куда хоть едем?» — «Да тут,— говорит,— недалеко. Мост надо поправить». Ну, мы повеселели: работать — не стрелять, дело подходящее.
Поехали. Вскоре затрясло, закачало, шофер запереключал скоростями на ухабах. В заднем оконце замелькали сосны. Ясное дело, какой-то глухой дорогой едем. Потом дерева перестали мелькать, стало опять видно одно небо, в оконце посветлело, наволочь поднялась и дождем больше не дробило по крыше. Машина прибавила ходу, должно, выехали на открытое, на колевую дорогу.
Слышим, стук кулаком из кабины, шофер орет благим матом: «Мессера! Все из машины!»
Мы посыпались из железной будки, разбежались кто куда, попадали в траву. И правда, два «мессера» друг за другом над самой землей ,и сразу: «Тра-та-та-та! Ба-бах!» Мелькнули белые кресты, обдало бензиновой гарью, забарабанили комья взорванной земли. Еще два самолета промчались чуть стороной. В один миг немцы исчезли за лесом и где-то там опять: «Шара-ах! Шара-ах!» А потом еще: «Бах — бабах! Тра-та-та-та!..» Должно, лупили уже по переправе.
Отряхнулись мы, залезли в кузов, а там три светлые дырки в потолке…
Алексей потянулся за сушняком, бросил несколько коряжин на тлеющие угли и помахал шапкой, добиваясь огня.
— Ну, приехали мы на этот пеньковый завод, вышли из машины. Не поселок, а так — поселишко. Налево — сам завод — долгое кирпичное строение с веселой купецкой лепотой, позади — склады, всякие службы. Направо — улица из нескольких домишек. А между ними — вроде как площадь с бюстом Ленина и Доской почета. На Доске еще целы портреты стахановцев. А внизу — речка и тот самый мост раскуроченный.
Глядим, «мессера» и тут побывали: дымился, догорал один из складов, по всему двору курились ошметки извергнутой огнем пеньки, сам двор воронками исклеван, а на задах две женщины в белом что-то копают лопатами… Наша капитанша как остановилась, так и осталась стоять, обхватимши руками беретку. Увидели ее те две женщины, бросили копать, прибежали с криками: «Ой, Анна Константиновна! Что тут было! Что было без вас! Вот видите, что наделали, сволочи?! Иванькова насмерть убило! Помните, что без двух ног? Вот копаем… Остальные, слава богу, целы, в другой склад перенесли».
— Это что же — госпиталь был? — догадался я.
— Ну да! — кивнул Алексей.— Полевой санбат какой-то дивизии. А где сама дивизия — никто не знал. Связи с ней не было никакой.
Собрались было медики эвакуироваться своими силами, вот тебе немецкий самолет. Покрутился, выглядел тамошний мост, снизился и саданул фугаской. Бомба вырвала под тем берегом метров двенадцать, раскидала настил, повалила опоры. Сами раненые кое-как перекинули над провалом две латвины. Там, за рекой, верстах в десяти, была какая-то станция. Туда они и потопали, кто как мог: кто на костылях, кто в обнимку. С ними ушли провожатыми два санитара и несколько семей из поселка. Добрались они до станции или нет, никто не знал: санитары назад не вернулись. В поселке остались одни тяжелые, человек сорок. Лежали они в заводских складах, прямо на пеньковых тюках. Пенькой их и перевязывали вместо ваты. Провизия тоже кончилась, кормились с брошенных огородов пустыми капустными щицами, мятой картошкой да подсоленным отваром из-под нее… И у нас с собой ничего…
— Да! Положеньице! — посочувствовал я.
— Потому начмед, та самая Анна Константиновна, и решила починить мост, чтобы за несколько рейсов вывезти всех тяжелых на своей санитарной машине. Хотя бы до той самой станции. Тут было ближе и безопасней, чем колесить в объезд, через войсковую переправу.
Ну, оглядели мы этот мост. Бомба раскурочила его основательно, главное, повалила опоры. С правой стороны все сваи как бритвой срезало. Видать, центнера на два жахнула чуха. Двенадцать метров прогона — дело не шутейное. Надо было бить новые сваи або подводить козлы. А сперва — материал припасти — напилить сырья или же разобрать подходящее строение. Чем попало мост не залатаешь. Да все это снести на берег, обмерить, опилить, затесать стыки — легко сказать! Возни порядочно. На все ушло бы дня два-три, а то и поболе. А время-то тикает, душу щемит: немец ждать не будет, пока мы управимся. Разведка его шныряет, нюхает, где слабинки да пустоты в нашей обороне. Так что каждую минуту в тревоге. Все, бывало, прислушиваемся, не стреляют ли где… А каково тем, бедолагам, что на пыльной пеньке в темном сарае обездвиженные лежат? Им и вовсе мир с овчинку, жизнь на волоске. Зайдешь туда, аж муторно становится: затхлые сумерки, гнойным телом разит. И сразу: «Ну что там? Где они?..»
Агапов, наш командир, говорит начмеду: пусть, дескать, мост останется как есть, а лучше давайте плот состроим, так будет быстрей. Сперва санитарную машину переправим, а потом — раненых. Главное — машину, чтобы сразу начать возить. А то, пока мы будем с мостом канителиться, газушка останется на этом берегу без дела стоять. Шофер заупирался было: утопите мне машину, то да се… Вы, говорит, потом смоетесь, а меня — под трибунал… Но Константиновна только глянула на него и приказала: «Делайте!»
Сразу и начали: на поселке отыскали две пилы, несколько топоров, в заводском цеху нашлись пожарные багры, железные ваги. Не мешкая, принялись разбирать топливный склад, рубленный в лапу. Завалили три ближних световых столба, смотали с них проволоку — для крепежа. Двух солдат отрядили крутить из пеньки веревки. Дело — делом, но на всякий случай на чердаке главного корпуса поместили бойца с ручным пулеметом — послеживать за дорогой. А то мы всё на берегу под горюй возимся, а что делается окрест наверху — от реки не видать.
…Привлеченная, должно быть, теплым веянием углей, прилетела крапивница, доверчиво покружилась над Алексеевой непокрытой ковыльной головой, отпорхнула было в сторону, но вернулась снова, облетев еще раз Алексея и неожиданно села на пустую теплую от солнца полиэтиленовую кружку. И, присев, распахнула свету свой густой оранжевый бархат с цыганскими синими оборками по краям.
— Во! Красавица наша! — изумился Алексей, обрывая свой рассказ.— С самого детства люблю эту божию птаху! Ах ты, люба моя! Ты гляди, Авдюха, какой добрый знак! Указание-то какое! Стало быть, еще чуток выпить нам велено! Ты уж сходи, мил человек, принеси четверочку.
— Ничего не хочешь понимать! — попрекнул Авдей Егорыч.— Ноги у меня болят! Май, а я, гляди, в валенках.
— Ну да ладно тебе! Я ж не плясать тебя заставляю. Ты — помаленьку да полегоньку, а там — и побежишь, знаю. Все равно зря сидишь: все, что я тут балакаю, ты ить слыхал. Неинтересно тебе это, враки мои.
— Экий ты, паразит, настырный! — Авдей Егорыч, однако, встал, нарочито кривясь и морщась, и молча поковылял к плотине.
— Только, слышь, приходи! — крикнул вдогон Алексей.— А то возьмешь и запрешься на завалку. С тобою станется… А я зря ждать буду.
— Ладно, приду,— не оборачиваясь, пообещал тот.
— Ну что…— вернулся к рассказу Алексей.— В июле дни долгие, солнце еще токмо заводскую трубу начало задевать, а мы уже с плотом управились. Вязали прямо на воде. Три телеграфных столба упластали вдлинь, штук двадцать пятиметровок с сарайки уложили поперек, где проволокой скрепили, где скобами. Нашлись две порожние бочки из-под горючего, их по краям приторочили, чтоб не было боковой качки. Через речку перетянули веревку. Веревка, правда, лохматая, в один жгут, но — как получилось. Отпихнули чуток, держим баграми, шофер по накинутым лавам тихонечко-тихонечко тронул машину, смотрим, плот осел, в санитарке все-таки более двух тонн весу, вода показалась меж бревен, но ничего, обошлось. Ну и оттолкнули мы с богом. Шофер с плота веревку перебирает, мы, раздевшись, забредя в воду, баграми придерживаем, пока глубина позволяла. Потом отпустили, само пошло. Машина благополучно переправилась и выехала на ровный берег. Куда хлопотней оказалось с ранеными. Медперсоналу надо было переписать, подготовить личные дела, а нам — сперва вынести из склада, потом с носилками — а их оказалось всего пара — спуститься к реке, перенести по доскам на плот, уложить, на том берегу опять перекласть на носилки, подняться на берег, переместить в машину. Это ж тебе не мешки, а живые люди, они стонут, матерятся, хватаются за руки, закусывают губы от каждого неловкого движения. Так что пока переправили партию, пала глухая ночь. В машину запихивали уже потемну, шофер жег зажигалку и светил в лючок из кабины. Четверых тяжелых поместили прямо на полу, на пеньковой подстилке, двоих пристроили на подвесных боковых койках, а кто мог сидеть — тех устроили на откидных сиденьях — всего вошло десять человек. А их осталось еще тридцать. Правда, двое умерли уже при нас. Стало быть — еще на три таких ездки. Это ежели и дальше все обойдется… Да еще не было известно, куда их девать на станции. Поэтому в первый рейс поехала сама Константиновна, не спавшая уже какие сутки.
За день мы тоже вымотались до упаду, даже на гору больше не пошли. Сестра-хозяйка принесла нам ведро горячей картошки, поели без хлеба, покурили да и полегли у воды, благо пенька и тут выручила: натаскали ее изрядно, чтобы устилать плот.
Часу в четвертом побудил нас автомобильный гудок с того берега: наши приехали! Зашевелились мы нехотя, кажется, вот-вот только заснули, во всех костях гуд, ломота после вчерашнего. Реки не видать, должно, туман сел, гимнастерки набрякли, зябкий дрожак бьет. Зачиркали зажигалками, закурили. Слышим, по лавам, по остатку моста шаги: Константиновна топает. Подошла, закурила с нами. Красный жар махры высветил ее острое, обрезанное лицо с резкими тенями на салазках. «Ну, как там?» — спрашиваем. «Бомбят, сволочи! Возле путей одни горелые коробки. Пока положили в школе. Да там и без наших уже полно раненых, кто откуда. Начальник станции обещает отправить при первой возможности. Вот, говорит, если не разбомбят вагоны с колючей проволокой, к вечеру разгрузим, ими и заберем».
Константиновна увидела взбуровленную пеньку и прямо-таки пала на колени: «Ох, товарищи, я тут полежу минутку… Если что — разбудите… А вы начинайте, пока сверху не видно…»
За рекой, над лесом, проступила вялая бледность — вставала новая заря. Мы подхватили носилки и побрели в гору — начинать еще один неведомый день.
С плотом мы управились еще до солнца. Загрузили машину, и та ушла.
А ровно в шесть, будто по графику, снова загромыхало. Уже не на севере, а на северо-востоке, как в большую обложную грозу. Видать, немцы, проспавшись и попивши кофею, принялись за свою работу — заводить свой железный невод. Через недолгое время они сведут его концы, вытряхнут богатый улов и довольно, старательно пересортируют, кого куда: раненых добьют, живых погонят в лагеря, собак перестреляют на шапки, скот отправят на колбасу, а железо — на переплавку…
А вскоре по реке густо повалила поруха: вырванная с корнем осока, древесная щепа, совсем свежие ракитовые ветки, доски, ощеренные гвоздями, бревна… Осевши на один бок, сундуком пронесся тюк прессованного сена. По нему туда-сюда бегала суетная трясогузка, тикала долгим хвостом. Следом огрузло, нахлебавшись воды, опрокинутая вниз дном проплыла, посверкивая лакированным козырьком, армейская фуражка с красным околышем, может, даже и генеральская… Спустя к опорам моста прибило гнедую лошадь. На ее вздутом, мокро блестевшем боку посверкивали латунные бляшки на ременной шлее… Никто не знал, откуда несло эту погибель — река-то длинная… После вчерашних «мессеров» от той переправы, где мы были вчерашним днем, такое же месиво поплывет в этих местах, только спустя двое-трое суток. А еще дня через три закачаются на зеленой воде всплывшие трупы…
Машину решили не дожидаться, а сразу начали носить раненых для следующего плота. Правда, было опасение, что могут налететь самолеты. Но и в складе держать людей — хорошего мало, тем паче что один склад уже сгорел от бомбежки. «Уж ежели погибать,— говорили сами раненые,— дак лучше здесь, на бережку». Они лежали в исподнем, прикрытые шинелками, и было видно, как после сарайного мрака радовались разгороженной воле, просторному небу над головой. Угостили куревом, расспросили, нет ли среди них земляков. Все они оказались нашего, шестьдесят третьего, корпуса, разрозненного лесами, и теперь не знали, где он и что с ним. Да и мы тоже про то не ведали…
И вот тут, пока мы балакали, над крышей завода метнулась красная ракета, и сразу полоснуло долгой пулеметной очередью. А втемеже еще и еще раз…
Мы переглянулись оторопело, будто не понимали, что это такое, хотя каждый про себя ждал, ходил, жил и спал с этим… Первым вскочил Агапов, заорал, вздулся шеей: «Двоим остаться, остальные — за мной! Где винтовки, мать-перемать, сколько говорил, иметь при себе!» — хотя сам был тоже с пустыми руками.
Винтовки наши были наверху, да и чего их, казалось, таскать с горы да в гору. Зато и взбежали мы, порожние, что было духу. Сестры вместе с Константиновной тоже высыпали на заводской двор. Прибежали, похватали оружие, смотрим, в чердачное окно пулеметчик Кукода высунулся, не то перепуганный, не то обрадованный. «Товарищ сержант! — кричит он Агапову.— Только что немцы были!» — «Как — были?» — «На двух мотоциклах с колясками. Один мотоцикл я сразу срезал, а другой умотал, гад! Пыль поднял такую, аж не видно, куда стрелять… Но зато того я садану-у-ул! Аж кверху коляской завалился!» — «Ладно, заткнись! — помрачнел Агапов.— Теперь жди привета!»
…Наконец вернулся Авдей Егорыч, не ко времени перебивший рассказ Алексея. Цигейковую шапку он сменил на красный вязаный «петушок» с веселым махорчиком, делавшим его просторное багровое лицо забавно заостренным кверху и похожим на кочета с зазубренным гребнем. Он извлек из кошеля и выставил на тарный ящик неполную бутылку, заткнутую газеткой, шмат сала, банку румяных маринованных помидоров пополам с желтыми перчиками.
— Ну, жани-их! — восхитился Алексей.— Хоть на полтинник чекань!
— В шапке жарковато стало,— польщенно сказал Авдей Егорыч.— Вот, принес прошенное…
Алексей потетешкал в руках бутылку с желтоватым питьем:
— Ты уважил бы, медком сдобрил-то…
— Разбавил, разбавил,— заверил Авдей Егорыч.— Не видишь, что ли?
— Ну, тогда порядок в отставных войсках! — объявил Алексей и, сощурясь, прицельно разлил по стаканам.— Давайте, служивые!
Бесшумно торкнулись чарками, Алексей, прихватив помидор, как и прежде, пошел за черемуховые кусты залить свою дозу. И уже возвращаясь, отбросив выжатую помидорную шкурку и освобожденной рукой запихивая в штаны рубаху, на ходу продолжил прерванное.
— Ну, такое, значит, дело… Всем скопом, женщины тоже с нами, пошли смотреть подбитый мотоцикл. Честно сказать, никто из нас, разве что Агапов, не видел убитых немцев. Бить — били, а битых не видели, потому как всё назад да назад… Лежали они над люлькой крест-накрест, во всем своем виде чужие, страховитые, какими бывают приконченные волки. Который за рулем, так и окорячивал сиденье, прижатый машиной. Сам — в темных, глухих очках под насунутой каской, руки в долгих кожаных перчатках похожи на скрюченные лапы. Второй вывалился из люльки навзничь, придавил нижнего, каска съехала на затылок, было видно рыжее лицо, забрызганное веснушками. А ресницы белые, как у молодого кабанчика. Веки не успели прикрыть остекленелые глаза, и они пусто таращились на всякого, кто в них заглянет… Немцы были в черных комбинезонах, рукава закатаны по-за локти. На обоих черные автоматы, какие-то ребристые коробки, а на шее — желтоосмыганные бинокли. Одна из сестричек, Татьянка, заглянула за мотоцикл и сразу отпрянула: «Мама моя, страшные-то какие! Как с чужой земли!»
Мотоцикл оказался простреленным и непригодным. Агапов попробовал отвинтить люльковый пулемет, но что-то не получилось. Тогда он снял с убитых автоматы, вытащил из-за голяшек запасные ложки, велел принести ведро и слить из бачка горючее: «Разольем по бутылкам — мало ли что…» Из карманов выгреб курево, зажигалки, серые немецкие копейки. Потом снял с обоих часы и одни, покрасивше, протянул Татьянке: «На, носи!» — «Да вы что? — отстранилась она.— С убитого?» — «А я возьму! — твердо сказала Константиновна.— Мне часы нужны, пульс не по чем мерить. Оботру спиртиком — небось, и мне не соврут».
— Это же горе, какие мы были вояки! — всплеснулся Алексей.— Часы разглядываем, монетки, фотокарточки из ихних кошельков: «Глянь-кось! Это тот, рыжий, должно, со своей невестой!» — «Фу ты, краля какая!» — «А это очкарик с охотничьим ружьем и собакой, гляди, битыми петухами обвесился».— «Это не петухи, это фазаны, птицы такие». Таращимся этак, мишуру вырываем другу друга, а сами на открытом месте собрались-то, да еще женщины в белом, далеко, небось, видать… Тут и шарахнула мина, совсем близко вскинулась рыжим, пыльным кустом. Ясное дело, первая пристрелка! Сейчас за тем бугром немец подкрутит ручку, и следующая мина как раз будет тут… «Бегом! — заорал Агапов.— Перебежкой, перебежкой! И сразу ложись!» Едва мы отбежали и попадали, как вот тебе три мины, одна возле другой, аж мотоцикл перевернуло кверху колесами. И началось, началось, голуби вы мои!.. Лупил, лупил по дороге, начал бить по заводу, вылетели все наружные стекла, подломилась и повисла на одной жилке железная заводская труба, разворотило крышу. Пулеметчик Кукода кубарем слетел с чердака. Ладно, в склад не попало…
Минут этак пять немец бегло крошил и рушил, а потом замолчал — посмотреть, как себя поведем, чем ответим? А чем отвечать? У нас всего-то один «дегтярь», остальные — винтовки. Ну, еще два трофейных автомата. Правда, некоторые легкораненые поступали сюда со своим оружием, и Константиновна прятала его в подвал. Там нашлось еще несколько винтовок, сколько-то подсумков с патронами и кучка лимонок и противотанковых гранат. В общем, не густо.
Пока было тихо, Агапов собрал всех на короткую планерку, распределил, кому и где держать оборону. Порешили больше не связывать себя с санитарной машиной, а вынести раненых всех до единого из склада, переправить их на ту сторону, а остатки моста взорвать, чтобы немцы не могли его починить. Пока они наведут новый, мы будем уже далеко.
Мне и еще одному — Хлопову — досталась дорога — на тот случай, ежли появится какая техника. Другого въезда в поселок не было. Агапов выдал нам по бутылке бензина, сказал, что больше нету, остальное горючее Константиновна велела отдать шоферу, ему, мол, каждый грамм дорог. А еще осталось по противотанковой толкушке РПГ. Агапов спрашивает: «Бросал когда?» — «Нет,— говорю,— не приходилось…» — «Все просто: вырываешь чеку, вот эту вот штучку, а рычажную скобу, вот она, зажимаешь ладонью. Смотри, до броска не отпускай, а то могилу под тобой выроет, а хоронить будет нечего… Усек?» — «Ну, усек…» — «Повтори!» — «Да ладно, не забыл».— «И вот еще: граната увесистая, дальше двадцати метров не кинешь, так что не трусь, не швыряй раньше времени. Поближе подпускай, чтоб наверняка. Все понял?» — «Да вроде все…» — «Ну, вот и давай… Оставаться тут, пока всех не отправят. Отходить по зеленой ракете, как договорились».
Стали окапываться, рыть ячейки, каждый себе. Хлопов — у того края дороги, я с этого, со стороны завода, метрах в трех от его угла, так что мне сразу две стены видно: и ту, которая к немцам, и которая на выгон, где Ленин стоит. Земля иссохшая, глыбистая, лопата идет туго, приходится больше рубить. Копаю, а сам поглядываю по сторонам. Впереди — клеверное поле с горбинкой, версты за полторы небом кончается. Где-то там, за гребнем, немец затаился… Глянул назад — вижу все лесное заречье, зелено, хорошо так… Плохо только — не видно моста, не знаешь, что там делается, заводская стена застит. У Хлопова позиция получше: как раз над окопом разлатый куст торчит, маскирует Хлопова, можно хоть по пояс высовываться. А главное — видно всю переправу. Кричу ему, чтоб поглядывал туда, держал в курсе.— «Да гляжу, гляжу…» — «И чего?» — «Сестры туда-сюда с носилками бегают, кажись, последний плот собирают…»
Вдруг опять: шара-ах! шара-ах! — минами. Обвалом, без передыха. С заводского двора клочьями взвилась кострика, вороньем закружила в небе. Враз все затянуло пылью, толовой вонью поволокло… Хоп, из-за косогора выскакивают два немецких грузовика, мчат напропалую. Подскочили поближе, через борта запрыгала солдатня и давай вправо-влево рассыпаться, цепью ладиться. Бегут, из автоматов хлещут.
Сам Агапов стал за пулемет, с кирпичного чердака, с обзорного места долгой очередью полоснул по машинам. Одна втемеже полыхнула, занялась жарким пламенем. Вторая даже не развернулась — задом, задом укатила за бугор. Слышу, запукали наши винтовки по разным местам, нескладно, разнобойно. Рядом Хлопов раз за разом садит из-под своего куста. Я тоже начал стрелять, когда немцы поднимались и перебегали. Сведу рамочную прорезь с мушкой, выжду, пока фриц сам на мушку набежит, нажму пальцем — вот тебе вскинулся руками, обронил автомат… Пересуну затвор, выцеливаю нового… Ну да из винтовки много-то не настреляешь, эвон их сколько! И все из автоматов метут, будто горох пересыпают. Пули то и дело — фьють, фьють! — над головой. Вроде голодные пчелы проносятся за взятком. Рядом кирпичная стена от их очередей курится красной пылью…
Но Агапов — молодец! Уложил-таки фрицев, прижал к земле, ловкими очередями не дает им раздогону. Гляжу, шевелятся клевера, мелькают саперки: немцы принялись окапываться, лежа рубят клеверную дернину, выгребают землю из-под себя. Значит, уходить не собираются, будут ждать подмогу… Эх, побыстрей бы, думаю я про плоты, побыстрей надо б…
Посмотрел за дорогу: над Хлоповым окопом вьется дымок. Самого не видно. Небось, сидит на дне, выдохся солдатик. У меня тоже руки дрожат: не могу огнем поймать цигарку. Не со страху, а от напряжения. Оно боязно только до стрельбы, когда ждешь. Думки всякие вертятся: ежли поранят — вылезу ли сам из окопа, ну, и хуже того… Когда ж впервой тряхнет землю, тут только зубы смертно зажмешь и — давай! А вот опосля, когда все стихнет, отпустишь стянутые жилы — вот тут-то и начинает колотун забирать.
Кричу в обе ладони: «Эй, Хлопов! Живой?» — «Жив пока…» — «Много немцев набил?» — «А хрен их знает…» — «Чего делаешь-то?» — «Курю, чего еще… Вон сестра-хозяйка с узлом на спине под горку скандыбает, должно, хозяйство свое на плот несет».—«А плот где?» — «На этой стороне».— «Нам бы еще полчасика продержаться…» — «А там чего?» — «А там — зеленая ракета!»
Покурили, поговорили этак, еще подладили свои окопчики, не знаю, сколь прошло времени, как немцы опять принялись долбить минами. Гадкая это штуковина — мина: от пули за всякой кочкой можно укрыться, даже за воткнутой лопатой, а эта, сволочь, и на дне окопа достанет, и хоть за каменной стеной. Она ить в отвес падает, прямо с неба, будто кара от самого Господа Бога. Убрался я в окопчик, втянул голову, но от этого еще муторней, потому как не видишь, что делается наверху. Улучил минутку, зыркнул поверх кучки земли — мать честная — танки идут! Три штуки из-за бугра вылезли, пока нас минами колотили. Один прямо по дороге, два — обочь, по клеверам, который по дороге — этот точно по мою душу. Вперился в него глазами, как примагнитило. Покошусь на тех двух и — опять на своего. Говорят, так-то гадюка жертву к себе привораживает. Едва успел ухватить глазами, будто светануло у него на башне, как тут же, в един дых, с хлюпом и свистом, аж обдало сквозняком, пронеслось что-то над головой и, когда грохнуло позади, далеко за речкой, только тут понял, что это из танка. Не знаю, куда он целил, но если в меня, то взял высоковато маленько…
Танки не шибко спешат, небось, знают, что против них у нас нет никаких средств, даже паршивой пэтээрки. Останавливаются нахально, водят головастыми башнями, ищут, куда пальнуть. И бьют, особенно по самому заводу, аж в мой окопчик нападало кирпичного крошева. Вот они поравнялись с полегшими автоматчиками, те повскакивали, пристроились сзади, попрятались за броню. Они идут, а ты, как дурак, торчишь в своей ямке и ничего не можешь поделать. Вот тут и заползает в душу ознобная робость. А может, и к лучшему, ежли бы ранило… Ну, не сильно, а так, черкануло бы по плечу или еще как… Крикнул бы Хлопову, дескать, так и так, давай помогай. И мы бы с ним, он — как провожатый, под стеночкой, под стеночкой, а там вниз — и на плот вместе со всеми… Никто ничего не сказал бы, имеем такое право. Ну, ежли так, тогда и вовсе всем крышка, и нам с Хлоповым — тоже. Выскочит сюда танк, увидит плот с ранеными и жахнет по нему без всякой промашки. И поплывут, как тогда, по реке щепки и бревна, пеньки и окровавленные, изодранные в клочья шинелки. А дня через три всплывут и сами бедолаги и замелькают на воде их белые рубахи и подштанники, а среди них — и мы с Хлоповым. А потом уже по деревням заголосят, зайдутся от черной юдоли бабы, прижмут к подолам своих сирых, замолкших воробушков, получивши бумажки о пропаже без всякой вести… Вот этакие мысли забредают в голову, пока нечего делать. И я хватаю винтовку, зажимаю зубы и начинаю бить по своему танку в тупом расчете, что, может быть, хоть одна пуля да залетит в какую-нибудь щелку и врежет гада между глаз.
Таки досадил ему! А может, это и случайно… Как звезданет по дороге, как раз между моим окопом и Хлоповым! Да не раз, а через минуту-две еще раз, едва успел убрать голову. Окликаю Хлопова: «Эй, сосед! Живой?» Молчит… «Эй, слышишь?» Опять молчит. Высовываюсь, гляжу — куста как не было… А вместо окопа — воронка дымится…
Вот, братцы вы мои, какова солдатская жисть… Только что курил и враз — нету, как не было… Подвел его этот чертов куст. Торчал один у дороги, показался танку подозрительным… Давай, Авдейка, улей по граммушке, не могу я этого вспоминать…
Алексей утер кулаком завлажневшие глаза, крякнул, потряс седыми вихрами.
— Ну ладно, ну ладно, все хорошо…— виноватился он, все еще потряхивая головой.— Все хорошо…
Скорбно выпили, и он, взбодрясь, зарассказывал снова:
— Метрах в трехстах немецкие автоматчики опять рассыпались по полю, открыли пальбу. За танком прятаться хорошо, да стрелять нельзя… Стало быть, пошли в последнюю атаку. Тут бы секануть по ним из пулемета, но Агапов что-то молчит, теряет время… Трофейные автоматы похоже, куда-то подевались. Слышны только одни винтовки, три, не то четыре, бахкают с поселковых заводов. Там уже и загорелось что-то, тесовым дымом несет. Ну, а что такое триста метров? Это даже если идти — и то считаные минуты. А они бегут… Правого танка я уже не вижу, скрылся где-то в огородных ракитах. А мой идет прямо на меня. Я уже вижу навешанные на передок гусеницы и даже орудийную дырку на башне… Снял каску, чтоб не маячила, не блестела на свету. Без каски не так заметно выглядывать из-за кучи окопной земли: я русый и земля русая, нашенская. А он уже — вот он, вот он, вот он… В глазах рябит от мелькания гусениц, горячий моторный воздух маревом дрожит за башней… Нагнулся, цапнул в печурке горло бутылки с бензином. Одной ногой заступил на окопный порожек, чтобы враз вскинуться из ячейки… Ну, с богом! Бутылка закувыркалась в небе, описала дугу, угодила в тупой лоб, рассыпалась, как ледышка. Черта с два! Как шел, так и идет! Нырнул я к печурке, схватил гранату, присевши, вырвал кольцо, мертво зажал ту самую скобу… И тут окоп затрясло железным грохотом и лязгом. Черно надвинулось днище, будто на мое укрытие насунули тяжелую плиту. Танк сбавил обороты, и гусеницы провисли над моей головой. Я успел услыхать, как в его утробе глухо урчали шестерни. Теплая капля масла мазнула меня по щеке. Было мелькнула догадка, что немцы собираются меня вытащить живьем и забрать в плен… Но танк задержался лишь на самую малость, в нем что-то заскребло, заскрежетало надсадно, должно, водитель переключал рычаги, мотор взревел ярым храпом, обвислые гусеницы дернулись и заходили на месте вправо-влево. Окоп заволокло пылью и дымом, обвальная тяжесть земли рухнула на мои плечи и спину, чем-то тупо ударило по голове. Я враз обмяк и пьяно полетел в тартарары. Небось, брать меня в плен немцам было меньше интересу, нежели вот так закатать гусеницами, вогнать в готовую могилу, сравнять с землей!..
Не знаю, други-голуби, сколь пробыл я в этой забытости. Но едва в моей голове, вроде как в темном погребе, занялся вялый свет, наперед всего подумалось про гранату. Не о том, что со мной, где я — об этом после пришло, а сперва про нее. Видать, заноза эта сама собой царапала меня изнутри, пока я оставался в беспамятстве. И втемеже похолодел, ознобился до самых пят, когда дошло, что граната осталась без чеки!..
Я долго не смел пошевелить даже пальцами, но потом боязно сжал их и почувствовал округлость рукоятки и упиравшуюся в ладонь скобу. Оказывается, саму гранату я удерживал сдвинутыми штанинами и прикрывал животом. Убейте — не помню, почему я так сделал… Наверно, когда посыпалась земля, я испугался ее уронить и сунул под самый пах. Таким вот манером я оказался скрюченным в три погибели, и токмо ступенька, земляной окопный порог не дал мне свалиться на дно. Ноги мои затекли, а согнутая, придавленная спина оцепенела до судорог. Ежли б меня завалило сыпучим песком с головой, верное слово, я точно бы задохнулся. Но, слава богу, что это была земля… Почти все самое крупное, комья и глыбы, заторилось на мне сверху, и потому я все-таки не лишился кое-какой малости воздуха. Голову мою сильно ломило. Но я остался живой! Живой, братцы мои! Немец не затолок мою душу!..
Надо было, братцы, как-то выкарабкиваться отсюдова. Сиди не сиди, а рано или поздно, когда ослабну вовсе, граната сама выбросит меня из окопа. Было б спрятать чеку в карман! А теперь где ее искать? Я ить и руками пошевелить не способен. Стал я толкаться левым плечом: туда-сюда, так и этак… Земельная мелочь зашуршала, просыпалась под меня, в пустотцы, душно потянуло пылью. Перемогся малость, скопил духу и снова задвигал оплечьем. Вроде как подалось, передвинулось что-то, руке посвободнело. Тогда давай я пальцами копать, печурки делать, потом и всей ладонью грести. Гыречка по гыречке — все вниз да под себя, куда можно. Целую пещерку выбрал с левого боку. Потужился спиной, раз да другой — пещерка обрушилась. Долго обирал себя и обкапывал так-то — вот тебе светушек объявился! Ах сердешные вы мои, глянь-кось, сколько его теперь-то над нами! Дыши, радуйся — не хочу! А тогда и эта малость, дырочка светлая, вот как обнадежила, поманила меня туда, к оставленной жизни! Я не знал, что там, наверху, где немец — про то и не думалось в те минутки. И как было думать, когда я сам свою смерть в руке держу. Сперва надо было с ней совладать, а уж опосля другой смерти бояться. А она не ждет, торопит: вконец онемела моя правая ладонь, не держат гранату пальцы, вот-вот потеряю я над ними власть, выпущу скобу… Напрягся я из последних сил, давил-давил затылком, аж кровь прилила в глаза, да и сковырнул ту глыбину, что саданула меня чуть не вусмерть. Попил воздушку, прояснил голову, давай дальше выкапываться. И выбрался-таки! Оставил там свою винтовку, лопатку саперную, вещмешок с пожитками, сняло землей сапоги, дергал-дергал, да одни босые ноги и выдернул… Но гранату не бросил.
Вылез я поверх осыпи, перехватил гранату из затекшей руки, свернулся в ямке калачом, никак не отдышусь. Была мыслишка швырнуть эту гадину куда попало. Ну да что толку: будь я тут один, а то ж немцы где-то поблизости. Сбегутся на взрыв да и прикончат прямо в ямке. Чего ж я тади выкапывался, жилы рвал? И пришла минута глядеть, что делается на этом свете, куда деваться? Привстал на четвереньки, высунулся самую малость: все вокруг исцарапано, разворочено гусеницами, погрызы аж антрацитом блестят. Здорово танк на мне покобенился! Не жалел зла! Небось, за ту мою бензиновую бутылку… Еще чуть приподнял голову, высунулся за край — и аж по́том прошибло: танки немецкие! Вот они — рукой подать! Все три стоят на выгоне под заводской стенкой. Как раз возле Ленина. И все амуницией обвешаны: на пушках, на буксирных крюках — автоматы, ремни с кобурой, фляжки-баклажки всякие. На моторных решетках штаны с френчами навалены. А возле катков — сапоги парами. У Ленина на шее тоже кипа всякого оружия висит. А самих немцев — нигде ни одного. Токмо голоса ихние слышно, долдонят что-то, регочут по-жеребчиному, вроде как на заводском дворе. И жареным мясом несет, небось, в самый раз обедают.
Ну что, куда деваться? Глянул в поле — ни живой души. Смотреть соблазно, да куда денешься, ежли вдруг мотоцикл или машина какая… И куда придешь? Идти в поле — судьба неведома… И защемило идти к реке, прямо к своим. Каких-то полтораста метров, минуты две ходу. Думаю: по-за стеночкой, по-за стеночкой, только бы завод пройти, округлые ворота, потом вдоль забора и — вот он мост… Перебежать по плахам — а там уж: дудки! Ищи-свищи!
Выбрался я наверх, чувствую, шатает меня, ноги как без костей — не то что бежать, идти — и то боязно. И голову ломит. Шажок по шажку — минул голое место. Добрался до танков. Честно сказать, жутковато проходить мимо: набоялись мы этих чудищ, пока на восток уходили, наслушались про них всякого. Даже на погляд лютые. Особенно кресты пугали. И оружие — вот оно, любое. Но не имел я к нему интереса, геройствовать не собирался, не было сил. Одного только хотел — на тот берег.
Чумной, похмельно волокся я между танками и заводской стеной и самым опасным местом для себя считал ворота: всякий момент из них мог кто-то выскочить. Перед самым створом весь зажался, думаю: ежли что, то тут и брошу гранату. Но все обошлось: одна воротина оказалась закрытой, другая приотворена так, что в косой прощелок никого и ничего не видно. Стало быть, и оттуда меня тоже не видели. Ну, слава те, господи, крещу себе пуговицу. Иду дальше, а сам все оглядываюсь, чтоб не пальнули в спину После танков оказалась еще какая-то крытая машина, добрался до нее, с облегчением свернул за кузов.
И получилось так, братцы мои, что не туда я глядел, не того опасался! Оказалось, вот они где скопились все, вот откуда доносило жареным… За большим грузовиком, метрах в тридцати, как раз на муравчатом выгоне, немцы голые, в одних токмо трусах скопились вокруг костра. Кто валялся под солнышком, раскинувши руки-ноги, кто кучкой резался в карты, а человека три правили кострище. Над притушенными углями копчено румянился поросенок на долгой рогатине. Перед тушей на раскладном стульце сидел очкастый немец, тоже голый, но в галифе и сапогах, с кобурой на заднице — должно, какой-то чин. На его голове косяком белел газетный колпак. Оструганной лозиной он издаля тыкал поросенка, кисло отстранялся от жара.
Мне бы, дураку, взять и отступить, спрятаться за машину. А я стою отупело — ни взад, ни вперед. И тут в ихней компании кто-то как заорет благим матом: «Рус! Рус!» И все, будто их ошпарили, повскакивали на ноги. Стоят, тоже как и я, онемевши, и в ужасе таращатся на мою гранату. Они стоят, и я стою. Токмо тот, в бумажном колпаке, не встал, а так и остался на своем стульце. И когда он потянулся за кобурой, я двинулся навстречу…
Шел я теперь с одним намереньем — подступиться поближе и жахнуть в самую кучу. Ить все едино концы мне… Тот, в колпаке, вытянул в мою сторону наган, и я увидел, как он дымнул и дернулся в его руке. И тут же еще раз… Но я ничего не почувствовал. Должно, промазал от нервности. Больше он не стрелял, может, не было чем, или испугался, что я не падаю. Вид у меня, конечно, ежли б на себя глядеть, был еще тот: весь расхристанный, рожа в земле, волоса дыбом, босый, а в руке — граната. Очкастый немец подскочил, опрокинул стулец и засверкал сапогами. И все остальные побежали тоже. Я слышал, как орал кто-то: «Рус хвантома! Рус хвантома!» Я не знаю, что он кричал, но помню это и доси…
Один табун голых немцев сыпанул в поселковый проулок. На топот и крики выскакивали те, которые шарились по дворам. Они были в амуниции, с оружием, но, захваченные содомом, драпали еще пуще голых и безоружных. Другие, вместе с бумажным колпаком, помчались вниз, вдоль заводского забора. Колпак раза два пытался перескочить забор, но ограда была сколочена из отвесных досок с остряками наверху, и колпак, не сумевши одолеть заплот, пускался догонять убегавших. Я знал, когда они свернут за угол, то и там будет такой же долгий забор и деваться им некуда, пока не обегут всю загородку. Явись мне в ту минуту автомат, я бы перестрелял их всех, как линялых куропачей. Но мне и без автомата было злопамятно глядеть, как мелькали ихние переляканные пятки.
Под гору идти стало легче, тело само тянуло вниз, я податливо шлепал босиком по пыльному спуску, но, братцы мои, за всю свою жизнь никогда больше не было длинней дороги, чем эти несколько сажен до моста!
Наконец-то ощутил теплые доски настила! Было в этом приветном тепле памятное от моего далекого хутора Белоглина, от его горниц и амбарушек, от прясел и мостков, и я впервой побежал, гонимый воспрянувшим сердцем. Мост кончился бомбовым провалом, я ступил на пляшущие латвины и, когда увидел под собой береговую осоку, поустойчивей утвердился на досках и что оставалось сил швырнул гранату в пройденное.
Я успел схватить, как в черном выбросе дыма и грохоте мост вздыбился ощеренными бревнами, но втемеже тяжкий удар в бок сшиб меня с досок и я загремел в осоку.
Угодил я в жидкую грязь и потому не утонул и не разбился. Но огненная боль жгла всю правую сторону, распирала ребра и уходила вглубь, под самую ложечку. Меня затошнило, я дернулся животом и опростался кровавой брюквой, которую мы с Хлоповым грызли в своих окопчиках. Я потянулся к больному месту и нащупал рваную щепу, вонзенную между ребер. Двумя руками я потянул ее вон и почуял, услыхал даже, как она хрустнула и обломилась. Я зажал рану ладонью и, цапая осоку, принялся отползать от моста, пока не уперся в брошенный плот, и залег под навесом бревен. Поздними сумерками я перегрыз обрывок пеньковой привязи, мокрый, продрогший, с колотьем во всем теле, взобрался на бревенчатый настил и снова потерял память. Течение само поворотило плот и понесло по реке своей волей.
Выловили меня на другой день какие-то отходившие солдатики. Нашли в ворохе пеньки. В полевом лазарете вытащили из меня сосновый обломок, похожий на пику, и сказали, что я родился в белой рубашке: пика не задела ни легких, ни сердца, ни позвоночника, а удачно, дескать, прошла мимо них и проткнула один пищевод. Повезло, говорят, тебе! Редкий случай. Правда, сломало еще два соседних ребра. А чего ты, говорят, хотел? Хорошо, хоть так отделался. Ежли б не ребра, проткнуло бы тебя насквозь. Ребра, говорят, ерунда, срастутся, а пищевод залатают. Так что до свадьбы все заживет. С тем и отправили меня в российские тылы.
Ну а дальше, братцы, неинтересно: три операции прошел, что-то там зашивали, надшивали, а теперь и вовсе законопатили. Сказали, временно, походи пока так, потом вызовем. Да я больше и не пошел. Теперь и ни к чему…
Алексей замолчал, уставился в какую-то незримую точку, глаза укрылись в опечаленном прищуре. И вдруг ожили, распахнулись прежней просветленной живостью:
— А свадьбы так и не случилось! Была у меня одна на памяти. Печалился я о ней, в окопах думал. Да и теперь думаю… Не скажу ее имени, чтоб не корили. Не виноватая она, не виновата. Узнала, что я такой вернулся — гнусь да в платок сплевываю, стала прятаться, другими дорогами ходить. А потом и вовсе с глаз, в район уехала. Ну, да я и сам с понятием — нечего вязать человека… А думки-то остались, и снам не прикажешь. Еще и теперь, когда там бываю, вот защемит, вот как потянет! Хоть мимо дома пройду, старый дурень, гераньки на окнах посчитаю…
И признался весело, как не о себе:
— Меня ить долго опосля ребятишки донимали: «Щепкой ранетый!» Смешно им было, что не пулей, а щепкой. Вот бесенята! Ну да чего обижаться? В госпитальной бумаге так и указано. Дескать, травма древесным предметом без повреждения костных тканей. А в скобках добавлено: причина ранения — со слов. А у меня одни токмо слова и остались, никаких свидетелей.
Зазвали меня как-то в школу, еще школа у нас была, чтоб я выступил с воспоминанием. Стал рассказывать, как со мной было, смотрю, ребятня, дразнильщики-то мои перестали жужжать, потишело в классе, а потом и вовсе затаились — муху слыхать. Опосля галстук на меня нацепили, ромашек поднесли. А этак недели через две вызывают в район, говорят со строгостью: ты что это про себя небылицы распространяешь? — Какие небылицы? — Сам знаешь — какие. Мы тут справлялись… И ранение у тебя какое-то странное… Что значит — со слов? Мало ли ты чего наплетешь… Ты давай брось самовосхвалением заниматься. Тоже мне, Матросов! — Ну, меня больше и не приглашали на школьные встречи… Кто-то капнул, нацарапал писульку. Да ить кто? Вот он — Авдей, он и донес. Ему-то про себя рассказать нечего: всю войну на вышке простоял. За это ромашки не поднесут. Вот он и шепотнул, куда следует…
— Опять я! — изумился Авдей Егорыч.
— Ну да ладно, не ты, не ты! — Алексей похлопал его по плечу.— Суета все это, суета сует, сказано. Время всех уравняет. Вот уже и геройские медали на толкучке продают. Да чего там! Давайте лучше еще раз помянем! Наливай, Авдейка! Так и не знаю, кто тогда уцелел. Поди — никто. Один я — в белой рубашке.
А коршуны всё кричали где-то сквозь майский веселый ветер, все спорили за хутор Белоглин, осваивая новое жилье…
1993
Яблочный Спас
Утро клубилось молодыми августовскими туманами, еще легкими, не виснущими на кустах и травах, а кисейно парящими поверх изб и свежих сенных стогов, полня собой все остальное небесное пространство, уже степленное незримым солнцем, отчего казалось, будто перезвоны какого-то большого празднества сами по себе зарождались в мглистом таинстве встающего погожего дня.
Под этот благовест, то отдаленный, приглушенный туманом, то явственный, со всеми подробностями ликующих подголосков, было мне ново, необычно и радостно колесить в моей старенькой «Ниве» по прежде безмолвной округе, сопричастно глядя на русые скошенные поля в блестках оброненной соломы, на шумные выводки грачей, облепивших свежие наметы, на забагряневшие верхи степных яруг, опоясанных синеющими ягодами терновника. А пуще гляделось на табунки изнова заведшихся молодых коней — сытых, ладно округлившихся крупами, закосматевших долгими русалочьими гривами, с диковатым поглядом темных сливовых глаз, дурашливых от всей этой справы и вольницы, гораздых незлобиво куснуть, вскинуться на дыбки друг перед дружкой и огласить пажити забытым ликующим кликом, отдающим дальней запредельной Русью.
Иногда же из таившихся в межгорьях садов, уже созревших, обремененных плодами, вдруг опахнет волнами теплого яблочного ветра, и ты невольно неудержимо вдохнешь этот скопившийся за ночь пьянящий аромат с примесью душицы, полынка и еще чего-то волнующего и родного, потянешь в себя со всей жадностью, насколько позволяют пуговицы на рубахе.
В Малых Ухналях, в попутном сельце по дороге на Ливны, колокол, вновь отлитый, едва поболе шапки, бойко, истово названивал прямо промеж свежеошкуренных столбов, заменявших звонницу. Долгий, хлыстоватый малый с подвязанным хвостиком волос на затылке, должно, пребывавший в послухе, со строгим, озабоченным лицом дергал за веревку, но поскольку колокол был один, без своих разноголосых собратьев, то из него ничего нельзя было выколотить, кроме однообразного частозвона, тем не менее привлекшего немало народа. Тут же из муравы высился сварной, обшитый жестью куполок с кованым ажурным перекрестием, которому после очистки от ржавчины и покраски порошковой бронзой надлежало стать православным крестом. Однако проходившие мимо старушки готовно крестились на эту незавершенную конструкцию, не дожидаясь, пока ее доведут до ума, покрасят и возведут на церковную кровлю. Сам же храмец — обезглавленный, изрядно обветшалый, с порослью березок по карнизу, хранивший прежде бумажные кули с химикатами, побелочный мел и негашеную известь, ныне пребывал в лесах, весь в цементных помазках и пластырях и, как всякий больной, безучастно и равнодушно глядел сквозь поржавевшие решетки на узких незастекленных оконцах, так что приходской священник отправлял свою службу прямо на паперти, возле кем-то принесенного стула, застланного черным цветастым платком. К спинке стула была прислонена икона с образом Спаса {76}, строго взиравшего из фольгового оклада. Перед иконой на подносе горело десятка полтора разновеликих свечек, трепетавших на открытом воздухе долгими заострившимися язычками огней и слезно ронявших к обножью капли горячего полупрозрачного воска.
Перед папертью толпился сельский темнолицый люд, неловко прихорошенный обновами, все больше местные доброжители Малых Ухналей, промышлявшие прежде подковным ремеслом. Были здесь и пришлые из окрестных выселков и хуторов, а также, судя по веренице автомашин у обочины, всякие проезжие россияне, остановившиеся поглазеть, попритворяться верующими, а заодно и прикупить чего ни то по дешевке. Во всем этом сходе чаще других головных покровов белели бабьи платки, заведенные по такому случаю православной обрядностью. И лишь кое-где, а больше у пивной залетной бочки, мелькали холщовые козырчатые кепарики, проникшие в российскую глубинку с зарубежных олимпиад и пальмовых пляжей.
Между тем люди всё подваливали, протискивались к священнику, разверстали перед ним авоськи и узелки с яблоками, и молодой раскрасневшийся иерей в праздничной парчовой фелони и свежей камилавке макал вересковый веничек в детское голубое ведерко с ушастым Гурвинеком на боку {77} и вдохновенно, с видимым удовольствием, хлестко окроплял плоды, а заодно и самих соискателей благодати, подставляя затем запястье для поцелуя.
На роившемся пустыре тоже пахло яблоками, но не легкими дуновениями, как в открытом поле, а густо, настоянно, будто из большого закрома, в который ссыпали плоды со всех деревень. Яблоки округло, золотисто выпирали и выглядывали почти из каждой шитой и плетеной емкости в руках, и каждая поклажа сочилась своим собственным ароматом анисовки, свечовки, крапчатки, всяких новых штрифелей и бельфлёров, которые все вместе и создавали этот пряный праздничный настой.
По небывалому многообразию яблок, радовавших ребятишек, шкодливо пулявших друг в друга окусками, по тому, как встрепанный мужичонка в новой, глыбисто измятой рубахе сипло выкрикивал, не договаривая слов, какие-то куплеты, пытаясь обнять и облобызать всякого встречного, по бесшабашному вскрику ливенки {78} в каком-то ближнем дворе, а также по тому, как приходской священник, поди, тоже пропустивший рюмочку церковного, готовно и вдохновенно, с некоторой картинностью исполнял свое необременительное действо, оставлявшее впечатление, будто от взмаха его мокрого веника и рождалось это румяное и ароматное изобилие, грех было не догадаться, что в Малых Ухналях, как и во всей святой Руси, начался Яблочный Спас {79}.
Неподалеку, под старыми церковными липами, расположился яблочный базарчик. Десятка два женщин восседало рядком перед наполненными ведрами. Торговля была рассчитана в основном на приезжих, поскольку этого добра местному жителю не надобно и задаром.
Я тоже прошелся вдоль рядка, приглядываясь к веселому, бодрящему товару, при одном виде которого молодеет и радуется душа.
Яблоки и в самом деле были на загляденье: свежи, румяны, подернуты первозданной матовостью осевшего туманца и вообще веяли отменным здоровьем хорошо вызревших плодов. Да и сами женщины, по-праздничному добродушные, гораздые погомонить, оживленно встречали заглянувшего к ним человека и наперебой расхваливали свою продажу бодрыми возгласами: «Кому ранней антоновки? Ранней антоновки кому?» или: «Вот анисовка! Только что с ветки! Нигде такой нет, кроме наших Ухналей!»
Неспешно проходя сквозь эти веселые зазыванья, в конце концов я минул весь рядок и оказался перед самым крайним ведерком, замыкавшим торговлю. Перед ним на стопке красных кирпичей молча сидела маленькая щупленькая бабулька. На ней был серый прорезиненный плащик, укрывавший ее заостренную, как бы двускатную спину от капели, время от времени падавшей из затуманенных вершин старых деревьев. Насунутый серый козий платок застил ее лицо, оставляя видимыми лишь кончик острого носа и жесткий, будто из пемзы, серый подбородок, поросший сизыми завитками грубых волос. Всей этой серостью, угловатостью и отрешенной недвижностью она напоминала мне болотную птицу выпь, терпеливо поджидавшую свою случайную поживу.
— Баба Пуля! — окликнула ее соседка.— Слышь, баба Пуля! К тебе кавалер!
Старушка продолжала сидеть недвижно, нахохленно, втянув обмотанную голову в жесткий отвернутый ворот, и будто не воспринимала моего присутствия, не замечала представших пред ней моих замшевых кроссовок.
— Лукьяновна! Баба Пу-у-ля! — Соседка тронула старушкино плечо.— Спишь, что ли? Покупатель к тебе!
Бабуля, будто испугавшись, встрепенулась вся, зашуршала плащом и вскинула на меня красноватые, словно по живому прорезанные прощелки глаз, заполненные влагой.
— Продаешь? — спросил я с не покидавшей меня веселостью.
В ответ она извлекла из-под полы мелко дрожащую от старческого тика ладошку и зачем-то переставила на ведерке самое верхнее яблоко красным боком ко мне.
Кроме этого главного яблока, крупного и румяного, видно, исполнявшего роль рекламы, остальные были так себе: выглядели вяловато, даже чуть приморщенно, на иных бурели пятнышки червоточин. Было очевидно, что яблоки вовсе не с ветки и подобраны с земли, где пролежали невесть сколько времени.
Никто не неволил меня покупать именно эти яблоки, рядом продавалось много свежих и крепких плодов. Но, глядя на ее держащуюся за край ведерка дрожащую руку, обтянутую сухой, ломкой кожей, со вздутыми сизыми прожилками и узловатыми косточками пальцев, похожими на мелкие нитяные катушки, я решил, что сперва куплю у нее, и твердо спросил:
— Почем?
Старушка было открыла сморщенный, измятый рот, готовясь ответить, но слово мое было слишком коротко, так что она, кажется, не успела понять вопроса.
— Вы ей погромче,— подсказала соседка.— Колокол звякает, не слышно ей.
Я напряг голос и спросил попросторней:
— Хочу, мать, купить твои яблоки. Почем продаешь?
— Продам, продам…— закивала она, оттопыривая платок над ухом.
— И почем же? Что, говорю, просишь за ведерко?
— А-а, что просить-то… Сколь дашь, милай.
— Надо ведь знать, что давать.
Разумеется, цена для меня не имела значения и я спрашивал о ней только затем, чтобы дать старушке, кроме денег, еще и некое удовлетворение от ее убогой торговельки.
— На свечку дашь, дак и на том — спаси тя Господь,— положила она цену.
— Что так мало?
— Будя… Душа малостью живет, у нее своя пища.
— Свечку я тебе и за так куплю,— сказал я с веселой щедростью.— А, поди, душа не только свечек, но и хлеба просит?
— Ну, ежели мать свою помнишь, добавь и на хлебушко.— Она заглянула мне в глаза, и ее измятое временем лицо степлилось слабой улыбкой.— Уж и не знаю, каких они сортов, а яблоки хорошие, не кислые. Возьми попробуй.
Я пробовать не стал, а только сказал шутливо:
— Как же так: продаешь, а сортов не знаешь?
— Ась? — напряглась она, но потом поворотилась к соседке: — Чево он говорит?
— Говорю, яблоки свои ли? А то, может, подобрала где?
— Свои, свои! — вступилась за нее соседка.— Ба Пуль! Слышишь? У тебя сколь яблонь-то?
Старушка показала два скрюченных пальца.
— Две? Как — две? У тебя ж больше было…
— Было-то больше, да все истопила. Зимы нынче эвон какие, а — ни угля, ни дров… Обещали, обещали, да потом и сам сельсовет куда-то подевался, замок висит… Я и попилила.
— Ну и бог с ними,— согласилась соседка.— Зачем тебе столько? Ты и с этих сорвать не можешь — ждешь, пока сами падут. Ну а пали, то и пропали… У тебя ж — ни поросенка, ни внуков, некому подбирать. Так, поди, и валяются — то гниль нападет, то слизень… И продать — не товар.
— Ладно тебе! — одернули бабы говорливую соседку.— Придержи язык. Не отпугивай клиента. А то подумает, и впрямь не товар… Яблоки как яблоки… Таких в своей Москве небось и не видал…
Яблоки я все-таки взял, отнес в багажник и, воротясь с пустым ведром, спросил обрадованную Лукьяновну, не продаст ли она еще сколько-то.
— Ой, мила-ай! Да хоть все забери! — готовно согласилась старушка, однако предупредила, что хотя живет она и не так далеко, но туда, за ручей, проезду теперь нет, так что, если я согласен, то к ней идти надобно пешки.
Я согласился, взял в машине порожний рюкзак, и мы пошли.
Утро к тому времени окончательно выпуталось из тумана, вокруг стало солнечно и пестро от проступивших теней. Звеневший колокол иногда, как и теперь, примолкал на сколько-то минут, должно, молодой пономарь уставал непрерывно дергать за веревку, и после звяканья меди становилось слышно, как в вершинах старых лип, озарившихся солнцем, весело, чеканно щелкали отогревшиеся молодые галки, поддерживая легкое, безмятежное настроение.
Лукьяновна торила дорогу впереди меня. Она сперва покряхтывала, придерживала свободной рукой поясницу, но потом разошлась, зашмыгала растоптанными шлепанцами, заворачивая носки внутрь и раскачиваясь из стороны в сторону. Воротник жесткого плаща по-прежнему оставался торчать, скрывая пригнутую голову, отчего казалось, будто впереди меня бежал один только плащ на кривулистых ходулях. Я попытался отобрать у нее порожнее ведро, но она упрямо не отпускала дужку, говоря, что с пустыми руками идти непривычно, неловко, будет думать, что забыла чего… Когда я спрашивал ее о чем-либо, она останавливалась, часто дыша, хватая воздух распахнутым ртом, и, отдышавшись, переспрашивала меня своим встречным вопросом:
— Ась? Про что ты говоришь?
Недолгим проулком выбрели к переправе через шуструю речушку, взбудораженную утками, всплески и довольное кряканье которых доносились из-под нависших зарослей ивняка. Вниз по течению проносило разворошенную ряску, измятую осоку, оброненные утиные перья. Сама переправа состояла из двух провисших тросов, поперек которых были прикреплены тесины, похожие на клавиши.
— Господи Исуси…— перекрестилась Лукьяновна и, выставив перед собой ведро и переставляя его с клавиши на клавишу, этаким замысловатым манером проскондыбала на ту сторону. Я подождал, пока она наконец перебралась, после чего и сам с замиранием души одолел это зыбкое сооружение, не терпевшее никакой размеренности и тут же начинавшее раскачиваться из стороны в сторону.
Ступив на твердь противоположного берега, Лукьяновна присела на опрокинутое ведро и задышливо завозмущалась:
— А ить был же тут езжий мосток… Ан весь разворовали. И даже… сваи повыдергивали… Это еще при Горбачеве… когда начали все перестраивать… Навезли было плит, хотели поставить мост из бетону, дак Хотей расхотел, а плиты тоже порастаскали… Заместо моста повесили эту люльку — голова кругом от нее, опосля никак не отдышишься, хоть капли с собой носи… Оно и не глыбко, да один тут, Гаврюшка, что от меня через двор, спьяну свалился да и утоп. Нес на горбу тумбочку под челевизер, тумбочка и перевесила, он мордой в ил и угораздил. Утром люди пошли, глядят, а вороны уже Гаврюшкин зад долбят…
Выровняв дыхание. Лукьяновна продолжала:
— Трактор, дак тот прямо через речку прет, а машинам не стало ходу. Со мной ить, милай, из-за этого тоже оказия была…
— Что за оказия?
— А вот пока сижу — расскажу.
Лукьяновна сдвинула на затылок толстый шерстяной платок, обнажив серые свалявшиеся волосы.
Пережидая молчание Лукьяновны, я поглядел окрест, радуясь тихому, безветренному теплу и какому-то воцарившемуся благоденствию, сопровождаемому звоном ухналевского колокола. Здесь, на лужку, над доцветающими клеверами разомлело погудывали медлительные шмели, не по сезону одетые в теплые плюшевые шубки. Над темной, кофейной водой ломко промелькивала лимонно-желтая бабочка, невесть откуда и куда летевшая и невольно заставлявшая переживать, что не долетит при этом своем робком и неумелом полете или вот-вот схватит ее затаившийся под лозами большеротый голавль. А на узволоке, на заречных выселках, куда мы шли, под темными купами ракит, приютивших несколько разрозненных дворов, учились петь молодые тонкоголосые петушки. Оттуда же тянуло яблочной прелью, будто где-то там пролили на землю старое закисшее вино.
Лукьяновна поворотилась на своем ведерке лицом к выселкам:
— Вон, вишь, дом на краю починка?
— Куда глядеть — направо или налево? — не понял я.
— Налево который.
— А который налево — он без крыши…
— Ну да, ну да…— закивала Лукьяновна.— Он самый.
— И окна пустые, без рам… Нежилой, что ли?
— Как это нежилой? — обернулась Лукьяновна.— Я в ём и живу.
— Он что, горел, поди: бревна черные?
— Я вот и рассказываю…— Она снова повернулась на ведерке, будто на винтовом сиденье.— Ну, милай, живу я в этом доме, годки бегут… Схоронила матушку, одна осталась… Вот те, приезжает дочь Сима. Она тади в Хрустальном Гусе жила, работала главным булгактером. Отворяет дверь и еще с чемоданом в руке сразу в слезы: «Мама, пропадаю, выручай!» — «Что такое?» — «Сильно я растратилась, большой за мной недочет. Вот приехала, спасай чем можешь. А не то — десять лет мне дадут».— «Да чем же я тебя спасу, говорю я ей, шутки, что ли?» — «Ой, да какие шутки, какие шутки? Я дома уже все продала, что можно, и все равно не хватает».— «Да я-то что продам — ничего нетути». А она мне: «Давай, мама, продадим часть дома. Ты себе кухоньку с печкой оставь, тебе главное, чтоб печка, а на остальное покупателей поищем…» Жалко мне дочку стало: а ну и вправду посадят, да и продала я две чистых комнаты проезжим цыганам. Как раз зима надвигалась, они хорошие деньги дали.
Все получилось удачливо. Сима уехала в Гусь расплачиваться, а днями вот они — новые хозяева в двух кибитках. Сколь их понаехало, аж в глазах рябко… Мал мала меньше, и все босые да чернявые, как таракашки. Кто чугунки волокет, кто подушки. Тут же из окна сделали себе отдельную дверь, а в другое окно вывели трубу от буржуйки. Всю неделю праздновали новоселье, одни приезжали, другие уезжали… За стенкой дни и ночи бил барабан, бубны звякали, стекла в окне дребезжали. Однова просыпаюсь — чтой-то дымом пахнет? Я бы и ничего, да прежняя моя кошка вот как забегала — то под кровать, то на печку, места не находит. Выбежала я на улицу, гляжу, цыгане тоже повыскакивали, галдят, руками машут, а из их окон красные петухи выпрыгивают… Хорошо, добрые люди в пожарку сообщили. У нас, в Ухналях, прежде своя пожарная машина была. Машина-то была, а моста уже не было. Пока кругалём объезжали, уже и крыша занялась. Так что от всего дома одна моя каморка и осталась. Успели отбить ее от огня.
— А что же цыгане?
— И-и, милай! Запрягли лошадей — и с концами!
— И что, разве дом уже нельзя поправить?
— Да где же я возьму столько капиталу?! — Лукьяновна в сердцах опять насунула на голову платок и, кряхтя, упершись руками в коленки, тяжело поднялась со своей сижи.— Это ж сколь надоть денег-то? Крышу покрыть, стены от горелого образить, да полы с потолками, а еще рамы на окна… Теперь гвозди небось сто рублей штука, а у меня пенсия с гулькин носок, да и ту не всяк месяц дают…
— Да-а… Ну а власть? Разве ее не коробит пожарище? Должна бы помочь…
— Какая власть, мила-ай! — Лукьяновна воздела кверху пустое ведро.— Теперь в Ухналях нетути никакой власти. На том месте замок повешен. Уж и поржавел, поди…
Она побрела на узволок едва приметной тропкой, валко раскачиваясь при каждом переступе шлепанцев. Я пошел следом, все еще прикидывая всякие ходы что-либо сделать.
— Ну хорошо, а дочь? — сказал я громко и убежденно.— Разве она не обещала помочь? Было бы справедливо… Ведь ты же ей помогла?
— Ничего я не помогла. Все было впустую. И дом извела зазря, и деньги цыганские суда не упредили,— задышливо отозвалась Лукьяновна.— А теперь и самой Серафимы нету…
— Как — нету?
— А так вот… Признали Симу виноватой… Дак она и сама не отказывалась, виноватой была… Деньги у нее взяли, а скостили ей только половину: не десять, как она боялась, а дали пять годов лагерей… Валила лес на Урале. А потом поставили ее учетчицей. Все б ничего, можно б и отсидеть, да вот придавило ее деревом. Сук аж насквозь пронизал…
— Да как же так?!
— Писала мне одна, которая отбывала с ними, будто свои же подружки и сотворили. Кому-то не так учла… Нету теперь Серафимы…
— Да, печально,— посочувствовал я.— Наверное, семья осталась?
— А-а! — махнула рукой Лукьяновна, и в ее голосе проглянула какая-то бесшабашность.— Слава богу, безмужняя она! Налегке жила, как и я.
— Что так?
— Не выпало ей короля. Одни только пустые валеты. Ну и то ладно: некому печалиться. Вот Симина дочка первая в нашем роду расписанная. Все по закону. И свадьба была: она вся в белом, он — в черном.
— Бывает в Ухналях? Навещает бабку?
— Не-е! Ей до меня далеко! Гдей-то в Африке живет. Вышла за негра, с ним и уехала. Не назову тебе ту землю. Запамятовала. Писала как-то Симе, что когда в Гусе зима, то у них там лето, а когда в Гусе лето, то у них дожди непросветные. Обезьян полно, прямо по базару бегают, из кошелок воруют. А где это — не могу сказать.
Дом пострадал больше всего с фасада, будто обгорело его лицо. На выселковую улицу, на луг и речку, на все Ухнали из обугленного ребрастого сруба пусто глядели проемы окон, сквозь которые виделась поросль молодых кленов и безоблачная синева. Перед обгорелым срубом в самоделковом палисадничке, забранном подручным материалом — лотками от старой бочки, полосками жестяной выколотки и еще чем-то ненужным,— в предчувствии близкой осени скудно, устало доцветали оранжевые коготки, уже начавшие жухнуть и осыпаться блеклыми семенами, и вправду похожими на выпущенные кошачьи когти. Меж коготков поднималось несколько кленовых прутиков, уже достигших верхнего края руин и посаженных Лукьяновной, должно, для того, чтобы хоть чем-то сокрыть уличное уродство ее жилья.
Уцелевшая часть дома, кое-как прикрытая толем, с долгой оголившейся трубой, все же выглядела не так разорно, как представлялось. Стены были обмазаны глиной и побелены известью, единственное оконце, выходившее во двор, окрашено голубеньким, так же как и входная дверь, перед которой на тесовом крыльце был постелен круглый веревочный обтирничек для ног. Под толевой застрехой, на белой глади стены медовели ожерелки нарезанных яблок, а на подоконнике под сенью колючего цветка алоэ калачиком самозабвенно спал кот, укрывший морду от мух полосатым хвостом.
Лукьяновна покопалась за пазухой, достала ключ и принялась ковыряться в большом висячем замке, тоже окрашенном голубеньким. Заслышав металлическое царапанье, кот вскинулся на лапы и, подняв хвост, встряхивая самым его кончиком, пронизывающе вызрелся на возившиеся с замком руки хозяйки. Он был прелюбопытного окраса: один глаз голубой, а другой — желтый, голубой глядел из белой половины мордашки, а желтый — из черной. И только пипка носа, разделявшая обе половины, оставалась нейтрального колера — цвета молочной топленой пенки.
— Сичас, сичас…— говорила Лукьяновна не то мне, не то терпеливо ожидавшему коту.
Кроме дровяного сарайки, осевшего на один угол, ничем не огороженное подворье обозначалось полоской отяжелевших подсолнухов, склоненно, будто под хмельком, шептавших что-то один другому в развесистые шершавые уши, остальное пограничье занимали то подзаборная бузина, вся в рубиновых гроздьях никому не нужных ягод, то рослые многоярусные мальвы, похожие на китайские пагоды {80}, а то куртины полуодичавших георгинов, разбросавших, как фейерверк, свои золотые соцветия. В этой живой огороже, опутанной еще и вьюнком с повиликой, однако неспособной никого удержать, кроме совестливого человека, радуясь пришествию теплого дня, самозабвенно цвиркали и зинзикали подросшие за лето кузнечики, навевая иллюзию блаженного и вечного бытия.
— Может, помочь? — спросил я Лукьяновну.
— Сичас… Это я, сдуревши, сарайный ключ засунула… Совсем опешила, старая…
На открытой середине двора высилась летняя глинобитная печка, из которой буквой «Г» торчала вмазанная самоварная труба, делавшая все сооружение похожим на лежащего гуся. Птица-печка вскинутой трубой нацеленно глядела в небо, будто тяготясь своей обескрыленностью и неволей.
— А хорошо тут у тебя! — с городской завистью оценил я.— И не подумаешь, что за черными руинами вдруг такой пригожий уголок.
— Ась? Чего говоришь?
— Говорю, у тебя тут два дома: один черный, а другой — белый…
— Ага, ага…— согласно закивала она.— Куда ж денешься… Один от другого не оттащишь. Одна стена между ними. Дак и вся моя жизнь такая: черно-белая. … Вот и кот у меня где черный, где белый… Небось, одним глазом глядит днем, а другим — ночью.
— Откуда такой? — Я дружески протянул к нему руку, но кот, зашипев, спрыгнул с подоконника.
— Сам пришел. Еще писклёнком… Сидел на обгорелом бревне и пикал… а может, и не кот это?..
— А кто же?
— А-а…— отмахнулась она.— Это я так…
Замок наконец открылся, и я вслед за Лукьяновной машинально вошел в жилье, на большей части которого располагалась обширная печь прежних времен, занавешенная посконью {81}. Оставшегося места хватаю лишь на топчан, сундук и двустворчатый стол у оконца. Единственную табуретку приткнуть уже не было куда, и она неприкаянно обитала на середине келейки. Поверху же, на уровне глаз, разместились: над сундуком — подвесной посудничек, в углу, за лампадкой, темная иконка Смоленской Одигитрии, а над топчаном, в общей раме за стеклом — с десяток разновеликих фотографий. Все здесь впору лишь для одного человека, другой был бы уже лишним. Таковым и почувствовал я себя, когда присел на предложенную табуретку, сразу заняв все кубы и квадратные метры.
Тем временем Лукьяновна сняла плащ, размотала платок, повесила одежку у двери на гвоздик и осталась в каком-то казенного вида сером халате, кои нашивали уборщицы, разнорабочие и прочие подсобники, отчего стала похожей уже не на выпь, а на какую-то еще меньшую серенькую птаху, привыкшую к тесноте своей клетки, наперстку воды и щепотке проса.
— Погоди, чаю согрею,— сказала она, распахнув посудничек.
От чаепития я отказался, сославшись на брошенную у обочины машину.
— Ну, тади покури.— Она заискивающе заглянула мне в глаза.— Я люблю, когда папироской пахнет. У меня ить в доме давно никого не бывало…
Еще раз оглядев каморку и набредя взглядом на рамку с фотографиями, я поинтересовался, есть ли она на этих снимках.
— Я-то теперь не вижу, кто где… Гляди сам… Мы там трое на карточке.
— Здесь втроем только какие-то военные…
— Ну, дак это и есть мы… Я с подружками.
— Ты разве и на фронте побывала? — изумился я.
— Была, была я, милай, а то как же… Была-а.
Я приблизился лицом к давней пожелтевшей открытке: в самом деле, это были три девушки, которых я сперва принял за парней. Все трое — коротко подстриженные, в сдвинутых на висок пилотках, просторные воротники гимнастерок обнимали тонкие подростковые шеи.
— И которая из них ты? — спросил я, не узнавая молодую Лукьяновну.
— А вот гляди: справа — Зина Крохина, слева — Хабиба… забыла фамилию… а промеж ими — я, востроносая…
— А тебя-то как звать? Я слыхал, женщины тебя бабой Пулей окликали. Это что — имя такое?
— Да не-е…— отмахнулась Лукьяновна, будто отстранила ненужное.— Не Пуля я… Меня в девках Дусей звали… Евдокией, стало быть. А Пуля — это по-уличному. Ежели пойду куда, а меня — Пуля да Пуля… Правильно уж и не зовут… Небось забыли, что я по крещению-то Евдокия. Дак я и сама иногда забываю, кто я. На Пулю здравкаюсь… Это ребятишки, охальники, такое прозвище прилепили, да и пошло…
— Что так?
Лукьяновна сидела на краю топчана, расслабленно опустив руки на колени. Ее правая кисть мелко подрагивала, и она бережно, как ушибленную, оглаживала ее левой ладонью.
— Ить я на фронте снайперкой была…— сказала она, глядя на свои руки.
— Снайпером?! Да ну! — изумился я такой неожиданности.— И как же так получилось?
— Да вот так и получилось… Я девкой и ружья-то близко не видела, не то чтоб стрелять… А тут собралась учиться. Спроворила торбочку, попрощалась с Ухналями, с отцом-матерью и укатила в Тамбов. Там тади был техникум работников пищеблока. Подала учиться на повара. Проучилась я девять месяцев, вот тебе война. Ученье наше порушилось, годных учителей позабирали, практику отменили… Говорили, всех на окопы повезут. А немец уж от Москвы близко. Тут приехал какой-то дядька. Собрали нас, а он и спрашивает, кто из девушек хочет на радистку учиться? Сичас, говорит, очень радистки нужны. Многие стали записываться, ну и я с ними. Отобрал он двадцать человек, с каждой в отдельной комнате поговорил, про отца-мать расспрашивал, про членов Политбюро… Выдали нам хлеба с консервами, повезли аж в Казань. Там поместили в каком-то пустом складе, оконца под потолком. День сидим, другой — никто ничего. А потом приходит тот дядька и говорит, что радисток уже набрали, больше не требуются, а нас направят учиться на снайперок… Ну, остригли нас коротко, сводили в баню, дали все военное. Сперва винтовку разбирали, учили залезать на дерево, ползать по-пластунски, чтоб ни одна ветка не хрустнула. Потом стали по бумажным фашистам стрелять. Я сперва сильно мазала: больно винтовка тяжелая. А которые хорошо попадали, те свои мишени на память берегли, чтоб потом домой переслать. А на ту карточку мы снялись перед самой отправкой. Зина Крохина, я и Хабиба… Я — которая посередке, востроносенькая. Ну, дак совсем сыроежки зеленые… Крохину вскорости на позиции убило, и месяца не пробыла. А с Хабибой — вот не вспомню фамилию — вместе аж до Лук дошли. А уже там она пропала без вести. Пошла на свою снайперскую скрадку и не вернулась. Меня потом в особый отдел вызывали, все про нее допытывались: не замечала ли я чего за ней… Небось, думали, Хабиба сама к немцам ушла… Да как же девчонка сама пойдет? Ить на ней живой тряпки не оставят, до смерти замызгают… Не-е, сама не пойдет, ее ихние егеря выкрали, чего уж на девку напраслину выдумывать. Они ить за нами крепко охотились. Кто кого… Мне тоже досталось.
Лукьяновна крюковатыми пальцами отгребла с левой стороны клок пожелтелой седины и повернулась ко мне виском:
— Во, вишь?
Под откинутой прядью я с содроганием увидел багровые лохмотья уха.
— Это меня ихний снайпер. Промахнулся малость. Далековато было…
Она снова опустила вихор и ворчливо посетовала:
— Вот, не стала слышать… Звоны в голове… Другой раз ночью проснусь, а воробьи уже чирикают. Этак свиристят, ровно не поделили чего. Думаю, какие ж воробьи, ежли за окном темень? Да и смекну: это же у меня в голове пташки чирикают. А мне наш хвершал говорит, это, мол, от старости. За выплатное ранение не признают. Нету, говорят, состава членовредительства. Поранетое ухо, дескать, ни на чего не влияет… Да как же не влияет? Из-за этого я всю жизнь в платках проходила. Потому, может, и замуж не вышла. Кому я без уха нужна-то? Ну вот ты — взял бы бабу без уха? A-а, отводишь глаза! То-то! А тади, опосля войны, не такие в нетелях остались {82}.
— Но ведь дочь-то у тебя была? Значит, кому-то ты нравилась?
— А-а! — отмахнулась Лукьяновна.— То всё впопыхах да в лопухах…
Она ногтем поскребла что-то на халате, пообтряхивала то место ладошкой.
— И в каких же местах тебя ранило? — спросил я, чтобы отвести разговор от неприятной темы ее семейного неустройства. На каком фронте?
— А всё под Луками… А какой фронт, уж и не упомню. Многое из головы повыдуло. Где была, по каким местам на брюхе ползала… Тади, как ухо мне отшибло, всего-то и поошивалась я в санчасти недели две. Печки топила, старые бинты стирала, картошку чистила, пока ухо не засохло шкварками, да и опять — за винтовку. Взводный смеется: «Ты, Дуська, хоть в бинтах не высовывайся, намотай сверху обмотку, она зеленая, не так заметна. А то прошлый раз немец дуру дал, а теперь аккурат под бинты вмажет».
— Ну, а сама-то много нащелкала?
— Немцев-то? А леший их знает…
— Ты что же, счет не вела?
— А-а…— привычно отмахнулась Лукьяновна.
— Ну как же… Говорят, многие снайпера на прикладе зарубки делали. Кокнул немца — чик ножичком, кокнул другого — еще раз чикнул.
— Пустое! — поморщилась Лукьяновна.— То все газеты брехали. Откудова знать, попала пуля или промазала? Это тебе не в тире: не пойдешь потом проверять.
— Немец упал — значит, попала…
— Ну да! Немец те по передовой дуриком не ходит. Тем паче когда фронт намертво упрется: ни туда, ни сюда. Тади все в землю лезут, закапываются. Немец — где повыше, посуше, а наши — где пониже, пожиже…
— А почему ж — где пожиже?
— Чего ж тут понимать? Ить немец на случай отступления загодя себе запасные высотки метит. Там и окапывается. А раз высотка его, стало быть, твоя низина. А где низина, там бывает так: на два штыка копнул — вот уже и зачавкало. Не нравится тебе водица под ногами — иди в атаку, гони немца с высотки. А он уже изготовился, в землю зарылся. А окапывается он так, будто век тут жить собирается. Струмент у него ладный: грабарки, штыковки, кайлы, топоры на саженных ручках — два раза рубанул — и сосна свалена… Опять же лебедки, подрывные шашки, просмоленная бумага в рулонах — потолки в землянках перекрывать, чтобы песок в котелок не сыпался — все по делу предусмотрено. Ну, и чужого леса не жалеет: блиндажи накатывает с запасом, ходы забирает вершинником или молодняком, а то и деревню на блиндажи раскатает. А где сыро — полики настилает, сапоги не желает пачкать.
— А что, у наших разве не так?
— И-и, родим а-ай! Откудова оно, когда наш солдатик ширканьем огонь добывал? Ну, дак таковы у нас топоры и лопаты. Что у населения добудут, тем и ковыряются… Да наш брат лишнего и не копнет, бревно выберет, чтоб пилить поменьше, тащить полегче. А большего харч не позволяет. Да еще «авось»: ладно, авось пронесет… Дак потому у нас и братские могилы на каждом шагу…
— М-да…— потрогал я затылок.
— Так-то и стояли один против другого. В иных местах метров двести между окопами. Когда ветер в нашу сторону, уже знаем: нынче у них суп гороховый или капуста тушеная… От нас больше махрой тянуло. Днем мертво, ничего не шелохнется, ни одной цели. Вот и ждешь, радикулит наживаешь… Под Лугой сыро, полно болотин, стоялых бучил, от комарья продыху нету, кондёр хлебаем пополам с мошкарой. Особенно достается, когда лежишь в выдвинутом скрадке. Под носом у немца чесаться, отмахиваться не станешь, лежи, терпи, иначе засекут — подстрелят. Или минами закидают… Вернешься из потайки — морда, что бычий пузырь, налитая, собственной кровью измазанная… А назавтра чуть свет — опять в наряд…
— И что же ты высматривала?
— А все, что шевельнется. Но больше огневые точки, анбразуры… Застрочит пулемет — сразу бьешь по вспышке. Потому как знаешь: ежли строчит пулемет, то у пулемета обязательно немец. Я его, конечно, не вижу, бью наугад, но ежли пулемет замолчит, считается, что огневая точка подавлена. А то таишься возле низин, где у немцев тоже вода в ходах сообщения. Немцы всегда там что-то делают: наращивают бровку, забирают стенки, натыкают сосенки… Вот и ждешь, кто зазевается… Или ждешь ихнего обеда — тоже подходящее время для оплошки. А больше — пустой номер.
Лукьяновна опять бережно, поочередно огладила руки. От ее переносья по изрытому лбу пролегла поперечина, обремененная раздумьем.
— А бывало,— заговорила она опять,— глядишь-глядишь да и выглядишь… Сердце так и вскинется: ну, девка, это твой! Всего только касочка над урезом окопа. Едва маячит, обтыканная бурьянком. А из-под каски — совьи глаза: в бинокль смотрит. Будто на одну меня глядит… Ну да, самой страшно, а руки делают. Еле-еле, по самой малости двигаю мушку, подвожу крестик под каску, аккурат между очками биноколя. А сама думаю: должно, новый лейтенантик с обстановкой знакомится. Ну-ну, давай знакомься, подбадриваю себя, побудь так еще маленько, сичас, голубь, я тя умою… Затаиваю дыхание, аж лифик врезается, мягонько так жму на спуск. Приклад садно толкает в ключицу, запашисто, сладко ополахивает порохом. Выглядываю по-над прицелом, а там никого. Ни каски, ни бурьянка… Попала ай нет? А может, только чиркнула по каске? А он теперь на дне окопа сидит, с перепугу сигаретку закуривает… Черт его знает: попала — не попала. Я тоже опускаюсь на дно затайки. Меня всю пронимает какой-то колотун. Трясет до самых пяток, будто озябла я. Несвоими пальцами кручу махорку, курю в рукав, покамест колотьё не уймется. И весь остатный день в голове: попала — не попала? Потом старший отделения спросит: какие успехи? А ты что ему скажешь? А то так: пальну и сразу чувствую, что попала! Даже вроде слыхала, будто пуля шпокнула, как в спелую тыкву. Попала, и все! Хоть сама и не видела. Такая вера находит! Радоваться б удаче, как бывало, радовались на стрельбище, а радости нету. Муторно на душе, липко как-то. Ешь — кусок дерет, от людей воротит… Наверно, бабу нельзя этому обучать. Ее нутро не принимает, чтой-то в ней обламывается. … Иная, может, потом отойдет, а у которой душа так и останется комком… А про зарубки на прикладе — это дело такое… Ить снайперка работает без свидетелей. Мало ли ты чего наговоришь. Все зависит от начальства: как ты с ним увязана, такие твои и зарубки, такие и медали.
— А у тебя много ли медалей?
— Да вот Симка — главная моя медаль. За оборону Великих Лук. А на другие вроде бы посылали, да что-то не дошли.
Из-под топчана высунулся взъерошенный кот, вызрился на меня разноглазо. Полный ко мне недоверия, он пригнуто поспешил к Лукьяновне, запрыгнул на ее колени и только там опал шерстью, не спуская, однако, с меня пристальных суженных зрачков. Лукьяновна огладила его, и кот благодарно потерся черно-белой макушкой о костяшки ее вздрагивающих пальцев.
— Что ж, Евдокия Лукьяновна, до логова удалось ли дойти? — спросил я, снова принимаясь разглядывать ее военную фотографию.
— Чего говоришь?
— В Германии, говорю, удалось побывать?
— А-а, в Германии… Не, милай, этого не пришлось.
— Что так?
— Да была причина. Не сдюжала я… Дошла токмо до Литвы не то до Латвии, никак не запомню, которая из них. Помню разве городок, где стояли. Я, стало быть, Лукьяновна, а город — Лукияны. Через то и запомнился. Не знаешь, где это?
— Нет не слыхал.
— Места там глухие, безлюдные, болота пуще, чем под Луками. Вода торфяная, в пузырях, все чтой-то булькает, чавкает, воздыхает. По кочкам курослепы в человечий рост, камыши наравне с ольхами, сивый мох бородами на стволах висит, дерева душит. Тамошние ездят по гатям да по лежняку. А больше ступить некуда.
Там я уже не снайперила… В болотах бродили недобитые немцы, так что меня перевели в охрану штаба полка. Ну, там, конечно, полегче, хоть и тоже постреливали… А так — и постирать, и помыться, и чистое надеть. Это ж первая бабья потреба… Да и весь полк отвели в резерв, на пополнение: от самых Лук с большими боями шли, много народу потеряли… Во втором ашалоне солдаты от окопов отдыхали, учились ходить не на четверях, а на своих двоих, как в гражданке. В лесу черники полно, у всех пальцы, губы от нее синие. Гляжу, а у командира полка губы тоже в чернике… А то рыбу глушили, а потом на костре пекли, на прутиках. Без соли, правда, а все ж не пшенка. Одно плохо — много трупов по болотинам. Иные повсплывали, смердят. Там и наши, и немцы… Да кто ж их полезет доставать?
Лукияны — городок в одну улицу с церквой. Домочки махотные, плющом покрытые, крыши черепяные. Вроде и городок, а когда приехали, то на постой стать негде. Штаб полка занял церковную школу, а стрелковые роты — те стали за городом, по хозяйским мызам {83}. Однова велено было доставить в роты какие-то бумаги. Чтоб из рук в руки. Перекинула через плечо свою винтовку, села на ничейный велик и порулила. Свезла бумаги в одну роту, в другую, заодно передала письма, а третья, где я прежде числилась, расположилась верстах в трех, за лесом. Поехала туда. Погода серенькая, мелкий дождик принимался капать. Заехала в лес, начались болотные мшары {84}, черные засохшие дерева по кочкам. Дорога замокрела, захлюпала, вскорости начались деревянные гати. Пришлось велик спрятать в кустах. Сломала себе батожок, побрела пешки. В одном месте сверзилась с бревна, черпнула за голяшку. Села перематывать портянку. Вокруг воронье каркает, носится над болотиной. Шевельнет ветерок, а из кочек этак нехорошо потянет… Меня и без того с утра мутило. По дороге в первую роту поела немытой черники, щипала прямо с куста. А в двух шагах немец убитый валялся… А тут и вовсе от вони с души воротит… Едва сапог переобула. Вот тебе впереди бабахнуло… Потом еще раз… Звук, слышу, короткий, не винтовочный. Вспугнутое воронье поднялось над пустолесьем, закаркало… Вот опять пальнуло. Прислушалась: кто бы это? Уж не фрицы ли? Ну, а идти-то надо… Пошла от кустика к кустику, осторожничаю, верчу головой, на всяк случай сняла винтовку с плеча. Вот тебе опять бабахнуло раз за разом… Совсем близко. Даже голоса послышались. А когда кто-то матерком запустил, тут стало ясно: наши это! Свернула за поворот и верно: наши! Кучкой стоят на краю болотины: два солдата и старший сержант Феликс, прежний мой помкомвзвод. Его больше Фелей звали: молодой, а уж с животиком. Один солдат почему-то в мокрых подштанниках, у другого в руках моток телефонного шнура. Феля в самый раз стрельнул куда-то в болото и глядит туда из-под зажатого в руке пистолета. Увидел меня и вроде обрадовался: во, Кузина идет! Давай сюда, Кузина! Винтовка с тобой? Подхожу, ничего не понимаю. А в чем дело, спрашиваю. Да вот, говорит, там немец затоп, по самую хрючку. Кидали ему телефонный провод — не берет. Чухин пробовал доплыть — ничего не вышло, говорит, больно топко, коряг полно… Вишь, говорит, поваленное дерево? Метрах в тридцати отсюдова? Так вот там… А вода черная, жуткая, в желтых пузырях, как в болячках. И там, под мертвым деревом, в сам деле торчит что-то непонятное, тиной опутанное. Дак то, говорю, пень небось? Поди, поблазнилось… А Феля досадует: какой пень? Он за сук вытянутой рукой держался. А сичас бросил ветку и сам в воду осел. Слушай, пугаюсь я, а если это не немец, а ты стреляешь? Это же трибунал… Да немец это, злится Феля, я ему кричал — ничего не понимает. Наш бы сказал чего-нибудь… Мало ли чего он молчит, не соглашаюсь я, а он: да точно немец! На нем только что кепка была с козырьком и белым орлом спереди. Вот на, погляди лучше… Феля дает мне биноколь. Я принялась шариться по мшаре. В стеклах все рябит, шатается, никак не найду это место, а Феля дергает за рукав: ты, Кузина, давай, жахни из винтовки. Я пробовал из тэтэ — далековато. А у тебя получится с одного разу. Как это жахни? — спрашиваю. Ты что, Феля? А он: дак чего ж он будет так-то? Лучше уж сразу… Все равно не достать, уже пробовали. Давай, а? А чего делать? По мне, говорит, черт бы с ним, нехай топнет, я его сюда не звал… А вот не уйдешь: что-то не пускает… Так что давай, Дусь. А то я мажу: далековато для тэтэ. Палял, палял — одну только шапку сшиб. А ты сразу бы… Феля еще чтой-то кричал, а мне будто заложило уши: увидела я его! Через биноколь немец очутился совсем вот он! Аж сердце споткнулось, когда он замелькал в такой близости. Гляжу: весь заляпан ряской, должно, пулями напорскало {85}. Сперва показалось, будто тина на голове, а это бинты позеленелые. Грязная тряпка застила ему один глаз, а другой выжидаючи уставился на меня… Так, бывало, в голодню глядел на меня нищий, подам ли я чего или нет. Такой это был страшный зрак из глубины черепа! А что я ему могу дать, окромя пули? А он, вижу, еще и говорит чтой-то, губами шевелит… А губы вровень с водой, и слов у него не получается, а вылупляются одни только пузыри. Выплывают изо рта и лопаются, выплывают и лопаются… И тут меня вымутило. Видно, подошел мой край: вот как по этим черепам настрелялась я! Бросила я биноколь, зажала рот и кинулась в кусты… Что потом было — ничего не помню. Очнулась аж в Лукиянах. Поместили меня в лазарет, а там и открылось, что я третий месяц в положении…
Поймав мой недоуменный взгляд, Лукьяновна неожиданно повысила голос, запричётывала с укоризной:
— Чего глядишь так-то? Что было, то и говорю. Девке трудно сохраниться на войне. Всяк вокруг тебя трется. Кто травку протянет, кто норовит лапануть, а кто сальным анекдотом отмычку подбирает… А их, охочих,— ступить негде. В кустики пойдешь, а они вот они: бегут подглядывать… Дак и я была молодая, не из колоды сделанная. Тоже хотелось верить… Отмахивалась, отмахивалась, да и выбрала себе охранщика, чтоб хоть остальные б не липли. А мово охранщика взяло да и убило тем же летом под Опочкой. И убило-то нехорошо — бомбой, прямым попаданием. Токмо сапог от него нашла. Выковырнула оторванную ногу, схоронила в утайке, а сапог отмыла и себе взяла на память. Такие вот окопные переглядки…
— Да я ничего,— смутился я таким поворотом нашей беседы.— Это тебе, Евдокия Лукьяновна, показалось, будто я чего-то…
— Ну, доскажу уж…— Лукьяновна умиротворенно погладила кота.— Оклемалась я в лазарете, выписали мне литер, дали два куска мыла, пять пачек перловки, запихнула все в вещмешок, туда же положила тот его сапог и покатила в свои Ухнали Симку донашивать, сама будто подстреленная… А, да ладно про то… Чего уж: жизнь миновала… А сапог я и доси берегу, там вон, в сундуке. Достану когда, поплачу, поразговариваю… Хочешь, покажу?
— Да нет, не стоит.
— Ну тади, голубь, пошли яблоки собирать.
И, вставая, запричётывала:
— Ой ти, ой ти, о-хо-хо, ноженьки мои несмазанные!
Натрусить рюкзак яблок большой сноровки не надобно. Через каких-то полчаса я уже попрощался с Лукьяновной.
Шел вниз и оглядывался: что-то мешало ровному ходу…
Перед мостком я еще раз оглянулся.
От переправы к каждому заречному двору по узволоку вела своя тропа — белесая лента по кудрявой мураве. Какая — пошире, а какая — поуже. Смотря, сколько людей по ней ежедень хаживало. Поискал я и тропу Евдокии Лукьяновны, но на зеленом сукне косогора виднелись одни только редкие стежки… Сама же баба Пуля все еще стояла возле своей опаленной избы, держа на руках черно-белого кота, ближайшего родственника, имя которого я не сподобился спросить.
А над речкой, над ее притененными водами, опять мелькала ярко-желтая бабочка — наверняка другая, но мне казалось, будто она все еще та, утренняя, потерявшая что-то в поречных ивняках…
Или она сама чья-то потерявшаяся душа…
1996
Памятная медаль
В канун Дня Победы Петр Иванович Костюков — по-расхожему Петрован — получил из района повестку с предписанием явиться тогда-то к таким-то ноль-ноль по поводу воинской награды.
— Это которая-то будет? — повертел бумажку Петрован.— Сёмая не то восьмая? Уж и со счету сбился…— нечаянно приврал он.
— А тебе чего? Знай вешай да блести! — разумно рассудила почтарка Пашута, одной ногой подпиравшая велосипед у калитки.
«Когда и успела этак-то загореть, обветриться: лицо узкое, темное, новгородского письма, подкрашенные губы — те и то светлее самого лика. Свежая еще, а ведь ей, поди, уже под семьдесят»,— просто так подумалось Петровану.
— Не себе, так внукам-правнукам потеха. Да и сам когда тряхнешь при случае,— как бы уговаривая, весело прибавила Пашута, как привыкла, объезжая околоток, помимо почтового дела — старого утешить, малому нос утереть.— Пляши давай!
— Этак никаких грудей не хватит,— мучился смущением Петрован.— Аж пиджак на перекос пошел: пуговицы с петлями не стали сходиться. Хватит бы… Я ведь только одну неделю и побыл под Старой Руссой. А они всё вручают и вручают… Вон Герасим, тот до самого Берлина дошел, на ристаге расписался — на него и вешали б…
— Вешать-то не на кого: плохой стал Герасим. Его теперь всякая граммуля долу тянет.— Пашута поправила алый шарфик, продернутый серебряной нитью, забрала его за ворот куртки.— Давеча была я у него: сам не вышел, внучка выбежала, за повестку расписалась. Говорит: лежит дедушка, не встает.
— Ну да, ну да…— запнулся Петрован.— Стало быть, Герасима тоже согнуло… Дак ить он аж два раза навылет простреленный. В грудях и доси свистит. А ежли закурит, дак курево вроде из-под рубахи выходит. Весь дырявый. Бывало, засмеется: через меня оса наскрозь пролазит…
— Небось шуткует,— усмехнулась Пашута.— Дак и у тебя эвон какой рубец — во весь лоб. Как и живой только… И на руке пальцев нету, даже кукиш не сложишь.
— Э-э, девка! — отмахнулся Петрован.— Кабы б я руку в самом логове повредил, это б совсем иная разность. А то вроде как у тещи на огороде. В том-то и досада.
— Ну, да теперь какая разница? Кровушка-то все равно пролита?
— Тебе, может, и без разницы, а мне и доси обидно…
— Ну, в общем, Петр Иваныч, поздравляю с наградой!…— Пашута, собираясь ехать, оттолкнулась от штакетника.— Давай готовь пиво, скликай гостей.
— Ты, может, зайдешь? — намекнул Петрован, придержав Пашуту за небесную болоньевую куртейку, озарявшую все вокруг себя голубым и весенним.— Ты ить первая весть принесла. С тобой и чокнемся!
— Не, парень.— Пашута мотнула вольными, без косынки, кудрями.— Мне сичас нельзя: за рулем я. Еще ж в Осинки педали крутить.
— А там к кому?
— К Пожневу. Василь Михалычу.
— А Макарёнок живой?
— Это который?
— Ты че, Макарёнка не знаешь? Он ить тоже из наших, из ветеранских…
— Да кто ж такой — не упомню?..
— Изба за протокой. Всегда под его окнами гармошка пиликала, народ толокся.
— А! Макар! Макар Степаныч! — вспомнила Пашута.— Шавров его фамилия. У меня по спискам — Шавров.
— Ну, тебе — Шавров, а мне — Макарёнок: в одну школу бегали.
— Этого давно нет, дом крест-накрест заколочен. Года два, как нету…
— Уехал куда? У него, кажись, сын в Набережных Челнах.
— Из больнички не вернулся. Стали старый осколок доставать, будто бы мешал, что-то там передавливал, а мужик и не сдюжил… Не пришел в сознание.
— Дак, а Ивашка Хромов?
— Тому медали больше не дают.
— Это почему? — насторожился Петрован.
— А он по электричкам подался. На культе рукав задерет и — «Подайте минеру Вовке!..»
— Он же Иван, а не Вовка?
— Дак это — участник Великой Отечественной войны, а сокращенно — ВОВ. Ну, а он себя — Вовка. За то и не дают ему медалей. Боятся, что пропьет. Он же все свои прежние пустил на похмелку.
— Ну и посадили б, раз так.
— Дак вроде не за что: не украл…
— Лучше б украл: все ж варево на кажный день. И в баню сводили б… А так позор заживо съест.
— Это правда. Видела его на станции: опух, зверем зарос, босый ходит, ногтями по настилу стучит. От меня отвернулся, будто не знает такую.
— Стало быть, в Осинках теперь — ни души?..
— Один Пожнев и остался. Да и тот все ногу на подушке держит, лопухами обкладывает Ему б на грязи, да грязи нынче кусаются… Такие дела… таковские… Тот раз, к писятлетию, шестерым повестки возила, а нынче — только одну.
— А в Клещеве — как?
— Туда уже не шлют…— Пашута перекрестила шарфик.
— Да-а,— обреченно заозирался по сторонам Петрован.— Лихо косит нашего брата. Уже к последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да двадцать шестому году. То спереди меня, то позади вжикнет… А иные раньше моего под стожары убрались.
— А чево хотел? Народ вовсе брошенный. Особенно в деревнях. Я езжу, дак вижу: ни ёду, ни марлички. Здравпункты травой поросли, обрезают туда провода, режут за неуплату телефоны… Что случись — не докричишься… Ну, поехала я, а то не туда мы заговорили. Надо б радоваться: за медалью зовут, а мы… Держись, Петр Иваныч, не поддавайся лиху… Да собирай гостей…— И Пашута белым курносым кедом порывисто надавила на взведенную педаль.
— Да, Пашка, да, девка…— неопределенно проговорил Петрован и перевел прищур с мелькавшей кедами почтальонки на разбродно и ленно бредущие в майском небе облака, как бы безвозвратно уносившие в вечность земные дни и мгновения.
В прежние времена из Брусов, где проживал Петрован, за юбилейными медалями отправлялось немало бывалого люду, из коего, если б подровнять носки, можно было выстроить не меньше взвода. Но вот и в Брусы пришел предел, и теперь из всех уцелел один Петрован, пока пощаженный лётом времени, поди, из-за того, что был он сух, скрипуч и шершав, как пустырный кузнечик. Несмотря на недочет пальцев, остался он хваток до всякого дела: тесать, пилить, виртуозничать стамеской, плести грибные кузова, класть легкодымные печи и лежанки и много еще чего. Но пуще всего отдавался он тракторному делу, которым заболел еще мальчонком, и два года перед войной провел прицепщиком. Семь ребячьих шкур спустил на жаре, по августовскому чернопаху, и белых мух вдосталь наглотался из снежных зарядов, а однажды задремал за плугом да чуть было не сбрушило лемехом, расчищенным добела. Но ничто не отвратило его от трактора, от керосинового пота и натужного рева и грохота. Даже в свои семьдесят лет он, как прежний Петька Костю к, в неизбывной восьмиклинке с пуговкой на макушке, еще гонял на многопрофильном тягунке: окучивал колхозную, уже ельцинскую, картошку, морил колорадского жука, подбрасывал солому на ферму, бульдозерил на разъезженных дорогах — делал из грязи асфальт и ровноту. Он и теперь бы колесил на своем «Беларусе», понимавшем Петрована с одного кивка, если бы колхоз не распался на дольщиков, из коих кто-то однажды ночью выкрал из того «Беларуса» еще теплое сердце — чиненый-перечиненый движок, а на прокеросиненном сиденье оставил крутую лепеху с огуречными семечками…
Тем же вечером Петрован велел жене Нюше истопить баньку и, пока та носила в котел воду и шебуршала берестой, налаживая пар, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придирчиво обстриг покороче отпущенную было на волю, не шибко дружную бороденку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.
— А ну глянь, ровно ли? — представился он жене, вскинув подбородок.
Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.
— Ну, чего? Нигде не торчит?
— Вылитый царь Николай! — усмешливо одобрила Нюша.— Чуток бы росточку и — в самый раз на престол!..
— Ладно тебе! — не принял похвалу Петрован.— Все шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу — пляшет все…
— А тебе какая разница? Все одно в картузе пойдешь…
— Оно-то так…— задумчиво потупился Петрован.— Дак бесова печать и под картузом свое берет, человека изводит А ить еще недавно со сна расчесать не мог. А? Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была — сущее перевясло! {86} Куда все девалось…
— Туда и девалося…— Нюша шутливо взъерошила легкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам.— В чем пойдешь-то: в сапогах али в плетенках? На дворе уже обсохло, можно и в плетенках: эвон сколь пёхать — умаешься, ноги в сапогах набьешь… Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.
— А чего им сдеется? — Петрован еще раз взглянул на себя, стриженого, в косое зеркальце.— Я в них только на чево важное. Однова в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничего такого, чтоб в сапогах… Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове,— в Ряшнице Сингачёва хоронили, одногодка. Наград — куда больше мово, двенадцать мальчиков несли… Из карабинов палили. Раз, да другой, да третий… Да-а… А больше никуда не хаживал, все чаще в кедах да плетенках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допрежь так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся. Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось, проволока соржавела, а газет не читаю — опять же накладно… Ты, Нюша, вот чего… Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в теплой баньке повешу на ночь, они и помягчеют расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.
После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел все чистое, запашистое, отутюженное, прибавившее ему довольства и еще большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесемками на груди и с распушенной головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого — разлюбезного целителя Пантелеймона {87}, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаевничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.
Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:
— Вот ты давеча: картуз да картуз… Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фу-раж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идет тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи…
Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.
— Нет, ты скажи, скажи, не увиливай,— начальственно твердел голосом Петрован…— Кто таков в красном околыше?
— А-а подь ты! Ничево я вашева не знаю.
— Погоди, сразу и не знаю… Я ж тебе про все это рассказывал…
— Забыла я за ненадобностью.
— Ну, вот тебе — за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?
— А ляд ево знает…
— Запомни: в черном я буду. В черном!
— А пошто — в черном-то? Али ты хуже всех?
— Танкист я, вот пошто. Танкисты черные околыши носят А еще — артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зеленое не к лицу. А черное — в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: всё бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь — фрикцион полетел… Сходил в атаку — башню заклинило… Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней…
Когда ходики хлопнули дверцей после одиннадцатого кукования, Нюша окончательно изнемогла и, не убрав посуды, хватая притолоки и простенки, тучно квохча и булькая чаем, убрела в свою каморку. Петрован, вобравший в себя столько банного и самоварного тепла и благодати, потом долго онемело остывал и приходил в себя, сонливо, уморно слушая, как постанывал и покряхтывал старый оседающий дом, а в сухом сосновом стояке, с виду крепком и надежном, мелко строчила невидимая крошечная козява, прогрызая себе новый ход и изводя сердцевину стояка, опору дома в мучную праховину. И лишь когда усталая кукушка вяло оповестила час ночи, Петрован спустил ноги в стоявшие у подножья стула разлатые, надрезанные в голяшках домашние валенки и белым привидением беззвучно прошел к глухому самодельному шифоньеру, все еще угарно отдающему тяжелым смоляным лаком. Из его глубины он извлек свой специальный наградной пиджак и, неся его выше себя через горницу, зацепил крюком вешалки за лобный вырост лосиной лопатины, приколоченной меж горничных окон.
Пиджак был куплен намеренно из темного сукна, чтобы лучше виделись чеканные знаки поощрений. При этом Петрован руководствовался не мелким тщеславием, дескать, глядите, какой я герой, а вековым крестьянским почтением ко всему, что свидетельствовало бы о российской истории, ее поворотах и разворотах, участником которых он чувствовал себя теперь только через этот свой пиджак, лунно отсвечивающий медалями, к которому и Нюша тоже относилась уважительно и даже побаивалась его важной и отутюженной солидности, что, впрочем, не помешало ей набить рукава и внутренние карманы терпкой огородной полынью — от моли. На левой его стороне висело семь медалей: четыре в верхнем ряду, три — в нижнем. Казалось, Петрована приглашали на завтра только затем, чтобы окончательно заполнить нижний ряд недостающей медалью.
По правде сказать, эти знаки на левой стороне уже давно не вызывали у него полностепенного удовлетворения: он испытывал чувство какой-то непричастности к их торжественному побренькиванию и блеску, и когда вынужден был надевать этот свой парад, то ходил на два румба недоразвернуто левым плечом, обремененным ликующей тяжестью медалей. Наверно, причиной такой неуверенности явилось то, что среди его наград не было за оборону Москвы, Сталинграда, Кавказа, Одессы или Севастополя, так же как не было и за взятие Вены, Будапешта или Праги и тем более Берлина. Ничего этого Петрован не оборонял и не брал, потому как никогда не был в тех городах и странах. Просто все его медали имели юбилейный статус, то есть считались не боевыми, а лишь «по случаю» и «в ознаменование», что и заставляло Петрована носить их как бы бочком, с застенчивой отрешенностью. К тому же, как говорили иногда между собой старые солдаты, наградного кругляша, заменившего все остальные знаки внимания и поблажки, с годами становилось лишковато, а его звон все дробней и чешуйчатей, что вовсе не прибавляло славы и твердости в поступи, а только вызывало снисходительные улыбки заматеревших внуков.
Это всё — на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась темной эмалью «Красная Звезда», ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своем простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершенного. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесенный статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован все еще испытывал внезапный сердечный толчок, горячо обжигающий подреберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спекшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец… Однако все свое наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.
И вот завтра, на рассвете, он натянет остро пахнущие сапоги, пройдется в них туда-сюда, примеряясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под кухонным рукомойником-чурюканом, обрядится в летнюю комсоставскую рубаху в четких квадратах лёжки, привезенную племянником аж из самой Москвы для таких вот случаев, разберет на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше — на правый висок, побольше — на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркале, подведет некий итог: «Не сказать, што герой, но уже и не лешай». И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет всегда готовый, отутюженный пиджак, ожидающий его на лосином роге, снимет с медалей целлофановые сигаретные обертки, энергично, до звука воссиявшей бронзы одернет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над левой бровью багровым шрамом.
Дорога в район не длинная, но бестолковая. Прежде, при советах, мимо Брусов раза четыре за день пробегал пазик: полчаса — и там. Пока картошка варится, можно было смотаться за камсой и хлебом. Нынче автобусик куда-то подевался, и приходится сначала верст пять пёхать в обратную от района сторону, а потом уж — на электричке. Да и то: электричка приходит не в город, а на станцию, от которой еще топать и топать до центра. Или гони еще два рубля за вокзальный автобус. Правда, с Петрована, особенно когда он весь в медалях, не брали ни копейки.
Петрован при такой крутне не успел в одночасье справиться со своими делами и воротился домой аж на другой день.
Он вошел в родные Брусы, устало опав плечами, перехлестнутый прямо по медалям пеньковым шнурком с бубликами, которые в последнюю минуту купил в электричке. От пыли его надегтяренные сапоги сделались похожими на серые валенки, и шоркал он ими нетвердо, с подволоком, как в старых, разлатых пимах. Фуражку с черным околышем он нес в руке, а вместо вчерашнего пробора на голове трепетал спутанный ковылек, светлым нимбом серебрившийся против солнца.
Первыми, еще у околицы, встретились ребятишки, Колюнок и Олежка, весь день выглядывавшие его на дороге.
— Дядь Петрован,— канючили они, семеня обочь.— Получил медалю? А дядь Петрован?
— Подьте вы…— продолжал брести Петрован.
— Покажь, а?
— Эки репьи!
— Пока-а-ажь. Хоть издаля…
— Ну, че? — остановился наконец Петрован.— Че показывать-то? Ну, вот она…— Петрован выколупнул из-под деревянно загремевших бубликов яркий, совсем новый бронзовый кругляш с каким-то дядькой, одной только головой во всю окружность…— Вот она…
Колюнок и Олежка вытянулись молодыми петушками, затаенно примолкли.
— Хоро-о-шая! — едино признали они.— Эко блестит!
— Блестит-то она блестит…— сокрушился Петрован.— Да… как вам сказать, ребятки… Не моя она…
— Как — не твоя? — вроде как испугался Колюнок.
— Ты ее нашел? — раскрыл рот и Олежка.
— А-а…— трехпало махнул Петрован и, заломив несколько бубликов, насыпал румяного крошева в черных маковых мушках в подставленные ладошки.— Давай, мыши, грызите… Вам этого не понять…
Над его избой струилось бездымное прозрачное маревце, пахло печеным. Это означало, что Нюша, дожидаясь его с наградой, истопила печь и напекла шанег. Но домой он, однако ж, не пошел, а, минув еще три избы, свернул к четвертой, Герасимовой.
Немогота хозяина удержала его жену Евдоху выставлять зимние рамы, а потому в избе накопилась испарина, запотелые окна тускло, заплаканно глядели на волю. К духу упревших щей, заполнявшему жилье по самые матицы {88}, примешивался пронырливый, как буравец, запах валерьянки — от Герасима, из его каморы.
— Ляжит… Ох, ляжи-ит!..— сразу заголосила согбенная, встрепанная Евдоха, увидев на пороге Петрована.— Проходь, проходь к нему, касатик. То-то буде радый! А то нихто ничево… Слова днями не слышит. Одна я… Ну, да я ж ему че путного скажу-то?.. Очертела, поди… Хуже скрипа колодезного… Вот ждал-ждал внуков — по головке погладить, а и те по чужим городам… Кабысь не себе рожали… Наказание господне… Проходь, проходь, Петя…
— Кто там прише-ел?..— квело донеслось из-за горничной глуби, следом послышался сухой свистящий кашель и долгий изнуренный стон.
— Иди, не бойся,— подбодрила Евдоха.
Сняв с себя бублики, Петрован обладил виски, и, невольно приподняв плечи, как бы крадучись, ступил в горничный проем. Слабо мерцавший в углу святой Николай приветно покивал ему огненным острячком лампады, и тот ответно осенил себя торопливой щепотью, отчего на его груди тонкой звонцой загомонили медали, услышанные, однако, Герасимом.
— Да кто там? Петрован… ты, что ли?
— Да я, я… Кому ж еще…
— Че дак… путаешься? Ай ход забыл?
— Дак иду. Вот он я!..
В мерклом, безоконном застенке Герасим дожидался его в своей кровати, нетерпеливо приподнявшись на локте. Он был в исподней рубахе, бледно-желт иссохшим лицом, оснеженным на скульях и подбородке сивой недельной небритостью. Петрован неловко поддел под Герасима руки, обнял его, как если бы то был мешок с чем-то, и, сам сбившись с дыхания, поздравил с ветеранским праздником.
— А рази не завтра? — усомнился Герасим, обессиленно отвалясь на подушку.
— Не, братка. Седни аккурат девятое число. В районе прям на домах написано. И флаги кругом…
— Ага… Может, и так… А я лежу тут, в застенке… Только мухи и гундят… Деньки стороной обегают, без меня обходятся. Намедни будильник и тот итить отказался… Вконец свое истикал… Дак и я тоже…
— Давай посмотрю,— предложил Петрован, еще умевший ладить часы, правда не дюже мелкие.
— А-а…— Герасим прикрыл темные, отяжелевшие веки.— Теперь и ни к чему… Часом больше, часом меньше… Тут, без окон, все едино: што день, што ночь…— и, взяв с приставленной тумбочки ложку, позвякал ею по белой эмалевой кружке.
На стук объявилась настороженная Евдоха.
— Че тебе?
— Как это — че? День Победы нонче! Вон и гостьва пришла — Петр с Иваном. У тя нету ли маленько? От Степки, кажись, оставалось?
— Осталось, дак на дело: когда че заболит…
— Вот и давай…
— Дак тебе низя! — воспротивилась Евдоха.
— Ладно — низя. Не твое дело.
— Как же — не мое? А за «скорой помочью» кому бечь? К телехвону? Четыре версты до сельсовету. Тот раз побегла, а там — замок, работа кончилася. Благо Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции. Дак чуть не обмерла рачки сидеть. А он, блудень, как нарочно — по кочкам да по калюжам… Ужасть чево натерпелася…
— Ладно тебе маневры делать, зубы заговаривать. Ить же сказано: День Победы! Чево ишо говорить? Тут не можешь, а — надо… Огурчиков-помидорчиков тоже подай…
— Май на дворе — какие огурчики?
— Ну чево найдешь…
— Да чё я найду-то? Али не знаешь? Ждите, картохи наварю. А то вон Петрован «ноликов» принес… Целую снизку.
Козюлилась-козюлилась баба, а чуть спустя, сгорнув с тумбочки аптечные пузырьки и все остальное ненужное, принесла миску квашеной капусты, перемешанной с багряными райскими яблочками, подала в глиняной чашке рыжичков в ноготь, так и оставшихся оранжево-веселыми еловичками, потом — тертый хрен, запахом затмивший и квашеную капусту, и бочковые грибки. Уж больше и ставить некуда, но, потеснив посудинки на самую середину тумбочки, Евдоха водрузила жаркую сковороду с шепеляво говорившей глазуньей. И лишь после всего внесла сразу на обеих ладонях, как бы притетешкивая на ходу, бутылку «Стрелецкой степи», располовиненную еще сыном Степаном, нечаянно нагрянувшим зимой из своих Челнов по случаю командировки.
— Можа, петуха изловить? — предложила Евдоха, недовольно оглядывая в пять минут сотворенный стол.— Все равно не нужен пока: клухи уже с цыплятками, а яйца и без петуха сгожи… Да я б и зарубила, а только забежал кудысь, гуляка…
— Куда ж с добром! — остановил Петрован бабий пыл.— И так ставить некуда. Вон сколь всего!
Правда, в доме не оказалось хлеба, но Евдоха и тут выкрутилась, не сплоховала, а принесла Петровановы «нолики» и зацепила за шишку Герасимовой кровати.
— Ну, брат…— торжественно вздохнул и недосказал Петрован и, ерзнув, пододвинулся вместе с табуреткой поближе, половчее. Он осторожно, будто опасную мину, приподнял бутылку и медленно, бережно наклоняя, тонко разлил по шестигранным, на долгих ножках, старинным рюмкам, еще звеневшим, поди, на Герасимовой свадьбе, нечто полынное, взаправду стрелецкое и степное.
— Ну,— повторил Петрован, озабоченно вглядываясь в Герасима.— Вставай давай, што ли… Рано тебе еще…
— Да где уж…— полулежа на правом боку, Герасим дрожливо приподнял свою долгую хрупкую рюмку, похожую на балетную барышню. Задумчиво глядя на золотистый налив вина, охваченного хрустальными гранями, мерцавшими в полусвете каморы, он трудно, одышливо изрек из своей напряженной глубины: — Што теперь… Я не за себя поднимаю это… Мое все проехано… Больше хотеть нечево… Я за неприбранные кости… Вот ково жалко…
Отдыхая, он помолчал, подвигал сопящими под рубахой мехами, и, умерив дыхание, тихо продолжил:
— Перед глазами стоит… Упал в болотину и затих… Мимо пробежали, прочавкали сапогами — не до нево… День лежит, неделю… Никово… Вот и воньца пошла… Муха норовит под каску, к распахнутому рту… Потом села ворона, шастает по спине туда-сюда: ищет мяснова… Набрела на кровавую дырку в шинели, долбит, рвет сукно, злится, отгоняет других ворон… Ночью набредет кабан, сунется рылом под полу, зачавкает сладко… А там само время съест и сукно, и металл… И забелеет череп под ржавой каской, осыпятся ребра, подпиравшие шинель… На том месте опять ровно станет… Молодая березка проклюнется скрозь кострец… А любопытный волчок отопрет в чащу сапог, чтобы там, в затишке, распознать, што внутри громыхает… Как зовут его, этого солдата, откудова родом — уж никто и никогда не узнает…
— Ну, будя, будя! — Петрован заотмахивался свободной рукой.— Тебе нельзя говорить столько. Эко повело!
— А таких миллионы,— продолжал выговаривать свое Герасим.— Это ж они, не прикрытые землей, теперь не дают ходу России. С таким неизбывным грехом неведомо, куда идти… Сохнет у народа душа, руки тяжелеют, не находят дела… И земля не станет рожать, пока плуг о солдатские кости скрежещет… Оттого и не знаем имени себе: кто мы? Кто — я? И ты кто, Петра? Зачем мы? И чем землю свою засеяли?
— Ну все, Гераська! Давай лучше выпьем! Чтоб всем пухом…
Петрован протянул свою рюмку к Герасимовой и подождал, сочувственно наблюдая, как тот, выпятив губы, будто конь из незнакомой цибарки, короткими движениями заросшего кадыка принимал победное питье. И только когда Герасим одолел половину граненой юбочки и опустил остальное, Петрован испил свое до самого донца.
Хозяин долго лежал навзничь с закрытыми глазами, и темные его веки мелко вздрагивали от толчков крови в синих подкожных прожилках.
— Живой? — озаботился Петрован.— Ай не пошла?
— Да вот слушаю,— как бы издалека отозвался Герасим.— В груди вот как замлело! А в голове — вроде красной ракеты. Махром расцвело…
— Ну, слава те…— расслабился Петрован и враз развеселился: — Красная ракета — это тебе сигнал: «В атаку!.. За мны-о-ой! Короткими перебежками — пше-е-ол!»
— А-а…— тряхнул желтой кистью Герасим.— Тут хотя бы до ветру… А то пришло — в бутылку сюкаю… Расскажи лучше, как съездил-то? Медаль получил?
— Да, считай, получил…— как-то нехотя признал Петрован.
— Покажь, чево там напридумывали?
— Да вот… Маршала Жукова дали {89}.
— Жукова?! — оживился Герасим.— Ох ты…
Петрован высвободил из нижнего ряда новую свою награду и протянул Герасиму. Тот бережно принял ее в восковую ямку ладони, поднес к глазам.
— Он, он! — сразу признал Герасим.— Эт как беркутом глядит! Из всех маршалов — маршал! А ты што ж ево не по чину-то? На нижнем ряду повесил? Ево надо эвон где, сверху всех медалей. Там, где Ленина вешают.
— Дак она и дадена не по чину…— крутнулся на табуретке Петрован.— Не тому Федоту.
Петрован принял медаль обратно, но не стал вешать на прежнее место, а как ненужную сунул в пиджачный карман.
— Как это — не по чину? Ты че мелешь?
— Неправильно это… Я и там комиссару говорил, что со мной ошибка какая-то… Не тому медаль выписали… А он только смеется, по плечу хлопает, дескать, все правильно, носи на здоровье.
— Дак че неправильно-то? — опять притворил веки Герасим.— В чем ошибка, не пойму я?
— Ну, как же! У нас совсем другой командующий был. Под Руссой-то… На Северо-Западном. У нас генерал-лейтенант Курочкин, Павел Ляксандрыч {90}. Лысоватенький такой, ростом не шибко штоб, годов сорока, а вовсе не Жуков. Маршал Жуков у вас командовал, на главных направлениях. Потому медаль эта неправильно дадена. Как же я ее выше всех повешу, ежли она незаслуженная? И так уже сколь надавали…
Герасим оставался лежать с закрытыми глазами, и Петрован, озаботясь, что тот вовсе не слушает его, пустился еще рьяней объяснять случившееся недоразумение.
— Вот тебе Жуков в самый раз. Ты ж и под Москвой окопничал, и под Сталинградом, и на Курской дуге, а потом Берлин брал… И все под Жуковым. Эвон сколь прошел! Чево повидал, насмотрелся… А я чево? Да ничево! Все под Старой Руссой да под Старой Руссой. Там все мое направление, весь главный удар…
— Ну, дак тоже небось не в карты играли…— не открывая глаз, проговорил Герасим.
— Играть, может, и не играли, окромя разведки. Но, бывало, как занесет, как заметелит, аж колючей проволоки не видать, поверх заграждений навалит. Передок — што неписаная бумага — нигде ни точки, ни запятой. И вправду, хоть сдавай под дурика. Однако с картами было строго. Заметят при солдате карты или крестик нательный — сразу в особотдел. Разведчики, те поигрывали — на трофейные сигареты, на немецкие пуговицы. Они картами у немцев разживались. У тех почти у каждого по колоде. И по губной гармошке. Пошвыряют в нашу сторону минами, измарают снег вокруг окопов торфяной жижей и — в теплую избу кофей пить, под хвениги резаться. Отчего б и не резаться? На то тебе все условия. Зимуют они на высоких местах — в теплых сухих блиндажах да избах, русские печи топят, амуницию сушат, спят на двухэтажных топчанах, до подштанников раздеваются. Тут же в сенях из выпиленных амбразуров пулеметы торчат, а то и орудия. Культурно! Чего ж так-то не воевать? Ну а у нас война совсем другая. Болота да низины. На два штыка копнул — вот уж и вода. Какой тебе блиндаж? Приходится не в землю зарываться, а землей обкладываться… Ну, конешно, в таких условиях ни поспать по-людски, ни посушиться… Мох чуть ли не на шинелках растет, в стволах за ночь ржавеет А ежли чего подвезти, то сперва гать кладут, сколь лесу изводят… Одна из этого польза: мины да снаряды часто не взрываются: как уйдет в хлябь, так и с концами.
Петрован потянулся за бутылкой и, не спрашивая, долил доверху сперва Герасимову посудинку, потом и свою.
— Ну, братка, настал момент, давай еще по маленькой, по нашей фронтовой!
И неожиданно, жмуря глаза, продолженные лучиками височных морщин, пропел тоненько и приятно:
Лучше не-е-ету того цве-е-ету,
Когда яблоня цветет…
— Нет, парень,— не поддержал компанию Герасим,— боюсь, Евдокия заругает Она, вишь, то и дело из-за притолоки выглядает…
— А я загорожу,— нашелся Петрован и в самом деле, зазвенев медалями, развел перед Герасимом полы пиджака.
— Ну, тади ладно…— Герасим покорно приподнял рюмку и немного отпил — все так же сторожко, малыми глотками.
Молча попыряли вилками норовистые, неподатливые рыжики, после чего Петрован снова вернулся к своей досаде:
— Не-е, брат, как ни крути, а моя война вышла неудачная. Я даже эту самую, язви ее, Старую Руссу не видел. Одни только крыши да церквя. Да и то в биноколь. А так всё мелкие деревеньки, теперь уж и позабывал какие. Там ведь такая война: сегодня возьмут, а завтра, глядишь, опять отдадут Так и тягали эту резину. А она — то немца по заднему месту, то — нас по тому же. Самый крупный населенный пункт, куда удалось мне войти с боем и где впервые увидел убитых немцев — некая Кудельщина, под ней мы простояли неполную неделю. Ее я и считаю своим настоящим крещением. По правде признаться, я не столь с немцами воевал, как со снегом и морозом. Ох и нахлебался завирух, ох и нахлебался! И доси по спине мураши… Наш отдельный танковый батальон, где я был водителем тридцатьчетверки, прошел своим ходом от Москвы, от Люберец, до этой самой Старой Руссы. Да не по прямой, а все ковелюгами, не по асфальтику, а — черт знает по чем. Другой раз гонишь, гонишь впереди себя ком, да и зависнешь днищем. Гусеницами туда-сюда на весу болтаешь, а машина — ни с места. Это ж сколько сотен верст?..
А за броней — январь да февраль сорок второго, морозы — под тридцать, снега — как никогда. Не так мороз, как снег донимал. Забивал катки, нарушал обзорность, поедом ел горючку. Особенно доставалось головному танку. Он первым таранил замети, но первым и зависал на сугробах. То и дело набрасывали троса, стаскивали его со снеговых подушек. За сутки прогрызались едва на двадцать верст, а в иных местах и того меньше. Из семнадцати танков нашего и так не полного батальона восемь отстали с разными поломками. Да и то: днем по лесам прячемся, а выходим на дорогу только ночью. Ни боже мой посветить или пыхнуть папироской — такие строгости! Опять же: на дневку в населенных пунктах останавливаться нельзя, а только в лесных чащах, да и то без костров, без варева. Пища — сухари, мерзлая тушенка — ножик не берет,— а то и просто брикеты пшенки или ячки. Спали на броне под регот моторов. Мотор заглохнет — давай подскакивай, пляши чечетку в мерзлых валенках, а то хана, ноги отморозишь, были у нас такие случаи. Валенки-то вечно сырые: не столько едем, сколь толкаем да копаем. Оно хоть и мороз, а обувка все одно мокреет, изнутри парится. За всю дорогу ни разу не умывались. Какое умыванье на морозе? Заводская смазка на новых танках, черные выхлопы, особенно при буксовке,— все это за время пути перешло на наши рожи, так что перестали узнавать друг друга. Ты слышишь меня, Герасим? Лежишь, глаза притворены…
— Слышу,— отозвался тот.
— Не худо? А то я разговорился тут…
— Ничево…
— Ага, ага… Доскажу, доскажу… Так вот, два месяца шли мы до передовой. Уж лучше б сразу: пан или пропал. А то нудой, неопределенностью изошли. Добрались до Калинина, а там — закавыка. Какая-то путаница с назначением. Говорили, будто вместо Старой Руссы — под Селижарово. А это — совсем на другой фронт. А пока выясняли — нас в лес на полторы недели — опять без дневного шевеления, без костров, на полной сухомятке и спать на броне, на лапнике под брезентом. Потом выяснилось, что надо куда-то под Демянск, душить немцев в котле. Пока ехали — новая переадресовка — под Старую Руссу. И там: только раз-другой пальнем — вот тебе отбой, сниматься, получай новое назначение… Но зато я прошел такую школу вождения, так набуксовался, навытаскивался, что и по сей день на тракторах первые места в районе брал. А могу и на танках…
Ну вот… Наконец прибыли мы на свое последнее место дислокации, как раз под этой Кудельщиной. В конце концов после стольких мытарств надо было пожалеть технику — что-то подтянуть, подладить, подрегулировать. Сами уж ладно, как-нибудь перемоглись бы, уже весна скоро: отогреемся, пострижемся, может в баньку сходим…
Стали мы на лесной поляне, расчистили снег, танки лапником закидали, приступили к досмотру. Поснимали бронелисты, обнажили моторы, иные взялись за фрикционы, муфты сцепления или разомкнули гусеницы, чтобы заменить поврежденные траки. Мы свой мотор подцепили таль-балкой, отвезли под ближайшую крышу, где есть тепло: надо было кое-что разобрать, подрегулировать, а то что-то тоже стал барахлить. Он-то ведь танку не родной, с самолета поставлен, М-17. В воздухе он уже отлетал свои две тысячи часов, оттуда его списали, сделали капремонт и передали на танковый завод для дальнейшего использованья. Так что получалось: какие тридцатьчетверки выходили с дизелями, а некоторые, вроде нашего — с летными сердцами. В общем, тянул он неплохо и заводился с одного тыка, но дюжа оборотистый, чуткий к газку, по старой летной привычке все норовил с места в карьер. Только спать на нем хлопотно: не любит малых оборотов, частенько глох… Так что мы не столько спали на жалюзях, сколь отбивали чечета…
Да… Только так вот изготовили домкраты, кувалды, полиспасты, автогенные баллоны, выставили бронелисты и все такое прочее, как вот тебе — сам командующий фронтом, Павел Ляксандрыч Курочкин — в белой дубленке с пуховыми отворотами, бурки — из белого фетра, кожей обшитые, а на голове смушковая папаха топориком — так и отливает серебром, так и играет чешуйчатыми кучерявками, прямо в маршала просится. С Пал Ляксандрычем — всякие генералы, порученцы и адъютанты, тоже все в белом — с неба никакой «фока» не узрит такой маскировки.
Построили нас тут же меж раздетых танков, а мы все — небритые, чумазые, осунулись от недосыпа — никакой бравости. Многие кашляли застарело, а которые даже потеряли голоса и слова как есть вышепетывали. Но Павел Ляксандрыч и таким рад: какие ни есть, а все ж танкисты. А их-то на забытом Северо-Западе завсегда не хватало. Горячо, отечески поздравил он нас с прибытием на передовую, скоро, дескать, на этом участке можно будет ожидать хороших перемен и наши войска наконец-то победно войдут в Старую Руссу. В ответ мы кое-как просипели окутанное паром промерзлое «ура», на которое командующий сочувственно поморщился, но тут же снова ободрился и объявил, что, мол, в знак его личной благодарности в полуверсте отсюдова, в деревеньке Ковырзино, для нас будут истоплены бани с березовыми вениками и прямо в парилки подадут по фронтовой чарке с куском шпика на сухарике. Так что милости просим, в Ковырзино уже топятся сразу несколько бань. «Только не все сразу,— посоветовал командующий,— а поэкипажно, штоб был полный порядок. Пока одни моются, другие пусть работают Дело затягивать нельзя — на войне каждый день дорог… Всем ясно, товарищи?»
В ответ мы еще раз просипели «ура» и подбросили в небо свои просолидоленные шлемы, похожие на дохлых кошек.
Ну, что банька и на самом деле состоялась — слово Павла Ляксандрыча оказалось железным. Нашлось и свежее исподнее белье, которое привезли прямо на ремонтную поляну и раздали поштучно вместе с плоско слежалыми березовыми вениками, небось доставленными с генеральских каптерок.
Приспела и наша очередь, двинулись мы друг за дружкой по глубокой свежей тропе в это самое Ковырзино, а там, на околице у незамерзающего падуна, обещанные бани уже дымы развели. Дымы крученые, выше окрестных берез, бани уже по второму разу топились: прежние клиенты горячую воду начисто повыхлестывали — этак, сердечные, изголодались по теплу! И по стопарю тоже было — все честь по чести, как обещал комфронта. Ну, само собой, стограммового приветствия оказалось маловато. Братва из соседней баньки отрядила молодца с двумя парами нижнего в деревню, и вот вскорости слышим — рвут крышу оттаявшие голоса:
Броня крепка, и танки наши быстры…В те времена блажили прилипшей на всю жизнь песней, под которую тогда проходила вся призывная служба в танковых училищах. Под нее рубали строевым, завтракали — обедали — ужинали, ложились спать, и ребятки, еще не нюхавшие пороху, верили в нее, как в «Отче наш» {91}.
— У нас, в пехоте, «Белоруссию» орали…— слабым голосом поделился Герасим.
— Ага, ага…— охотно закивал Петрован.— Ну, конешно, нас сразу и задело такое пение: а что, переглянулись мы, у нашей тридцатьчетверки, боевой номер двести шесть, под командованием кубаря Ивана Каткова, уже горевшего под Смоленском, броня хуже, что ли? И наш экипаж, зады и спины в березовых листьях, босиком через сугробы ринулся пособлять хорошей, правильной песне, которая враз сделалась вдвое раскидистей:
В строю стоят советские танки-и-сты…Опосля и мы сбегали на деревню со своим только что полученным вещевым довольствием… В третьей бане мылись и стегались тоже не лыком шитые — те себе «Катюшу» хором врезали… {92} Тут в самый раз заглянул батальонный политрук Кукареко, тоже нагой и в листьях, прикрывает от бойцов причинное место, а сам пробует давить на тормоза: дескать, полегче, товарищи, чтоб не зашкаливало, а то машины ждут ремонту… А ребята ему: «Все будет, как в часиках, товарищ старший лейтенант Завяжи нам глаза, дак мы и вслепую все сведем и составим».
И пошли экипажники один за другим вылетать из дверей и заныривать в чистейшие, первозданные сугробы: «И-эх… Танки наши быстры…»
Эдак обрадели мы от пару и жару, что и не узрели, как меж тучек промелькнул ихний «фока» — раз да другой — сперва над деревней, а потом и над леском, где мы раскулачили свои танки. После об этом нам местный парнишка рассказывал, уже приученный караулить небо.
Ушлый «фока», должно, все до тонкостей разглядел и раскумекал. Дымы над банями — это не иначе как праздник в деревне. Однако по свежей тропе, протоптанной из лесу к баням, понял «фока», что это вовсе не русский праздник с куличами и самоварами, а обыкновенная солдатская помывка. Вон и сами солдаты забегали по тропе с белыми подштанниками под мышками. Тут «фока» и сообразил, что ежели на одном конце тропы — бани, то на другом должна быть воинская часть. Оставалось только разузнать — какая? И пилот еще раз отклонил рукоятку штурвала и залег в плавный вираж над лесом. «Ага, вон в чем дело,— догадался он,— лесная поляна вся в гусеничных следах, и еловые ветки почему-то свалены в кучи. Русский Новый год давно прошел. А кучи-то недавние: на концах — свежие порубки. Тут и гадать нечего, какие игрушки под ветками спрятаны. А еще недавно три легковушки из этого леса выехали…» Кто же по передовой на шик-машинах катается? И глупой немецкой козе понятно — генералы (по-русски комбриги, комдивы)! Пилот даже подпрыгнул на радостях в узкой гробовой кабине своего «фоккера» и тут же надавил на пупку радиосвязи. Так, небось, и было,— заключил Петрован.— А то б откуда было взяться сразу двум тройкам восемьдесят седьмых «юнкеров»? Один из них откололся и сыпанул по баням, а остальные шершнями набросились на ельник.
Крайнюю баню раскатало по бревнышкам, даже калильные камни размело, как горох. Правда, та баня была пуста, ее топили для Кукареки, но он вышел по своим делам, а потому никого не ушибло, не зацепило, только галифе повесило на березу. Но по черным дымам было видно, что в лесу «юнкера» наделали тарараму. Бежали мы туда кто в чем — в не своих бушлатах, в перепутанных валенках, иные недобритые, с мылом на висках… Вот тебе и «броня крепка»! Снятые бронелисты позакидало аж на болото, в двух машинах горели раскрытые моторы. Хорошо, что мы свой бэ-семнадцатый на деревню свезли, а то неизвестно, как бы еще обошлось: кругом дерева горели, роняли огненную хвою, тлеющие ветки…
Людей тоже потеряли: двух ремонтников — уже помытых, набаненных — наповал, а третьему — ногу по самое колено…
А комфронта перед строем говорил: «Днями, помывшись, будем брать Руссу…»
…На дворе раздался заполошный крик кочета: видать, Евдоха, дождавшись-таки возвращения блудного петуха, пустилась за ним по дворовым заулкам — победную лапшу готовить. «Што ты? Што ты? — высокоголосо возмущался петух.— Я ничево такова! Ничево такова!..»
Петрован, оборвав рассказ, настороженно вертел головой, водил ею за криком, потом привстал с табуретки:
— Пойду скажу, чтоб не ловила…Я к тебе на минутку а она вон на весь аршин…
— Девятое мая,— напомнил Герасим.— Рази не аршин? Прожитое мерять…
— Я все ж выйду, скажу…— окончательно поднялся Петрован.
Когда он появился на крыльце, Евдоха уже стояла возле поленничной плахи с петухом под мышкой и капустным секачом в руке. Петух в крупно связанной серой одежке, с долгими желтыми ногами и бордовым зубчатым гребнем, упавшим на правую бровь, немигающе вызрился на Петрована большим округлым зраком цвета кетовой икры и, казалось, ждал от него последнего слова.
— На-кось ты,— Евдоха поддала петуха бедром.— Мужицкое это дело. А то запыхалась, загонял он меня, скаженный, аж руки трясутся…
— Полно тебе! — вскинул обе руки Петрован, не сходя с крыльца, боясь, что ежели сойдет долу, то настырная Евдоха уговорит сечь петуху голову.— Ничего не надо! Никакой лапши! Я заскочил только показать Герасиму медальку. Должны бы дать ему, а вот, вишь, выдали мне. Ошибка вышла… Так что брось, брось, отпусти петуха.
— Дак ить праздник! Ваш, ветеранский! — продолжала тяжко дышать Евдоха.— Положено. Рази я б за ним зазря бегала б, сердце не дает ходу… По радиву, небось, одни марши…
— Оно верно,— согласно кивнул Петрован и оглядел сплошь синее небо.— Ноне, поди, на Красной площади парад был. Войска в золотых поясах, музыка в тыщу труб… Праздник! Но ты, Евдокия, погляди только: петух ить сам тоже праздник. Душа ликует на него глядеть. Ты только посмотри, какая красота! Это как же природа придумала такое?..
Евдоха с сомнением покосилась на кочета: верно ли красавец?
— А стать-то какая! Как держится, как глядит! Прямо маршал. Вылитый Георгий Константиныч! А ты его секачом хочешь… Какой же после того праздник? Да никакая лапша в рот не полезет…
— А подь ты!..— отшвырнула секач Евдоха.— Хотела, как лучше…
Она отпустила кочета, и тот, ступив на землю, не побежал стремглав, а, встряхнув свой строгий боевой мундир и как бы осуждающе покосившись на широкую лёзгу капустного рубила, направился к пряслам твердой размеренной поступью.
— Все! Отговорил! — возвратился довольный Петрован.— Какая к ляду лапша? И так закуску ставить некуда. Давай, служивый, под яишанку, а то, поди, вовсе остыла.
— Не-е, друг мой. Я — баста. Хватит,— отрицательно повел носом Герасим.— Пришел мой предел.
— Нескладно как-то получается…— поскреб за ухом Петрован.
— То-то же: хвороба придет, дак ноги сведет, а руки заедин свяжет… Весь тебе и склад…
— А ежли короткими перебежками? По чуть-чуть и опять за кочку?
— Нет, братка, ты беги один, ежели охота, а я с тобой не побежчик…
— Один — и я ни с места,— погрустнел Петрован и отставил от себя рюмку.— Одному — совестно как-то. Будто середь бела дня крадешь. А с другом — завсегда пожалуйста. И то, чтоб не молчаком. А, Герась? Слышь? Ну, хоть сколько осилишь…
— Эт какой! — заскрипел койкой Герасим.— Взаправду — «броня крепка»… Ему так, а он тебе — этак.
— Дак за Победу же! — Петрован сызнова приподнял свою стопку.— Святое дело! Глядишь, оно и полегчает. Вот в районе мужики говорили, будто нынче на небе новая звезда должна объявиться. Этой вот ночью, которая придет. Из трех мест будет видать: с Невыреки, с поля Куликова, а еще — с Волги… с южных ее мест… Ты там тоже бывал… И получается святая троица: Александр Невской, Дмитрий Донской и… Георгий Жуков… Больше некому с Волги быть… А ты противишься, не хочешь…
— Тади давай…— опять заскрипел, привставая, Герасим.— Токмо я палец обмакну да пососу… Небось там засчитается… Мое причастие…
Так и сделали: Герасим, немощно изловчась, омочил заскорузлый мизинец в своей долгой рюмке и, высунув сивый обложенный язык, подождал так раззявленно, пока с конца пальца сронится золотистая капля с острым лучиком нисходившего дня, тогда как Петрован, будто и взаправду под ракетными всполохами, поспешно, не пригибаясь, единым махом осушил свой припас.
— Как гвоздь заколотил! — похвалил он себя и с бодрецой испробовал голос, протянул речитативом: «Хороша ты, степ,— степ раздольная, степ стрелецкая, ой да молодецка-а-йя!» А то еще была «кубанская» — четыре двенадцать стоила. Тоже хорошая, но эта, кажись, получше.
Уважительно приподняв почти порожнюю посудинку, Петрован сощурился на яркую картинку с бравым казаком в папахе, уронившей красное обвершье на его правое плечо, и спросил как бы у стрелецкого казака:
— Дак чего? Будешь ли про мою войну слушать? Али утомил я тебя совсем?
— Да говори че-нибудь…— отозвался за казака Герасим.— Говори, а я поотдыхаю…
— Ну, тогда доскажу…— Петрован уважительно поставил бутылку на место.— Мой сказ недолог. Это ежли б ты про свою войну порассказывал, как аж до самого Гитлера дошел, то, поди, и в неделю не управился б… А я што: трах-бабах — и в дамках. Ну, стало быть, устроил нам немец лесную баню. Прибегаем, а ельник вокруг поляны горит, аж стволы ахают, серый хвойный пепел дыхание застит, сама поляна парной землей закидана… Давай на уцелевших танках ближние дерева валять, подальше оттаскивать. Нашу безмоторную машину да еще которую без ленивца на тросах тоже в затишок оттащили. А те три, что уже горели, пытались снегом закидать, да куда там… Потом всю ночь бронелисты искали да на полураздетые танки прилаживали. А ведь нам завтра с рассветом — в наступление, в разведку боем! Сам командующий, когда смотрел батальон, вручил такой приказ командиру боевой группы, к которой мы были придадены. Курочкин отбыл в полной уверенности, что танкисты после баньки и стограммошничка этак завтра навалятся на неждавшего врага, а оно вишь как получилось: восемь единиц, которые в дороге поломались, так и не дошли до нашей передовой. Дохлое дело — на ходу ломаться: запчасти в лесу не валяются, на деревьях не растут. Каждую бубочку добыть надо, похлопотать, пообивать пороги помпотехов. Да и кто этак вот сразу даст тебе — чужому, ничейному экипажу? А ежели и починят, то больше не отпустят, себе заберут. Потому как танки всем позарез нужны. Так что этих восьмерых ждать было нечего, тем паче — наступало распутье, когда по тверским заволочьям {93} не то что тридцатитонный танк, а никакая собака не проскочит. А из тех девяти штук, которые добрались-таки до места, пятеро втемеже и вышли из строя: двести вторая и двести сёмая выгорели дотла, у двести пятой — своротило башню, а у десятки Ежикова порвало гусеницу, срубило правый ленивец. Наша двести шестая, на ту пору безмоторная, тоже оказалась не на ходу. Но командир боевой группы не стал вычеркивать нас из списка живых, а велел отбуксировать на исходную позицию для огневой поддержки разведотряда. Хотя какая к ляду поддержка — у нас в танке оказалось всего шесть снарядов. Обещали доэкипировать по прибытии, да с боепитанием тоже вышел затык.
Наконец-то хмуро забрезжило. Вокруг — серая тишина. На исходном рубеже за стылой броней, хуже, чем до бань, чумазые, ни крохи не спавшие экипажи. Без всякой артподготовки, без единого выстрела, по одной отмашке шапкой, на малых оборотах, втихую выкатились тридцатьчетверки с пехотой по-за башнями. Пошли, пошли помаленьку. Танки рябые, плохо видные, их еще в лесу припорошило снежной осыпью. Автоматчики тоже заиндевелые, закиданные гусеничными выбросами. А деревню Кудельщину, куда выдвигалась бронепехотная группа, ту и вовсе не видать за утренней кунжой. Самая левая машина, Лехи Гомелькова, шла по дороге, ей было полегче, и она дальше всех ушла вперед. Остальные три направились полем. И вот уже послышались сердитые взрыки моторов. Это означало, что снег глубок, и на отдельных участках приходилось лбами таранить сугробины. Оно, конешно, не хотелось, чтоб так оборотились движки, надо бы потише, но пока все обходилось, немец, кажись, ничего не чуял, и та сторона оставалась нема и глуха. Мы выглядывали из своего запрятанного танка и обмирали от ожидания: что-то будет, как-то будет…
А было вот как… Ты не спишь, Герасим?
— Не-к…
— А сталось, говорю, вот как… Пока танки барахтались на этих двух километрах — и вовсе рассвело. И увидели мы, как на дороге что-то сверкнуло и там, где была двести одиннадцатая, подняло облако снега. Когда снег опал, машина оказалась развернутой поперек дороги и никуда не двигалась. Должно, на мощную мину наскочила. Тем же моментом над деревней взнялась малиновая ракета, и по всей полосе деревенской застройки завспыхивали выстрелы, а по снежной целине зачиркали пулеметные и пушечные трассы…
Наш радист Гомельков завертелся на своем сиденье, принялся дергать командира за штанину: дескать, чево зря сидим, давай и мы пальнем, наших поддержим. Но Катков, смердя на весь танк цигаркой, только отпихнул Лехину голову в замусленном шлеме, мол, сиди-помалкивай. А и верно: куда палить-то? Ни хрена ведь не понять, где чего… Просто по деревне — для тарараму? Да снарядов жалко. Их у нас всего-то шесть штучек. Может, еще взаправду понадобятся…
Но в тот раз так и не понадобились снаряды-то… Катков не успел докурить цигарку, как двести первая занялась огнем. Тут же соседская с ней двести тринадцатая черный дым выбросила, и тот пошел виться клубами, забирать в высоту. Крайняя, правая «тридцатьчетверка», не помню ее номера, начала было сдавать назад, но сама же задом нагребла чуть ли не с овин снега, загородила себе отступление. Давай делать боковые развороты, туда-сюда вертеться, дурья башка. Тут левым бортом и словила боковое попадание. Должно, по самым бакам. Потому как разом полыхнуло, аж снег багрово окрасился… Ну а десантники… А что десантники? Тех, как воробьев ветром,— ни одного при танках не осталось. А куда девались — леший их знает! Небось по сугробам залегли. В таких-то снегах разве их увидишь?..
Сдернув кепарики, пригнувшись и вобрав головенки в кузнечиковые плечики, будто в деревенском кинозале, где уже начался показ картины, неслышно пробрались к дверям Герасимовой каморы и присели на пол у притолок те самые пацанята — Колюнок с Олежкой… Они уже знали по опыту что ежли Петрован возвращался из района с бубликами через плечо, то непременно начнет вспоминать про свою жизнь. А нынче еще и медаль получил — должно быть, вовсе занятно. А то, что к началу они припозднились маленько, так это все тетка Евдокия не пускала, жадина. Растопырилась на крыльце: нет и нет! Дескать, Герасим хворый, неча докучать. Но вот уговорили, уканючили — пустила, но чтоб ни-ни…
— А-а! Братики-кондратики пожаловали! — обернулся Петрован.— Давние мои слухачи! И уже в цыпках! Аккурат приспел час про главную мою баталию поведать. Ну, слушайте, мои хорошие, слушайте. Вот вам бублики для веселья. Сидите да погрызывайте… Ну, стало быть, через пару дней наконец-то поладили мы со своим мотором, поставили его на место. Я даванул стартер — мотор рявкнул, будто оголодал, хватанул с полутыка! Заглушил, а потом снова даванул, а он — опять враз искру хапнул. А в нем — более шестисот коней! Ого-го! Зверюка какая! Для интересу пнул лбом матерую елку, та брык вверх кореньями! Сосна пополам изломилась бы, а елка завсегда с корнем выворачивается, будто на тебя медведь, задравши лапы, восстал. Правда, не всякую ель опрокинуть можно, но по мотору чую, что наш-то всякую завалит! С тяжелого бомбардировщика взят, с тэ-бэ-первого. Вон какой нахрапистый!
Вот тебе политрук Кукареко — мрачный, глядит под ноги, на серые катанки. Должно, переживал после той неудачной атаки. Дак и запереживаешь: на тот день никакого батальона уже не было. В наличии одна наша машина осталась. Только-только на собственный ход встала. Да еще «десятка» в кустах пряталась, ждала: с подбитой снимут ленивец, а на нее поставят… Остальные, еще «живые» борты, числились в отставших. Но машины сгорели — ладно: не зная ничего, с ходу на рожон сунулись. Главное — ребята не вернулись. Из четырех экипажей, которые тогда на Кудельщину пошли, а это, считай, шестнадцать человек без десантников, уцелели только трое. Остальные — все истекли кровью в железных коробах, заживо погорели. Их еще и не хоронили, так в горелых танках и остались. Как их оттуда возьмешь? Немец пристрелялся, пикнуть не дает. Теперь уж заберут, когда отобьют Кудельщину.
Кукареко оглядел поваленную елку да как заорет, как заматерится: «А ну прекратить мне эти штучки — елки на передовой валять!» — «Да мы мотор после ремонта малость попробовали…» — объяснился я как механик, ответственный за ходовые механизмы. «Вот я т-те попробую, мать-перемать! В штрафную захотел? С банями катавасию устроили, дак мало им, они еще и у немца под носом дерева давай валять!» — «Да мы всево-то одну елку…» — «А немцу и одной елки достаточно. Он на нас во все бинокли глядит. Вот возьмет, понимаешь, и накидает „бураков“…»
Бураками у нас метательные мины назывались: хвост у них на обрубленную ботву похож: вылитый бурак!
А политрук все пинал елку валенком: «Понимать же надо: шарахнет квадратно по тому месту, где ваша елка, падамши, снег взбучила, да и угодит по танку. Вот пока я тут с вами канителюсь, он небось уже наводит свои минометы. А мина опаснее снаряда, она, подлая, сверху падает. Может аккурат в моторную часть угодить, в самое уязвимое место. А нам ваш танк целым и невредимым позарез нужен: завтра сызнова пойдем на Кудельщину…»
Лешка Гомельков возьми и хихикни: дескать, один, что ли? Кукареко этак строго посмотрел на Леху, должно, ему не понравилась эта Лехина подковырка, и сам спросил Гомелькова:
— Что значит — один? Тут что — сплошные дураки командуют? За такие слова, понимаешь… Танковый экипаж один, это верно, но с вами пойдет десантный батальон лыжников, артналет сделаем, катюша подыграет… А еще двое аэросаней с крупнокалиберными пулеметами. Так что давайте, и чтоб к завтрашнему утру машина была как часы. И чтоб Кудельщину взять без разговоров!
А Леха ему:
— Дак у нас шесть штук снарядов только…
— У двести десятой возьмете. Она все равно без ленивца никуда не пойдет.— И позвал командира танка: — Катков! К шестнадцати ноль-ноль в штаб группы на уточнение операции.
…В прихожей раздались женские голоса — шумливо, звончато, перескакивая один через другой, как на базаре. Это пришла Петрованова Нюша и сразу, с порога вступила с хозяйкой в словесный коловорот, из коего можно было различить разве что отдельные слова и понятия: «Вот околотень! Ну, бродень!» {94} — «Да тута, тута…» — «Двое ден, как дома нету».— «Ну, будя тебе… Не под забором ляжит».— «Ищо чево — под забором…» — «Ой, гляжу, на тебе кохта новая? Гдесь таку отхватила?» — «Кой — новая! Понюхай, нахталином разит».— «А как седни куплена!» — «На какие шиши? Пенсию третий месяц не кажут».— «Да ты проходь в горницу-то, проходь, не разбувайся: в мае грязи не бывает».— «Да я на секунд один, своим глазом глянуть, живой ли?» — «Живой, живой!» — «Не легшает?» — «Ой, девка, уже и не ходит, видать, к тому все идет. Но седни — тьфу, тьфу — вродя ничево, тамотка балакают День Победы справляют».— «Ну, я своему насправляю — мимо дома пробегать!» — «А чево это у тебя под кохтою-то?» — «Да тут… Вот ждала, думала, придет, а он, вишь, по гостям…»
Нюша, сопровождаемая Евдохой, заглянув в камору, продолжила начатое еще в прихожей:
— Ага-а! Вот ты где, голубок! На чужих хлебах устроился! А я, дура, в окна выглядаю: идет — не идет? Вот уж сонце к земи пошло, а ево все нету и нету. Думаю, электричка запаздывает… А он туточки… Медалью похваляется…
Петрован, сбитый со своей главной мысли, ерзал на табурете, воздевал руки, пытаясь отыскать прореху в потоке Нюшиных попреков, но только виновато косноязычил:
— Дак а мы чего? Мы — ничего… Герасим дак и вовсе…
А Нюша как из желоба:
— Глядела-глядела, да и осенило: не иначе как у Герасима, нынче один он из ветеранцев остался да мой ишо. Дай, думаю, забегу, проверю, а то душа сронилась. Времена-то какие: кругом одно охайство. Да ежли ишо сам выпимши…
— Да ничего такого…— упорствовал Петрован.
— Как это ничево? А вон, вижу, бублики на веревке… Твои?..
— Нолики? Ну, мои… Дак это я ребяткам.
— И глаза не на месте, веки не держатся. А ну, глянь на меня, глянь, глянь прямо!
— Дак за какие ляды? Всего-то и дала двадцатку… Кабы б к медали да по стопарику — солдатское дело, а то даже на музыке не сыграли. Иные потом сами складывались — день-то какой! Победа! Но я отошел: мне на электричку надо было. Так, на вокзале кружку пива по-быстрому — и домой! Вот у Герасима початая была — всего нам и веселья.
— Да я не за то…— Нюша наконец высвободила из-под кофты глиняную миску и, на весу освобождая ее от рушника, поставила на свободную табуретку. Миска доверху полнилась румяными шаньгами, еще веявшими теплом и сметанным духом подового печева, томленой картошки и жареного лука.— Я ж их под подушку и кожух сверху… Ну, давайте, пока тепленькие. Ребятки, Колюшка, Олежка, вы тоже берите, берите…
— Ну, как налетела, сполоху наделала! — мотнул головой Петрован, когда Нюша наконец ушла, наказав съесть шаньги, пока теплятся, и не сидеть до звезд.— Перебила весь наш порядок. На чем-то я прервался, не вспомню…
— Как собрались итить на Кудельщину…— подсказал Олежек.
— А-а! Во-во! — воспрянул Петрован.— Собрались, значит, ждем момента. И вот, как сейчас помню, в шесть ноль-ноль утра, по самой ранней серости, еще немец не пивал кофею, заговорила наша матушка-артиллерия. Из-за леса, с закрытых позиций враз ударило несколько батарей. В сумеречном небе заквохтали первые гаубичные снаряды и объявились беглыми вспышками по всему закрайку деревни, где у него была нарыта оборона: бах-бабах, бах-бабах! Будто баба половик выколачивает. Тут же мимо нашей тридцатьчетверки, грюкая лыжными палками, пошли десантники в белых халатах — видны только вещмешки да карабины.
Пришло время и нам выступать, пока артиллерия наш мотор заглушает. Но мы не пошли на рожон открытым полем, следом за лыжниками, которых было предписано поддерживать… помчались краем леса влево, вроде как прочь от боевых порядков. В том месте ельник пересекала не шибко великая речушка и убегала к левой околице Кудельщины. Мы с командиром Катковым еще вчера наведались к ее берегам. Речушка бурливо плескалась по промытому камешнику и этой своей прытью не давала заметать себя снегом и схватывать льдом. Вот тогда-то мы и решили: не переться по открытым полевым заснегам и сугробам, а прокрасться к деревне по речному руслу. Было нам на руку и то, что берега речушки застили нас ольхами, раскидистыми ивами, путаным черемушником и всякой поречной всячиной. Мы, конечно, рисковали: могли залететь в опасный омут или сесть днищем на лобастый валун, и тогда, считай, хана — за порчу военной техники и бегство с поля боя. А мы и на самом деле очутились далеко от того поля, куда ушла наша белая пехота. Там уже гремело вовсю: в полумраке рассвета схлестывались, пересекались ихние и наши огненные трассы, вытягивали змеиные шеи осветительные ракеты. А у нас тут — дремотная глухомань, сцепившиеся над головой заснеженные деревья да бег черной воды по извилистому каменному руслу, которое порой так закручивалось, что танк повертывался к передовой своим задом. Мы пробирались с открытыми люками: я себе распахнул, командир — себе. Башню развернули пушкой назад, чтобы не цеплять ею встречные сучья. Встречались и настоящие туннели из веток и снега, куда в полной темноте заныривать было даже страшновато. Сверху рушились пласты слежалого снега, разбивались о броню, снежной кашей забивало люки. Но на снежную кутерьму мы не обращали внимания: снег не грозил ни поломкой, ни ушибами. Опаснее было напороться на матерую дровину. Катков то и дело втягивал голову в люк — уклонялся от хлеставших по башне веток. Иногда такие попадались дурики, что, чуть зазевайся, снесли бы голову, как кочан капусты с кочерыжки. В таких случаях Катков постукивал ручкой нагана по башенному железу, дескать, не газуй, полегче, потише… Но стучи не стучи, а газовать приходилось, куда денешься: на крутых извивах реки танк залетал в бочаг, опасно кренился на бок, и тогда в бортовых ящиках гремели, пересыпались гаечные ключи и отвертки, а мы с пулеметчиком Лехой задирали валенки от набегавшей в машину воды. Но все обходилось без чепэ: речушка в здешних местах еще не набрала глубины, она появится пониже, и только пугала своими суводинками и портомоями, в которых и впрямь деревенские женщины прежде полоскали ребячьи порты. Но все-таки приходилось натужно выскребаться железом гусениц из заиленных омутов, благо что немец, отвлеченный боем, не слыхал моторного рыка. Но и мотор — молодец: ни разу не подвел — не чихнул, не поперхнулся, а только гневно взвывал и расшвыривал голыши.
Каждому про себя было тревожно — куда мы и что будет, пока наконец командир танка Катков не выкрикнул в переговорку:
— Люки з-закрыть! Башню — на место!
— Есть люки закрыть! — откликнулся я и потянул рычаг стальной плиты, которая запирала выход из танка как раз перед водителем. Следом грохотнула крышка башенного люка. Колко засветилась лампочка-маловольтовка. В полутьме проступили смотровые амбразуры — одна передо мной, оснащенная триплексом, и другая, круглая, едва просунуть палец,— в пулеметной маске перед Лехой Гомельковым. Сбоку мне стал виден его левый глаз и то, как он напрягся и беспокойно шевелил зелеными камушками роговицы.
— Костюков! — окликнул меня из башни командир.— Давай на берег!
— Есть на берег! — почему-то обрадовался я, чуя, как эта команда сняла с души гнетущий натяг, который теснил меня, пока мы прорывались по запутанному и заснеженному руслу. Такое я испытывал при первом рывке плуга, с которым начиналась озимая пахота — самая большая работа в моем довоенном пацанстве. А проще сказать, называлось это: «А-а, была не была!»
Я выглядел на правом берегу подходящую пологость, наддал газку, и машина, вскинувшись, разбрасывая битый лед, вынесла нас в прогал меж зависшими и оснеженными зарослями.
Оказалось, мы выскочили на берег гораздо дальше, чем рассчитывали пройти, и очутились по-за линией обороны немцев.
— Гляди-и! — сдавленно произнес Леха, припавший к пулеметной дырке.— Чего вижу-у!..
Но это же видели и все остальные…
В какой-нибудь сотне метров, позади коровника не то овчарни, с давними обрушениями в кровле, обустроилась немецкая минометная батарея. Четверка «самопалов», круто задрав стволы, вела стрельбу из-за укрытия с аккуратно расчищенных от снега огневых позиций. Между округлыми площадками зияли узкие ходы. Такие же аккуратные, охлопанные лопатками по брустверу траншейки вели к двум ближним избам, где — я теперь сам представлял это воочию — минометчики отдыхали между стрельбами, пили деревенский самогон под уворованную курицу, отогревались на русской печи, а в наилучшем расположении духа — пиликали на губных гармониках, присланных им в числе новогодних подарков из далекого и нежно любимого фатерлянда.
Из нашего танка было видно, как прислуга, в белых дубленых шапках с козырьками и войлочных бахилах поверх сапог, неспешно, заученно обслуживала свои орудия, похожие на выдрессированных собак, каждая из которых сидела на круглой плите, будто на коврике, подпершись расставленными передними лапами. Долгий немец в форменной фуражке с наушниками, должно офицер, каждый раз поднимал руку в красной варежке и, дождавшись, когда заряжающие предстанут каждый перед своим зверем с тем самым «бураком» с подрезанной ботвой, неистово орал: «Ф-фойер!» — и делал резкую отмашку красной вязенкой. Прислуга опускала в каждую пасть по «бураку», и тогда все четыре глотки дружно издавали свое злобное «г-гаф!», сопровождаемое дымными выхлопами.
Немцы наверняка не видели нас, а если и слыхали шум мотора, то не обратили на это внимания, принявши его за собственные тыловые передвижения. Они вели себя так, как если бы нас вовсе и не было у них за спиной.
Но мы-то были! Припавши к смотровым щелям, мы жадно и в то же время боязливо глядели из своего танка, затаившегося в прогале чащобника.
Честно признаюсь, было как-то не по себе начинать бой с такой близости. Куда б ни шло — начинать издали: пока сблизились бы да огляделись, может, и вошли б в раж. А тут — нос к носу. Вот — они, а вот — мы. Тут — как в ледяную воду… Командиру нашему, Каткову, может, и ничего: он уже побывал под Смоленском, даже горел в своем хлюпеньком тэ-шестидесятом, а все остальные — и Леха Гомельков, и заряжающий Матвей Кукин, и я — ничего не видели, кроме полигона, а уж живых немцев — и вовсе. Леха от волнения даже принялся машинально шарить по карманам насчет курева, как в переговорной раздался сдавленный до сипа голос командира:
— Кукин! Осколочным — з-заряжай! Гомельков! Смотри там… И — полный впер-р-ред! Чтоб ни один не ушел… Вып-полняй!
У меня над головой железно заклацал орудийный замок, и я тут же включил стартер и дал газу. Танк взревел, как бык перед сшибкой, и, окутанный взбитым снегом, ринулся на батарею. Ошарашенные минометчики так и остались стоять каждый на своем предписанном месте. Ихний офицер даже забыл опустить руку в красной варежке. И только после того как возле дальнего, четвертого миномета грохнул наш осколочный, а справа от меня долгой очередью полоснул Лехин пулемет, немцы по-тараканьи забегали по огневым позициям, ища спасительные щели.
Лобовой удар по торчащему миномету я даже не почувствовал, а только краем глаза успел схватить, как ствол надломился, подобно папиросному окурку. Второй и третий минометы я не видел вовсе, но, работая фрикционами, крутил танк то вправо, то влево, чтобы раздавить, смять и растереть в порошок эти пакостные устройства, тогда как Леха все лупил и лупил из пулемета, наводя суматоху и тарарам. Я остервенело утюжил минометные позиции до той поры, пока не увидел, как откуда-то выскочил и побежал по снежной траншее тот самый ихний офицер, что в красных вязенках.
— Леха! — закричал я.— Главный фриц убегает… Который в детских варежках… Полосни по нему!
— Где?
— Да вон, в траншее! Вишь, фуражка мелькает!
— Да где, где мелькает-то?
— А-а! — подосадовал я, увидевши, как фриц добежал до избы, вскочил на порог и скрылся в сенях, заперев за собой дверь.
— Командир! — окликнул я Каткова.— Шарахни по избушке! Там ихний офицер спрятался.
— Снаряда жалко. Уже один истратили…
— Ну, тогда я сам…
Я развернул танк, подстегнул его газком и с разбегу поддел избу левым бортом. Изба морозно завизжала, посыпались стекла, потом завалилась на бок и осыпала себя снегом и мусором с провалившейся кровли.
— Все, кранты! — заверил Леха.
Но командир осадил:
— Ладно — за каждым немцем гоняться. Давай вперед, пока нас не нанюхали. Тогда и будут кранты.
Мы рванули по улице этой самой Кудельщины. Постройки на обе стороны, рубленные в лапу, под толстым снегом на крышах дома казались приземистыми и мрачноватыми, как лесные сторожки. В тех, что выходили задами в поле, к фронтовой нейтралке, в сараюшках, хлевах и баньках темнели пропиленные амбразуры. Сама же улица была аккуратно расчищена от намети, и даже стояли всякие указатели на полосатых столбиках. Видать, немцы чувствовали себя здесь безопасно и собирались оставаться тут надолго, а то и навсегда.
Впрочем, как я узнал потом, это была еще не Кудельщина, а окраинный посад, превращенный в опорный пункт, охранявший армейские тылы и базы, находившиеся в самой Кудельщине — большом, обжитом немцами селе с казино и кинопередвижкой. Почти всю зиму наши пытались его взять, но все как-то не получалось. Скорее всего, оттого, что шли в лоб и, как всегда, на авось, что и убедило немцев в его неприступности.
Но зевать по сторонам было некогда, и Леха, отирая пот, строчил по разбегавшимся немцам, а когда те прятались в избах, я с ходу поддевал углы домишек, и те, рушась, заставляли немцев снова выскакивать наружу.
— А-а, гады! — сквозь зубы сосал воздух Леха.— Не нравиц-ца?!
Несколько раз в нас бросали гранаты, эти самые «толкушки» с длинными деревянными ручками — в самый раз картоху толочь. Броня гудела от их разрывов, но держала удары, только закладывало уши, и это пуще обозляло нас. На предельной скорости раздавили второпях выкаченную пушку, потом размазали, как козяву, какую-то легковую машину, из-под которой высоко взвилось переднее колесо и потом еще долго катилось впереди танка, следом опрокинули три крытых грузовика, скопившихся у штабистого дома. Один из них тут же задымился, застя улицу обильным и плотным дымом. Пока мы освобождали пушку, заехавшую в развилку березы, дым достал и нас за танковой броней. Командир включил башенный вентилятор, а я принялся выводить машину из задымленного места, потому как дым не только скрывал нас от врага, но и не давал видеть самого врага и того, что он предпринимал.
А между тем немцы решили выдвинуть против нас самоходное орудие. Мы не сразу увидели его. Самоходка пряталась между двумя домами в глубоком капонире. Сверху ее прикрывали нависшие ветви старой ракиты, которая служила еще и вышкой для наблюдателя. Из этой норы самоходка, должно, вела огонь по тем нашим танкам, которые два дня назад остались в снегу после неудачной атаки. Наверно, с этой ракиты корректировщик и оповестил самоходку о нашем появлении на улице, а сам скрылся. Теперь самоходка готовилась расправиться с нашим танком из своей долгой пушки с дырчатым набалдашником. А калибр у нее был подходящий, и лучше не попадаться в ее прицел, особенно на таком близком расстоянии. Запоздай мы на пару-тройку минут, так бы и произошло: самоходка успела бы занять выгодную для себя позицию. Но сейчас, чтобы выстрелить в нас, ей надо было сперва вылезти из своего укрытия, потому как ее пушка не имела кругового вращения. Но даже если бы она его имела, то все равно ей помешал бы развернуться ракитный ствол. Так что самоходке пришлось выбираться на свет божий под дуло нашего орудия, и она яростно взревела и, окутываясь сизыми выхлопами, резко дала задний ход. Но мгновением ранее позади меня снова клацнул орудийный замок, танк дернулся откатно, башня наполнилась кислым духом горелого пороха и медным зыком выброшенной гильзы. Это Катков молча влепил в самоходку, в ее грузный курдюк, вымазанный под зиму белой краской, второй наш снаряд из тех шести, что имелись. Самоходка перестала вычихивать синий дым и снова съехала в свое стойло и только там задымила черно и густо…
— А теперь куда? — я снял рукавицы и потер онемевшие от рычагов пальцы.
— Вперед, куда же! — сказал Катков.— Как с горючкой?
— На пределе…
— Был же почти целый бак?
— Речка все выхлестала. Валуны да завалы… А последний раз заправлялись аж в Калинине.
— Может, самоходку подоить? — посоветовал заряжающий Кукин.
— Это все равно што чужую кровь залить…— побрезговал Леха. Он продолжал глядеть в пулеметный глазок на подбитую самоходку.
— А они на своей «крови», што ли, ездят?..— съязвил Кукин.
— Подоить бы можно, но не успеем,— засомневался Катков.— Пока разберемся, где у них краники, то да се — может рвануть. Вон вишь, как занялась: я ей, кажется, под самый дых саданул…
— Знать бы, где теперь наши,— проговорил свое заряжающий Кукин.— Дошли до деревни али нет? Слышу, бабахают, а — кто? Куда? Хоть бы ракету пустили…
— По ракете тоже не поймешь…
— Допустим — две красных, одна — зеленая, как дойдут. Пошло-то много…
— Чего теперь…— Леха почесал под шлемом.— Закурить бы! У кого есть?
— Какие перекуры?! — отрезал Катков.— Погнали, погнали, пока целы. Еще малость пошуруем…
— …Э-эх, лучше бы мы тогда перекурили напоследок! А то што ж… Дальше и говорить нечего…
…Едва мы отъехали от самоходки, едва на перекрестке Катков припал к обзорному перископу, чтобы оглядеться, определиться, где мы находимся, как в башне ужасно грохнуло и так, братцы мои, сверкнуло, будто при коротком замыкании. Тесный короб танка наполнился кислой вонью перекаленного железа. Каким-то смерчем с меня сдернуло плотный ребрастый шлем, а в оголенной голове сотворилось такое, будто в нее вкачали несколько атмосфер. Я мигом оглох, ослеп и полетел в тартарары, в какую-то темень и собственное отсутствие.
Сколь меня не было на этом свете, я не знал и до сих пор не знаю. А когда все-таки очнулся, то, напрягшись, попытался узнать, жив ли еще кто-нибудь. Но мне никто не ответил: небось голос мой не имел звука и потому не был услышан.
Я принялся ощупывать себя, чтобы понять свое положение: что осталось цело, а чего уже нет… Сразу же дошло, что я напрочь не вижу. В ушах потрескивало, как в шлемофоне после грозы. Тупой болью ломило голову. Подвигал ногами — вроде бы на месте, нигде не щемит, не саднит. Цапнул левую руку, а рукавица, как козье вымя, налилась кровью и уже начала засыхать и кожаниться. Сквозь шум в ушах я все-таки расслышал, как в стальной тишине танка сбегавшие с рукавицы капли моей собственной крови торопливыми шлепками разбивались о гулкий железный пол. Я подставил под рукавицу ладонь правой руки: капли сразу же перестали шлепаться о железо, и я убедился, что это действительно капала моя кровь. Попробовал пошевелить пальцами, но отозвался только большой да, кажется, указательный, остальные промолчали. Мокрую рукавицу я стаскивать не стал, все равно ничего не увидел бы, а достал из кармана комбинезона рулонку изоляции, которую всегда носил с собой на всякий водительский случай, и, как мог, обмотал руку выше кисти смоляной лентой.
Правый глаз по-прежнему мучила острая помеха. Я не мог даже переморгнуть веком и вынужден был держать его опущенным. Было ясно, что это от броневой окалины, осыпавшей все лицо, которое теперь щемило, как после бритвенных порезов. Левый же глаз хоть и не давал о себе знать, но был залеплен каким-то кровавым студнем, перемешанным с волосами. Пальцами уцелевшей руки осторожными шажками я прошелся по липнущей массе и понял, что взрывом с моего темени помимо шлема сорвало еще и кожу вместе с училищной сержантской прической и вроде уха легавой собаки набросило мне на глаз. Марлей из личного санпакета я кое-как обмотал голову и оба глаза, а сверху натянул валявшийся под ногами изодранный осколками шлем. Но под ним что-то опять закоротило и вырубило мое сознание.
Сызнова в себя я пришел, наверно, оттого, что в мое лицо сквозяще, остро поддувало снаружи. Я протянул руку: водительский люк напротив меня был приоткрыт. Захлопнуться полностью ему не давал серый армейский валенок, застрявший подошвой вовнутрь. Я ощупал его: чей он? Лехин? Кукина? Или самого Каткова? Но у башенных был свой люк. Зачем же им лезть по моим коленкам, чтобы выбраться наружу? Выходило, что это был Лехин валенок, это он, Леха, пока я был в забытьи, лез по моим коленям, чтобы выбраться через водительский люк.
— Леха! — позвал я, чтобы проверить.
Тот не отозвался.
— Гомельков!
Опять ни звука.
Я протянул руку: Лехино сиденье было пусто.
А может быть, Леха вовсе никуда не ушел, а, пойманный плитой за ногу, висел теперь вниз головой, замерзший или сраженный немецкой пулей? Но узнать про то можно было, только если приподнять люковую крышку. А в ней — сорок килограммчиков стального литья! Для такой операции существовал специальный рычаг. Он располагался с левой стороны, как раз напротив раненой руки. Но и здоровой я вряд ли смог бы что сделать в моем положении.
— Кукин! — позвал я заряжающего.— Ты живой?
Кукин не отозвался: наверно, успел выбраться или был убит наповал. Ужли и Каткова нет?
Мне сделалось жутковато, что я один, ослепший, заживо замурован в своей же тридцатьчетверке. А если тут еще немцы?..
— Катко-о-ов! — уже в отчаянии прокричал я в пустую, гулкую емкость.— Товарищ лейтенант!
Только теперь позади меня почудился глухой заторможенный стон.
— Товарищ лейтенант! — сквозь свою боль и слабость обрадовался я этому живому отклику.— Ваня!..
За все его командирство я впервые назвал его так по-родственному, как брата, потому что не было у меня в ту пору других слов, чтобы выразить ему свою радость.
— Это ты, Ваня?! Товарищ лейтенант!
И его стон повторился как подтверждение.
— Что с тобой? Скажи…
Ответа долго не было. И только спустя послышалось тягучее, слипшееся:
— Пи-и-и-ить…
— …И вот слышу: снаружи ребячьи голоса. Гомонливо обсуждают наш танк. Оказывается, никто из них не видел русских танков. Наша тридцатьчетверка, поди, первой была в здешних лесных и заснеженных местах, на улицах Кудельщины.
— Ух ты, какой! Ничево себе! Под самую крышу.
— Ужли наш это?
— Да наш, а то чей жа!
— А где звезды?
— Их замазали. Для маскировки. Немцы ведь тоже на зиму перекрашиваются.
— А кресты не замазывают. Штоб все боялись…
— А то медведей малюют.
— Медведи — это у них часть такая: медвежья. На той сгорелой самоходке тоже медведь был. Она тут с самой осени стояла. Сперва зеленая с желтым, а потом белым покрасили. Я с чердака видел. И как этот танк ее саданул — тоже видел.
— Гни больше…
— Вот штоб меня… Ка-а-ак жахнет! С одного раза попал. Целый день горит…
— А как нашего подбили — видел? В башне вон какая дырка! С кулак!
— Нет, не видел. Лупанули оттуда откудова-то, из кустов…
— Дак из потайки хочь кого можно подбить… А ежли б один на один, грудки на грудки… Вон у нашего какие колеса! Аж мне по пояс. Сила!
…У моих ног всегда валялся траковый палец — этакая штуковина, заменявшая мне молоток. Я нагнулся, нащупал «палец» и постучал по броне.
Голоса сразу испуганно смолкли.
— Сыночки! — позвал я, стараясь кричать в щель незапахнутого люка.
Те по-прежнему молчали.
— Подойди кто-нибудь. Я — наш… наш… Слышите, говорю по-нашенски… Меня Петром зовут…
По ту сторону брони негромко загомонили между собой, но я ничего не разобрал. И снова подал знать в расщелину:
— Мы тут раненые. Я и командир. Нам бы водицы… Попить дайте…
Не сразу, но наконец донеслось:
— Сича-а-ас!
И верно, спустя немного прокричали:
— Куда вам попить-то? Спереди не пролазит… Там какой-то валенок застрял…
Я с облегчением перевел дух: значит, снаружи лобовой брони никого нет. Будь Леха еще там, ребятишки не подошли бы к переднему люку, тем более не стали бы пробовать подать туда воду. А ежли Леха жив, то, может, как-то сообщит про нас, про нашу тридцатьчетверку.
— А вы посмотрите: ежли на башне крышка торчком, значит, верхний люк открыт Туда и подайте.
— Открыто! — дружно прокричали ребятишки, а я подумал, что Кукин тоже успел выбраться. Вон Катков не смог, потому и остался.
— Ну, тогда так: который посмелей — залезай на башню, а воду — потом.
По броне наперебой заскребло, заскондыбало сразу несколько обуток. Потом из верхнего люка колодезно-гулко донеслось:
— Где вы тут? Берите!
Я поднял навстречу руку, пошарил в пустоте и поймал холодный кругляш бутылки. Тут же отпил половину и протянул остальное за спину. Катков жадно схватил посудину, и, пока пил, было слышно, как стучали его зубы.
— Ваня, тебя куда?
— В грудь…— простонал Катков.— А еще в плечо, кажется… рукой не пошевелю.
— Потерпи, потерпи малость… Кудельщину, поди, взяли…
Тем временем мальчишка завис в люке, видно, не хотел уходить, и, глядя вниз, на нас с Катковым, трудно сопел от напряжения.
— Ты, парень, вот что скажи: немцы где?
— А-а… За речку убегли. В Касатиху.
— А наши?
— А наши — за немцами. Там сичас гремит, ракеты летают. Два раза наши самолеты прилетали. Низко-низко, звезды видать.
— Значит, поперли-таки немца?
— Поперли! — радостно подхватил это слово мальчонка.— Тут никого не осталось. Одни убитые. Страсть сколько!
— А наши есть убитые?
— Не-е… Был один раненый, вон там на дороге лежал…
— Без валенка?
— Ага…
— И где же он? Куда подевался?
— Ево один дедушка подобрал, на санях увез.
— А больше — никого не видел?
— Никого…
— А тебя как хоть зовут-то?
— Я тоже Петр. Петька…
— Тезки, значит. Петр-маленький, а я — Петр-большой,— говорил я через силу, с натужной бодрецой, старался не спугнуть, приветить мальчишку.— Да вот хоть я и большой, да ничего, брат, не вижу. Ты давай, лезь-ка сюда, дело к тебе будет. Давай, а?..
Петр-маленький помедлил, посомневался, но все же спустился в отсек и замер возле моего сиденья. Ему, конечно, было боязно видеть мои неопрятные бинты, торчавшие из-под шлема. А может, пугал его и раненый Катков, тяжко и клекотно дышавший позади меня на полу отсека. Подбадривая его, я ощупывал здоровой рукой хлипкое, ягнячье тельце под заскорузлым кожушком, перебирал стылые пальчики.
— Ты меня не бойся,— сказал я тихо, словно как по секрету.— Пораненный я. Лицо все в крови. Как мог, обвязался одной рукой, да, видать, не очень ладно. Что поделаешь, такая вот она, война. Не будешь бояться?
— Не буду…
— Тебе сколько годов-то?
— Девятый…
— В каком классе?
— Ишо не ходил…
— Что так?
— А-а… война. А в школе — немцы. Парты все сожгли…
— А папка с мамкой где?
— Папку на фронте убило. Ишо летом бумажку прислали. А мамка болеет, ноги у нее… Ботинки не обуваются.
— Тут рядом свободное сиденье,— сказал я.— Давай забирайся.
Петр-маленький послушно залез на Лехино место.
— Хорошо?
— Ага.
— Там раньше пулеметчик сидел. А теперь — ты. Согласен? Будешь моим помощником.
— Ладно. А чево помогать?
— Ты деревню Ковырзино знаешь? Вон там, за лесом?
— Знаю.
— Точно знаешь? Не путаешь?
— Там моя тетя Шура живет. А чево?
— В Ковырзино у нас санчасть. Раненых принимает. Сейчас будем пробовать мотор. Ежли заведется — туда поедем, командира повезем. А ты мне дорогу будешь показывать, потому как я сам не вижу.
— А как показывать?
— Перед тобой дырка светится. Смотри в нее и говори, так я еду али не так. Нашел дырочку?
— Нашел.
— Что видишь?
— Нашу улицу.
— Ну, вот по ней и поедем, на малой скорости. А дальше — сам говори, куда надо. Я ваших дорог не знаю.
— Ладно. Доедем до школы, а там — как раз поворот на Ковырзино.
— Молодец! А вот в поле будь повнимательней. Там, вдоль дороги, уже должны быть тычки. Саперы наставили. Там, за тычками, могут быть мины. Запомни: мины! Это, браток, такая скверная штука!.. Так ты особо последи, чтоб я за тычки не заехал… Понял?
— Ага, понял…
Я извлек из комбинезона ролик изоляции и попросил Петра-младшего помочь мне примотать мою раненую руку к рычагу левого ходового фрикциона.
Тот, как умел, исполнил.
— А теперь скажи пацанам, чтоб держались покрепче. Там за башней скобы есть… Довезем до школы.
Замерев от сомнения, что не получится, я включил зажигание и запустил стартер.
Мотор басовито гуркнул и пошел, пошел бодро и непринужденно вращать свой многоколенный вал.
…У него мозжило руку, саднило посеченное окалиной лицо, в глазах стояла ночь с росчерками молний, но в те минуты он тихо ликовал животворной радостью и молча, будто в забытьи, слушал и слушал это сдержанное бормотанье ожившей тридцатьчетверки…
— Ну Петр, двинули помаленьку,— объявил он, разворачивая машину к последнему пределу своей войны.— Посматривай там…
*
Уже поздно вечером, при голубо воссиявших над Брусами Стожарах, при недремных Олежке и Николашке, млевших от услышанного, Петрован, вставая, провозгласил убежденно и беспрекословно:
— Так что, друг мой Герасим, она — твоя! Бери эту медаль без разговору: у тебя против моего было двести таких недель…
2000
ЗАЩИЩАЯ ЖИЗНЬ… Статьи, очерки, интервью о войне
Слово о сержанте Борисове
Я воевал в истребительно-противотанковых войсках, а если точнее, то в 1969-м полку отдельной артиллерийской бригады Резерва Главного командования (РГК), которую возглавлял полковник Сыроваткин, и на всех наших машинах белел опознавательный знак «С», что читалось как «хозяйство Сыроваткина». Хозяйство это состояло из трех полков пятибатарейного состава по четыре 57-миллиметровые пушки в каждой батарее. Это — всегда танкоопасное направление, средоточие вражеских сил, ожидание концентрированного удара. Это — всегда в передовых порядках пехоты, на самом огнедышащем краю фронтовой полосы, всегда — скрытная, потаенная жизнь на виду у противника, когда с рассветом всякое шевеление на позиции грозило демаскировкой и обстрелом и все замирало у орудий, тщательно зарытых и закиданных ветками, бурьяном или соломой, смотря по местности и времени года.
На долгие световые часы орудийные расчеты затаивались в ячейках, в боковинах которых каждый себе отрывал глубокую нору. Это и было нашим жильем, единственным прибежищем, где мы вынуждены были коротать эту барсучью земляную настороженную жизнь в недвижной замкнутости и разобщенности. В целях маскировки к батарее не тянули никаких траншей и ходов сообщения, не разрешалось проходить, не говоря уж об артистах.
За все это нас так и прозвали — «барсуки».
С наступлением сумерек расчеты оживали, можно было выползти наверх, размять затекшие ноги. Ночью, расцвеченной трассами пуль, в зыбких отсветах немецких ракет мы принимались за работу: осторожно, чтобы не стучать лопатами, поправляли огневую, углубляли пушечные капониры-карманы, укрытия под боеприпасы, маскировали свежевыброшенную землю, таскали на себе ящики с боеприпасами из батарейных тылов.
В этой артиллерии люди подолгу не задерживались. Едва ознакомишься с новичками, едва притрешься, вот уже кого-то уносят в санчасть, кому-то роют скорбную двухметровку… Сколько прошло вот так через наши расчеты, которые редко когда были в полном составе! Чаще же приходилось, увесив ствол ящиками со снарядами для противовеса, втроем-вчетвером тащить на себе пушку, а в ней, матушке, чистых тысяча сто пятьдесят килограммчиков! И эта скоротечность бытия и давность событий смешали и перепутали имена моих недолгих побратимов. Менялись расчеты, промелькивали на огневых командиры орудий, командиры огневых взводов, комбаты и даже один из командиров полка продержался у нас одну только Бобруйскую операцию.
И вот теперь мучаюсь, понуждаю обремененную временем память: кто и когда был у нас на батарее? Никаких записей делать тогда не разрешалось, и не только имена, но и многие пути-дороги и даже города смешались в нерасщепляемый клубок, тем более что бросали нас то на один конец фронта, то на другой, и все — ночью, ночью…
Однако многих помню довольно явственно, хотя с тех пор минуло тридцать с лишним лет.
Особенно накрепко врезался в память наш батареец старший сержант Борисов. В общем-то близко я его не знал: я числился во втором расчете, а он — командиром первого, так что, как говорится, из одного котелка не хлебали. Знал я только, что в армии он еще с довоенных времен и не снимал гимнастерку что-то уже лет пять или шесть. Откуда он родом и была ли у него семья, родные, мне тоже неизвестно. Однако тяготы войны, казалось, никак не отразились на нем: выглядел он свежо, опрятно, насколько позволяла наша норная жизнь, при первой возможности стирал свою гимнастерку, на которой всегда белел жесткий пластмассовый подворотничок. Весь он был какой-то основательный и прочный: и крутыми плечами, и сильными икрами, распиравшими голяшки внушительных кирзачей, и даже крупным, аккуратно выбритым лицом с детской белобрысостью бровей и короткого ершика под пилоткой. Был он приветливо голубоглаз и как-то внутренне осиян, так что мне казалось, будто он постоянно что-то напевал про себя. Я не слышал, чтобы Борисов, как иные командиры орудий, повышал голос, и на его огневой обычно тихо и незаметно раньше всех заканчивались земляные работы.
Наверно, не мне одному хотелось попасть в расчет Борисова, от которого веяло незыблемой надежностью, как от пяти накатов над головой. С наступлением темноты, когда все выползали наружу, Борисов иногда наведывался к нам. Заходил он просто так, по-соседски. У него была неизменная привычка: войдя в круг огневой, нагнуться к орудию, скользнуть взглядом по стволу в щитовую надствольную щель, будто поверял направленность пушки, туда ли она глядит. Потом окидывал огневую, снарядные ниши, упоры под сошники. Делал он это все с той же веселостью, с кажущимся мурлыканьем какой-то внутренней песенки, после чего подсаживался к нам на раскинутые станины, которые к вечеру перед ужином, если фриц не свирепствовал, не чесал по передовой из пулеметов, служили нам вроде деревенских посиделочных скамеек. Да и при внезапном обстреле всегда можно тут же пасть под пушку, заслониться ее щитом, колесами и бруствером.
— Ну как, еще не соскучились по «тиграм»? — весело спрашивал Борисов.
По танкам, конечно, не заскучаешь, и бойцы, принимая шутку, оживлялись, лезли за куревом.
— Так…— усмехался Борисов.— Ну а если наводчик выйдет из строя, ты, Пермяков, к примеру, сможешь заменить?
Пермяков, долговязый, нескладный солдат в обмотках под самые коленки, недавно прибывший с пополнением, конфузливо мялся.
— С прицелом-то ознакомился?
— Пока не…
— Что ж так?
— Я ж дотоль в пяхоте был. Там этова не требовалось.
— Что с него взять? — бойцы незлобиво стукали Пермякова по сутулой спине.— Его еще драить надо, мох счищать.
— Прицел надо всем знать: гладишь, пригодится…
Борисов вставал, а нам было жаль, хотелось, чтобы посидел еще. Есть такие люди — чем-то притягивают к себе.
И все же мне довелось повоевать с Борисовым бок о бок. Вернее, даже не повоевать, а вместе выпустить всего лишь несколько снарядов…
Было это в начале июля сорок четвертого.
Бобруйскую операцию мы начинали под Рогачевом с форсирования Друти {95}. Кто был на этом лобовом участке прорыва 1-го Белорусского фронта, тот знает, какие это были тяжелые бои. Двое не то трое суток мы никак не могли сдвинуться с места, отражая свирепые танковые контратаки. И лишь после флангового охвата немцы начали пятиться и отходить на Бобруйск.
Не буду вдаваться в подробности разгрома Бобруйской группировки противника, скажу только, что наша бригада в те дни рыскала по лесам, затыкая дыры, устраивая заслоны и засады на путях метавшихся в окружении танковых частей фашистов. Фронт давно куда-то ушел, через несколько дней был освобожден Минск, а мы все еще схватывались с фашистами в наших глубоких тылах, громили его технику, загоняли ее в топи.
После ликвидации Бобруйского котла нас срочно перебросили в район Минска, где шла такая же кровопролитная схватка с зажатой в кольцо стотысячной армией противника. Отдельные части фашистов с фанатическим упорством пытались прорваться на запад, и нашу бригаду выбросили им наперерез в окрестности станции Негорелое, последней нашей точки на прежней, довоенной границе.
Тут-то, вблизи памятной Негорелой, мчась по Барановичскому шоссе, с ходу и напоролись на выходившие из окружения части.
Мы сидели по машинам, когда внезапно слева, с высокого склона, поросшего рожью, по нам открыли пулеметно-автоматный огонь. И тут же из хлебов поднялись зловещие немецкие каски.
— Орудия к бою! — понеслось по нашей маленькой колонне, и мы кубарем вывалились из машин, в считаные секунды сбросили ящики с боеприпасами, сняли пушки с крюков и развернули навстречу немцам.
Да, братцы мои, такое вовек не забудется! Желтая, поспевающая рожь враз почернела от поднявшихся во весь рост фашистов, а нас было всего сорок три человека и четыре орудия, никак не окопанных. Мы встретили их в упор картечью — картонными снарядами, начиненными двумястами пятьюдесятью шариковыми пулями. Наши снаряды, лопаясь почти у самого ствола, до земли вырывали рожь, выкашивая в ней вместе с фашистами глубокие веерообразные прокосы. Расчеты вели огонь между тут же стоявших машин. Справа от нашего орудия грохотала пушка старшего сержанта Мухамеддиева, слева, самая крайняя,— Борисова.
Мы работали у орудий на голом шоссе, и ничего нас не прикрывало, кроме пушечных щитов, скрежетавших от пуль. Но за щитом не упрячешься: после каждого выстрела пушку, станины которой не имели упоров, отбрасывало в кювет, и надо было выходить из-за щита, хвататься за станины и снова выкатывать орудие на шоссе. Сперва проделывали это довольно быстро, но вскоре расчеты стали нести потери, и выкатывать более чем тонное орудие малыми силами с каждым разом становилось все труднее и труднее. А враг упорно наседал. Наши машины давно уже горели, оглушительно рвались оставленные там ящики со снарядами, смрадный дым забивал дыхание.
Я плохо помню, что и как я делал тогда, я себя совсем не чувствовал, меня, казалось, не было вовсе. Руки работали помимо моей воли в каком-то механическом неконтролируемом движении. Гремел очередной выстрел, мимо, изрыгая пороховые газы и дымившуюся гильзу, промелькивал казенник, пушка, подпрыгнув и сбивая с ног артиллеристов, заваливалась в кювет, и мы, чумазые, закопченные, перепачканные чьей-то кровью, уже не узнавая друг друга — кто есть кто и сколько нас осталось,— какими-то озверевшими мышцами, молча, а может, и не слыша своих голосов, упрямо выкатывали орудие на прежний рубеж.
И все-таки силы были чудовищно неравны! Кончились и боеприпасы, те несколько ящиков, которые успели сбросить с машин.
Я даже не помню теперь, как остался один у орудия и уже ничего не мог сделать с пушкой, которая, завалившись станинами в придорожную канаву, беспомощно задрала к небу свой длинный хобот. Помню только, что я, как-то враз обессиленный, сидел в кювете и никак не мог вскрыть диск автомата. Но я его все-таки вскрыл: там оказалось всего лишь семь патронов. И меня охватила тоска…
И вот тут-то я и увидел Борисова. Пригнувшись за щитом, он один отстреливался из своей пушки. Его расчет успел-таки какими-то кольями, снарядными ящиками укрепить сошники, и орудие, окруженное стреляными гильзами, которые он отшвыривал из-под казенника, то и дело ахало пронзительно визжащей картечью.
Я пополз к нему помогать.
Борисов, лишь мельком взглянув на меня и коротко бросив: «Осколочный!» — сосредоточенно припал к резиновому наглазнику прицела.
В виду орудия немцев не было, они откатились подальше от картечных шквалов, залегли где-то во ржи и оттуда вели огонь вслепую, не поднимая головы. Но вот вскоре, опомнившись, они опять ринулись густой лавой в атаку, и их рогатые каски вдруг замелькали над колосьями чуть левее орудия. Было ясно, что они хотели обойти батарею с фланга и отрезать ее от своих.
— Карте-е-ечь! — как-то азартно пропел Борисов, и его лопатка заходила ходуном оттого, что он быстро накручивал рукоятку разворота.
И тут случилось это… После первого же выстрела расшатавшиеся, наскоро заколоченные колья вышибло отдачей и пушка, с лязгом расталкивая пустые гильзы, покатилась в канаву.
Ах черт, если бы не эти проклятые сошники! Уже не слышно было третьего орудия Мухамеддиева, а вскоре замолкло и четвертое… Я навалился плечом на правое колесо, а Борисов, сомкнув станины и взвалив их на плечи, весь набычась, уперев в землю могучие столбы ног, пытался вытолкнуть пушку на шоссе. По вздувшемуся от напряжения лицу его блуждала какая-то теперь виноватая улыбка, будто он стеснялся передо мной своего бессилия. Я же тужился хоть сколько-нибудь провернуть колесо, но, уже окончательно выдохшийся, мало чем мог помочь.
— Все будет хорошо! — твердил Борисов, подбадривая меня.— Все будет хорошо.
Но пушка не поддавалась.
И тогда он, продолжая приговарвать: «Все будет хорошо!» — вышел из-за щита, охватил своими ручищами пушечный ствол и принялся воротить его на сторону. Тысяча сто пятьдесят килограммов металла шевельнулись и медленно начали накатываться на кромку асфальта…
— Давай, поше-ел! — слышался его подбадривающий голос, будто вокруг не свистели пули, будто он работал на какой-нибудь молотилке.— Иде-ет, ид…
Пушка резво дернулась и грохнулась о землю задранными станинами. Я высунулся из-под щита и увидел Борисова.
Широко раскинув кирзачи, он лежал на асфальте. На его спине, на выбеленной солнцем гимнастерке как раз под лопаткой зловеще проступило темное пятно…
Немцы вырвались к шоссе и залегли в противоположном кювете. Остатки нашей батареи сбились в кучу за одной из догоравших машин, прячась в черном дыму, отстреливаясь из-под колес. Я перевел рычажок автомата на одиночные выстрелы и старался как можно дольше растянуть свои семь патронов…
На какое-то мгновение немцы, засевшие от нас в десяти метрах по другую сторону шоссе, замешкались. Воспользовавшись этим, комбат решил отходить. Но отходить было некуда, кроме трясины, которая начиналась сразу же за нами под насыпью. И мы, швырнув разом несколько оставшихся гранат, ринулись в болото. О том, что мы ушли, оглушенные гранатами фашисты сообразили не сразу, и только спустя какое-то время, когда мы уже продирались по грудь в воде сквозь камыши и кудлатые лозняки, немцы открыли по нам беглый огонь…
На противоположный берег выбралось всего несколько человек.
Потом, сколотив группу, мы вместе с подоспевшей пехотой отбили свои пушки и отбросили немцев.
Тут же, у шоссе во ржи, поваленной картечью, вырыли братскую могилу и снесли с поля боя к ней своих погибших батарейцев. Завернули в плащ-палатку и старшего сержанта Борисова. Даже смерть не смогла стереть с его лица неизменную улыбку. Казалось, он и тогда, у края могилы, твердил про себя: «Все будет хорошо…»
Бойцов собрали на короткий прощальный митинг, полковой политрук произнес речь. И только из его слов я узнал, что Борисов был парторгом нашей батареи.
Прогремели залпы последних воинских почестей, и полк двинулся на запад. Впереди ждала многострадальная Польша, за ней притаилось логово ненавистного врага. И долги еще были версты, и трудны рубежи на пути к долгожданной победе.
* * *
Горькая это миссия — навещать братские могилы. Как ни бейся сердцем о молчаливые надгробья, как ни скорби о павших, понимаешь, что ничем и никогда им уже не помочь. И хотя я тоже не избежал кровавых рубцов, а один из осколков и до сих пор сидит в моем правом виске и лишь слепой случай не уложил рядом с ними,— всякий раз, стоя у обелиска, я испытываю чувство вины, что остался жив. В смятении мысль от роковых судеб минувшей войны, и только переведя взгляд от высеченного списка на мирные дали, утешаешься сознанием: мы, оставшиеся вживе,— благодарные свидетели того, что все же неисчислимые жертвы были не напрасны. Родина, во имя которой вы пали, осталась жива и будет пребывать вовеки.
Пусть же в день Великой Победы до ваших тихих могил долетают весенний переплеск родных берез, шелест хлебных всходов, детский смех и вольный выговор отечественной речи спасенных вами от поругания!
1966
С сединою на висках
Погожим осенним днем бродил я по Боевке. Есть у нас в Курске прямо в городской черте такое уремное местечко по берегам Тускари. Вокруг прибойно шумит город, а здесь — девственная тишина. Среди соловьино-чащобного разнолесья возвышаются и неохватными колоннами подпирают небо серебристые тополя, словно поседевшие от времени. Говорят, им уже за двести лет. Иные суховершат, в непогоду скрипят омертвевшими ветвями, в изреженных кронах перестукиваются, сноровисто плотничают дятлы, соря окрест трухлявой, бражно пахнущей щепой. А в прикорневых дуплах, похожих на индейские вигвамы, мальчишки, еще не обремененные думами о беге времени и прочих высоких премудростях, разжигают костры и даже подкладывают в огонь где-то раздобытую поржавевшую гранату, пытаясь исказнить старое дерево, причинить ему побольше боли и зла, всеми средствами повалить его, дабы насладиться зрелищем, как с оглушительным и раскатистым, на всю урему, треском надломится поднебесный великан и, роняя сучья, давя и руша соседние дерева, рождая стон и ветер, грохнется о содрогнувшуюся землю.
Но чаще больное и старое дерево подрезают пилами специальные рабочие, расхватывают на кряжи, и мощный трактор, охватив тросами, отволакивает их куда-то…
При виде упавшего тополя на душе делается скорбно. Некоторое время пристрастно замечаешь, что в силуэте леса чего-то не хватает, но потом постепенно смиряешься и привыкаешь, как и должно тому быть.
Старики уходят один за другим. Но лес остается. На смену ветеранам поднимаются новые поколения — кто еще совсем юный, с несколькими листочками на незатвердевшем прутике, а кто уже в подростковом высокомерии, расталкивая других, прогонисто рвется к солнцу.
Такой вот молодец — двумя руками не объять,— одетый в рубчатое корье у обножья, будто примерявший новые, неразношенные сапожки, но чуть выше — ствол еще бархатно-гладкий, с темными поперечными пропестринами на бирюзовой, словно атласной рубахе, широко и жадно раскинутыми во все стороны ветвями-ручищами, как бы стремящимися побольше, пошире захватить вокруг себя пространство — такой вот удалец счастливо вымахал даже не на ровном месте, а на дне продолговатой, замусоренной канавы.
«Да ведь это же траншея! — вдруг знобко осенило меня, когда я взглядом проследил почти неприметную ложбину, ужиными извивами уползавшую под сырую сумеречную сень подлеска.— Ну конечно, траншея! Вот отвилок, ведущий к пулеметному гнезду, а эта вот ямка, заросшая черемушником,— бывшей солдатский блиндажик…»
Сколько их, этих рубцов войны, еще виднеется на курской земле! Особенно при вечерней заре, когда низкое, косое солнце удлиняет тени от сглаженных временем окопных брустверов. И вид их всегда холодит, оторапливает душу. Но все-таки не так поразил меня зловещий свет траншей, как этот тополь, вознесшийся над окопом. Ведь он пророс и выбросил свой робкий побег никак не раньше, чем из траншеи ушли солдаты.
— Иначе они затоптали бы тебя.— сказал я сочувственно дереву — Ведь ты был тогда еще такой крошечный!
Я уже толкал свою пушку по болотам Белоруссии, обходил немецкий стотысячный котел под Бобруйском, откуда черным вороньем несло горелые штабные бумаги и по ночам над окруженными лесами всплескивались мертвенно-бледные ракеты отчаяния, тогда как ты едва только проклюнулся крошечным красноватым росточком на дне брошенного окопа. И еще тебе надо было расти все лето, чтобы дотянуться верхним листком до бруствера и хотя бы на цыпочках взглянуть, что там, за окопом. Вот так-то, брат… А я к тому времени уже топал по дорогам Польши — соседней с нами земли, затянутой, как бывает поутру над тополями, низким слоистым дымом, сквозь который непреклонно и гордо возносились острые стрелы костелов. Жарко и дымно горел Белосток… А помнишь гипсовые мадонны под тесовыми острыми кровельками на польских полевых перекрестках, скорбные и кроткие, с младенцами на руках, простреленными немецкими автоматчиками?.. После мы пили пилотками из Нарева, севернее Варшавы. И лишь потом, уже по снегу, повернули на север, в Мазуры, и дальше — в тевтонские земли… Впрочем, что ты помнишь? Ничего ты не помнишь… Я хлопал ладонями, стучал кулаками по его обножью, пытаясь разглядеть затерянную в синеве вершину. Удары и шлепки мои были глухи и жалки, а ствол неподатлив и безразличен, как монолит, и я вдруг всем своим смятенным существом ощутил, какая толща времени напластовалась над нами, бывшими фронтовиками.
И еще был случай, когда я вот так же остро и знобко ощутил эту толщу.
Как-то пришла повестка из горвоенкомата. Обыкновенная служебная открытка с обычным предписанием явиться такого-то к таким-то ноль-ноль по вопросу воинского учета. Дело привычное, как говаривал беловский Африканыч, захватил положенные документы, пошел. Дорога тоже привычная: все послевоенные годы горвоенкомат располагается на тихой обочной улице с неказистыми провинциальными домишками.
Пока проходишь этот путь — от дома до военкомата,— странные превращения происходят с тобой. В начале пути голова еще полна дум о прерванных делах, ну, скажем, о том, ехать или не ехать в Москву… По выходе из лифта с тобой почтительно здоровается консьержка, это ее почтение невольно добавляет тебе сознания собственной значимости, и ты, самодовольно покашляв, добившись от голоса авторитетного звучания, надеваешь для большей респектабельности притемненные очки, а скорее для того, чтобы, не отводя глаз, рассматривать встречных прелестниц, бодро цокаешь по утреннему тротуару. Но, странное дело, как только ты вливаешься и смешиваешься с толпой у дверей военкомата, так все мирское, суетное, наносное оставляет тебя, срабатывают какие-то старые, дотоль подспудно дремавшие рефлексы, откуда-то появляется готовность делать как все, терпеливо и сколько угодно стоять, терпеть табачный дым, стекание дождевых капель за воротник и в то же время обострившимся духом ловить и беспрекословно исполнять любые команды…
Когда я подошел, у входа, на уличном тротуаре, уже толклась, перемешивалась, гомонила, балагурила, ёрничала, дружно хохотала и повально курила плотная толпа.
— В чем дело? — спрашивали только что прибывшие.— Зачем вызывают?
— А ты что, не слыхал?
— Да нет, а что?
— Ну как — что… Ложку с котелком прихватил?
— Не-ет. А зачем? Что-нибудь серьезное?
— А то как же! Сейчас термос привезут. Будут по секундомеру смотреть, кто как пшенку рубает. Который разучился, не уложится во времени, того на месячную переподготовку.
Народ дружно регочет, а новичок смущенно озирается.
— Нет, правда, ребята…
— А правда такая: ты какого года?
— Двадцать пятого, а что?
— Ну вот и достукался: весь двадцать пятый на увольнение.
— Как — на увольнение? Снимают с учета?
— Ага! Под зад коленкой.
— Нет, правда — совсем? Что же, выходит, уже не нужны?
— А ты чего хотел? До вставных челюстей числиться? Пора и совесть знать: послужил — дай послужить другому.
И я видел на лице бывшего солдата растерянность и смятение, какое испытал и сам только что.
Небольшими группами, по алфавиту, по нескольку букв одновременно стали приглашать в зальчик. На кумачовом столе — графин и стопка краснокорых военных билетов. В каждом на тридцать четвертом пункте, где значилось «исключен с воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запасе», стояла большая гербовая беспрекословная печать и комиссарская роспись. Всё! Обжалованию не подлежит. Отказаковались, голубчики! Подумать только: уходил подчистую, насовсем, безвозвратно двадцать пятый год! Уходили бывшие двадцатилетние солдаты Победы. Мальчишками форсировавшие Днепр {96}, освободившие пол-Европы, штурмовавшие Берлин… Ходили в атаку, на яростные вспышки пулеметов, схватывались врукопашную в тесных, заваленных трупами траншеях, со связкой гранат ползли навстречу бегущим, лязгающим, отшлифованно сверкающим гусеницам… Но даже среди смертельной опасности они не были способны удержать свое еще неизжитое подростковое мальчишество, потребность озорства и шкоды. Помню, как в Польше ползали мы на нейтралку за ничейными огурцами. Весь смак этих вылазок заключался в том, что по всему живому били немецкие снайпера и надо было не попасться им на мушку. Ползли, прячась в ложбинах между гряд, затаивались, передыхали, усмиряли стук крови в висках, снова осторожно переползали. И, набив пазуху огурцами, счастливые и гордые, на животе поворачивали обратно. Вдруг — ти-у! Это снайпер бил по шевелящейся ботве. Заметил, гад. Хорошо хоть не разрывной. Только продырявил листья, над самой головой…
И вот они уходили. В окончательный и безвозвратный запас. Поседевшие, оплывшие, иные, наоборот, с язвенно запавшими щеками и шамкающим ртом, натруженные, изработавшиеся за эти в общем-то нелегкие послевоенные годы. Дорогие мои мальчишки! Товарищи и содруги по солдатским невзгодам и радостям! Какие вы все стали! Право, наворачивается слеза…
Они еще хорохорились, изображали из себя бравых, бывалых, якобы и до сих пор не растерявших той прежней бравости, шутили, вспоминали и пускали в ход окопные присловицы и побаски, вроде той, дескать: «оторви бумажки, твоего табачку закурить, а то спички у старшины забыл». Но мне-то видно: все они переживают и прячут в себе эти приспевшие горестные минуты. Никто из них не обрадовался предстоящей полной свободе — освобождению от самой святой обязанности быть защитником своей Родины. Никто с этим в глубине души не согласился и не смирил себя.
А тем временем майор за кумачовым столом выкликал:
— Никандров! Алексей Федотыч!
— Есть!
Торопливо, из задних рядов, позвякивая медалями, на ходу шаря рукой у горла, будто проверяя, застегнута ли пуговица, к столу печатно вышагал и остановился, руки по швам, щуплый, неказистый мужичок в провислом куропаточно-сером пиджаке. Он снял сетчатую, под рисовую соломку шляпу, сунул под мышку и провел ладонью по жидкому косому зачесу на темени.
— От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик {97},— торжественно, уже в который раз, дойдя до буквы «Н», повторил майор,— благодарю Вас за доблестную и безупречную службу в рядах Советской армии.
— Я на Северном флоте служил {98},— с гордецой уточнил Никандров, и майор, заглянув в его билет, поправился:
— …За службу в рядах Советского военно-морского флота…
— Служу Советскому Союзу! — истово грянул северофлотец, и тонкая, жилистая его шея и большие оттопыренные уши в как бы капустных прожилках враз залились краской.
Майор протянул Никандрову руку, потискал ему ладонь, а другой вручил военный билет.
— Разрешите обратиться, товарищ майор,— вытянулся Никандров.
— Пожалуйста, обращайтесь.
— А если того… Ну, чего-нибудь такое неладное… Дак как… Может, опять позовете?
— Обязательно позовем! — засмеялся майор.
— Учтите! — поднял палец Никандров и почему-то погрозил им майору.— Мы еще могё-ём! Так что про нас не забывайте! Рановато еще…
— Да угомонись ты, полундра! — кто-то, смеясь, одернул североморца.— Весь проход песком засыпал.
В зале захохотали.
— А ты — заткнись! — огрызнулся моряк.— Еще поглядим, чей песок…
— Никудаев! Степан Петрович!
— Есть!
— От имени Президиума…
— Служу Советскому Союзу!
И вот, как выстрел в упор, неотвратимое, неизбежное:
— Носов!
Сердце разом толкнулось надрывно, обожгло виски.
— Есть такой?
— Есть… Иду…
Но идти за этой свободой действительно было трудно. Ноги подло обмякли, во рту сделалось сухо, шершаво… Надо бы в таком случае собраться с духом, найтись, как-то отшутиться, не показать виду, что тебе стало вдруг муторно, не по себе. Но не нашелся, молча, деревянно побрел, глядя в одну точку чем-то занавешенными глазами,— не нашелся потому, что до последнего мгновения был внутренне не готов, не верил в такое, как в солдатской молодости не верил в свою смерть.
— От имени…
Возвращаясь к своему месту, раскрыл билет. А там, как у всех: «…за достижением предельного возраста…».
Да, братцы, бежит время… Вот и в грядущем мае прогремят залпы уже сорокового салюта нашей Победы. Подумать только — сорокового! Какой высоченный тополь времени поднялся над нашими головами! Даже для страны это немалый отмер, не говоря об отдельном человеке. Иных уже нет, осиротели их боевые ордена и медали, а для уцелевших — это, как поется в песне, воистину «праздник с сединою на висках». А я бы от себя добавил: «И с валидолом в кармане». Ибо пошел я в прошлом году девятого мая на курское Мемориальное кладбище, и после гранитных и мраморных плит венков и высеченных бесконечных имен, после всплесков музыки и тихих всхлипов замерших у надгробий пожилых женщин в черных платках, и особенно глядючи на поникших плечами несмело шаркающих по кладбищенскому асфальту подошевками, с лихим белым пушком, колышимым майским победным ветром на обнаженных головах бывших гвардейцев прославленных бригад, дивизий и корпусов.— после всего этого вдруг так прихватило, что забился в кусты и там едва отлежался. А нужного в тот момент как раз в кармане и не оказалось…
Нам, уходящим, часто задают вопросы, ну, допустим, такие: можно ли ожидать от писателей, не принимавших участия в Великой Отечественной войне, тем более родившихся после и даже много позже, значительных произведений на эту тему? И есть ли у писателей-фронтовиков какие-либо принципиальные преимущества?
Относительно первого вопроса двух мнений быть не может: от литературы грядущих поколений следует ожидать нового интересного осмысления темы народной войны 1941—1945 годов. Тому вдохновляющий пример — Толстой и его «Война и мир». Он создавал роман спустя полвека после войн с Наполеоном, но такое впечатление, будто своего капитана Тушина писал с натуры в передышках между яростными налетами французских кирасир. Впрочем, возможно, что образ капитана Тушина у Льва Николаевича сложился и вызрел на севастопольских бастионах, где ему самому довелось понюхать доподлинного пороху. К тому же надо учесть, что некоторые конкретные пушки, гремевшие на Бородино {99}, в том же виде, теми же ядрами обороняли и Севастополь. Так что для Толстого конкретика войны оставалась почти неизменной и наглядной даже спустя почти полвека.
Что же касается преимуществ, то при условном равенстве талантов преимущество останется на стороне писателя-очевидца. Как бы мы ни изощрялись, нам никогда уже не превзойти «Слова о полку Игореве» {100} с его невоспроизводимой историко-поэтической плотью, источающей не подлежащие синтезу дух и аромат того времени. Точно так же ни цветной пленкой, ни шириной экрана, ни количеством серий, ни головоломными трюками каскадеров не побить, не перещеголять нам односерийного, черно-белого, простенько снятого старинными камерами «Чапаева» {101} с его эпохальной нотой: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой».
Из будущих книг неминуемо уйдут какие-то тонкости, приметы и характерные подробности минувшего времени, как, видимо, что-то ушло (и мы того не замечаем своим современным зрением) даже из гениального романа «Война и мир». Время в известной мере развяжет руки будущему писателю, ибо среди читателей-современников уже не будет дотошных очевидцев, какие окружают нас теперь. Сейчас ведь как — чуть что, сразу письмецо или звонок: «Позвольте! Откуда вы это взяли?! Да не было в сорок первом на ТБ никаких раций! Я сам обслуживал полеты, знаю. Летят, как сундуки. Если что случится, экипажу ни до кого не докричаться. А вы пишете…»
И то, как правило,— не мелкое подсиживание, не злорадное потирание рук после писательской промашки, а естественное требование от литературы правды и только правды. Он, читатель, тоже ведь участник войны, тоже очевидец и потому чутко и ревностно следит, как и о чем мы пишем. Литература о войне для такого читателя — не развлекательная словесность, а средство поддержания в себе гражданского чувства причастности к минувшим событиям, к судьбе Родины, ее героическому прошлому.
Такая ревностная опека, воистину народный контроль дисциплинируют писателя, заставляют его быть осмотрительнее, взывают к совести и чести.
Обвес и обмер в обращении с правдой безнравственны. Тем более безнравственно обмеривать будущие поколения.
Правда — это важнейший компонент человеческой среды обитания, как, скажем, земля или воздух.
Растение, выросшее в тепличных условиях, то есть в искаженной среде, как правило, не может существовать или долго перебаливает в открытом грунте. А открытый грунт — это и есть сама жизнь, ее неприкрытая полиэтиленовой пленкой правда.
Для человека тепличная среда еще более опасна. Опасна не только для самого теплично возросшего, но и для окружающего его общества. Ибо теплица — вовсе не уютный уголок благоденствия, как иногда кажется, а вредоносная сфера, растлевающая человеческое сознание и душу. Человек, воспитанный на тепличной материальной и духовной неправде, социально патологичен. Поведение его непредсказуемо.
А вот — из нашего прошлого.
Бесчисленные братские могилы и обелиски, в которых и под которыми зарыты двадцать миллионов наших соотечественников,— не только следствие того, что враг был силен и коварен, что напал он на нас внезапно и т. п., но еще и в какой-то степени на совести пишущих и говорящих языком литературы и искусства, что-то не договаривавших, умалчивавших, а то и просто не то говоривших своему народу.
Слово вооружает, но оно и обезоруживает.
Обо всем этом мы не должны ни на минуту забывать, садясь за чистый лист бумаги или берясь за съемочную камеру.
Именно нами, прямыми очевидцами, закладывается основа исторической правды о войне, на которую потом будут опираться будущие поколения, как в свое время мы, стремясь постичь события, происходившие до нас, скажем годы революции, Гражданской войны, познавали их из правды «Тихого Дона», «Хождения по мукам», «Разгрома», «Железного потока» {102} и других книг, выверенных временем и совестью художника.
Но куда больше примеров невыверенности. Даже в таком, в общем-то, хорошем фильме, как «Освобождение». Гляжу я на экранных бойцов, одетых в новые телогреечки, обутых в сапожки, все — в блескучих касочках, и вспоминаю самого себя в «Багратионе» {103}. На мне были вдрызг разбитые ботинки, тряпичные обмотки, подранные и неумело, собственноручно зашитые на коленках х/б штаны, почти бесцветная гимнастерка без единого погона, и — никакой каски на лопоухой остриженной голове.
Кстати, из автомата, а тем более из пушки на фронте приходилось стрелять далеко не каждый день, во всяком случае гораздо реже, нежели в иных кинофильмах и книгах. Зато солдат трудился как муравей каждый день. Оттого так донельзя и было изношено наше обмундирование. Маршал Еременко в своих воспоминаниях {104} писал, что на Калининском фронте, чтобы проложить по болотистой местности всего только один километр фронтовой дороги, надо было спилить, разделать и подтащить к лежневке около тысячи деревьев! Вдумайтесь, что это была за адская работа. Какая же тут уцелеет гимнастерка!
Вообще война — это прежде всего терпение. Долго идти, тяжело нести, изо всех сил толкать, вытаскивать, копать, пилить, забивать, вычерпывать, крошить камень, долбить мерзлоту, не спать до умопомрачения или на ходу забываться мгновенным, как обморок, сном, мерзнуть, зуб на зуб не попадать, на посту промерзлыми валенками колотить нога об ногу или перемогать сырость, дождь, жару, жажду, иногда сутками ждать куда-то запропастившуюся кухню, грызть захудалый затхлый сухарь за неимением ничего другого, курить листья, мох, добывать огонь кресалом {105}, спать одетым, часто на сырой земле, а то и просто в снеговой ямке; терпеть вражеские пули, зверские минометные обстрелы, подавлять в себе злость и искушение пальнуть ответно, зная, что каждый патрон, каждый снаряд на счету и тебя за это геройство по головке не погладят…
…А мороз-то — под сорок! А снега — по пояс! Идти надо было без сопровождения танков и даже артиллерии, потому что все застряло и отстало. В животе — пусто. И в вещмешке — тоже ничего. А впереди — в теплых укрытиях, за проволокой и минами — сытый и обогретый немец, вооруженный до зубов.
Все это и есть массовый героизм нашего народа на войне. Затыкание собственным телом амбразуры, бросание со связкой гранат под гусеницы — совершали не все, единицы из сотен, но через горнило стойкости и долготерпения прошли миллионы безвестных Копешкиных. И потому — победили. Одолели подготовленного, разбойно вооруженного, наглого, самоуверенного и беспощадного врага. Народ назвал его коротко — лютым.
Поэтому, когда в фильмах и книгах несоразмерно много красивой, фееерической пальбы, взрывов, прыжков на шею врага или с крыши на крышу, самбовых приемов и подсечек, мы тем самым невольно отделяем, отгораживаем вдумчивого читателя и кинозрителя от соучастия в событиях минувшей войны. Ибо все это не про него, не совпадает с его чувствами и памятью о пережитом,— памятью, которую и поныне тревожат по ночам кошмарные видения.
Дети весело смотрят на такую пальбу.
А мне от этого — грустно…
1985
Фанфары и колокола
Кому память, кому слава,
Кому темная вода —
Ни приметы, ни следа.
А. ТвардовскийТретья военная весна застала меня за Днепром, на неприютном плацдарме между Рогачевом и Новым Быховом. Кусок вражеского берега удалось захватить зимой по еще не прочному льду. Темной вьюжной ночью были спущены заранее приготовленные настилы, и, пока противник обнаружил неладное и в несколько минут разнес не только хлипкую переправу, но и весь лед на реке, наша пехота с кое-какими средствами поддержки успела-таки прошмыгнуть на ту сторону и поднять тарарам. Внезапностью береговые укрепления были преодолены, но все дальнейшие попытки и на второй, и на третий день перерезать проходившую невдалеке железнодорожную рокаду Могилев — Жлобин не имели успеха. Оказалось, дорогу прикрывала еще одна линия обороны, и на ее подступах немало серошинельного люда запуталось в колючей проволоке и утонуло в снегу открытого пристрелянного ветрополья.
Наконец героическими усилиями пехоты, буквально продравшейся сквозь мины и проволоку, и вторая траншея была взята, и фронт замер в непрочном равновесии. Когда потом нашу противотанковую батарею донимали тяжелые фугасы, бывалые старички говорили, будто это шарахает окрашенный в белое немецкий бронепоезд, неуловимо разъезжающий за передним краем по так и не прерванной рокаде.
Кроме обстрелов и облетов «рамы» {106} противник ничем особенно не беспокоил (правда, в середине марта была одна разведка боем), и, пока стояли холода, на батарее, врубленной кирками и ломами в бетоноподобную мерзлоту, особенно нечего было делать, разве что иногда отбросить с огневой нападавший снег или протереть ветошью снаряды. В дневное время, тем паче в ясную погоду, когда в любую минуту в небе мог появиться корректировщик, высовываться наверх запрещалось, и мы поневоле обитали в тесноте и погребной спертости землянок, угнетаемые читкой несвежих, поздно приходящих газет или осточертевшими беседами об устройстве материальной части. С первым веянием весны эта подземная жизнь стала невыносима. Мы сделались раздражительными, едва переносили учебу и всякого рода политико-воспитательные мероприятия, затеваемые батарейным замполитом, и то и дело между нами вспыхивали злые матерные перебранки.
А весна все больше давала о себе знать.
И вот однажды сквозь блиндажный накат прямо взашей забарабанила весенняя морзянка. Протекло сразу в нескольких местах, и все, обрадовавшись этому обстоятельству и враз придя в неистовое возбуждение, вылетели вон. Пропитанные махрой и гарью коптилок, мы подслеповато, будто норные звереныши, щурились от нестерпимой сини над головой, жадно тянули в себя пахучий, как бы нездешний воздух. От яро выбрызнувшего солнца и влажного растопляющего ветра снег на блиндаже и снарядном укрытии заноздревател, отяжелел и пришел в скрытое движение, проступивший бруствер орудийного окопа отмяк и пополз по откосам рыжей парящей сметаной.
С огневой позиции, отрытой в мелком лозняке на возвышении, просматривался весь «передок» — скучная открытая равнина, в мирное время, должно быть, служившая просто выпасом для скота. С наступлением тепла она стала походить на линялую шкуру в пятнах грязных проталин с блюдцами талой воды, заполнившей воронки. Метрах в двухстах перед нашими капонирами {107} рыжим глинистым зигзагом проползла пехотная траншея. За ней — уже ничейная земля, так называемая нейтралка, заминированная и заколюченная с обеих сторон — и от нас, и от них. Как раз против батареи в полуверсте по-прежнему уныло чернели два сгоревших немецких танка — итог последней ихней вылазки, затеянной недели две назад. Видно, щупали, что мы накопили на этом участке перед большим разливом. Мы считали, что танки принадлежат нам, то есть пятой батарее, но на соседней, четвертой, неожиданно подняли хай: соседи заупирались, считая, что по крайней мере один из танков ихний. Как бы не так: танки ведь шли именно на нашу позицию. И пехоту можно об этом спросить. Их было восемь штук и один «фердинанд». И вот два остались на нейтралке. Как раз против нас. Это же и дураку ясно. Мы тогда тоже понесли потери — ящичного и одного офицера. А на четвертой — никого. Просто по ним и не стреляли, потому что ихняя позиция находится на фланге. Ну а еще мы хорошо рубанули беглым осколочным по автоматчикам. В бинокль можно было видеть, как десятка два-три фрицев в маскхалатах валялись среди черных пятен наших разрывов. Правда, потом убитых не стало: ночью немцы всех утащили к себе. В этом деле они тоже любят порядок. Говорят, у них есть специальная лебедка для вытаскивания трупов. А насчет танков — надо просто сползать туда спецам и удостовериться: какие, куда и чьи попадания. Можно определить по следам гусениц и углам пробоин. Но спецы что-то не хотят, видно, побаиваются: все-таки танки теперь пристреляны. Выходит, все надо делать вовремя.
— Братцы! Жаворонок! — восхищенно заорал Пермяков. Мы никогда не называли друг друга по имени, и потому я не знаю, как его звали.— Жаворонок поет!
— Где?! Где?!
— Да тише вы! Слушать надо. Не видно пока…
— Сперва надо услышать, а потом уж на голос глядеть…
— Вижу! Вон он! Во-о-он! Глядите на облако… Ну, молодец: прилетел!
— Что за чепэ? — выставился из своего блиндажа новый командир огневого взвода, недавно прибывший взамен убитого.
— Весна, товарищ младший лейтенант! Потолок протек!
— А ну не высовываться мне!
— Так ведь тихо. Небо чистое, нигде ничего…
— Р-разговорчики! — пресек лирику командир. Обшарив глазами небо, тут и там запятнанное облаками, он, однако, и сам снял еще совсем новую серо-голубую училищную ушанку и, зажмурясь, смежив ячменно лучившиеся на свету ресницы, подставил свое строгое пацанье лицо солнцу. Не раскрывая глаз, продолжая дремотно нежиться, он проговорил с ленивой, начальственной растяжкой: — Та-ак… Два человека: Носов, ну и ты, Панюков… есть Панюков?
— Тут я! — поспешил высунуться из прохода Панюков. Он всегда пугался собственных слов, при этом его зеленые глаза останавливались и округлялись, будто ожидали пощечины.
— Пойдете к старым немецким траншеям,— продолжал младшой.— Поищите досок, порожних ящиков, ну и всякого такого. А то скоро на огневой утонем по уши.
— Сейчас прямо? — испуганно округлил глаза Панюков, как и я, обрадованный, что предстоит куда-то идти.
— Сразу и пойдете. Да по блиндажам поищите железных скоб. У немцев все капитально, так что скобы должны быть. Нам тоже надо бы накаты схватить. Зимой, поди, на авось делалось. А теперь вся наша держава оттаяла. От первого же близкого разрыва, как тогда во втором расчете, все перекрытия рухнут. Понятно говорю?
— Да уж чего уж…
* * *
И вот мы пошли. Потопали на восток, к Днепру. Ноги будто радовались возможности идти куда-нибудь, сообщая эту ножную радость душе, а уж у той свои утехи: после окопов и землянок — обостренное чувство простора, сладкий ветер, рожденный обильной водой и взопревшей землей, рвет прокуренную грудь, пьяно отдает в голову. И предвкушение воли, краткой свободы, предоставленные самим себе — ни команд, ни жестких окриков, без чего невозможно массовое окопное существование. А еще радуешься, что идешь в тыл, будто на побывку в иную жизнь. Конечно, иная жизнь там, за Днепром, где посыпаны песком штабные дорожки и пахнет парикмахерской. Но то заречное бытие для многих несбыточно. Солдату-обмоточнику, если он каким-то образом не связан с политорганами, особотделом или какой-нибудь самодеятельностью, вовсе там делать неча. Очутиться же по ту сторону у солдата только одна уважительная причина: если его шарахнет, продырявит или отшибет что-нибудь. Но мы рады и этим своим безлюдным двум-трем тыловым верстам, куда пули уже почти не залетают или обессиленно, дохло шлепаются о комья земли, в порушенное железо. Здесь не надо кланяться каждому вжику и можешь ходить по-человечески, как когда-то на гражданке. Чего же еще надо для счастья!
Но главная радость — весна! Какое это все-таки окрыляющее чувство! Особенно здесь, на передовой, где все — и человек, и каждый куст, и всякая пичуга — пребывает на весах жизни и смерти. И потому любая вешняя примета бытия имеет особый знак и особую цену. И все же на дне нашей радости остается неизбывная печаль, возможно, от неопределенности солдатской судьбы, а может, и от неосознанного ощущения несовместимости этой взрытой войной земли с вольным, величавым ходом облаков. Уже завтра облака будут где-то далеко над Россией, и даже вполне может быть, что пройдут они над самым твоим домом, над двором, где мать как раз примется натягивать веревку, чтобы развесить свои бедные, изношенные постирушки.
И по сей день вольное шествие облаков вызывает во мне грустное чувство собственной бренности и несвободы.
Впрочем, что мнит себе Панюков, я не знаю. Он уже мужик, лет на пятнадцать старше меня, у него семья, хата в деревне, а потому, надо полагать, одолевают его какие-то свои думы, радости и печали. Он шел впереди меня, время от времени оборачивался и испуганно округлял глаза: иду ли я? И тогда я видел его бурачное лицо с широкими, как у пермского божка {108}, скулами, маленький вздернутый и всегда как бы озябший нос, под которым нехотя пробиваются чернявые усики. Обтекая рот, усики переходят в изреженную скопческую бородку. Вся эта поросль пребывала в одной зачаточной поре, и Панюков никогда не брился.
Убедившись, что я не отставал, он снова принимался вышагивать частыми спорыми шажками, постукивая самодельным щупом-костылем, каковым наш брат солдат обшаривал брошенные и выжженные усадьбы в поисках какой-нибудь зарытой снеди. Таких приспособ было множество, каждый ладил себе на свой вкус и аршин. Взял он его с собой, наверно, просто так, для надежности хода, поскольку на нашем берегу в окружном обозрении никаких поселений не было видно.
На Панюкове — замызганный сивый треух, которым он выхватывал из печки кипящий котелок, а перед сном подкладывал под голову поверх облюбованной и специально сберегаемой чурочки, служившей ему подушкой. Чуковатая телогрейка едва схвачена брезентовым ремнем, просторные же ватные штаны неладно пузырились на засаленном заднем месте и при каждом шаге складывались то русской буквой «М», то немецкой «W». Так и мелькало передо мной: М — W, М — W… Если бы не защитный цвет да не обмотки на упористых кривых ногах, своей экипировкой Панюков (как, наверное, и я тоже) больше всего походил бы на долгосрочного, ко всему притерпевшегося зэка. Впрочем, он, кажется, уже сколько-то отбывал за… в общем, сказанул лишку на чужой завалинке… Может, оттого теперь в присутствии мало-мальского начальства он оробело округлял глаза и, что-либо сказавши, цепенело выжидал, не будет ли каких последствий. Но в бою, у орудия вел себя независимо, без суеты и подавал снаряды, как подавал бы снопы в молотилку.
Мы шли пока без хлопот по натоптанной и еще крепкой тропе, что вела на батарейную кухню. Продовольственные тылы Усова почти на километр отстояли от боевых порядков и прятались от постороннего глаза в забурьяненном овражке.
— Слышь, Усов чечевицу заварил,— оповестил Панюков.
И верно, встречный косой ветер доносил из оврага дразнящий запашок какого-то незнакомого варева.
— Точно: чечевица! — возбужденно выкрикивал Панюков, штанами продолжая выделывать буквы.— Я ее по запаху за версту унюхаю. Знаешь, чем пахнет?
— Не знаю.
— Домом пахнет. Деревней! Так и кажется: вот сейчас спущусь в овраг, а там хата моя стоит, баба супчик варит.
— Ни разу не пробовал.
— Что ты! Особенно со свиным сальцем!
— Нет, не ел. У нас в городе ее что-то не было.
— Ну вот Усов наварит — попробуешь. У-у! Вообще-то ею больше поросят кормят. А мне — в самый раз! Люблю — прямо страсть! Бывало, во время посевной в колхозе из сеялки незаметно начерпаешь карман или в сапоги насыпешь, принесешь домой… Красота! Интересно, где Усов ее взял… Раньше никогда не варил, все пшенка да пшенка.
— Привезли, должно.
— Не иначе. А то разольет — подвоз надолго кончится. А пока лед на Днепре еще держит. И наша тропка тоже молодец — выручила. А дальше, брат, целиной пехать.
— Куда ж денешься,— поддерживал я разговор, удивляясь тому, как Панюков разговорился на воле.
— Ты поосторожней, когда свернем с тропы. Целься по моим следам, а то мины могут быть.
— Ладно.
— В снег не лезь, а больше норови по проталинам. Зимние мины, они не в земле, а под снегом.
* * *
На повороте, где тропа круто уходит вправо, к усовскому хозяйству, мы, перед тем как сойти в бездорожье, остановились перекурить. Панюков, никогда не куривший всерьез, скрутил для своей потехи козью ножку. Я же заделал обычную цигарку, похожую на жирного саранчука, сквозь газетное брюхо которого прощупывалось грубо накрошенное курево. Проводя по цигарке языком, я невольно устремил взгляд в поле. И тут, среди его талой запятнанности, в вешнем хаосе осевшего грязного снега, вытаявшей земли и путаницы прошлогодних трав, совсем близко, всего в нескольких шагах вдруг увидел разительно желтую скрюченную кисть руки, торчавшую из рукава шинели. И только потом определилось все остальное: среди стеблей отмершей травы ничком лежал убитый солдат, своей шинельной серостью похожий на земляную кочку. На его плоской спине горбился вещевой мешок, уже успевший полинять и обесцветиться. Шапки на солдате не было, и голова, повернутая лицом от нас, серела в нашу сторону коротко остриженной макушкой с крутым, упрямым завитком в самом центре.
— Гляди кто…— потрясенно выдавил я.
Панюков перехватил мой взгляд, округленно вытаращился в то место, но произнес неожиданно легко:
— А-а, мертвяк! Обтаял… Пойдем поглядим.
Он взял меня за рукав, но я, весь напрягшись, воспротивился его приглашению. Нет, это не первый труп, который я видел. На моих глазах гибли товарищи, мне приходилось брать их за руки и ноги, нести к могиле, забрасывать землей. Но в этот момент я почему-то испытывал неодолимую брезгливость, а еще больше — ознобляющий страх, унижавший перед Панюковым. Тот же, обойдя убитого, склонился над его лицом, опершись грудью о железный костыль.
— Бедолага…— обронил, разглядывая.— За шиворотом — лед. Значит, изнутри еще совсем мерзлый. Иди сюда, чего ты?
— Я тут покурю,— отвернулся я как бы от ветра и усердно принялся сечь кресалом.
А Панюков все докладывал:
— На погонах — по три лычки. Сержантом был! Небось кричал: «В ш-ширенгу становись! На первый-второй р-рассчита-айсь!» Нут вот и все! Хана! Со всеми рассчитался… Тебе, Носов, годов-то сколь?
— В этом январе было девятнадцать. А что?
— Он тоже вроде тебя. Поди, двадцати тоже еще нету. Салага! Должно, и школу не успел закончить.— Зазубренным концом щупа Панюков вытащил из ветхого вещмешка сначала тряпицу, когда-то служившую полотенцем, потом алюминиевый котелок, простреленный в двух местах. А ты чего отворачиваешься? Боишься, что ли?
— А чего хорошего?
— Брось! Чего там! Лежит себе и лежит. Еще совсем ничем от него не пахнет. Только мокрой шинелью. Вроде лег полежать. Мы, может, тоже так вот скоро ляжем… Чего самого себя бояться? Вон, вишь, рядом еще вытаял… Кажись, тоже сержант. Только младшой… И вон каска из снега торчит…
Я с опаской покосился в ту сторону. Теперь мне за каждым сгущением прошлогодней травы, за каждой земляной неровностью чудилось то нечто похожее на кирзовый сапог, то на шинельное возвышение.
— Тут целое поле ими устлано,— как-то обыденно говорил Панюков.— Снег сойдет — все как на ладони будут. Ну а жара хватит, тогда сюда не сунешься. Усову для своей кухни придется другое место искать.
— Но почему… почему их не убрали? — вырвалось у меня.
— Да оно как… Вроде и никто не виноват. Ту часть, которая сюда первой ворвалась, вскоре отправили на пополнение. Потому как от нее остались одни рожки да ножки. Родная часть, стало быть, умотала залечиваться, а ее битые солдатики тут остались. А которые на смену пришли, заволынили: дескать, это не наши лежат, нечего нам чужих подсовывать. У нас, мол, на них и документов нету. Им ведь тоже неохота дурную работу делать. Земля мерзлая, снегом все завалило, а тут еще мин полно. Такая, брат, перетычка. И вот лежат смертью храбрых… Вроде как ничьи, бесхозные…
— А как же теперь?
— А чего гадать? Вот Днепр пошире разольется, отрежет всех нас от того берега, немец возьмет да и шарахнет изо всех сил. Думаешь, он зря прошлый раз в разведку боем ходил? Не-е! Это он нас прощупывал: крепки ли? А чего: наших танков тут нет, негде им прятаться. И почти вся артиллерия на том берегу. А тут так, хлопушки, вроде наших… Так что про убитых некогда ломать голову. Нынче все про одно думают: уцелеем или нет, ежли Днепр разольется.
Панюков пробрался к торчащей из старого заноса каске, потыкал возле нее щупом, потом раз-другой саданул по куче каблуком.
— Вот еще один горемычный. Крепко пока вмерз. Как в бетоне. Не станешь же теперь каждого вырубать топором. И ждать дольше нельзя, сам понимаешь… Да-а, хоронить надо вовремя, пока тепленькие. А то у нас ежели убило, то уже и не человек… Вот, даст бог, уцелеем и дальше пойдем, придут после нас колхозники это поле пахать, они всех и подберут. Я уже такое видел: бабы запрягают коровенку, к ней вяжут бревно-волокушу, а к бревну — три-четыре петли, сколько корова потянет. Петли потом набрасывают на ноги и волокут до общей ямы… Если, конечно, останется чего волочь… Ну да ладно, а то наговорю себе штрафную роту… Давай пошли. Да смотри за мной ладься. А то так шарахнет, что и от тебя ни фамилии, ни адреса не останется.
И он, придерживая шапку, запрокинулся глазами к небу, ища в нем безудержно звеневшего жаворонка, избравшего для себя, для продолжения своего рода именно это неприютное, смертоносное поле — лучшее для него из всех мест на земле.
* * *
После рассказанного читателю, думаю, уже не интересно знать, как мы добрались до старого немецкого рубежа и какие там были капитальные сооружения, особенно доты, имевшие подземные бункера для обслуги, оборудованные многоярусными нарами, отоплением и телефонной связью с поверхностью; как наломали отменных досок, надергали железных скоб и, как, обливаясь потом и часто передыхая, уже в сумерках добрались до своих позиций, уже не обращая внимания на тут и там вытаявшие трупы.
В тот вечер я не стал есть оставленные нам сразу обед и ужин не только от усталости, но и от невозможности что-то проглотить. За выполненный наряд мы с Панюковым получили по освобождению, и весь следующий день я спал или лежал отвернувшись к стене, благо что ребята ушли укреплять в снарядных нишах раскисшие стены. «Ты чего? — толкал меня в бок Панюков, починявший разорванный досками ватник.— Не захворал ли?» — «Да нет, так просто…» — «Ну ты брось, не бери в голову».
А ночью, набросив на шею автомат, я вышел на свое очередное дежурство по огневой. Было кромешно темно, как случается в апреле при сходе снега. Но темнота эта была полна движения: где-то капало, булькало, лилось со всхлипыванием, журчало и глыбисто рушилось; с тяжким посвистом крыльев кто-то пролетал над самой головой, так что я ощущал на своих щеках пульсирующие толчки воздуха, и вся душная, ватная плоть неба полнилась тонким страдальческим писком, сухим деревянным вскрякиванием или смачным добродушным хрюком. Я не узнавал эти голоса, и мне впервые стало страшно стоять одному. Видения того горестного поля теснили мое воображение, и, чтобы не утрачивать связи с реальностью, я протягивал руку и касался холодно вспотевшего тела орудия, с облегчением ощущая его успокаивающее присутствие.
Иногда над передним краем вскидывались ракеты, своим зыбким, многоцветным отсветом в разливах нейтральной полосы подтверждавшие главную реальность тогдашнего бытия, коей была война.
* * *
Плацдарм мы удержали, а как только спала вода и навели понтоны, мы снялись и передислоцировались на его южный фас, под Рогачев. Оттуда, когда грянул «Багратион», рванули к Бобруйску, в окрестностях которого пылал и смрадно дымился многотысячный немецкий котел. Помню, леса были засыпаны кипами полуобгорелых штабных бумаг. Покончив с котлом, прошли Минск, потом двинулись на Волковыск, Белосток и уже к концу августа вступили в Польшу. А в январе повернули на грозные редуты {109} Восточной Пруссии. Это были все славные победы! Заветренные, в полинялых пилотках, истощенные до крепкой выносливой сухости, каковая наступала в крестьянскую сенокосную пору, бойцы с азартом в лицах, с вдохновляющим ощущением успеха и близкой победы рвались вперед, не щадя себя. Но и их тоже не щадили. Я не помню, не знаю, сколько полегло за Белоруссию. Но, кажется, в двести тысяч обошлась Прибалтика, шестьсот тысяч отдано за Польшу, триста тысяч — за Зееловские высоты на подступах к Берлину и великую уйму за сам Берлин… А еще были Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Австрия… Тем не менее это были славные походы и блистательные победы, и все уцелевшие — от рядовых до маршалов — густо заблестели орденами и медалями. Но то смерзшееся поле под Новым Быховом почему-то не оставляло мою память до самого победного салюта. Не забывается оно и до сих пор. И тот вопрос по-прежнему гулко бьет в висок. И не только у меня.
Недавно я получил письмо от своего друга Николая Харченко — бывшего мальчишки-партизана. Не могу не процитировать хотя бы часть его.
«В марте сорок третьего мы, партизанские семьи, только что вышли из лесу. Остановились мы в селе Жидеевке Дмитриевского района (Курской обл.— Е. Н.). Там расположился какой-то госпиталь не то эвакопункт. С близкого фронта раненых везли туда на санях. Многие умирали по дороге. Мертвых складывали в госпитальном дворе, и там их лежало выше забора. Трупы перекладывали на широкие розвальни и двумя-тремя подводами отвозили за село. Там были три глубокие и долгие ямы, в которых прежде хранили колхозную картошку. Их наскоро вычистили, выгребли смерзшуюся гниль и приспособили под братские могилы. Когда я впервые пришел туда, то одна яма уже до самых краев была полна. Погибших сверху закидали шинелями, но не закапывали, потому что земли вокруг не было и закапывать было нечем и некому. Вторая яма была заполнена наполовину. Время от времени приезжали подводы, сбрасывали умерших, и какая-то женщина, должно быть из госпиталя, принималась одна таскать трупы и укладывать поровнее. Мне стало ее жалко, я спрыгнул в яму и принялся помогать. Мы вдвоем растаскивали погибших, клали их головами на обе стороны, а ногами в середину. Когда ряд был уложен, мы обрезали у них вывернутые карманы и закрывали ими глаза. Так мы заполнили еще одну яму и начали третью. А наверху дико выли бабы. Одни подходили, другие, наголосившись, уходили. Потом на передовой начался страшный бой и мы отступили. Я так и не знаю, что сталось с теми картофельными ямами».
Нет, я не могу, я плачу, это читая…
Как же так? Ну почему, почему все не по-человечески? Ведь все, кто оказался в картофельной яме,— защитники нашего Отечества! И как же мы с ними? Почему немцы для каждого своего убитого отрывали отдельную могилу и каждому ставили личный крест с начертанием всех данных о погибшем? Все мы, тогдашние, помнили эти ровные, отбитые по шнурку ряды надгробий и строгие шеренги березовых крестов. Мы тогда потешались над этой немецкой педантичностью. Дескать, дураки: сразу видно, сколько ихних наколочено. А они стремились выполнить этот последний воинский долг перед павшими при любых обстоятельствах. Мы же своих — в ямы! Или даже в старый окоп. Друг на друга, иногда навалом. И женщин — туда же — наших боевых подруг. Некогда разбираться. Так быстрей, потому что нам все время некогда, нам надо было приближать победу любой ценой. Эту наспех отрытую яму называем братской могилой. Звучит почти красиво, сообразно с нашей идеей братства. Дескать, и там, как и при жизни, все вместе, единым строем, едиными рядами.
Между прочим, Панюков через несколько месяцев после того мерзлого поля был убит в окрестностях бывшей пограничной станции Негорелая. В остервенелом бою от нашей батареи осталось тринадцать человек. Мы, уцелевшие, подняли Панюкова и вместе с другими погибшими батарейцами и еще какими-то подобранными солдатами опустили в общую яму у шоссе Минск — Барановичи. Убитых притрусили соломой и закидали рыжей влажной землей, комом налипавшей на лопаты. Сверху никакого знака не успели поставить — не из чего да и некогда: надо было спешить вперед.
Простите меня, что я в такой большой и светлый праздник нашей Победы решился рассказать эту грустную историю. Простите! Но ведь и праздник особенный: со слезами на глазах…
Пусть же вместе с победными фанфарами набатно звучит и колокол Памяти о всех павших — преданных и все еще не преданных земле…
1990
Мемуары и мемориалы
Идет пятьдесят третий победный май. Небо России снова озарится очередным салютом нашей Великой Победы. Даже для страны это немалый отмер времени, для человека же — целая жизнь. Уже самым последним новобранцам Отечественной — за семьдесят, юнгам и сынам полков — далеко за шестьдесят. Уже многих нет, осиротели их ордена и медали. А для уцелевших день Девятого мая, как поется в известной песне, стал праздником «с сединою на висках». И… с валидолом в кармане.
В этот великий день как-то не получается веселья, хотя к ликованию, к фанфарам и взывает само слово «победа», овеянное славой, неблекнущими стягами истории. Что-то не дает нам предаться разливанному и беспечному разгулу — этак бы с самого утра с калачами да брагой — победили, так чего уж жаться… Но нет: в это майское утро людское устремление направляется к поклонному месту, кое непременно имеется и в столице, и во всяком российском городке, да и в селениях тоже… Именно туда, к скорбному или просто серому бетону, а то и к затравенелым всхолмьям, к мемориальным стелам — величественным и не очень,— к выбитым именам павших в стиснутой временем напряженной тишине, в сень поникших берез, белизной похожих на сестер милосердия, идут, идут сюда в этот день люди.
После возложенных венков в траурном крепе, после режущих по сердцу всплесков музыки и тихих всхлипов согбенных пожилых женщин в черных платках, после оторопелых детских лиц с округло распахнутыми глазами — после всего этого тянет не к победному ликованию, а к глубокому раздумью, не к бубну, а к скорби. Особенно когда насмотришься на самих виновников торжества, уже утративших былую бравость, обникших плечами, неуверенно шаркающих подошвами по асфальту, с детским легким пушком на непокрытых головах — этих бывших гвардейцев, насмерть стоявших на последних метрах сталинградских береговых откосов, гативших собой прорывы вражеских откосов танковых клиньев на Курской дуге, вознесшихся потом на выщербленные ступени поверженного рейхстага…
Да, поредели шеренги ветеранов. Особенно за последние годы. Уходят, уходят гвардейцы сороковых. Уходят в Христово воинство. На земле их осталось совсем немного. Да их тут особенно и не удерживают. А порой и подталкивают, если не в спину, то в душу.
Ну, скажем, девальвировались боевые награды, большинство их изъято из реестра государственного поощрения как не соответствующее нынешнему общественному устройству. Правда, у кого они есть, тем разрешено донашивать, кто пожелает. Но надевать ненужные ордена мало кому приходит охота. С горечью и обидой в душе они как-то не носятся. И уже не поможет некогда бодривший призыв: «Фронтовики, наденьте ордена!..» А потому валяются их награды теперь по старым комодам, в ящиках столов, в коробках из-под леденцов, с ними балуются правнуки, цепляют чуть повыше пупка на футболки, а то меняют на кассеты или даже просто на жвачку… Немудрено, что в конце концов дедовы регалии попадают на барахолки, где, надраенные мелом и уксусом, разложены барыгой по их достоинствам и текущей рыночной цене.
Я тоже свои давненько не нашивал. Однажды попробовал надеть по случаю приглашения в школу, но меня упрекнули в переполненном трамвае: «Ну куда, куда прешь? Ты мне своими железками всю кофту изорвешь. Снял бы ты их, что ли… Хватит уже…» И я снял и вот который уже год больше не прикасаюсь к ним.
Думается, что с упразднением прежних боевых наград излишне поторопились. Спешить с этим не следовало еще и потому, что скоро, совсем скоро не останется на земле России ни одного ее прежнего защитника и все само собой образуется без насилия и обид. Как говорится нет человека, нет и проблем…
Держу в руках свою упраздненную «Красную Звезду» {110}, хочу понять, чем она провинилась перед временем… Наверно, тем только, что пятиконечна и цвет ее бордов. Но бордовость эта вовсе не большевистская, не злокачественная, как мерещится устроителям новой жизни. От нее веет не холодом эмалевой омертвелости, а теплом и все еще живой полнотой некогда пролитой крови, будто и теперь еще готовой сбежать каплей с любого луча. В глубине же ее бордовости, как и прежде, таится мерцающее лучезарье… Она, эта бордовая звездочка, не возбуждает во мне никаких других ассоциаций, кроме памяти о заснеженных окопах, ночном посвисте пуль, лицах фронтовых собратий, деливших со мной котелок, распростертую шинелку, горсть патронов или огрызок карандаша, чтобы написать домой солдатский уголок. А еще вспоминаются их могилы, отметившие фронтовой путь до берегов туманной Балтики.
На моей «Красной Звезде» выбит номер: 1724559. Наверно, получали ее и после меня. Это был массовый, поистине всенародный орден. Как же праздновать День нашей Победы, если сами регалии этой победы, олицетворяющие собой свершенные подвиги и пролитую кровь, подверглись упразднению?..
Ведь сперва надо пошить новый государственный мундир, а потом уже крепить к нему вновь заведенные ордена. А не вешать наспех отшлифованные кресты и их вариации на френчи прежнего совармейского кроя: получается несерьезно, самостийно, как-то по-махновски.
Охота поскорее вырубить все красное, пятиконечное иногда приводит к грустным курьезам.
Ну вот пример. Всемирно известный композитор Георгий Свиридов является уроженцем Курской области. Еще цел его домишко на окраине провинциального Фатежа, бывшая приходская школа при Нижне-Троицкой церкви, куда потом, уже при советах, ходил учиться мальчик Гоша. Потом он стал знаменит, и куряне с гордостью и почтением избрали отрывок из свиридовской сюиты «Время, вперед!» {111} для позывных областного радио. Но вот пришли иные времена, и прекрасную, утверждающую и зовущую вперед, к благим делам и творчеству музыку Свиридова ретивые преобразователи народной жизни признали слишком пафосной, задорно-большевистской, мало пригодной для нового, «демократического» умонастроения. И позывные композитора-классика заменили на никуда не зовущие, приторно-елейные звуки заурядного местного вальса.
Сила общественных привязанностей и традиций — не авральное мероприятие, не одноразовая акция, не горячая страда по выкашиванию дурнотравья. Для изменения форм государственности мало одного захвата власти. Для этого требуется по крайней мере три неоспоримые вещи: время, средства и трезвые головы. Отсутствие одного из этих компонентов ведет к хаосу. И он действительно воочию угрожает российскому обществу.
Его отторгающее воздействие в первую очередь испытывают на себе ветераны. Прежде всего это изнуряющие, доводящие до чувства собственной заброшенности и ненужности пенсионные неурядицы. Неуютно ветерану в любой очереди, на вокзале, в переполненном транспорте, в собесе, в ЖЭКе… Во многих этих заведениях ему могут нагрубить, унизить, заволокитить или спровадить вовсе, и ему нужно все время быть настороже перед витающей в воздухе недоброжелательностью и держать руки по швам, ибо пожаловаться на произвол некому: «Не нравится, говорят, подавайте в суд». Но какой же суд престарелому и чаще всего больному человеку?..
В аптеках он и вовсе персона нон грата с костылем, нечто вроде врага местного здравоохранения. Едва он протянет в окошечко рецепт с обведенным карандашом словом «бесплатно», как лицо аптекарши мрачнеет, а зрачки сужаются до бекасиной дроби от неприязни к этой протянутой, старчески дрожащей руке с бумажкой.
То же и в «Оптике». Оказывается, теперь там льготные услуги предоставляются только инвалидам, раненным в глаз. А если у тебя нет ноги, то это «Оптики» не касается: плати на всю катушку. А катушка у них мздоемкая, не всякому по карману.
— Как же так? — сокрушается старичок, опять заворачивая в платочек поломанные очки.— Прошлый раз мне всё сделали бесплатно, я токмо спасибо сказал. У меня ить вторая группа и орден Славы имеется. Вот он, ношу на всякий случай.
— Э-э, дедуля,— доброподобно улыбается «опте»-мистка в белом чепце.— Раз на раз не приходится.
А в деревне ветерану и того хуже. Не дай бог там серьезно прихворнуть. Почти повсеместно самоликвидировались сельские медпункты, которые могли бы оказать первую помощь: сделать спасительный укол, обработать травму, остановить кровотечение, вызвать «скорую». Но по нынешним временам и «скорая» не поможет: то дорога стала непроезжей, то нет горючего или запчастей, то водитель сбежал из-за невыдачи зарплаты. Многие районные больницы тоже пришли в упадок от нехватки средств, от изношенности оборудования. Врачи тоже уходят, а сами больнички потихоньку растаскивают — кто сопрет холодильник, кто — ванну, кто железо или шифер с крыши. Всякие трубки тоже в ходу — на самогонку…
Так что если в деревенских хлопотах одинокого ветерана прихватит какая-либо хвороба, он хватает шапку и норовит поскорее выбраться на улицу, на видное место. Там, у калитки, хоть кое-какая надежда на случайного прохожего. А дома кто ж тебя услышит, кто поможет?
Даже отцы церкви в своих печалях о духовности и патриотизме порой вольно и невольно умаляют заслуги бывших защитников Родины, вселяя в их души вместо благости горькую и незатухающую обиду. Например, в одной из телепередач, в беседе пастыря, было обнародовано такое откровение. Будто бы в Сталинграде немцы не смогли одолеть Волгу потому, что на берег была вынесена икона Казанской Божьей Матери. Она-то своей святостью и остановила врага на той стороне реки. В результате потерявший волю к наступлению враг был окружен, а затем и пленен.
— Ну, батя, загнул! — отреагировал на это утверждение святого отца бывший сталинградец Николай Пантелеймонович Громов, живущий подо мной на первом этаже.— Что же выходит? Стало быть, мы напрасно терпели этот ад кромешный? Двести дней бились вусмерть… Иной раз никаких сил уже не было держаться: ни воды, ни еды и патронов внатруску. Все горело и рушилось, кирпичная пыль не давала дышать. Плевок и то кирпичный… Раненых никуда не вывозили, они оставались на передовой в одном с нами подвале. Выходит, лили кровь понапрасну. Надо было загодя, еще перед Сталинградом, выставить чудотворную и сиди себе посиживай в окопе, гляди, как враг сам собой отвернет. Ну да, держи карман!.. Приказ 227 «Ни шагу назад!» {112} — вот что было нашей чудотворной! А еще наш природный российский терпеж…
То же произошло с блокированным Ленинградом. Некий благочестивый пастырь в беседе с офицерами спецназа доверительно сообщил, что во время блокады тамошнему архиепископу явилось видение. Было сказано свыше, что для прорыва вражеского кольца надо обойти город с чудотворной иконой. Так и сделали. Правда, вокруг города не пошли, поскольку там стреляли, а «обнесли» икону на самолете. «И что вы думаете? — сказал пастырь, глядя голубыми, по-детски невинными очами в аудиторию.— Обескураженный враг тут же снял блокаду и бежал восвояси».
Офицеры спецназа, люди образованные и начитанные, на сие откровение вежливо потупили взоры, не смея возразить, что это не очень убедительная выдумка.
Но мне хочется спросить: а почему столь могущественную икону не «обнесли» раньше, когда еще не пали от голода, болезней и обстрелов сотни тысяч ленинградцев и их защитников? И разве не нашлось святых досок в Одессе и Севастополе, которые пришлось оставить с огромными людскими и материальными утратами? Если не нашлось, то почему же не отправили эти безотказные средства самолетом или на подводной лодке? Чей это недосмотр? И вообще, почему бы вместо неподготовленных дивизий да было не выставить такие иконы по всей нашей границе и тем самым надежно отгородиться от супостата?
Подобная подмена истинности событий, подлинного мужества, неимоверных моральных и физических усилий наших воинов легковесными и неубедительными легендами не способствует упрочению исторической сущности тех трагических и многокровных событий, отзвуки которых еще и теперь, спустя более полувека, отягчают почти каждую семью.
Всему миру известно, сколь мужественна и терпелива была наша армия на полях Отечественной. Такой же она проявила себя и в горестных, непопулярных событиях Афганистана и Чечни. Несмотря на все качественные, особенно технические, изменения, армия осталась прежней и сохранила свою способность к поразительной жертвенности, порождающей ее особое мужество, не свойственное ни одной армии мира.
Когда враг был у стен Москвы, надо было парировать его натиск фланговым ударом с севера. Маршал Еременко вспоминает в своих мемуарах: «К началу наступления отдельные дивизии, например 360-я, не имели ни одной суточной дачи продовольствия. Пришлось искать выход из положения, отбирая у одной части небольшие запасы и передавая их другой, не имеющей ничего. Так были отобраны сухари у 358-й стрелковой дивизии и переданы 360-й, чтобы накормить людей хотя бы к вечеру первого дня наступления».
Надо себе представить, что за еда — армейские сухари. Это не с пылу-жару, румяные да хрустящие. Это бездушные, утратившие вкус и форму, замученные долгим складским хранением, непогодой и перевозками, к тому же сделанные из некачественного глиноподобного хлеба. Откусить кусочек от такого сухаря невозможно, потому что он почти как бетонный. Его можно только разбить пяткой приклада или дорожным камнем. Или же размочить, получив кислую бурую кашу. А зимой где и размочишь! И вот пошли, сердешные, в наступление с несколькими сухарями за пазухой шинелок, время от времени доставая эти каменные плитки и пытаясь их погрызть…
Как же можно этих людей, теперь уже состарившихся, износившихся, в чем-то упрекать, ущемлять и вообще проявлять к ним неуважение?..
Слово вооружает, но оно и обезоруживает.
Бесчисленные братские могилы и обелиски и все еще не прибранные останки по лесным и болотным дебрям, эти двадцать миллионов наших потерь — не только следствие того, что враг был силен и коварен, что напал он на нас внезапно и т. п., но еще и в какой-то мере на совести пишущих и говорящих языком искусства, что-то недоговаривавших, умалчивавших, а то и просто не то говоривших своему народу. Многие еще помнят это благодушное: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы!» С каким распирающим грудь энтузиазмом и гордостью пели это по всей стране — в семейных ли застольях, в детских ли хорах, на праздниках в колоннах, на площадях и стадионах. Мы, тогдашние, радовались этим словам, радость переходила в веру, а вера — в наше сознание. Но вскоре горестно обнаружилось, что пели, ликующе произносили всего лишь безответственные слова, выдававшие желаемое за действительное. А действительность оказалась такова: за первую неделю войны враг оказался уже на Днепре, проглотив целую Белоруссию…
Опасность неверного слова не только сохранилась и поныне, но она обрела еще большую разрушительную силу. Ибо если на пути всяческих лжесвидетельств и небылиц стоял сам народ-очевидец, как бы самоочищавшийся от скверны, то со временем, а оно безжалостно, фактор очевидности приближается к нулю, и очистительным средством на пути неправды остается одна только совесть пишущего…
С той же доверчивостью незащищенное опытом сознание вбирает в себя и неправду. Эта ложь имеет часто сладенький, убаюкивающий компонент. Но есть еще более опасная разновидность лжи — это мимикрированная полуправда. Она как бы не имеет ни вкуса, ни запаха, почти не распознаваема для обыденного восприятия и лишь спустя, накапливаясь, подобно наркотику, необратимо поражает мышление и нередко приводит к нравственному кризису.
Оказывается, в последнее время в печати все чаше и чаще проявляют себя и змеино шипят всякого рода небылицы.
Недавно мне попался обрывок газеты «Известия» с такими вот «свидетельствами» очевидца:
«…на фронте не только обшаривали карманы мертвецов, но и вырывали зубы, отрубали лопатами пальцы. Особенно свирепствовали похоронные команды. Часто были вынуждены разувать трупы. И я разул мертвеца один раз. Сапоги, кирзовые, мне малы были, ноги мерзли, и я стянул с лейтенанта новые ботинки».
Во-первых, из-за какого прибытка обшаривали карманы убитых? Чем у них можно было поживиться? Ну, нашлась бы (и то не у каждого!) щепоть трухлявой махорки, самодельное кресало с ватным фитилем, надерганным из телогрейки, огрызок карандаша, измятое письмо из дома… Иногда попадется складной ножичек… В вещмешке можно было найти замызганное вафельное полотенце, пару сменных портянок, пачку крупяного концентрата или пару-тройку из так называемого неприкосновенного запаса… Ну еще замотанную в тряпицу складную бритву с засохшим обмылком… Вот и вся добыча? Да, возможны и наверно были такие случаи, когда не брезговали и этим. Но это равносильно случаю, когда мать подкидывает свое дитя… В массе своей совестливый русский солдат, в основном взятый от земли, никогда не порывавший с верой, под страхом душевного греха не позволял себе этого. Больше того, «трупный вор» вызывал молчаливое осуждение, и вряд ли кто-либо стал есть с ним из одного котелка. Тем паче с таким, который выдирал зубы или отрубал лопатой пальцы…
Да и где автор сих откровений встречал тогда солдат, сиявших золотыми коронками? Прокатившийся по стране голод тридцатых годов с помощью торгсинов выцедил у населения золотые затайки — бабушкины обручальные колечки, сережки, нательные крестики — все ушло в обмен на одеяло или пачку так называемого комбижира.
Но если золотую коронку еще не исключалось увидеть, скажем, у какого-нибудь старого штабиста или у чинов медперсонала, то золотые кольца на пальцах отыскать было невозможно на всем протяжении фронта, от Черного до Баренцева моря. Колец и перстней не имелось даже на пальцах генералов и маршалов, ибо ношение таковых свидетельствовало бы о приверженности к чуждой морали и даже нелояльности к существующему строю, всякого солдата, да еще комсомольца, с золотым обручальным кольцом сразу затребовали бы в политотдел…
Так что рубить лопатами пальцы было не из-за чего.
Что касается «свирепствования» похоронных команд, то мы уже знаем: грабить трупы не было соблазна: российский солдат был гол как сокол, даже поясок на нем — хабешного ремня… А «вынужденно» разувать, чтобы потом обувать живых, так же бессмысленно, поскольку на убитых была такая же изношенная рвань, как и на уцелевших.
Солдатская обувь чаще всего рвется в наступлении. Поэтому при мало-мальской передышке, а тем более в затяжном стоянии начинается ее повсеместная починка. В пехотной роте или артиллерийской батарее всегда находился умелец, который возил с собой рундучок с инструментами и подручным материалом. У нас на батарее тоже был сапожник-доброволец, который в тихую минуту всегда был горазд пришлепнуть раззявленный сапог. Я даже помню его фамилию — некто Андреев. И плох тот командир, который заставлял стаскивать обувь с убитых…
Видимо, не очень уверенный в сказанном, автор воспоминаний пытается подтвердить их признанием о том, что он и сам однажды снял ботинки с убитого лейтенанта.
Но я этому уже не верю. Что за лейтенант в ботинках? Откуда такой взялся? Я таких лейтенантов что-то не встречал. Ведь к ботинкам полагаются брюки навыпуск. Но таких тогда не шили. Стало быть, нашему лейтенанту пришлось бы ходить в галифе, повязанных на икрах обмотками. Но это не по уставу. А главное — курьезно. Ни один молодой офицер не решился бы показаться в таком виде даже на передовой, а особенно там, где бывают молоденькие медсестры или телефонистки. Да и что за проблема: сапоги для офицера всегда нашлись бы в полковой каптерке, а нет — на дивизионном складе. А то и сшили бы армейские умельцы, особенно если лейтенант у них в чести. У нас на батарее в летнее время почти все офицеры хаживали в зеленых сапожках из плащ-палатки. Удобно, легко и даже щеголевато.
Мне кажется, что автор передернул правду солдатского бытия с потаенной целью — внушить читателю, что наша армия в годы военных испытаний была поражена безнравственностью, тупой корыстью и вытекающим из этого глумлением над павшими сотоварищами.
Но это — всего лишь мелкие неправды. А вот ее крупные, масштабные формы, замахивающиеся на целые исторические свершения. И задействованы в них весьма крупные, общественно значимые лица.
Как известно, в результате зимнего 1942—1943 года наступления наших войск образовался выступ между Курском, Белгородом и Орлом, названный впоследствии Курской дугой. Географически эта часть советско-германского фронта и на самом деле походила на круто изогнутую дугу, обращенную на запад. Метафорически же ее следовало бы приравнять к боевому взведенному луку, концы которого упирались в Орел и Белгород, а в Курске находился апогей натянутой тетивы. Будучи крупным железнодорожным узлом, Курск действительно оказался стратегическим и оперативным центром, вершиной натянутой тетивы, кинетическая, убойная сила которой не имела себе равных.
Сюда направлялся поток военных грузов, боевые резервы, способные действовать в северном или южном направлении, здесь же, на местных предприятиях организовалась ремонтная база и продовольственное обеспечение фронтов. Оценивая ключевое значение города, противник жестоко бомбил Курск, особенно его железнодорожный район. Были дни, когда в течение суток в боевом налете принимало участие до пятисот фашистских самолетов.
Население города и освобожденных районов области оказывало огромную помощь командованию: сооружало оборонительные линии глубокой эшелонированности, подготовляло уцелевшие здания под госпиталя, а во время самих боев сдавало кровь для раненых, ремонтировало поврежденную технику, убирало завалы после бомбежки, восстанавливало искореженные железнодорожные пути, а рабочие депо срочно смонтировали несколько бронепоездов, которые потом успешно действовали на фронтовой рокаде. Кроме того, буквально за сорок дней была построена восьмидесятикилометровая ветка, ускорившая сосредоточение и боеприпасов.
Итог грандиозного сражения на Курской дуге: враг был жестоко разгромлен и отброшен. На курских полях остались бессчетные нагромождения поржавевших орудий и сбитых самолетов. Долгие десятилетия потом скрежетали осколки под плугом, а поглощенные землей мины и снаряды и до сих пор выжидают свои жертвы. И нет, наверное, больше такой земли, на которой оказалось бы столько детей, покалеченных смертоносными находками…
Попытки увековечить память о сражениях на Огненной дуге предпринимались в первые же годы после войны. Но все эти стелы, обелиски и скульптурные композиции оказались недостаточно выразительными и малоценными. Время требовало создать нечто монументальное, комплексное, с привлечением компонентов рельефа и увязки его с сюжетными композициями. Опыт такого мемориала уже был — курган Е. Вучетича в Волгограде {113}. Поэтому на создание проекта памятного комплекса, посвященного сражению на Курской дуге, был приглашен тот же масштабный, размашистый Вучетич. Под комплекс была отведена многогектарная площадка при въезде в город, начались сначала цокольные и коммуникационно-инженерные работы, затем возведение металлического каркаса под главную бетонную композицию. Но на этом этапе строительства автор проекта внезапно умер, и стройка, уже поглотившая огромную сумму денег, застопорилась. Заканчивать проект в первоначальном замысле долго никто не решался — слишком уж помпезно и затратно, а потому стройка замерла на многие годы. Лишь в восьмидесятых скульптор Бондаренко, используя прежние монтажные заделы, предложил свою ансамблевую композицию. Однако новый вариант оказался настолько неудачным — главная скульптура представляла собой нечто вроде гигантской ракетно-пусковой многозалповой установки, нацеленной на Запад,— что в городе едва ли не возникли демонстрации протеста: громоздкая и устрашающая атрибутика войны уже до крайности надоела. И очередной проект скандально провалился.
И тут, уже в годы реформаторства, со своей инициативой выступил скульптор Вячеслав Клыков. Его идея была достаточно привлекательна: вместо образа войны создать образы умиротворения и духовного очищения перед памятью погибших. На месте ракетной пусковой установки предлагалось поставить стилизованную, подчеркнуто устремленную вверх часовню.
С этой идеей Вячеслава Клыкова курскому руководству следовало бы согласиться: проста, приемлема народом и недорога. Но начальственные куряне не воспылали встречным восторгом. И понять их можно: издерганные прежними неудачами, удрученные выброшенными на ветер деньгами, они ответили что-то невразумительное, и В. Клыков отправился в Белгород.
Там часовенку сразу схватили и решили поставить ее на месте ожесточенного танкового сражения под Прохоровкой.
Бывший политический обозреватель Всесоюзного радио и телевидения В. Бекетов в свою очередь предложил белгородскому губернатору рядом с часовней В. Клыкова поставить мемориальный храм в память убиенных. Белгородцы взяли и этот храм и сразу же, не мешкая начали его строительство по принципу: «Кашу маслом не испортишь! А курянам…»
Сколь существует Белгородская область, столь же всплескивается и ревностное соперничество с породившей ее Курской областью. Куряне построили себе сельскохозяйственную выставку — белгородцы — себе, но вдвое больше и павильонистее. Наши проложили новую взлетную полосу — тут же белгородцы сделали еще длиннее, чтобы взлетали аж «Антеи» и «Боинги». Наши соседи уже предлагали и Курскую магнитную аномалию назвать Белгородской… А иногда дело доходит до забавных курьезов. Некий тамошний краевед подсунул начальству бумаги, в которых доказывал, что Белгород построили не в 1593 году, как ошибочно указывает Большая российская энциклопедия, а в IX веке, то есть он гораздо старше Курска. По этому знаменательному случаю дотошный краевед был удостоен звания почетного гражданина Белгорода, а само открытие было ознаменовано массовым шествием, фейерверком и бесплатным бочковым пивом.
Правда, вскоре Российская академия наук утихомирила любителя передвигать земную ось, пояснив, что заложенный в IX веке Белгород — это вовсе не черноземный, а днестровский град, долгое время существовавший под названием Аккерман {114}.
Да, но в чем, собственно, криминал? Ну, построили под Прохоровкой памятный храм, рядом поставили клыковскую часовенку… Что тут плохого? Да ничего в этом худого нет, отвечаем мы… Но есть, есть в сем богоугодном деянии некая… «мысль», взлелеянная В. Бекетовым, который, выйдя на пенсию, занялся квасным патриотизмом, поскольку родом он из сельца, что в окрестностях Прохоровки. Уж очень ему хотелось, чтобы центр Курской дуги переместить на Белгородчину и чтобы впоследствии Курскую битву, частью которой является и Прохоровское сражение, называли бы в школьных учебниках Белгородской битвой.
В изданной В. Бекетовым книге «Сотворение чуда» вообще отрицается право Курска на военно-патриотический мемориал. На странице 29 автор в злорадном ликовании сообщает: «Вспомним, к примеру, как подыскивали место для памятника героям Курской битвы по проекту Е. В. Вучетича… Так как Курск очутился в середине (Курской дуги.— Е. Н.), то и памятник решено было соорудить возле этого соловьиного (читай — не нюхавшего пороха.— Е. Н.) города. Но, бухнув в колокола, не заглянули в святцы, точнее — в карту военных действий. А на карте Курск летом 1943-го оказался с тыловой стороны дуги, примерно в восьмидесяти километрах от линии фронта. Непродуманное решение стоило многомиллионных затрат на фундамент монумента, который и до сих пор не поднялся выше нулевого цикла».
Вот так-то… Что и говорить, написано подловато. И становится грустно от такого кощунства.
Думается, и на этот раз Российская академия наук поправит еще одного любителя передвигать земную ось по своей безответственной прихоти и вразумит, что во время Курской битвы вообще не было никакой Белгородской области и Прохоровка считалась Курской. Но ведь кроме Прохоровки символом стойкости и мужества русского солдата являются также и Поныри — скромный поселок на северном фасе дуги. Там ведь также решалась судьба страны, ибо разгром северного крыла наших войск давал противнику еще бо́льшую выгоду, чем на юге, поскольку предвещал бы выход в тылы Москвы, окружение и падение столицы. Да, под Понырями не было такого громоподобного, встречного танкового сражения, ныне позволявшего подчеркивать именно его экзотичность, но люду пало там не меньше, а то, может, и поболе, так как танковая лавина обрушилась на передовую только с одной, с немецкой, стороны. Ей противостояла, как когда-то на Бородино, в основном пехота и полевые пушкари, то есть одетые в гимнастерки и ничем более не защищенные человеческие тела и души. Но подвиги, свершенные там, не менее блистательны и вековечны. К тому же в двадцати верстах от «праздного» Курска, на овражной окраине Коренной пустыни {115} в замаскированных блиндажах находилась ставка командующего северными войсками, откуда их храбростью и беззаветностью управлял Рокоссовский — сам образец мужества и воинского бесстрашия.
Вот бы и там, на Поныровских высотах, воздвигнуть мемориальный храм и проторить туда народные тропы для преклонения справедливости ради… А? Вячеслав Клыков, курянин?
И уж если более внимательно, чем В. Бекетов, заглянуть в «святцы», точнее — в карту военных действий, то воочию увидим, что летом 1943-го Белгород, ожидавший освобождения от фашистов (так же как и Орел), был опорным пунктом противника и ничем не мог помочь фронту, тогда как жители Курска уже вдохновенно готовили победу. Отталкиваясь от Белгорода и Орла, панцирные тевтоны замышляли сломить натянутый лук, тетиву которого держал в своих руках древний и мужественный Курск, воспетый еще в «Слове о полку…».
Потише, робяты, с историей! Мы, ветераны, еще не ушли и помним, что к чему…
1998
Война всегда не ко времени
— Евгений Иванович! То, что жюри премии Александра Солженицына объявило лауреатами 2001 года одновременно двух писателей-фронтовиков, к тому же выросших на курской земле, вызывает у ваших земляков естественное чувство радости. Понимая, что мотивы членов жюри вам неизвестны, тем не менее хочу спросить: видите ли вы в этом событии некую закономерность?
— Ход мыслей членов жюри действительно неисповедим. Тут весьма возможен элемент случайности. Допустим, в руки Александра Исаевича случайно попала книга «Фанфары и колокола», посвященная пятидесятипятилетию Курской битвы, авторами которой явились я и Костя Воробьев {116}. Такая писательская сцепка могла понравиться: оба фронтовики, оба куряне, родовые корни которых опалены Огненной дугой, к тому же оба начали печататься в «Новом мире» еще при Твардовском {117}.
На мою чашу весов могло быть добавлено еще и то обстоятельство, что Александр Исаевич и я воевали в одних и тех же местах: вместе оказались на Рогачевском плацдарме за Днепром {118}. Памятна нам и река Друть, прикрывавшая сильно укрепленные позиции противника, которую тоже пришлось преодолевать вместе. Бок о бок, в смежных частях, освобождали Белоруссию, участвовали в разгроме Бобруйского котла, затем изгоняли врага с польских земель, откуда повернули на север, в Восточную Пруссию. В последний раз пересеклись наши фронтовые дороги в памятных Мазурах. 8 февраля сорок пятого я был тяжело ранен на пути к Балтийскому побережью и полгода пролежал в госпитале. С Александром Солженицыным судьба обошлась еще круче: на другой же день после моего ранения он был арестован за свободомыслие в почтовой переписке и на долгие годы попал за колючую проволоку ГУЛАГа {119}.
Но все это — мотивы фронтового братства, что само по себе не может быть основанием для серьезного предрешения конкурсного судейства. Думаю, что главенствующим и единственным в выборе кандидатур на столь высокий и почетнейший пьедестал явилось творческое кредо самих писателей-претендентов. И ничего более.
Что касается Константина Воробьева, то с ним, я думаю, все давно и непоколебимо ясно. Здесь — стопроцентное попадание. Воробьев — яркий, самобытный художник, осиянно прочертивший апогей российского литературного небосклона и оставивший на нем непреходящий след памяти о себе.
Говоря же о присуждении столь общественно значимой премии лично мне, должен признаться, что это событие явилось для меня волнующей неожиданностью. Хотя еще в прошлом году я приятно удивился статье А. Солженицына в «Новом мире». В июльской книжке этого журнала Александр Исаевич без видимых юбилейных причин, действительно вдруг, как-то неожиданно для меня обратился к моему творчеству. Он глубоко и обстоятельно проанализировал почти все мои публикации — от первых рассказов шестидесятых годов до изданий последнего времени. Уже тогда меня удивила эта большая, трудоемкая литературоведческая работа именитого писателя, не располагающего праздным временем для таких доскональных читок. Тем не менее Александр Исаевич с профессиональным пристрастием, будто старательный дятел, простучал, прослушал весь мой сорокалетний творческий прирост, строго определяя его ценность, помечая не выдержавший испытания временем сухостой…
Я предельно благодарен Александру Исаевичу.
— Покойный Константин Воробьев и вы начали свой литературный путь, в отличие от иных сверстников, не с произведений о войне. Только ли дело в том, что к главным своим произведениям вы хотели приступать уже состоявшимися, опытными художниками?
— Не знаю, как сложилось у Константина Воробьева, но в моей творческой хронологии тема войны не является изначальной. Да и литературой я начал заниматься не сразу. А сперва, с едва зажившими ранами, не позволявшими мне заниматься непосредственно физическим трудом, я стал газетчиком. Послевоенная разруха, особенно неустроенность села, оставшегося без павших на войне пахарей и угнанных на фронт тракторов, начинавшего свое возрождение с первых борозд, порой проделанных женскими упряжками,— все это и стало повседневной тематикой моего пера. Многостранствующая профессия, ее непременная связь с жизнью, изобиловавшей острейшими проблемами, долго не отпускала меня на вольные литературные хлеба, чтобы вплотную засесть за тему войны. Об этом свидетельствуют мои первые, теперь уже достаточно широко известные произведения: «Шуба», «За долами, за лесами…», «Потрава», «В чистом поле, за проселком…», «Пятый день осенней выставки», «Шумит луговая овсяница…» и многие другие рассказы о послевоенной деревне.
Военная же тема как бы вкраплялась в этот основной сельский перечень… Тем более что между деревенской и военной прозой легко прослеживается логическая связь. Давно замечено, что в моих военных произведениях нет описания непосредственных баталий. Например, повесть «Усвятские шлемоносцы» обошлась без единого выстрела. Нет никакой пальбы, кроме салюта, ни в «Красном вине победы», ни в «Шопене…», ни в «Переправе». Объясняется это тем, что главный герой этих произведений — все тот же крестьянин, для которого война стала как бы продолжением его привычной деревенской работы. Ведь на фронте не всяк день стреляли, бегали в атаку, зато ежедневно, ежечасно работали, а еще точнее сказать — чертоломили: копали траншеи, блиндажи, укрытия для машин и боеприпасов, валили лес, разделывали и таскали бревна, наводили переправы, гатили топи. А еще привычно мокли в непогоду, мерзли на леденящем ветру, перемогались в промокших валенках, а нередко и тоже привычно голодали, погрызывая из рукава завалящий сухарь или замурзанный комок брикетной каши, иногда выдававшейся сырьем в качестве НЗ.
Рядовой Копешкин, центральный персонаж «Красного вина Победы», на передовой и вовсе не испытывал каких-либо перемен в своем существовании, в роте он числился ездовым, все время пребывал при лошадях: заготавливал для них корм, в летнее время выпасал в каком-либо затишке, куда не залетали вражеские пули, чинил сбрую, смазывал пушечным солидолом колесные втулки своей пароконки. За эту привычную крестьянскую работу он, конечно, не получал наград и даже устных благодарностей.
Не имел никаких регалий и рядовой Товарняков из рассказа «Переправа», проехавший на верблюде от Сталинграда до польских земель. Сам командующий фронтом Рокоссовский удивлялся: «Что же ты — сталинградец, а наград не вижу? С пустой грудью вступаешь в Европу… Или воевал плохо?» — «Так ведь… в обозе я… Какие награды?»
Уходившие на фронт мужики из деревни Усвяты и вовсе никогда оружия в руках не держали. У деда Селивана, ветерана еще той мировой войны, они опасливо допытывались, как он убил своего первого немца: «Ну и как ты его? Человек ведь… Ужли не страшно было?»
Для всякого крестьянина — война всегда не ко времени: кто ожидал рождения первенца, кто рассчитывал дорубить амбарушку: «Два венца осталось», а кто не успел припасти сенца на зиму: «Что бы ей, окаянной, повременить недельку-другую».
Пафосом моей военной прозы неизменно являлись мирные устремления сельского труженика, а потому эти произведения всегда органично входили в деревенскую тематику.
Миролюбивые чаяния русского народа актуальны и теперь.
— Еще лет десять назад, когда мы уже прочитали сотни талантливых и правдивых произведений о минувшей войне, честных мемуаров и исторических исследований, казалось, что создана своеобразная многотомная энциклопедия Великой Отечественной, что мы знаем полную картину войны. Но нынче порой раздаются голоса, что сказанное о войне — далеко не вся правда, что многие события войны еще не очищены от пропагандистской лжи, конъюнктуры. На ваш взгляд, справедливы ли эти сомнения?
— Я тоже все больше убеждаюсь, что сказанное о войне — далеко не все правда. Моя фронтовая память не всегда находит адекватное подтверждение в военных мемуарах. Вот листаю страницы книги «Войны несчитаные версты», написанной известным представителем Ставки генерал-лейтенантом К. Ф.Телегиным (М.: Воениздат, 1988). Книга в общем-то и неплохая, но иногда автора одолевает лакировочный политзуд, подрывающий доверие к написанному. На странице 198 читаем такой вот феерический закидон, будто «каждый воин не только знал, но и видел сам, многократно убеждался, что в случае ранения его не оставят в беде, быстро вынесут с поля боя, немедленно окажут квалифицированную помощь и сделают все, чтобы поставить на ноги, и если только возможно, вернут в боевой строй. Эти требования, отражающие высокий гуманизм нашего социалистического строя, выполнялись неукоснительно, как бы ни складывалась обстановка, какие преграды ни пришлось бы преодолевать».
Бывшие фронтовики со смущением внемлют такой «правде» о войне, где желаемое выдается за действительность. Так уж каждого бойца выносили с поля боя? А если пуля настигла его во время атаки перед самыми вражескими окопами? А потом атака эта захлебнулась и штурмующие откатились вспять? Или если ранит при форсировании водного рубежа на утлом плотике? Или во вспыхнувшем костром подбитом танке? Да мало ли возникало ситуаций, когда раненого, неспособного передвигаться самостоятельно, невозможно было ни отыскать, ни вынести.
Что же касается немедленной квалифицированной помощи, то не представляю, как можно в полевых условиях, в хлопающей на ветру палатке или струящемся песком от близких взрывов блиндаже «квалифицированно» копаться в полости живота под чадящей гильзой. И как можно поставить на ноги солдата, которому во избежание гангрены, долго не мудрствуя, ножовкой отпиливали раздробленную стопу?..
В связи же с провозглашенным автором «высоким социалистическим гуманизмом» на поле боя вспоминается все тот же заднепровский плацдарм, на котором мы оказались тогда с Александром Солженицыным. Позади нашей противотанковой батареи до самого схваченного льдом Днепра простиралась обширная голая луговина. Она была густо усыпана трупами наших пехотинцев, некогда штурмовавших днепровское побережье. С приходом зимы их запорошило снегом, и среди белой пелены проступали то носок валенка, то ком заплечного мешка, то окоченевшая рука со скрюченными пальцами. Между трупов живые солдаты с передовой протоптали тропинки к тыловым службам, укрывшимся под береговым обрывом, по ним ходили получать обед с полевых кухонь, по ним же наведывались «на передок» и всякого рода политработники с бланками «боевых листков» и армейскими газетками в планшетах. А те, павшие, продолжали оставаться неприбранными, постепенно обращаясь в прах и безвестность. Их забыла пехотная дивизия, спешно ушедшая за Днепр на переформирование и пополнение. Сменившая ее часть не спешила убирать трупы, считая их не своими, не числящимися в их списочном составе. Так пролежали они до тех пор, пока не вытаяли из-под снега, а над ними не зазвенели жаворонки. Потом нашу батарею перебросили поближе к Рогачеву, на реку Друть, и я не знаю, чем закончилось это проявление «высокого гуманизма». Скорее всего, эти останки пришлось потом убирать местным жителям — женщинам и старикам, готовившим землю под хозяйственное пользование.
Если бы принцип «никто не забыт» действительно выполнялся неукоснительно, как это утверждает генерал, то теперь, по прошествии полувека, не валялись бы по лесам и топям истлевшие костяки, которые и поныне еще исчисляются тысячами.
В некоторых мемуарах вышучиваются ряды березовых крестов на местах немецких воинских захоронений. Дескать, довоевались до белых раскосий. А не над собой ли мы смеемся? Не расписываемся ли тем самым в своем кощунстве и неуважении к тем, кого так ждали домой и еще долгие годы с надеждой поглядывали за околицу. Во всех христианских армиях, в том числе и в старой русской, проблемами захоронения павших занимались священники. У них это получалось лучше, надежнее и, так сказать, ритуальней, чем у политруков. И потому организацию поисков и предание земле воинских останков следовало бы передать, раз уж так велит время, под узаконенный патронаж православной церкви, а не возлагать это на плечи и совесть школьников и подростков.
Боюсь, что с уходом последних участников тех событий правда о войне останется беззащитной. Единственным антикоррозийным средством станет (совсем уж скоро) не само добросовестное свидетельство очевидца, а подлинный исторический документ. Берущимся за перо новым военным исследователям необходимо предоставить широкий доступ к архивным хранилищам во имя соблюдения правды о пережитом.
— В решении жюри премии Солженицына наряду с другими достоинствами ваших произведений упоминается и то, что они «явили в полновесной правде позднюю горечь пренебреженных ветеранов». Действительно, этот щемящий мотив звучит во многих повестях и рассказах, написанных вами в последнее десятилетие…
— Со времен окончания Великой Отечественной войны ее ветераны, особенно инвалиды, не были избалованы государственным радушием, если не считать обильно раздававшихся всякого рода юбилейных знаков. Об этому меня написан рассказ «Памятная медаль», где старый совестливый солдат по деревенскому прозвищу Петрован, отказался от медали «Памяти Жукова» потому, что он воевал под командованием совсем другого генерала.
«— Это которая-то будет? — повертел бумажку Петрован.— Семая не то восьмая? Уж и со счету сбился.
— А тебе чего? Знай вешай да блести! — радушно рассудила почтарка Пашута».
Блестеть-то наши ветераны блестели, иные буквально гнулись под тяжестью бронзовой чешуи, но за этим декоративным блеском мало что следовало, а то и проявлялось явное неуважение. Ну, например, потерявшие ногу фронтовики еще долгие годы не имели нормальных цивилизованных протезов, а обходились всяческими самодельными приспособлениями. Тем не менее такой калека обязан был ежегодно являться на ВТЭК для подтверждения своей инвалидности. Это ли не насмешка!
В пору же оголтелого капитализма, нарасхват растаскивающего общенародное добро и окружившего российские города вызывающей всеобщую неприязнь замковой евроготикой с цепными псами у входа, человеку с юбилейными медалями стало и вовсе неуютно и бесперспективно. Тем паче что у этих людей не осталось времени ждать, когда все еще не очеловечившаяся государственная система снисходительно подаст что-то в протянутую руку ветерана.
Особенно бедствуют военные инвалиды российских деревень, где порой не стало даже элементарных медицинских пунктов, откуда сложно достучаться до «неотложки» по причине нарушенной связи, а самой «скорой помощи» в иные места не добраться из-за бездорожья и самоликвидации такой службы.
И конечно же в деревню почти не доходят те немногие льготные пилюли, которые сами по себе превратились в предмет наживы. Достаточно сказать, что пачка вездесущего зверобоя по цене приближается к двум буханкам хлеба. А потому гуманитарные медикаменты часто растаскиваются по родственникам и знакомым самими же распределителями этого скорбного блага.
Само собой, обстановка постоянного невнимания к этой категории общества не лучшим образом влияет на нравственную атмосферу среды обитания и становления подрастающего поколения. Я видел, как мальчишки играли дедовскими медалями «в стеночку», ударяя о забор бронзовыми чеканками.
— Ныне стал модным немудрящий трюизм: уроки истории учат лишь тому, что они никого ничему не учат… И все же видите ли вы, что общество за прошедшие полвека сделало какие-то выводы из уроков Великой Отечественной?
— За прошедшие полвека мы извлекли из истории тот однозначный урок, что, напуганные вторжением и трудновосполнимыми потерями в минувшую войну, мы вместо интеграции в мировое сообщество продолжали упрямо противопоставлять свою непримиримую идеологию и наделали неисчислимые полчища танков и горы другого оружия. Оказалось, что огромные материальные ресурсы и напряженный труд всего народа затрачены напрасно. Ничего этого так и не понадобилось, и танки потом пришлось резать автогеном и переплавлять в мартенах.
В то время как другие народы, особенно пострадавшие от войны — Японии, Германии, Франции и даже почти стертой с лица земли Польши,— уже давно благоденствуют и наслаждаются жизнью, наш народ до последнего времени (да и теперь тоже) продолжает гнуться под тяжестью экономических невзгод, отказывая себе в элементарных благах существования. Недавняя авторитарная система не только угнетала собственную страну, но и провоцировала к нестабильности многие другие народы. В орбите несостоятельных идей оказались Вьетнам, Северная Корея, Афганистан, Эфиопия, Ангола, Конго, Египет, Никарагуа, ввергнутые в опустошительные войны и гражданские междоусобицы, принесшие вместо утопического процветания разруху и нищету.
Думаю, что тот исторический поворот, на котором находится наше общество, все же обновит и усовершенствует самосознание народа, вооружит его трезвым и плодотворным видением единого людского мира, снабдив его реальными импульсами поступательного развития.
Беседу вел Владислав Павленко2001
У толпы нет лица
Я не могу себе это объяснить, но до сих пор в ночном забытьи мне почему-то навязчиво видятся военные пепелища.
Не сама война с ее адским, кромешным грохотом и землетрясением, с рыжими выбросами матерой девонской глины, взрытой пикирующими «юнкерсами»; не командир орудия с перекошенным лицом в подтеках пота и налипшей пыли, что-то кричащий мне, наводчику орудия, должно быть, важное, нужное в сию роковую минуту, но неслышимое мною, потому что в ушах стоит звон и гуд возбужденной крови; ни сами танки, эти пятнисто окрашенные чудища, лязгающие, мельтешащие блескучими траками, ловящие, кажется, именно тебя черной дырой надульника, иногда харкающего коротким плевком выстрела, после которого за отпущенный тебе миг ты должен успеть распластаться под колесами собственной пушки, чтобы уцелеть и снова вскочить к прицелу, и, пока там, под толщей крупповской башни, перезаряжают утробу казенника, успеть выпустить свой поспешный, не очень выверенный снаряд…
Казалось, именно это должно бы навещать и будоражить окопную память. И все же грезится не сама война, не ее смертельный оскал, а те горестные последствия, от которых и по сей день цепенеет душа и не находит себе места.
Особенно преследуют меня видения выжженной деревеньки под Новым Быховом, скорбные ряды печных труб, непомерно долгих в своей наготе и сиротстве. Черные огарки уличных сосен, еще дымящиеся смоляным ладаном. Время от времени над стволами взметываются красные языки огня, таившиеся где-то в толстом подкорье. Помнится тяжелый пчелиный ком на уцелевшей яблоневой ветке рядом с обгоревшими ульями. Обездоленные пчелы родственно жались друг к другу, вяло взмахивали крыльями, чтобы, должно быть, подать воздух, помочь дышать тем, что находились в толще пчелиного скопища. У подножия старой березы кем-то было приспособлено долбленое корытце, до самых краев переполненное прозрачным, устоявшимся соком. Березовый сок ненужно перетекал через бортик и торопливыми бусинами сбегал в жухлую прошлогоднюю траву. Мы достали свои солдатские кружки и молча, как бы поминая бывшую здесь деревню, испили этого горестного сока из разоренной земли. А из черного нутра близкой печи настороженно, немигающее следила за нами перепачканная сажей, отощалая плоская кошка.
Но больше всего мне запомнился запах, исходивший от пепелища. Нет, это не было вкрадчивое, сладковатое трупное зловоние, знакомое каждому солдату. Тянуло чем-то надсадным, навевающим необъяснимую тоску и уныние. Старый батареец Пермяков, заметив мое потягивание носом, усмехнулся:
— Сразу видно, необстрелянный еще или шибко городской.
— Нет, в самом деле, что это такое?
— Хлебной золой несет. Сгоревшим зерном, понял?
— Так тяжко…
— А ты думал, горелое зерно печеными булками пахнет? Нет, брат, оно бедой пахнет, разором.
Потом я прошел много сотен верст войны, навидался, нанюхался всякого, даже отравляющих газов под Рогачевом пришлось нюхнуть, но все же гарь выжженного человеческого гнезда оказалась для меня самым тягостным, самым неистребимым веянием войны, которое и поныне тревожит в некрепких ветеранских снах.
И вот прошлым летом в моем курском небе появились непредвиденные расписанием самолеты. Отрешенные от всего мирского, будто без окон и без дверей, с высоко вознесенными краснозвездными килями, военные транспорты, совершая обзорный облет, уже одним своим непривычным обликом делали небо тревожным. «Это же турки-месхетинцы,— пронеслась по аэропорту взволнованная догадка.— Турки-месхетинцы летят!»
Их уже ждали. На площади стояли заказные автобусы, которые должны были развезти прибывших по заранее обусловленным местам. Из распахнутого окна второго этажа высовывался повар в свеженакрахмаленном чепце — он тоже ждал гостей.
Из первого транспорта, подрулившего к самому аэровокзалу, по его подхвостному трапу двинулась пестрая, разномастная и молчаливая вереница людей. Впереди, опираясь на корявую самодельную палку, спускался пожилой тучный турок, одетый в долгополый стеганый чапан,— должно быть, старейшина общины. На его массивной голове, обрамленной тяжелыми седыми кудрями, белела легкая техасская шапочка. У края трапа он помешкал, сложил вместе перед собой ладони, прежде чем ступить растоптанной сандалией на не знакомую ему курскую землю.
Пока остальные месхетинцы подкреплялись обедом, старый турок одиноко сидел среди дорожного скарба, подперев голову и прикрыв глаза. Грубые борозды морщин сложились в недвижную скорбную гримасу. То ли он так устал от долгого полета, то ли никого не хотел видеть, уйдя в себя, в свои горестные думы.
И вдруг ноздри мои сами собой по-первобытному заходили закрылками и непроизвольно потянули в себя воздух. И я отчетливо уловил среди обычного аэропортовского душка кофейной гущи и подземного туалета чужой, пришлый и какой-то ощетиненный, ни с чем не смешивающийся дух гари. Он явно исходил от замершего турка, должно быть, от его чапана, способного в своей ватной толще надолго удерживать окружающие примеси.
Это был зловещий смрад Ферганы…
Не знаю, возможно, от старого месхетинца на самом деле пахло обыкновенным тихим костром, у которого коротали последние дни и ночи уцелевшие беженцы в ожидании своей дальнейшей участи. Но тревожная моя память враз воскресила тот неистребимый временем запах военных кострищ, который навязчиво преследует тебя сквозь долгие годы. И тотчас предстала та выжженная деревенька под Новым Быховом, ее молящее воздетые к небу нагие печные трубы, комок бездомных пчел на яблоневой ветке, корытце, переполненное березовым соком, зазря проливающимся на землю.
Конечно, там, в далекой Фергане, откуда в несколько раз ближе до Индии, чем до Москвы, земля обласкана южным солнцем, и труд там иной, и жизнь, и быт иные. И пьют там не березовую влагу, а сок виноградных лоз, возделанных, наверное, и этими вот корявыми, неуклюжими с виду пальцами седого месхетинца. И ферганские мальчишки — узбеки, и турки, и корейцы, и крымские татарчата — свищут не в ивовые дудочки, как окская и поднепровская славянская ребятня, а в ореховые скорлупки, зажатые между двух пальцев.
Да, всюду своя жизнь, свои обычаи, когда над головами безмятежное небо.
Но запах беды и сама беда всегда и везде одинаковы.
Ибо одинаковы боль и слезы, если льется кровь и ярится огонь, если свершаются насилие и надругательство над человеком, над его очагом и родом, над обмякшими в страхе женщинами и обмершими в ужасе младенцами.
Всем этим безумием с жестокой очевидностью веяло теперь от устало забывшегося месхетинского старика.
Я осторожно заговорил с ним, спросил, о чем он так сосредоточенно думает.
Турок приподнял тяжелые кожистые веки, распахнул сливово-черные глаза, замутненные краснотой бессонницы. Горестно застывшие морщины на его лице сдвинулись и застыли в выражении глубокой душевной боли.
— О чем думать? — сказал он сухим, заклеклым, наверное, от долгого молчания голосом.— О чем теперь можно думать? Был сын — нет теперь сына… Был дом — нет дома… Все облили бензином, ничего не осталось…
Он покачал взад-вперед свое тучное тело, перемогая потревоженное отчаяние, и, снова открыв глаза, будто выдохнул:
— Вот все думаю: зачем теперь я? Зачем я родился?
Это было прошлым летом, и все казалось случайным, стихийным и больше не повторимым.
Но совсем недавно в сером простылом январском небе снова объявились эти нелюдимо отрешенные самолеты. И сердце тревожно холодело при их таинственном промелькивании в тучах. У этих вестников беды был новый адрес — Баку. Но сама беда все та же: погромы и поджоги, кровь и насилие.
И снова распахнуты подбрюшные трапы, опять робко, запуганно сходили беженцы, их ни с кем не спутаешь. Они несут свой особый облик: небрежная одежда, поспешно собранные узлы и котомки, на лицах — стылое выражение душевного смятения. И тихие, бессловесные дети…
Это были армяне и русские, у армян — мужчины, женщины и их дети, у русских — только женщины и дети… Их мужья и отцы остались там — сдерживать безумие.
И кто знает, последние ли это несчастные…
А ведь до Ферганы и Баку, до Степанакерта и Нахичевани были еще и разнузданно-кровавый Сумгаит, и Алма-Ата, и Новый Узень, а теперь вот и Душанбе, и вот опять Ферганская долина с ее взъерошенными аулами и городами…
Из этого далеко не полного перечня довольно четко обозначается как бы линия фронта от Тянь-Шаня до Большого Кавказа, прошедшая по судьбам и совести многих народов, по их опасно, порохово скопившимся проблемам и чаяниям.
В газетах и эфире появились тревожные сводки, вновь замелькали долго не употреблявшиеся в жизни страны слова и понятия: убитые и раненые, эвакуированные и беженцы, заложники и пропавшие без вести…
Проблемы проблемами, и не приходится преуменьшать, а тем более отрицать их остроту и неотложность. Но неизбежно ли при этом братоубийственное противостояние? Обязательно ли в борьбе идей присутствие кистеня и обреза? И нет ли тут искусно скрытой пусковой кнопки или хитроумного дистанционного управления?
Боюсь, что есть. Даже уверен в этом.
Как известно, у всякого фронта — тайного или уже воочию полыхающего — есть свое командование и командующие, свои оперативники и стратеги. Кто они? Кто эти люди, удовлетворенно потирающие руки при подсчете количества убитых из-за угла, сброшенных в колодезные люки, затоптанных каблуками, изнасилованных и заживо сожженных в собственных домах и квартирах? Наверняка сами они этого ничего не делают. Свой день начинают, скорее всего, с неторопливого бритья и приема целебной ванны, после которой в блаженном изморе под тихое журчание модного блюза пьют свой кофе из потайных подвалов «черного рынка». Тогда же за чашечкой ароматного мокко просматриваются ведомости на оплату оголтелых выкриков на площадях, распространение печатных фальшивок и нашептывание слухов, а по особой графе — за погромы, поджоги и иные горячие и мокрые дела.
Тем паче, что в исполнителях, к сожалению, недостатка нет. Поруганная культура, бездуховность на всех уровнях и этажах общества, обветшание и обесцвечивание знамен и идеалов, повальная догматическая интоксикация сознания, культ граненого стакана, который можно встретить в любом подъезде, на любой городской скамейке или на сучке паркового дерева, и многое другое, в том числе и узаконенное безделие до шестнадцати лет и старше,— все это конвейерно штампует так называемых детей (а точнее сказать — детин) подворотни, толпами шатающихся по ночным улицам и бульварам, упражняясь в безнаказанном сквернословии, в циничном небрежении ко всему и вся, готовых привязаться и изувечить одинокого прохожего или зажать рот и утащить в подвал припозднившуюся девчонку… И все это просто так, от зевотной скуки, от нечего делать, а вернее — от незнания дела.
Право, я страшусь этих идущих вразвалочку великовозрастных выкормышей нашей развитой отечественной соццивилизации.
Я видел, как такие вот скучающие молодцы курочили заводскую зону отдыха: срывали пестрые полотняные тенты, гнули до земли металлические стояки зонтиков, сбрасывали в реку будки для переодевания и детские качалки. Когда я попытался образумить безумных, один из них дал мне такой совет: «Иди отсюда, дядя, а то и тебе буль-буль сделаем, понял?»
Вот они, уже готовые кадры боевиков! Кстати, не будем отрекаться. Это мы с вами, все вместе, всей нашей изувеченной и выхолощенной моралью наводнили страну подобными типами. По первому кличу и опять же от нечего делать, из одного только желания поразмяться, поднять шухер, они уже готовы что-либо перевернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кого-нибудь в ухо, рубануть по черепу арматурным прутом или намотанной на руку цепью…
И особенно загораются азартом, когда прозвучит громкий разрушительный клич.
Это они примешиваются к народным фронтам, пользуясь их нестрогим, открытым членством, проникают во всякие людские скопления, на предвыборные и иные собрания, на митинги и манифестации, порожденные радостными для всех нас вольностями перестройки, но воспринимая их по-своему: в руках — звонкие, разноречивые, порой и правильные лозунги, а за пазухой — четвертинки с зажигательной смесью. Это они вконец дискредитировали «Память», вирусно поразив ее рыхлый организм и отравив первоначальные патриотические помыслы ядовитой инъекцией шовинизма. Это они же при первой уличной сумятице норовят ворваться в магазины, чтобы разжиться халтурными спиртным и куревом, а заодно побить витражи, прилавки и кассовые аппараты. Чем больше тарараму, тем веселее.
Из опыта демократических движений других народов мы уже знаем, что если кто-то захочет пошатнуть демократию, то прежде всего прибегает к насилию, к автоматным очередям из мчащегося автомобиля, к закладыванию взрывчатки в самых людных местах.
Делается это для того, чтобы запугать завоеванную свободу, разобщить народные силы, посеять вражду и рознь, превратить людей в бессловесную, безропотную толпу. А далее, как очень точно сказал поэт:
Толпа превращается в стаю, И капает пена с клыков…Толпа не имеет лица. В этом я убеждаюсь, вглядываясь на телевизионном экране в бушующие людские массы, которые все шире разливаются не только по другим союзным республикам страны, но и по городам и весям России, докатываясь и до моего родного Курска. Тут уже, как правило, не национальные и межнациональные страсти правят бал. Тут еще очевидней борьба за власть. Нет, далеко не всегда прямо декларируемая в столице и иных городах, чаще закамуфлированная, непонятная тысячам доверчивых людей, идущих на митинги и шествия под правильными вроде бы призывами в поддержку перестройки. Но стоит всмотреться и вдуматься повнимательнее, и мы поймем: здесь, как там, где уже полыхнул огонь, где пролилась кровь, здесь тоже есть свои стратеги и оперативники. Порой они выходят на трибуну — с подстрекательскими, провокационными речами. С далеко идущими и вовсе не благородными целями. А огню вспыхнуть и крови пролиться бывает недолго. И вдруг запахнет уже по всей стране той самой тяжкой гарью беды? Как говорится, избави и сохрани…
Будем же бдительны!
Будем дорожить выстраданной и обретенной свободой, в желанный облик которой многие вглядывались сквозь колючую проволоку сталинских лагерей или задраенные рамы брежневских психушек.
Не дадим превратить себя в толпу, направляемую кем-то с потайного пульта. Будем помнить, что толпа — это уже не народ, ибо народ всегда с человеческим лицом, толпа же — безлика и слепа, и агрессивна и немилосердна.
1990
Общие комментарии к отдельным произведениям (Т. А. Соколова, Е. Д. Спасская, В. В. Васильев)
ТРАВОЙ НЕ ПОРАСТЕТ…
Повесть, рассказы
Практически все критики сходятся на том, что большинство произведений Б. И. Носова так или иначе тяготеет к войне. Или идет описание непосредственных событий войны («Синее перо Ватолина»), или передается восприятие селянами страшной вести о военном лихолетье («Усвятские шлемоносцы»), или рассказывается о том, как бойцы в госпитале узнают о Победе («Красное вино победы»), или же война показывается ретроспективно, ее страшные картины даются в воспоминаниях героев («Костер на ветру», «Яблочный Спас», «Памятная медаль» и др.). Главное во всех этих произведениях — святая правда о войне… Ни одним словом не погрешил автор против истины и предостерег от этого других: «Потише, робяты, с историей! Мы, ветераны, еще не ушли и помним, что к чему…» Ну а теперь, после его ухода, пусть будут эти слова заветом всем пишущим и говорящим о войне, о России!
Усвятские шлемоносцы, с. 7—159
Впервые опубл.: Наш современник. 1977. № 4—5. С. 104—112. Отдельной книгой повесть впервые вышла в изд-ве «Молодая гвардия» (М., 1980) с гравюрами художника Александра Зайцева.
Отвечая на анкету «Литературной России» «Кто над чем работает» (1974. 5 апр.), Е. Носов говорил: «Пишу повесть о войне. Уточнять трудно. Скажу только, что о войне написано много, и мне бы хотелось углубить эту тему, исследовать солдатскую психологию». В 1976 г., передавая «Литературной России» отрывок из повести, писатель отмечал, что произведение задумано как «литературная симфония, с обобщениями и философскими раздумьями» (Носов Е. Летели бомбовозы. Лит. Россия. 1976. 7 мая).
Наиболее обстоятельно об идейно-художественном содержании повести, ее жизненной основе, а также о первоначальном замысле «Усвятских шлемоносцев» Е. Носов рассказал в беседе с В. Помазневой (Касьян — и пахарь, и солдат // Лит. газета. 1977. 6 апр.):
«Повесть… даже не о войне как таковой, не о боях, не о баталиях, а лишь о том, как весть о ней пришла в глубинное русское село и как люди привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле, своих близких и идти на защиту родной земли.
От момента, когда человек должен был оставить плуг, до момента, когда необходимость заставила его взяться за винтовку,— большая дистанция. Дистанция тут психологического характера, связанная с мучительной ломкой устоявшихся представлений, привычек, вживанием в навалившуюся беду, перевоплощением пахаря в солдата. Вот о сложном состоянии перевоплощения, о десяти днях начала войны и написана повесть. Предчувствую, что название ее — „Усвятские шлемоносцы“ — у читателей поначалу может вызвать определенный внутренний протест. Но выбрано оно не случайно. Вдумайтесь: ведь и слово „война“ сразу как-то не воспринимается, потому что чуждо человеку. Его тоже надо осознать, к нему тоже надо привыкать, как к ношению шлема, каски.
‹…› Повесть весьма проста по сюжету. И никаких особых событий в ней не происходит — просто уходят из села новобранцы. Очень объективная хроника, очень медленное развитие событий.
Сначала замышлялась она как раз с баталиями, с подвигами. Собственно, все начало, которое сейчас существует, именно потому торопливое, беглое, что я мыслил побыстрее пройти сцены прощания, проводов, а потом уже широко, объемно представить картины фронтовой жизни. Но материал, по которому писались первые сцены, увлек меня. К тому же оказалось, что в нашей литературе он еще недостаточно разработан. Будучи сам по себе не военным материалом — здесь только сборы на фронт,— он, мне кажется, тем не менее очень емко выражал героическую суть нашего народа.
‹…› Главный герой повести — народ. А олицетворяют его в данном случае жители села Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо — крестьянин Касьян Тимофеевич… Я взял человека средних лет, чтобы показать, ч т о он теряет в связи с войной…
‹…› Главное в ней не сам герой… а идея защиты Родины. Этой идее подчинено все.
‹…› У моего героя фамилии вообще нет, потому что она была не нужна. Но имя я ему дал не случайное: Касьян означает „носящий шлем“.
‹…› В облике „Усвят“ проглядывает… в общих чертах моя деревня. И хоть писал я не свою хату, не своего дядьку, не своего деда, не соседа, но всегда имел в виду мое село, его людей.
‹…› Самой своей повестью я хочу сказать: посмотрите, какой мирный наш народ! Он никому не может угрожать. Конечно, если его побеспокоят, он постоит за себя».
Повесть была воспринята как новое слово в осмыслении темы патриотизма и подвига (Комсомольская правда. 1977. 8 июня). Отмечалась глубокая народность произведения, его связь с предыдущим творчеством писателя, с традициями былинного эпоса и русской воинской повести (Подзорова Н. И остаются сыновья // Лит. газета. 1977. 8 июня).
Повесть не раз инсценировалась. Спектакль Вологодского областного драматического театра удостоен Государственной премии СССР. Труппа Куйбышевского (ныне Самарского) академического театра драмы им. Максима Горького с успехом показала спектакль «Усвятские шлемоносцы» в столице. В конце этого спектакля зрители провожали шлемоносцев, уходящих со сцены, стоя… Шел спектакль и в Центральном академическом театре Советской Армии, в Москве. Одну из лучших постановок «Усвятских шлемоносцев» осуществил Курский драматический театр им. А. С. Пушкина (режиссер В. Гришко). Режиссер А. Сиренко поставил по повести кинофильм «Родник» (Мосфильм, 1982), в 1982 г. на 3-м фестивале молодых кинематографистов Москвы он получил награду за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий, а год спустя — премию Ленинского комсомола.
Повесть переведена на немецкий, болгарский, эстонский и украинский языки. Писатель Виктор Политов сказал о ней: «Для России-матушки это действительно священная книга, которую надо издать в переплете с золотыми застежками. Это наши святцы…»
Фагот, с. 159—187
Впервые опубл.: Москва. 2002. № 5.
Этот последний свой рассказ Евгений Иванович писал по просьбе редакции журнала «Москва» ко Дню Победы, 9 мая, о котором он когда-то так проникновенно поведал в «Красном вине победы». Вышел из печати рассказ уже после смерти автора.
Тысяча верст, с. 188—195
Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1961. 9 дек.
Фронтовые кашевары, с. 195—199
Впервые опубл.: Курская правда. 1975. 1 мая. 9 мая 1985 г. под названием «Дымила кухня на колесах…» опубл. в курской газете «Молодая гвардия».
Тяжко приходилось нашим солдатам на фронте — по многу дней без отдыха, под огнем врага. И как же помогали нашим бойцам незаметные на первый взгляд повара, которые изощрялись как могли, чтобы накормить измученных военной работой людей посытнее, получше. Тепло, сердечно, с юморком рассказывает автор о своем герое — поваре Усове.
Синее перо Ватолина, с. 199—221
Впервые опубл.: Москва. 1995. № 5.
Это один из немногих рассказов писателя непосредственно о войне. Это своеобразный реквием, это плач о нашей многострадальной земле, о наших матерях, о наших детях, которые в пять лет становились стариками, о той вынужденной жестокости, которая рождалась из общей беды. Но даже на этих горестных страницах мы чувствуем тепло писательского сердца, его участие в судьбе своей земли, за которую сражался и он.
Переправа, с. 222—226
Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1975. 9 мая.
Красное вино победы, с. 227—250
Впервые опубл.: Наш современник. 1969. № 11.
Военная история рассказчика вбирает факты биографии самого писателя: после прорыва восточнопрусских укреплений на подступах к Кёнигсбергу (ныне Калининград) в феврале 1945 г. Е. Носов был тяжело ранен. Его подобрали в Мазурских болотах, «промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики», и отправили в госпиталь в подмосковный Серпухов.
В беседе с корреспондентом «Литературной России» Е. Носов сказал: «Мне хочется вызвать внимание к своим героям. У них зачастую что-то не сойдется — как у Копешкина… и без медали с войны вернулся, и умирает…» (Ломунова М. Всем — большим и честным: В гостях у Евгения Носова. Лит. Россия. 1976).
Рассказ многократно переиздавался, переведен на многие иностранные языки, дал название нескольким сборникам писателя, по нему снимались телефильмы, делались инсценировки на радио, в том числе и к 60-летию Победы (2005 г.), вошел в антологию «Шедевры русской литературы XX века» (М., 2002).
Шопен, соната номер два, с. 250—314
Впервые опубл.: Наш современник. 1973. № 3.
«В рассказе „Шопен, соната номер два“,— писала «Литературная Россия»,— вновь по крупицам, по односложным репликам матери, потерявшей почти всех детей-солдат, восстанавливается эпическая, щемящая душу, заставляющая о многом задуматься история целой семьи, выбитой войной под корень» (Чалмаев В. Насущные заботы прозы. Лит. Россия. 1974. 5 апр.). В. Астафьев отмечал в произведениях Е. Носова о войне «осторожность, трепет и уважение к памяти погибших» (Астафьев В. О моем друге // Носов Е. Усвятские шлемоносцы: Повести и рассказы. Воронеж: Центр.-Чернозем. книжное изд-во, 1977).
Костер на ветру, с. 290—314
Впервые опубл.: Курская правда. 1993. 6—7 мая; опубл.: Журавлиный клин. М.: Воскресенье, 2000 под названием «Хутор Белоглин», так же называется сборник рассказов Е. Носова в «Роман-газете» (2000. № 17).
У героя рассказа Алексея — ни семьи, ни настоящего дома, ни здоровья. Но не озлобился человек, не растратил душу свою, добрую и щедрую, рад тому, что ему отпущено: «солнышко, небушко, землица…». Нет у Алексея никаких наград, за этим — горькая правда о забвении истинных героев, не претендующих на ордена и медали. Ребячьи ромашки им всего дороже…
Яблочный Спас, с. 314—331
Впервые опубл.: Москва. 1996. № 5. Переведен на итальянский язык.
…Была у бабы Пули (так дразнят старую женщину, бывшую снайпером на войне) большая любовь, но «…охранщика мово взяло да и убило бомбой, прямым попаданием. Только сапог от него нашла. Выковырнула оторванную ногу, схоронила в утайке, а сапог отмыла и себе взяла на память. И доси берегу…». Вот так, бесхитростно и горько… В кажущейся этой простоте — высокая нравственная сила женской души, которую война перекорежила, растоптала, но победить не смогла…
За этот рассказ Е. Носову присуждена международная премия «Москва — Пенне».
Памятная медаль, с. 332—366
Впервые опубл.: Курская правда. 2000. 14 янв.
Это один из последних рассказов писателя. С удивительной теплотой и одновременно — с большой горечью и болью говорит он об уходящих ветеранах Великой Отечественной, своих побратимах… Как привыкли мы к словам «высокая награда родины»! Получая таковую, люди чаще всего испытывают радость и гордость. Трудно представить себе человека, который считает, что награды не достоин, попросту не заслужил ее. Герой рассказа Петрован не видит ничего героического в том, что произошло с ним на войне, и уверен, что медаль Жукова никак не должна украшать его грудь, раз он «под Жуковым» не служил. Но именно такие вот Петрованы и спасли Россию.
ЗАЩИЩАЯ ЖИЗНЬ…
Статьи, очерки, интервью о войне
Слово о сержанте Борисове, с. 369—375
Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1966. 5 мая (под названием «Парторг»).
С сединою на висках… , с. 375—383
Впервые опубл.: Лит. газета. 1985. 9 янв.
Фанфары и колокола, с. 383—393
Впервые опубл.: Лит. газета. 1990. 9 мая. № 17.
Мемуары и мемориалы, с. 393—405
Впервые опубл.: Юность. 1998. № 5. С. 2—7.
Война всегда не ко времени… , с. 405—411
Впервые опубл.: Труд. 2001. 19—25 апр.
У толпы нет лица, с. 411—417
Впервые опубл.: Правда. 1990. 22 февр.
Подстрочные примечания
1
Не бойтесь (нем.).
(обратно)2
Не плачьте (нем.).
(обратно)3
Хороший! (нем.)
(обратно)4
Бери. Играй! (нем.)
(обратно)5
Конец (нем.).
(обратно)6
Я желаю… (нем.)
(обратно)7
Заключать сделку (нем.).
(обратно)8
Это вино нравится мне (нем.).
(обратно)9
Концерт легкой музыки (нем.).
(обратно)10
Как ты выглядишь? (нем.)
(обратно)11
Чудесно! (нем.)
(обратно)12
Достаточно! Уходим! (нем.)
(обратно)13
Прощайте! (нем.)
(обратно)14
Все вы должны уйти! (нем.)
(обратно)15
Ступайте! (нем.)
(обратно)16
Все уходите! Давайте! (нем.)
(обратно)17
Время не терпит! (нем.)
(обратно)18
Здесь нельзя быть! Здесь фронт! Это карается смертной казнью! (нем.)
(обратно)19
Быстро одевайтесь! (нем.)
(обратно)20
Быстрее, быстрее, чертова баба! (нем.)
(обратно)21
У меня нет времени! (нем.)
(обратно)22
Десять минут! (нем.)
(обратно)Затекстовые комментарии и примечания
1
…в космах сухой куги…— Куга — широколистный рогоз, вид камыша.
(обратно)2
…стращают уремой…— Урема — лес в болотитой низине, кустарник по берегу речек.
(обратно)3
Займище окаймлял по суходолу…— Займище — заповедник, участок земли у реки, поемные луга. Суходол — лощина, долина без воды.
(обратно)4
…хлебных зажинков…— Зажинки — начало жнитва.
(обратно)5
…из обрезка борщевня…— Борщевень, борщевик — растение: «бодран, роженец, опаль, из коего стебля едят живьем» (В. Даль).
(обратно)6
…так называемая Восточная Пруссия…— Пруссия — государство, затем земля в Германии (до 1945 г.). Основное историческое ядро Пруссии — Бранденбург. После разгрома гитлеровской Германии в 1945 г. территория Пруссии была разделена на отдельные земли, в 1947 г. был принят закон о ликвидации Прусского государства как оплота милитаризма.
(обратно)7
Иншие дак и хлеб стали припрятывать.— Инший — иной, другой.
(обратно)8
…как в ту войну, в четырнадцатую.— Имеется в воду 1-я мировая война (1914—1918).
(обратно)9
…постербают бесплатного кулешу.— Стербать, стербануть — хлебать. Кулеш, куляш — жидкая каша из пшена, вообще жидкая каша.
(обратно)10
В дышле и бежали…— Дышло — тяга.
(обратно)11
…по… округлым стегнам…— Стегно — бедро, ляжка.
(обратно)12
…как полусухой чернобыл…— Чернобыл — крупный вид полыни.
(обратно)13
…на свой стариковский салтык…— На свой салтык — на свой лад.
(обратно)14
…по омежью…— Омежье — участок земли вдоль межи — леска.
(обратно)15
…за пагольником лежала… повестка…— Паголенки — часть чулка, валенка, сапога, охватывающая голень.
(обратно)16
…чуть ли не беремя луку…— Беремя — ноша. (Пояснение неверно; здесь: большая охапка, вязанка.— Примеч. верстальщика.)
(обратно)17
Мукден, может, слыхал? — Мукден (Шэньян) — город в Китае, на р. Хуньхэ, административный центр провинции Ляонин, в 1625—1644 гг.— столица Маньчжурского государства; при династии Цин (1644—1911) считался второй столицей Китая.
(обратно)18
…город в манжурской земле.— Маньчжурия — историческое название современной северо-восточной части Китая.
(обратно)19
Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты.— Германская — народное название 1-й мировой войны (1914—1918). 5/18 августа — 8/21 сентября 1914 г. произошла Галицийская битва. В ходе ее войска русского Юго-Западного фронта отразили наступление четырех австро-венгерских армий в Галиции (историческое название западноукраинских и польских земель) и Царстве Польском (название части Польши, вошедшей в состав России в 1815 г. по решению Венского конгресса 1814—1815 гг.).
(обратно)20
…нареченный Касияном…— Память преподобного Кассиана (так в православных святцах пишется это имя) Римлянина отмечается 29 февраля (по церковному календарю).
(обратно)21
Прохор… отыщем Прохора…— Церковь празднует день св. Прохора, апостола от 70-ти, 28 июля (10 августа нов. ст.).
(обратно)22
…Алексей — это вроде как защитник.— Алексий — защитник (в пер. с греч.).
(обратно)23
…Никола… победитель! — Николай — побеждающий народ (в пер. с греч.).
(обратно)24
…и про Афоню-кузнеца…— Афанасий — бессмертный (в пер. с греч.).
(обратно)25
…на загнетке…— Загнетка — углубление на левой стороне русской печи, в которое сгребается раскаленный уголь.
(обратно)26
…в… глёчике…— Глёк, глёчик — глиняный горшок.
(обратно)27
Книга у него такая, старинных письмен.— Видимо, имеются в виду православные святцы — в них перечислены святые и праздники по порядку месяцеслова. Святцы с изображениями называются лицевыми. Лучшие лицевые святцы написаны академиком живописи Федором Григорьевичем Солнцевым.
(обратно)28
…погромыхивал в избе рубель…— Рубель — гладильный валек.
(обратно)29
…под стропильной латвиной.— Латвина, латвинь — слега, тонкий пиленый лес, идущий под тес.
(обратно)30
…деревянный корец…— Корец — мучной ларь.
(обратно)31
…разволнуется подмаренниками.— Подмаренник — травянистое растение семейства мареновых, с желтыми или белыми мелкими цветками.
(обратно)32
…а кто с бельем и пральником.— Пральник — стиральная скалка.
(обратно)33
…задергивали чистым суровьём…— Суровьё — сурой, необделанный товар: шерсть, пенька и др.
(обратно)34
…в черном чепраке…— Чепрак — суконная, меховая, ковровая подстилка под конское седло.
(обратно)35
Эка рясна!..— Рясный — красивый; рясно — украшение, ожерелье.
(обратно)36
Буробь.— Буробить — врать.
(обратно)37
…заглядывая через прясла.— Прясло — часть забора между двумя столбами.
(обратно)38
Мечталось завести даже донцов…— Донец — порода лошадей (с Дона).
(обратно)39
…а на пыльном гузье — свежие полосы…— Гузво — низ, огузок снопа. (И написание слова в цитируемом тексте, и комментарий к нему неверны: имеется ввиду гузно — гузка, зад, задница, ягодицы. (Опечатки и подобные им несомненные ошибки оригинала исправлены без уведомления комментарием.) — Примеч. верстальщика.)
(обратно)40
…кривулистые, имками, ноги.— Имка — ухват, рогач (кур.).
(обратно)41
…жердяную гатку.— Гать, гатка — дамба, запруда, проход, переход через болото.
(обратно)42
…во времена Крымской кампании.— Речь идет о Крымской (Восточной) войне 1853—1856 гг.
(обратно)43
…богатырь Иван Поддубный…— Иван Максимович Поддубный (1871—1949) — спортсмен, артист цирка. Работал в различных цирках России, гастролировал за рубежом. За 40 лет выступлений ни разу не потерпел поражения.
(обратно)44
…бронзовый старообрядческий складенек…— Складень — складная икона из двух, трех или более створок.
(обратно)45
Как раз «Волгу-Волгу» показывают.— «Волга-Волга» (1938) — кинофильм, поставлен режиссером Г. В. Александровым (1903—1983): в главной роли снялась Любовь Петровна Орлова (1902—1975); композитор — Исаак Осипович Дунаевский (1900—1955). Эта жизнеутверждающая, подлинно народная комедия не устарела и поныне, песни из нее зазвучали по всей стране.
(обратно)46
На этот раз паленым донесло с Карельского перешейка. …белофинский барон Маннергейм…— 30 ноября 1939 г. части Красной армии вступили на территорию Финляндии, началась советско-финляндская («зимняя») война (1939—1940). 14 декабря 1939 г. СССР в связи с нападением на Финляндию был исключен из Лиги Наций. В феврале — марте 1940 г. части Красной армии прорвали «линию Маннергейма» и взяли Выборг («линия Маннергейма» — система бывших финляндских укреплений на Карельском перешейке, вдоль границы Финляндии с СССР; в 1944 г. все эти укрепления были разрушены). 12 марта 1940 г. был заключен мирный договор между СССР и Финляндией (с передачей Советскому Союзу Карельского перешейка и Выборга).
(обратно)47
…стоит легендарная «Аврора»…— «Аврора» — крейсер Балтийского флота. Построен в 1903 г. Участвовал в Цусимском сражении. Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 г. из носового орудия «Авроры» был дан холостой выстрел, ставший сигналом к захвату Зимнего дворца большевиками — к началу вооруженного восстания в Петрограде. С 1956 г. на «Авроре» — филиал Центрального военнно-морского музея.
(обратно)48
…пронзительной дзигановской трагедией «Мы из Кронштадта»…— Кинофильм «Мы из Кронштадта» (1936) — самая известная, вершинная работа режиссера Ефима Львовича Дзигана (1898—1981).
(обратно)49
…направили солдатские кирзачи в Прибалтику… порешили вопрос и о румынской Бессарабии… протянули руку помощи и Северной Буковине.— 15—17 июня 1940 г. советские войска были введены в Латвию, Литву и Эстонию (после предъявления правительствам этих стран обвинений в нарушении договора о взаимопомощи); 17—21 июня в Латвии, Литве и Эстонии были созданы просоветские правительства (21 июня все три страны были провозглашены советскими социалистическими республиками, а 3—6 августа включены в состав СССР). 28—30 июня 1940 г. советские войска были введены в Румынию и заняли Бессарабию и Северную Буковину; 2 августа 1940 г. была образована Молдавская ССР (в результате присоединения к Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, большей части Бессарабии).
(обратно)50
…танковые клинья Гудериана вышли к Днепру.— Хайнц Вильгельм Гудериан (1888—1954) — немецкий военачальник, генерал-полковник. Во 2-ю мировую войну командовал танковым корпусом, танковой группой и армией (до декабря 1941 г.).
(обратно)51
…проникновенное обращение Молотова…— Вячеслав Михайлович Молотов (1890—1986) — советский государственный и политический деятель, в 1930—1941 гг.— председатель Совета народных комиссаров СССР. 22 июня 1941 г., в полдень, именно он зачитал обращение советского правительства к народу, к стране о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
(обратно)52
…в замасленной камилавке…— Камилавка — шапка у священнослужителей: у монашествующих — черная, у белого духовенства — фиолетовая. Здесь слово это использовано не буквально, а по схожести головного убора, который носил Кузьмич, с камилавкой.
(обратно)53
…в дымном небе появлялся наш Су-2, одномоторный бомбач…— самолет-истребитель со стреловидным и треугольным крылом, созданный конструктором Павлом Осиповичем Сухим (1895—1975).
(обратно)54
…пронеслась четверка «лавочкиных»…— «Лавочкины» — самолеты авиаконструктора Семена Александровича Лавочкина (1900—1960).
(обратно)55
Это был Рокоссовский.— Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский (1896—1968) в годы Великой Отечественной войны командовал армией, Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусским фронтами. Войска под командованием Рокоссовского участвовали в Московской, Сталинградской, Курской битвах, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях.
(обратно)56
Вот как под Волковыском…— Волковыск — город в Белоруссии на р. Россь.
(обратно)57
…мы пришли от самых стен Сталинграда.— В районе Сталинграда и в самом городе 17 июля 1942 г.— 2 февраля 1943 г. силами Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного и Донского фронтов (с советской стороны) была осуществлена грандиозная Сталинградская битва. Советские войска окружили 22 вражеские дивизии и ликвидировали вражескую группировку. Победа в Сталинградской битве имела огромное политическое, стратегическое и международное значение.
(обратно)58
Нас подобрали в Мазурских болотах…— Мазурские озера (болота) — группа озер ледникового происхождения на северо-востоке Польши; соединены протоками и каналами.
(обратно)59
…шли уже где-то по полям Померании… вслушиваясь в сводки Совинформбюро…— Померания — герцогство (с 1170 г.) на побережье Балтийского моря, в 1815—1945 гг.— прусская провинция; главный город — Штеттин (совр. Щецин, административный центр Щецинского воеводства, Польша). Совинформбюро — Советское информационное бюро — политический орган по руководству средствами массовой информации и ее распространению (1941—1961).
(обратно)60
…отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа.— МОПР (Международная организация помощи борцам революции) — коммунистическая благотворительная организация, оказывавшая денежную и материальную помощь осуждённым революционерам.— Примеч. верстальщика.
(обратно)61
…за узкую ассирийскую лопаточку бороды.— Ассирийцы (айсоры, самоназвание — атураи) — народ в странах Ближнего Востока. Живут также в США, России, Иране, Ираке, Турции и др.
(обратно)62
К маленькой станции Прохоровке…— Прохоровка — поселок городского типа в Белгородской обл., в 56 км к северу от Белгорода. В ходе Курской битвы в районе Прохоровки 12 июля 1943 г. произошло крупнейшее во 2-й мировой войне танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий), завершившееся поражением немецко-фашистских войск.
(обратно)63
…наши самоходки и тридцатьчетверки…— Тридцатьчетверка — Т-34 — лучший средний танк 2-й мировой войны (конструктор — Михаил Ильич Кошкин; 1898—1940).
(обратно)64
…к Днепру…— В оригинале ошибочно: «к Днестру». Исправлено по изд.: Носов Е. И. Шопен, соната номер два // Усвятские шлемоносцы : Повесть, рассказы / Евгений Носов. М.: Сов. писатель, 1986.— Примеч. верстальщика.
(обратно)65
Люди вдали безмолвно, по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины.— В оригинале ошибочно: «…и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло…». Исправление сверено по указ. изд. 1986 г.— Примеч. верстальщика.
(обратно)66
У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? — Орден Славы (трех степеней) учрежден в период Великой Отечественной войны, в 1943 г., для награждения лиц рядового, сержантского и старшинского состава.
(обратно)67
…был инструктор ДОСААФа Бадейко.— ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту — военно-патриотическая оборонно-спортивная организация в СССР (1948—1991).
(обратно)68
Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию.— В оригинале ошибочно: «Но вот поставлен…». Исправлено по указ. изд. 1986 г.— Примеч. верстальщика.
(обратно)69
С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками…— В оригинале ошибочно: «С пролетом грачей ветер окончательно загустел…». Исправление сверено по указ. изд. 1986 г.— Примеч. верстальщика.
(обратно)70
…забирай свою иерихонскую.— Иерихонская труба — выражение из Библии (см. книгу Иисуса Навина, главу 6). Стало крылатым, обозначает громкое, трубное звучание.
(обратно)71
…праздничный марш: «Утро красит нежным светом…» — Песня «Москва майская» (музыка Д. Я. Покрасса, слова В. И. Лебедева-Кумача) впервые прозвучала в кинофильме «Двадцатый май» (1937).
(обратно)72
Бременские музыканты…— Сказка братьев Гримм (по ней был снят мультипликационный фильм-фантазия Василия Ливанова и Юрия Энтина, музыку к которому написал композитор Геннадий Гладков). Здесь дано как сравнение, с доброй улыбкой.
(обратно)73
…прижался Авдей Егорыч.— Так в оригинале. Возможно, следует: «признался».— Примеч. верстальщика.
(обратно)74
Почище Васи Тёркина. ‹…› Да за такие дела тебе Героя с ходу надо бы давать.— Василий Тёркин — герой одноименной поэмы А. Т. Твардовского.
(обратно)75
…кострикой заваленный.— Кострика, костра — жесткая часть стебля волокнистых растений (льна, конопли), раздробляемая и отделяемая от волокна при мятье, трепании.
(обратно)76
приходской священник отправлял свою службу прямо на паперти… икона с образом Спаса…— Приход — церковная община, подчиненная священнику. Паперть — внешний притвор, крыльцо храма.
(обратно)77
…детское голубое ведерко с ушастым Гурвинеком на боку…— Гурвинек — кукольный персонаж, созданный чешским театральным деятелем Йосефом Скупой (1926 г.).— Примеч. верстальщика.
(обратно)78
…по бесшабашному вскрику ливенки…— Ливенка — название знаменитой гармоники, производством которой исстари славились Ливны — город в Орловской обл.
(обратно)79
…начался Яблочный Спас.— Так иногда называют праздник Преображения Господня (1/19 августа). В этот двунадесятый непереходящий праздник после литургии совершается освящение винограда и плодов. (В оригинале Яблочный Спас по ст. ст. ошибочно датирован 1-м августа вместо 6-го; на 1 (14) августа приходится Медовый (Маковый, Первый) Спас.— Примеч. верстальщика.)
(обратно)80
…похожие на китайские пагоды…— Пагода — буддийское мемориальное сооружение и хранилище реликвий.
(обратно)81
…занавешенная посконью.— Посконь — рубашечный холст из конопли.
(обратно)82
…не такие в нетелях остались.— Нетельный — бесплодный.
(обратно)83
…по хозяйским мызам.— Мыза — двор, имение.
(обратно)84
…болотные мшары…— Мшара, мшарь, мшина, моховина, мшарник — мшистое болото, мох по топи.
(обратно)85
…пулями напорскало.— Порскать — прыскать.
(обратно)86
…сущее перевясло! — Перевясло — завязка снопа.
(обратно)87
…похожий на равноапостольного святого — разлюбезного целителя Пантелеймона…— Великомученик целитель Пантелеймон исцелял безмездно (безвозмездно) силою Христа. Этот прекрасноликий юноша был обезглавлен в 305 г. при императоре Максимилиане. Церковь причислила его к лику великокомучеников, равноапостольных, но великомучеников. Писатель называет его равноапостольным, скорей всего подчеркивая огромную любовь народа к этому святому. Герой рассказа — старый, седой Петрован после баньки несет в себе огромный заряд здоровья — и телесного, и душевного, так что и другим рядом с ним легко. Отсюда, видимо, сравнение с всенародно почитаемым целителем.
(обратно)88
…по самые матицы…— Матица — потолочный брус.
(обратно)89
Маршала Жукова дали.— Медаль Жукова учреждена в Российской Федерации в честь маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова (1896—1974).
(обратно)90
У нас генерал-лейтенант Курочкин, Павел Ляксандрыч.— Павел Алексеевич Курочкин (1900—1987) — генерал армии (1959), Герой Советского Союза. Герой рассказа забыл за давностью лет отчество этого военачальника, но любовь к нему сохранил.
(обратно)91
…верили в нее, как в «Отче наш».— «Отче наш» — молитва Господня.
(обратно)92
«Катюшу» хором врезали…— «Катюша» — одна из самых любимых, истинно народных русских песен (1939); между тем у нее есть авторы: композитор М. И. Блантер и поэт М. В. Исаковский.
(обратно)93
…по тверским заволочьям…— Заволочье — место или сторона за волоком (волок — перешеек между двух рек, где переволакивают лодки или товар с них с одной речки на другую); глухой лес, непроезжий бор, из которого лето и зиму выволакивают бревна на катках — волоках.
(обратно)94
«Вот околотень! Ну, бродень!» — Околотень — человек, дошедший до крайности, до крайней нужды. Бродень — бродяга, шатун, скиталец.
(обратно)95
…начинали под Рогачевом с форсирования Друти.— Рогачев — город в Белоруссии, пристань на Днепре, у впадения р. Друть.
(обратно)96
Мальчишками форсировавшие Днепр…— В ходе битвы за Днепр (25 августа — 23 декабря 1943 г.) многие советские воины были отмечены государственными наградами за форсирование этой водной преграды.
(обратно)97
От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик…— Верховный Совет СССР — высший орган государственной власти СССР (с 1936 г.).
(обратно)98
Я на Северном флоте служил…— Северный флот создан в СССР в 1937 г. на базе Северной военной флотилии (сформирована в 1933 г.) для обороны Заполярья. В Великую Отечественную войну обеспечивал внешние и внутренние морские перевозки, действовал на морских коммуникациях противника, поддерживал сухопутные войска, высаживал тактические десанты, оборонял побережье; в 1944 г. участвовал в Петсамо-Киркенесской операции.
(обратно)99
…Толстой и его «Война и мир». Он создавал роман спустя полвека после войн с Наполеоном… образ капитана Тушина у Льва Николаевича сложился… на севастопольских бастионах, где ему самому довелось понюхать доподлинного пороху… пушки, гремевшие на Бородино…— Роман «Война и мир» написан Львом Николаевичем Толстым в 1863—1869 гг. Капитан Тушин — один из героев толстовского романа-эпопеи. Л. Н. Толстой — участник обороны Севастополя (1854—1855). Проведя несколько месяцев в осажденном городе, двадцатишестилетний писатель запечатлел увиденное в цикле рассказов: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», а также в «Песне про сражение на реке Черной 4 августа 1855 года».
(обратно)100
…не превзойти «Слова о полку Игореве»…— Е. И. Носов много раз обращался в своем творчестве к бессмертному «Слову о полку Игореве»: оно для него — критерий высокого в творчестве, недосягаемая вершина. См. примечания в тт. 1—3.
(обратно)101
…снятого старинными камерами «Чапаева»…— «Чапаев» (1934) — фильм кинорежиссеров и сценаристов Георгия Николаевича и Сергея Дмитриевича Васильевых (псевдоним — братья Васильевы).
(обратно)102
…годы революции, Гражданской войны, познавали их из правды «Тихого Дона», «Хождения по мукам», «Разгрома», «Железного потока»…— «Тихий Дон» — роман Михаила Александровича Шолохова (1905—1984). «Хождение по мукам» — роман Алексея Николаевича Толстого (1882/83—1945). «Разгром» — роман Александра Александровича Фадеева (1901—1956). «Железный поток» — роман Александра Серафимовича Серафимовича (1863—1949).
(обратно)103
…вспоминаю самого себя в «Багратионе».— «Багратион» — Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.), в ходе которой была освобождена территория Белоруссии и ее столица Минск (3 июля), значительная часть Литвы и ее столица Вильнюс (13 июля), восточные районы Польши. Советские войска вышли к Восточной Пруссии.
(обратно)104
Маршал Еременко в своих воспоминаниях…— Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Андрей Иванович Еременко (1892—1970) в годы Великой Отечественной войны командовал войсками Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, Калининского, 1-го и 2-го Прибалтийских, 4-го Украинского фронтов. Автор мемуаров: «В начале войны», «На западном направлении», «Годы возмездия».
(обратно)105
…добывать огонь кресалом…— Кресать — высекать огонь.
(обратно)106
…и облетов «рамы»…— немецкий самолет-разведчик (в годы 2-й мировой войны).
(обратно)107
…перед нашими капонирами…— Капонир — стрелковый окоп, крытый ход.
(обратно)108
…как у пермского божка…— Имеется ввиду пермская деревянная скульптура (в основном на евангельские сюжеты), созданная в Приуралье в XVII — начале XX в.; во всех этих произведениях народных мастеров ощутимы корни язычества.
(обратно)109
…грозные редуты…— Редут — полевое земляное укрепление с наружным рвом и валом, применявшееся до XX в.
(обратно)110
…свою упраздненную «Красную Звезду»…— Орден Красной Звезды — государственная награда СССР, учрежден в 1930 г.
(обратно)111
…из свиридовской сюиты «Время, вперед!»…— Сюита к кинофильму «Время, вперед!» режиссера М. А. Швейцера (1965) по одноименному роману В. П. Катаева.
(обратно)112
Приказ 227 «Ни шагу назад!»…— Приказ наркома обороны СССР И. В. Сталина № 227 («Ни шагу назад») о создании заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и батальонов от 28 июля 1942 г.
(обратно)113
…курган Е. Вучетича в Волгограде.— Скульптор, народный художник СССР Евгений Викторович Вучетич (1908—1974) — автор героико-символических монументов, посвященных героизму советских воинов: мемориального ансамбля Трептов-парке (Берлин, 1946—1949), на Мамаевом кургане (Волгоград, 1970).
(обратно)114
…днестровский град… под названием Аккерман.— Аккерман — название Белгорода-Днестровского (Украина) до 1918 г. и в 1940—1944 гг. Основан славянами в IX в. под названием Белгород на месте древнегреческого г. Тира.
(обратно)115
…на овражной окраине Коренной пустыни…— Коренная Курская Рождество-Богородицкая пустынь — мужской монастырь близ Курска. Основан в 1597 г. на месте явления чудотворной иконы Божьей Матери: икона получила название по месту обретения — у корней дерева — Курская Коренная: так была названа и святая обитель.
(обратно)116
…Костя Воробьев.— Константин Дмитриевич Воробьев (1919—1975) — русский писатель, участник Великой Отечественной войны; автор автобиографических повестей «Крик», «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!..». В 2001 г. (посмертно) вместе с Е. И. Носовым удостоен премии А. И. Солженицына.
(обратно)117
…оба начали печататься в «Новом мире» еще при Твардовском.— Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) — русский поэт. В 1950—1954, 1958—1970 гг. — главный редактор журнала «Новый мир». В журнале «Новый мир» напечатаны рассказы А. И. Солженицына.
(обратно)118
…Александр Исаевич и я воевали в одних и тех же местах: вместе оказались на Рогачевском плацдарме за Днепром.— Александр Солженицын был призван в действующую армию 18 октября 1941 г. Сначала он был ездовым. В ноябре 1942 г., по окончании артиллерийского училища в Костроме в звании лейтенанта получил назначение на должность командира батареи 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Прошел боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Евгений Носов был призван в армию в 1943 г. С боями артиллерист Носов дошел до Восточной Пруссии, на подступах к Кёнигсбергу был ранен. День победы он встретил в серпуховском госпитале (об этом — рассказ «Красное вино победы»).
(обратно)119
С Александром Солженицыным судьба обошлась еще круче… он был арестован за свободомыслие в почтовой переписке и на долгие годы попал за колючую проволоку ГУЛАГа.— ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. Действовало в 1934—1956 гг. в системе НКВД (МВД) СССР. Арестованный 9 февраля 1945 г. за не слишком почтительное высказывание о Сталине, А. Солженицын был осужден на восемь лет лагерей. В 1973 г. вышла в свет его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Писатель показал систему жестоких репрессий, бесчеловечного произвола и беззаконий, царившую в Советском государстве. Само понятие «ГУЛАГ» с тех пор стало символом тоталитаризма.
(обратно)
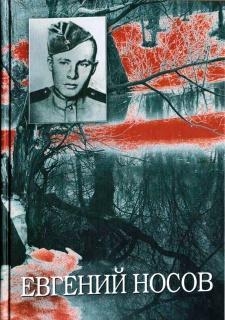

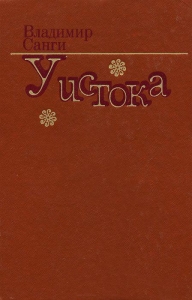

Комментарии к книге «Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…», Евгений Иванович Носов
Всего 0 комментариев