Антон Семенович Макаренко Педагогические поэмы: «Флаги на башнях», «Марш 30 года», «ФД-1»
К 125-летию со дня рождения Антона Семеновича Макаренко
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
© С. С. Невская, составление, вступительная статья, примечания, 2013
© Издательство ИТРК, 2013
* * *
От составителя
История создания педагогических поэм А. С. Макаренко: «Флаги на башнях», «Марш 30 года», «ФД-1»
Историю создания гордого и красивого детско-взрослого воспитательного трудового коллектива А. С. Макаренко раскрыл в «Педагогической поэме», а его триумф и высшую стадию развития изобразил в последнем своем произведении «Флаги на башнях». Эта последняя педагогическая эпопея впервые увидела свет при жизни педагога-писателя. Как роман (!) «Флаги на башнях» был опубликован по частям в 6–8 номерах журнала «Красная новь» за 1938 год.
Недоброжелательные к А. С. Макаренко и его творчеству критики неодобрительно восприняли этот роман. В этом же году книга готовится к отдельному изданию и выходит в свет сразу после смерти автора. В дальнейшем переиздаваться будет именно это отдельное издание и, к сожалению, с новыми редакторскими правками.
Редактор повести «Флагов на башнях» Ю. Лукин во вступительном слове к книге писал: «Антон Семенович Макаренко закончил редактирование текста романа для отдельного издания и написал вступительную главу ко второй части в самом конце марта». Речь идет о главе «Не может быть!». Глава усиливает полемическую заостренность произведения, хлестко бьет по бессмысленным и абсурдным попыткам псевдопедагогов взять под сомнение научно-педагогическую значимость произведения и их аргументацию – «не может быть».
Таким образом, А. С. Макаренко идет на уступки редакции (и критики!): роман превращается в повесть, сокращаются многие фрагменты текста, для второй части пишется новая первая глава «Не может быть!», в третьей части исчезает лирическая глава «На всю жизнь», изменяется тональность описания героев, уничтожаются все ласковые эпитеты, характеризующие колонистов.
О новой главе «Не может быть!» следует сказать особо. В ней А. С. Макаренко (он же персонаж Захаров) высказывает мысль, «что воспитание нового человека – дело счастливое и посильное для педагогики», «что „испорченный ребенок“ – фетиш педагогов-неудачников», но «это больше всего раздражало любителей старого (…) Старое – страшно живучая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться. Казалось бы, что может быть священнее детской радости и детского роста? И все это утверждают, и все исповедуют, но…»[1]. А далее автор ставит отточия.
Это был своеобразный ответ литературным критикам, отозвавшимся на публикацию «Флагов» в журнале «Красная новь» (А. Флит «А. Макаренко. Дети в сиропе: Фрагменты „медового романа“»[2], рецензия А. Рагозина «Флаги на башнях»[3], статья М. Лоскутова «Два писателя»[4] и др.). Авторы критических статей не верили тому, что идеальный детский коллектив и идеальные отношения в нем возможны. Возьмем, к примеру, высказывание Лоскутова из его статьи «Два писателя»: «Нужно отдать справедливость – мастерство автора «сделало» книгу и держит ее довольно продолжительное время в высокой температуре напряженного читательского интереса, создавая впечатление, что автор «доказал» книгу. Но эта температура нагнетается чисто литературными калориферами. В чудесном саду колонии, созданном автором, щелкают искусственные соловьи. Некоторое время читатель бродит по этому саду, плененный и растроганный красотой пейзажа, чистотой атмосферы, благородством человеческих отношений; здесь родимые пятна капитализма в сознании людей растворяются почти автоматически, в чудесной непреоборимой среде, созданной силой человеческого коллектива. И в этом – ценность, ибо: это книга – творческое перевоплощение некоей авторской мечты, – вид литературного произведения, несомненно, имеющий право на существование».
За что только не ругали А. С. Макаренко: за надуманность и фальшь, утопию, за повествование от третьего лица и т. п.
Существует версия, что будто бы И. В. Сталин, давая согласие на награждение А. С. Макаренко орденом Трудового Красного Знамени (начало 1939 года), сказал: «Пусть пишет свои сказки!»
А. С. Макаренко должен был «отбиваться», выступая публично на диспутах, а также в печати по поводу необоснованной критики «Флагов». Так, в открытом письме Ф. Левину, адресованному в редакцию журнала «Литературный критик», он писал:
«В статье своей Вы вспоминаете: „Наша критика, и автор этих строк в том числе, приветствовали появление «Педагогической поэмы»“.
Давайте уточним. Вы и другие критики „приветствовали“ мою первую книгу… через 2–3 года после ее появления. Между прочим, в вашей статье было и такое выражение:
„…Материал, столь несовершенный по своему художественному мастерству…“. Теперь Вы выступили со статьей по поводу „Флагов на башнях“. В этой статье, даже не приступив к разбору мой повести, Вы более или менее деликатно припоминаете, что „некоторые молодые авторы плохо учатся и плохо растут (…)“
Одним словом, Вы продолжаете свою линию, намеченную еще в 1936 г. – линию исключения меня из литературы.
(…) В моей повести „Флаги на башнях“ Вы указываете, собственно говоря, один порок, но чрезвычайно крупный: повесть – это „сказка, рассказанная добрым дядей Макаренко“. Все в ней прикрашено, разбавлено розовой водой, подправлено патокой и сахарином, все это способно «привести в умиление и священный восторг самую закоренелую классную даму института благородных девиц (…)
…Вас это страшно возмущает. Вы не допускаете мысли, что такая счастливая детская жизнь возможна в Советском Союзе. Вы думаете, что рассказанное мною – сказка (Лоскутов в „Литературной газете“ думает, что это моя мечта).
…«Флаги на башнях» – это не сказка и не мечта, это наша действительность. В повести нет ни одной выдуманной ситуации, очень мало сведенных образов, нет ни одного пятна искусственно созданного колорита»[5].
Как отмечено выше, во время подготовки «Флагов на башнях» к новому изданию Антон Семенович сокращает отдельные эпизоды, делает перестановку нескольких глав, объединяет четыре главы в две в первой части, доведя их до тридцати и т. д. Это свидетельствует о том, что к критическим замечаниям своих оппонентов Антон Семенович отнесся со всей серьезностью. В письме редактору «Литературной газеты» Ольге Сергеевне Войтинской А. С. Макаренко пишет:
«Прошу Вас передать т. Мих. Лоскутову мою горячую благодарность за благородный товарищеский тон его статьи „Два писателя“. После заушательства т. Бойма этот тон особенно для меня приятен.
Это вовсе не значит, что я во всем согласен со статьей т. М. Лоскутова. Между прочим, и в романе „Флаги на башнях“ вовсе не отразилась моя мечта. Все описанное в романе есть настоящая советская действительность, почти без выдумки. Как видите, в этом случае повторяется анекдот, известный по главному своему выражению: „не может быть“. Но это, конечно, категория не литературного порядка»[6].
Итак, новая глава «Не может быть!» – ответ автора критикам. Глава начинается словами: «Колония им. Первого мая заканчивает седьмой год своего существовании, но коллектив, собравшийся в ней, был гораздо старше. Его история началась довольно давно, на второй день после Октября, в другом месте, в совершенно ином антураже, среди полей и хуторов старой полтавской степи»[7]. А. С. Макаренко подтверждает документальность событий, описанных в произведении, которые проходили в начале 1930-х годов в коммуне Ф. Э. Дзержинского – в годы ее наивысшего рассвета.
* * *
Сохранившиеся архивные материалы, личная переписка, рукописи А. С. Макаренко позволяют наиболее полно раскрыть историю создания «Флагов на башнях». В «Флагах» повествуется о триумфальном этапе истории славного коллектива, изображенного в «Педагогической поэме».
В 1932–1935 гг. Антон Семенович работает над второй и третьей частями «Педагогической поэмы», первая часть которой с 1933–1934 гг. уже печатается в горьковском альманахе. В письме А. М. Горькому от 26 января 1935 г. он пишет: «Начал третью часть „Педагогической поэмы“, которую надеюсь представить к альманаху седьмому»[8]. Через восемь месяцев (28 сентября) Антон Семенович сообщает Алексею Максимовичу: «Большая и непривычная для меня работа „Педагогическая поэма“ окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы»[9].
В ответном письме А. М. Горький поздравил Антона Семеновича с окончанием работы: «Дорогой Антон Семенович, третья часть „Поэмы“ кажется мне еще более ценной, чем первые две. С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжанами, да и вообще очень многое дьявольски волновало… Хорошую Вы себе „душу“ нажили, отлично, умело она любит и ненавидит»[10].
Следует признать, что помощь А. М. Горького в издании «Поэмы» была поистине бесценной. С выходом книги А. С. Макаренко стал самым читаемым и популярным автором в стране и за рубежом. Издается отдельное издание «Поэмы», готовятся ее переводы на украинский и английский языки.
Смерть А. М. Горького 18 июня 1936 года стала огромной утратой для А. С. Макаренко. Он пишет воспоминания: «Максим Горький в моей жизни» (альманах «Год XIX», кн. 10, 1936), «Мой первый учитель», «Большое горе». Последние две работы опубликованы на украинском языке в том же 1936 году. Дорогие ему письма Алексея Максимовича А. С. Макаренко передает в архив.
Зимой 1937 года А. С. Макаренко переезжает с семьей в Москву. В члены Союза писателей Антон Семенович был принят еще в 1934 году. Теперь же он сотрудник ССП. Работа для него новая, вдали от коммунаров. В Москве он делает первые наброски новой книги о коммунарах. Задумка была проста: продолжить историю горьковского коллектива, прекрасно описанную в «Педагогической поэме», раскрыть историю жизни этого коллектива в условиях серьезного производства коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. Было придумано и условное название «Ворошиловцы». 29–30 апреля 1937 г. Антон Семенович составляет обширный список действующих лиц, делает наброски сюжета, отмечает дату и место, где написан тот или иной материал. Так мы узнаем, что в марте-апреле 1938 г. в Малеевке, затем в Москве он работает над общим планом книги, набрасывает эпизоды первой части.
8 это же время А. С. Макаренко пишет сценарий, в котором развивается тема «Ворошиловцев». Сохранилась рукопись, озаглавленная «Колонисты. Роман». Указано время работы над рукописью: 8 января – 18 марта 1938 г. Здесь впервые появляется будущее название книги «Флаги на башнях», но оно является лишь наименованием одной из глав. В архиве хранится машинопись, названная «Флаги на башнях. Роман». В двух машинописных вариантах сохранилась глава «Не может быть!». В конце машинописи указана дата: «Москва-Ялта, 1938 г.». В начале апреля 1938 г. была написана первая часть «Флагов на башнях», в начале мая – вторая, а третья часть была начата в мае и завершена в середине июня в Ялте.
В Ялте произошла встреча А. С. Макаренко с кинорежиссером и сценаристом М. А. Барской. Завязалась крепкая дружба. Они вместе работали над сценарием «Флаги на башнях» для художественного фильма, но этим планам не суждено было осуществиться. Два талантливых человека ушли из жизни в 1939 году.
Следует провести параллель между очерком «Марш 30 года», повестью «ФД-1» (не изданной при жизни автора и частично потерянной), пьесой «Мажор» и «Флагами на башнях».
«Марш 30 года» А. С. Макаренко начал писать осенью 1930 года. В 1932 г. при поддержке А. М. Горького очерк был опубликован в государственном издательстве «Художественная литература». В очерке раскрывается история коммуны им. Ф. Э. Дзержинского с 1927 по 1930-е годы.
В марте-апреле 1932 г. в Москве в гостинице «Маяк» во время своего отпуска Антон Семенович написал повесть «ФД-1». Рукопись он сдал в ГИХЛ осенью 1932 г. Хронологически «ФД-1» продолжила события, изображенные в «Марше 30 года», охватив 1931–1932 гг., когда произошел пуск завода электроинструмента в коммуне.
Над пьесой «Мажор» Антон Семенович работал в 1932–1933 годы.
История написания первого драматургического произведения чрезвычайно интересна. Первый вариант пьесы был написан зимой 1932–1933 года, но в летнем походе 1932 года рукопись была похищена. 19 августа 1933 года А. С. Макаренко пишет Г. С. Салько, с которой он состоит в гражданском браке (в 1935 г. брак был зарегистрирован), что хлопочет об отпуске в сентябре. И добавляет: «Настроение у меня сейчас боевое, хотя и напряженное. В Москве хочу обязательно восстановить пьесу, но я думаю, что и отдохнуть успею. Всякая работа вне коммуны будет уже отдыхом». В следующем письме от 22 августа он пишет: «Для того чтобы вырваться в отпуск в первых числах сентября, мне нужно проделать страшную работу: все это очень неповоротливые дела – выпуск, прием новых, пуск рабфака. Я работаю, как маховик, и много писать и тебе не буду, не обижайся, пожалуйста»[11].
8 сентября А. С. Макаренко уже был в Москве. Этот отпуск изменил всю дальнейшую жизнь педагога-писателя. Здесь состоялась встреча с А. М. Горьким. В этот день в письме Г. С. Салько он сообщает: «Завтра начинаю действовать. Прежде всего, иду к Горькому. Он интересен в двух отношениях: квартира и работа в издательстве. Есть, правда, еще и третье отношение, но не знаю, стоит ли за это браться. Кононенко взял у меня прочитать „Горьковскую колонию“ и прибежал ко мне на другой день в восторге. Все ему нравится, и в особенности язык»[12]. «Горьковская колония», «Горьковская история» – это первоначальное название «Педагогической поэмы». Рукопись первой части, написанную еще в 1925 году, Антон Семенович взял в Москву. В письме Г. С. Салько от 19 сентября он сообщает: «Сегодня целый день сижу над Горьковской. Очень жаль, что не могу завтра отнести А. М. все, а придется показать только несколько глав, и то не самые лучшие. Я так напуган неудачей с «ФД-1», что очень мало верю в успех этой книги, но все же работа над нею страшно приятна и вполне заменит мне отдых. Если бы еще скорее дело устраивалось с нашим переездом, я, наверное, мог бы писать лучше»[13].
Следует сказать, что сын Г. С. Салько Лева, которого Антон Семенович считал своим приемным сыном и заботился о нем, с 14 лет являлся коммунаром. В 1933 году вместе с другими коммунарами он поступает в МАИ – Московский авиационный институт. Из письма Антона Семеновича от 26 августа к Г. С. Салько узнаем: «Об уходе официально ничего не говорю – из Москвы будет видно, а то еще и не найдем в Москве квартиры, куда денешься… Лева уезжает завтра, вместе с ним поступили: Илюшечкин, Буряк, Терентюк, Бронфельд, Файнергольц»[14].
В письме с сыну в Москву от 19 августа 1933 года Галина Стахиевна сообщает новость: «Итак, мы в Москве. Это дело решенное – раз уж ты там, там и мы. Молодец, Лева, переехал в Москву – и все»[15].
Следует сказать что накануне (10 августа 1933 г.) А. М. Горький писал Антону Семеновичу: «…Не отвечал Вам, ожидая, когда получу возможность ответить конкретным предложением. Но покамест еще не вижу этой возможности и пишу только для того, чтоб Вы знали: письмо Ваше получено мною и о Вашем переводе в Москву я – забочусь»[16].
Это был второй ответ (первый – 30 января) А. М. Горького на письмо Антона Семеновича, отправленного педагогом еще 1 января 1933 года. Об этом письме Макаренко следует сказать особо. Педагог сообщал о тяжелом положении куряжской колонии:
«В прошлом году дзержинцы поставили вопрос об объединении с Куряжем в „дивизию“, но начальство не согласилось. Колония живет плохо, после меня переменилось уже четыре заведующих, глупости там наделали непоправимые, коллектива нет, проходной двор… Там нужна большая работа, все нужно сначала. А если сначала, так лучше уже на новом месте. Ваше имя в Куряже нужно снять»[17].
И в этом же письме Антон Семенович благодарит за высокую оценку «Марша 30 года»:
«Ваш отзыв перепутал все мои представления о собственных силах, теперь уже не знаю, что будет дальне. Впрочем, к писательской работе меня привлекает одно – мне кажется, что в нашей литературе (новой) о молодежи не пишут правдиво, а я очень хорошо знаю, какая это прелесть – молодежь, нужно об этой прелести рассказывать. Но это очень трудно, для этого нужен талант и еще… время. У меня как будто не было ни того, ни другого. Пишу сразу в чистовку, получается неряшливо, а через каждые две строчки меня „пацаны“ отрывают, писать приходится все в том же „кабинете“.
Поэтому все, что я написал, меня смущало. Сейчас в ГИХЛе лежит моя рукопись „ФД-1“ из истории последних лет коммуны Дзержинского. В редакции относятся к ней очень сдержанно, наверное, она будет издаваться тоже два года, как „М. 30 г.“. А самая дорогая для меня книга, давно законченная, „Горьковцы“, листов на 20, лежит у меня в столе, там слишком много правды рассказано, и я боюсь.
Есть у меня и пьеса. Даже стыдно писать Вам о таком обилии.
Недавно я писал Вам в Москву, наверное, Вы не получили моего письма. В нем я писал и о колонии в Куряже. В московских газетах было сообщение об открытии образцовой колонии им. М. Горького. Я просил Вас поручить эту колонию нам, „горьковцам“. На это дело пошли бы лучшие ребята, выпущенные из колонии в Куряже, теперь педагоги, инженеры, врачи»[18].
Итак, это был ответ Антона Семеновича на письмо писателя от 17 декабря 1932 года. В своем письме А. М. Горький поздравил А. С. Макаренко с выходом книги «Марш 30 года», которая, как и «ФД-1», была написана до появления рукописи второй и третьей частей «Педагогической поэмы». «Читал – с волнением и радостью, – писал А. М. Горький о книге. – Вы очень хорошо изобразили коммуну и коммунаров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную Вашу заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я вас искренне поздравляю с этой книгой. Вероятно, немножко напишу о ней»[19].
21 сентября 1933 г. Антон Семенович сообщает Г. С. Салько о встрече с А. М. Горьким:
«Он по-прежнему ласков и высококультурен, но пользы от этого мало. У меня такое впечатление, что он забыл об обещании своего собственного письма „перевести меня в Москву“, а то еще хуже: мне серьезно приходит в голову, что кто(-то) его отговорил помогать мне в этом деле. Очень может быть, что наши письма недаром кем-то читались»[20].
Антона Семеновича не покидает тревога, он сомневается в успехе: «Когда отдал Максиму „Педагогическую поэму“, и к ней у меня отношение стало безразличное. Почему-то уверен, что она ему не понравится. Он будет искать в ней методики (…) Я очень пожалел, что выбросил из поэмы все педагогические главы, может быть, на них и завоевал бы одобрение»[21].
Однако опасения А. С. Макаренко были напрасны. Максим Горький не только высоко оценил «Поэму», но организовал ее издание, редактировал рукопись, стимулировал Антона Семеновича на скорейшее написание второй и третьей частей.
В письме Г. С. Салько от 26 сентября Антон Семенович сообщает: «Сижу и звоню Горькому, как мы с ним условились. (…) Дозвонился. Самого нет – в деревне. Отвечает Крючков – буквально: „А. М. передал мне рукопись, которую он прочитал, и письмо для вас. Письмо я сейчас приказываю переписать и завтра передам вам. Завтра заходите к часу дня“.
Ну, я так и знал. Если бы книга ему понравилась, наверное, просто назначил бы мне свидание, а раз дело ограничивается письмом, значит можно, собственно говоря, и не заходить. Не понимаю только, для чего еще переписывать письмо»[22].
Но Антон Семенович ошибся. 26 сентября он сообщает Галине Стахиевне:
«Сегодня у меня счастливый день. От Горького получил рукопись и такое письмо:
„Дорогой Антон Семенович – на мой взгляд «Поэма» очень удалась Вам. Не говоря о значении ее «сюжета», об интереснейшем материале, Вы сумели весьма удачно разработать этот материал и нашли верный, живой, искренний тон рассказа, в котором юмор Ваш уместен, как нельзя более. Мне кажется, что рукопись не требует серьезной правки, только нужно указать постепенность количественного роста колонистов, а то о командирах говорится много, но армии не видно.
Рукопись нужно издавать. Много ли еще написано у Вас? Нельзя ли первую часть закончить решением переезда в Куряж.
М. Горький“.
Петру Петровичу Крючкову поручено устроить издание книги в „Советской литературе“. Мы уговорились с ним, что дней через 15 я ему принесу готовую первую часть.
Вообще это хорошо во всех отношениях.
Сейчас я усаживаюсь за окончание первой части и планирование второй. Понимаю, почему Горькому хочется, чтобы первую часть окончить решением переехать в Куряж. Очевидно, хочет заинтересовать публику с тем, чтобы она с некоторым нетерпением ожидала второй части или, по крайней мере, чтобы вторая часть сама собою подразумевалась.
Для того, чтобы исполнить его желание, придется сделать в первой части больше глав, чем я предполагал, и кое-какие главы перенести из первой части во вторую, чтобы не делать ее слишком куцой»[23].
И еще интересный факт. В письме Антона Семеновича к Г. С. Салько от 29 сентября 1933 г. узнаем следующее:
«Сегодня заходил к Гихл. Говорил с ними на всякий случай об издании „Педагогической поэмы“. Прочитавши письмо Горького, они стали гораздо любезнее и готовы через 10 дней после представления рукописи подписать договор. За печатный лист предлагают 350–400 рублей.
Это только разведка. В Гихл уже потому отдавать не хочется, что за „Марш 30 года“ они мне передали несколько сот рублей, и теперь, конечно, будут выворачивать. Попытаюсь, все-таки пойти еще в „Советскую Литературу“. Да и считаю, что 400 рублей за лист мало»[24].
Однако вернемся к пьесе «Мажор». В письме к А. М. Горькому от 26 января 1935 г. Антон Семенович напоминает об их встрече весной 1934 года и о том, что передал пьесу «Мажор, «которая перед тем побывала на конкурсе Совнаркома и удостоилась даже рекомендации». Пьесу одобрили, предложили кое-что исправить и передать для печати в гос. издательство «Художественная литература» (ГИХЛ). Но о ней речь пойдет позже. Успех, пишет Антон Семенович, окрылил его и он написал еще одну пьесу «Ньютоновы кольца». Новую пьесу он посылает А. М. Горькому и приблизительно 8 февраля этого года получает назидательный ответ:
«На мой взгляд, „Ньютоновы кольца“ пьеса интересная и может быть разыграна очень весело, если за нее возьмутся молодые артисты… Но я уверен, что любой режиссер скажет Вам: пьеса – растянута и требует солидных сокращений „по всей длине“ ее текста.
(…) Сударь мой! Мне очень хочется обругать Вас. Вам бы следовало сначала довести до конца „Педагогическую поэму“, а потом уже писать пьесы. А Вы, по примеру литературных юношей, взялись за одно дело и не кончив его, начинаете другое. Первое дело от этого – весьма страдает, а оно – важнее пьес. Значительно важнее!
Ну вот, обругал. Легче мне стало? Увы, нет!»[25]
В конце февраля А. М. Горький получает ответ:
«Дорогой Алексей Максимович!
Ругаете Вы меня или помогаете, а я все равно не умею так написать Вам, чтобы хотя бы на минутку Вы почувствовали всю глубину и теплоту моей благодарности и любви к Вам. (…)
Спасибо, что обругали. Это у Вас так сильно и ласково выходит, что мне может позавидовать любой мой воспитанник. Секрет педагогического воздействия таким образом еще и до сих пор для меня проблема. Во всяком случае после Вашей проборки мне хочется написать не третью часть „Педагогической поэмы“, а третью часть чего-то страшно грандиозного.
Это, однако, не мешает „жалкому лепету оправданья“. „Педагогическая поэма“ – это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее представляется чем-то „священным“. Я не могу писать поэму в сутолоке моей работы в коммуне. Для поэмы мне нужен свободный вечер или какое-то уединение. А пьесы я набрасываю в коммунарском кабинете в трехминутных перерывах между деловыми разговорами, выговорами, заседаниями, удовлетворяя писательский зуд, который так поздно у меня разгорелся в значительной мере благодаря Вашему ко мне вниманию. (…) Поэтому даю Вам слово не писать ничего, пока не окончу „Педагогическую поэму“, кстати, конец уже недалеко.
А после „Педагогической поэмы“ я мечтаю не о пьесах, а о таком большом деле: (…) Я хочу написать большую, очень большую работу, серьезную книгу о советском воспитании. (…) Не знаю, как сказать, как благодарить Вас за то, что прочитали „Ньютоновы кольца“. Совесть мучит меня, что я затруднил Вас этой работой, но утешаюсь тем, что в „Ньютоновых кольцах“ тема тоже педагогическая. Ведь теперь перевоспитываются не только дети. В пьесе я и хотел захватить кусочек великого процесса перевоспитания, только выражая его не в „небывалых чудесах“, а в простой „химии“»(…)»[26].
28 сентября 1935 года А. С. Макаренко авиапочтой посылает А. М. Горькому третью часть «Поэмы». В сопроводительном письме он пишет:
«Не знаю, конечно, какой она получилась, но писал ее с большим волнением.
Как Вы пожелали в Вашем письме по поводу второй части, я усилил все темы педагогического расхождения с Наркомпросом, это прибавило к основной теме много перцу, но главный оптимистически тон я сохранил.
Описать Ваше пребывание в Куряже я не решился, это значило бы описывать Вас, для этого у меня не хватило совершенно необходимого для этого дела профессионального нахальства. Как и мои колонисты, я люблю Вас слишком застенчиво.
Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях, меня перевели в Киев помощником начальника Отдела трудовых колоний НКВД, обстоятельства переезда и новой работы – очень плохие условия для писания, в сутки оставалось не более трех свободных часов, а свободной души ничего не оставалось.
Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная и неприятная, по хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали из коммуны в июне, даже не попрощался с ребятами.
Дорогой Алексей Максимович!
Большая и непривычная для меня работа „Педагогическая поэма“ окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить Вас, потому что вся эта книга исключительно дело Вашего внимания и любви к людям. Без Вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы. (…) В случае надобности, я думаю, можно выбросить главы „У подошвы Олимпа“ и „Помогите мальчику“»[27].
В это время А. М. Горький находился в Тессели, о чем А. С. Макаренко не знал. Но Алексею Максимовичу переслали рукопись, и приблизительно 8 октября 1935 года он информирует А. С. Макаренко:
«Дорогой Антон Семенович!
Третья часть „Поэмы“ кажется мне еще более ценной, чем первые две.
С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжанами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. „Соцвосовцев“ Вы изобразили так, как и следует, главы „У подошвы Олимпа“ и „Помогите мальчику“ – нельзя исключить.
Хорошую Вы себе „душу“ нажили, отлично, умело она любит и ненавидит. Я сделал в рукописи кое-какие мелкие поправки и отправил ее в Москву»[28].
Итак, «Марш 30 года», «ФД-1», главы «Педагогической поэмы», пьеса «Мажор» были написаны в годы работы А. С. Макаренко в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. Именно здесь рождались эти «педагогические поэмы». Материал для написания книг был перед глазами. Завершающим этапом создания «поэм» стала книга «Флаги на башнях».
Напомним, что при жизни А. С. Макаренко вышла в свет только одна его пьеса – «Мажор». Она была направлена на «Всероссийский конкурс на лучшую пьесу». В жюри конкурса входили нарком просвещения А. Бубнов, писатель А. Толстой, режиссер В. Мейерхольд. Пьеса была рекомендована к печати. В 4-м номере журнала «Театр и драматургия» за 1934 г. было отмечено, что в результате конкурса появились новые имена и новые произведения. Была отмечена пьеса «Мажор». Пьеса была опубликована в ГИХЛ в 1935 г. Антон Семенович скрывался под псевдонимом Андрей Гальченко.
События пьесы «Мажор» разворачиваются в 1931 году, когда коммунары приступили к работе на заводе электроинструмента. «Флаги на башнях» освещают жизнь коммуны именно с этого события, то есть после истории, описанной в «Марше 30 года».
Из переписки с А. М. Горьким ясно, что в издательстве долгое время «пролежала» еще одна повесть А. С. Макаренко – «ФД-1», которая так и не была опубликована при жизни Антона Семеновича. Известно также, что повесть эту А. С. Макаренко писал во время отпуска в марте-апреле, который он проводил по обыкновению в Москве – столица его вдохновляла. Жил он в гостинице «Маяк». По свидетельству Г. С. Салько (Макаренко), печатал текст на машинке в трех экземплярах. Рукопись частично была уничтожена самим Антоном Семеновичем. После смерти педагога-писателя Галина Стахиевна сумела соединить уцелевшие страницы, но полностью повесть так и не удалось восстановить. Во «Флагах на башнях» были использованы эпизоды из «ФД-1».
История создания «Флагов» неразрывно связана с личностью и творчеством А. С. Макаренко, с его исканиями, с его напряженной жизнью, которую он полностью посвятил воспитанию Человека!
Из личной переписки Антона Семеновича известно, что жизнь его с марта 1937 года в Москве была столь же напряженной, как и в Киеве, что не хватало общения с коммунарами, с близкими людьми, ему было одиноко. В письме от 6 мая 1937 года бывшему воспитаннику А. С. Сватко он с грустью признается:
«Спасибо, что вспомнил обо мне, теперь мало кто обо мне вспоминает, не пишет никто, кроме Федоренко да Конисевича, все остальные забыли.
Я тебя очень прошу хоть изредка писать мне, держать в курсе дела, как о Броварах, так и о „дзержинцах“ – хлопцах и девчатах.
Конисевич мне сам написал о своих успехах, но письмо долго за мной ходило, я не знаю, получил ли он мой ответ. Если знаешь его адрес, пожалуйста, напиши мне. Если что-нибудь знаешь о судьбе других хлопцев, и их адреса сообщи. Особенно прошу о последних дзержинцах»[29].
В письме от 1 июля 1937 г. бывшему воспитаннику-горьковцу Н. Ф. Шершневу, который по окончании медицинского института работал врачом в коммуне, Антон Семенович пишет:
«Спасибо, что ты героически написал мне, не ожидая моего ответа (…) В твоем письме на первом месте стоит слово „грусть“, одно из самых отвратительных человеческих слов. Такое же противное еще слово „тоска“. Я не люблю их за то, что они в сущности слова фиктивные. Я понимаю такую штуку, как горе, ненависть, отчаяние. Это очень серьезные штуки, и с ними не позорно повозиться. Но, скажи, пожалуйста, что такое грусть? Не могу связать это слово с тобой, человеком молодым, сильным, здоровым, красивым, умным. Да и стоишь ты на интересном рабочем месте организатора – самое лучшее, что можно предложить человеку. (…) Я вспоминаю сейчас свое горьковское время, когда тоже преимущественно требовалось упорство и терпение. Я помню, сколько я тогда „грустил“ в одиночку, а потом оказалось, что это самый счастливый участок моей жизни.
Страшно богатое и настоящее дело устроил ты с коммунарами, хотя я уверен, что оно требует от тебя много энергии и приносит неприятности. Там, в коммуне, сейчас протекает обычный похабный процесс, какой всегда бывает, когда бессильные, бесталанные люди из зависти к другим и из подражания берутся за большое дело. Я уверен, что коммунарские головотяпы понесут и возмездие, все в свое время»[30].
Письма Антона Семеновича к бывшим воспитанникам проникнуты отцовской заботой и искренностью. В «Педагогической поэме» и в «Марше 30 года» Н. Ф. Шершнева Антон Семенович изобразил в образе Н. Вершнева. Выпускники пишут ему письма, советуются с ним, называют своих сыновей его именем.
С 1937 года А. С. Макаренко записывает в специальной тетради все, что узнает о коммунарах-дзержинцах, о их жизненном пути, об их заботах и тревогах. Без них ему одиноко, но сведения ему нужны и для «Флагов на башнях». В письме от 14 августа 1938 года к читательнице его произведений учительнице Т. В. Турчаниновой Антон Семенович признается:
«Сейчас очень плохо чувствую себя без ребят, но мало ли приходится по разным причинам плохо себя чувствовать? Приходится делать то, что целесообразно. В течение 16 лет я создал две колонии, и каждая из них была в своем роде хороша, и каждую развалили в момент наибольшей высоты.
До каких же пор можно продолжать подобную работу? Очевидно, что опыт никому ничего доказать не может. Нужно писать. Буду писать как умею, надеюсь, что рано или поздно будет моя победа. Если заинтересуетесь моими писаниями, читайте новый роман «Флаги на башнях», который печатается в журнале „Красная новь“»[31].
В письме от 6 октября 1938 года Антон Семенович сообщает бывшему коммунару В. Г. Зайцеву о том, что отдельными изданиями должны выйти «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях». «Пиши чаще, – заканчивает свое письмо А. С. Макаренко, – на меня не обижайся. Передай горячий привет ребятам, всем, кто меня помнит. Может быть, летом соберусь к Вам: у меня предстоит командировка в Иркутск, а там уже и к Вам недалеко»[32].
Письма свидетельствуют, что, работая над «Флагами на башнях», Антон Семенович поддерживает связь с бывшими воспитанниками. Он пишет книгу о них, его волнуют их судьбы. Он пишет книгу о том, как личность находит себя в коллективе, он формулирует принципиальные положения своей педагогической системы, которую не могли принять «Олимпийцы», все те, кто развалил и погубил созданные им воспитательные учреждения. Достаточно вспомнить весну 1932 года, когда А. С. Макаренко дал согласие оставить пост заведующего и стал исполнять обязанности заместителя по воспитательной части коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. В августе 1932 года он пишет члену правления коммуны М. М. Букшпану следующее:
«Второй раз у меня вырывают работу из рук – первый раз в колонии им. Горького в 1927 г., когда наркомпросовские дамы испугались командира, и второй раз, сейчас, когда Кочубиевскому захотелось употребить и дисциплину, и мощь, и культуру нашего коллектива для производственного марафета. В первый раз мне посчастливилось отступить к Вам с отрядом в 60 человек, а теперь и отступать некуда. Кроме того, тогда я был холост, а теперь я связан семьей, с квартирой и прочими сложностями. Только потому я в апреле и согласился сделаться помощником Максимова.
А теперь я вижу, что совершил преступление и перед собой, и перед своим делом»[33].
А. С. Макаренко с грустью и сожалением пишет, что «коммуна направляется к определенному пункту: это завод для несовершеннолетних с общежитием и столовой для рабочих с кое-какой учебной установкой. Для того чтобы держать этих молодых рабочих в повиновении, нужен такой какой-нибудь Макаренко – старший надзиратель. Вот и все. И не заметили того, что самое замечательное, что есть в коммуне, – это коммунарский коллектив. Его не заметили, как не замечают здоровье. А этот коллектив – плод огромной филигранной работы целого десятилетия (…) Только работа этого коллектива над собой, только школа и книга могут определить наше движение вперед. Завод только часть общей работы над коллективом…»[34]
Находясь в отпуске, Антон Семенович в письме коммунару Черному от 14 апреля 1932 года сообщает: «Благодаря Вашим письмам я знаю все, что делается у нас в коммуне, и задаром не беспокоюсь. Хлопцы наши молодцы, что держат дисциплину и порядок, я за это им страшно благодарен»[35].
Жизнь в Москве была также насыщена работой – писательской и лекционной. В письме бывшему воспитаннику Л. В. Конисевичу от 6 октября 1938 года он раскрывает свои писательские планы: «Сейчас тоже много работаю, недавно сдал в печать „Флаги на башнях“, нечто навеянное коммуной имени Дзержинского, вечная ей память. У меня бывает много коммунаров. Вася Клюшник бывает у нас почти ежедневно. Были харьковские артисты во главе с Клавой Борискиной, заходят и другие. Народ все правильный, и моя совесть не страдает»[36].
Выступая 18 октября 1938 года перед читателями в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова Антон Семенович сообщает о том, как появился замысел «Флагов на башнях», раскрывает свою педагогическую и гражданскую позицию:
«Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение.
Это счастливый коллектив в счастливом обществе. И я хотел показать, что счастье этого коллектива, нередко выражающееся в глубоко поэтических формах, заключается также в борьбе, но не в такой напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, как было в колонии, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих сил, часто выраженных внутренними, еле заметными тонами. Все это очень важные и сложные вопросы. Только в коммуне им. Дзержинского я особенно остро понял, почувствовал, что недостаточно охватил еще всю сложность процесса воспитания нового человека.
Этот процесс происходит не только внутри самого коллектива, он происходит во всем нашем социалистическом обществе. Это процессы труда и внутренних отношений, роста самого человека и, наконец, многочисленные чрезвычайно тонкие внутренние междумальчишеские и междуколонистские отношения. Все это я старался показать. (…) Может быть, с такой задачей в произведении „Флаги на башнях“ я и не справился. Решение этой задачи, вероятно, хватит не одному поколению. Но я обратил внимание, что мальчики и девочки в таком коллективе – это прежде всего граждане. И в этом заключается отличие наших детей от детей какого угодно общества. (…) Чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди»[37].
Галина Стахиевна Макаренко вспоминала, что чужой яркий педагогический опыт Антон Семенович «воспринимал как победу на общем фронте, но в 1938 г. на многолюдном учительском собрании честно сказал: „Такого опыта, как мой, мне не приходилось больше видеть“»[38]. Высокая оценка деятельности А. С. Макаренко-педагога содержится в воспоминаниях его соратников, близких ему по духу людей.
Чрезвычайно интересную информацию о личности педагога-писателя мы находим в следующих записях Г. С. Макаренко:
«Антон Семенович ревностно оберегал свою внутреннюю творческую лабораторию от постоянного влияния, любопытства и даже слишком настойчивого внимания. Он очень любил неполную строфу Тютчева:
Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи — Внимай их пенью – и молчи!..Никогда не показывал он черновых набросков, предварительных планов, неоконченных вариантов, записных книжек даже самым интимно близким людям. И ссылался на Маяковского, который также не любил и не берег своих черновиков. Стоило очень большого труда и времени, чтобы убедить этого исполнительного человека, который, кажется, никогда ничего не забывал, приносить и складывать первые тексты (их, впрочем, трудно назвать черновиками, так они чисто написаны) в отдельный ящик письменного стола. Уже в последние годы в Москве Антон Семенович, изысканно кланяясь, передавал мне очередную связку с веселой шуткой: „Любительнице, хоть бы древних, а то обыкновенных старых бумаг, снисходя к ее слабости“.
Но погибли от этой своеобразной установки драгоценные сейчас 8 первых глав „Поэмы“, так разрознил Антон Семенович замечательный, неопубликованный еще, роман „ФД-1“, так отдал оба экземпляра сценария о коммуне им. Дзержинского и они исчезли. Он много бывал в коммуне и там писал – уследить за ним было невозможно. (…)
Антон Семенович был человеком непреодолимой рабочей энергии и пафоса труда, и только поэтому, создавая колонию и коммуну, он создал „Педагогическую поэму“ о колонистах-горьковцах и „Флаги на башнях“ – поэму о коммунарах-дзержинцах»[39].
Приведенные строки воспоминаний самого близкого Антону Семеновичу человека еще раз подтверждают мысль об его удивительной работоспособности. Он находил время решать любую, даже самую незначительную, на первый взгляд проблему, возникшую у воспитанников. О небывалом педагогическом таланте Антона Семеновича замечательно писал его соратник В. Н. Терский: «В его кабинете или штабной палатке во время похода всегда набивалось много народу – приходили воспитанники и педагоги послушать его, посмотреть, как он работает. Ребята шли в кабинет к Антону Семеновичу, готовы были пропустить любое удовольствие – лишь бы побывать у него. Правда, в кабинете они немедленно превращались в действующее лицо, потому что Антон Семенович мог одновременно, продолжая писать одно из своих литературных произведений, заметить, у кого костюм не в порядке, какой разговор ведут за стенами палатки мальчишки, распорядиться позвать их тут же и разрешить их спор (…) В большинстве случаев влияние (педагогическое) Антона Семеновича выражалось не в разговорах или нотациях. Он не вел продолжительных бесед, а остроумный, точно вскользь брошенной фразой добивался изумительных результатов (…) Антон Семенович был крупным ученым, (…), в частности, он прекрасно, до мельчайших деталей, разработал методику внешкольной работы. Антон Семенович помогал нам составлять военные игры, и сам участвовал в них. Кстати сказать, до сих пор мало обращали внимание на то, что Антон Семенович прекрасно знал историю войн, регулярно выписывал и читал журнал „Военное дело“, умел увлечь и заразить военными играми всех нас»[40].
Неоценимую до сих пор научную ценность имеют неопубликованные тетради-дневники В. Н. Терского. В одной из тетрадей читаем: «А. С. Макаренко часто подчеркивает необходимость большой смелости педагога, о необходимой для этой работы способности рисковать. Такая необходимость фактически возникает перед педагогом в самой его работе. Далеко не всегда бывает возможность все изучить, все взвесить, а обстоятельства требуют неотложного решения вопроса.
Суворовская трактовка слова глазомер, как нельзя более подходит к тому замечательному качеству, которое имел Макаренко. Суворов понимал так: не можешь точно ответить на вопрос, отвечай приблизительно, но не молчи и не заявляй: „Не могу знать“, отвечай как можешь, но отвечай! – Невозможно точно рассчитать силу сопротивления турок в крепости Измаил, силу и связь всех обстоятельств, – оцени все на глазомер, но не сиди под крепостью, а бери ее! В этом риск, но если все что можно предусмотрено и подготовлено, все быстро продумано как следует, то это благородный риск, в отличие от глупого риска, который никак не обоснован. Меня с Макаренко роднила наша общая любовь к Суворову и желание следовать его примеру в педагогике. Мы отлично все знали: что такое риск, как понимать глазомер, чтобы действовать без опозданий, вовремя, опережая жизнь коллектива и направляя ее. Но как далек был Макаренко от халтуры! Не менее далек, чем от лженаучного педантизма! Там, где обстоятельства дела позволяли изучать вопрос глубже, основательнее, где время позволяло думать, – никогда не спешил Макаренко с выводами и тем более с действиями; в особенности в последнее время его педагогической деятельности, когда и опыта у него было больше и жизнь коллектива коммуны Дзержинского текла по проторенному уже руслу спокойно и величаво, весело и счастливо. Казалось бы опыт позволял ему увереннее, быстрее решать всякие вопросы. Но нет! Строже и требовательнее становился художник своего великого дела и к своему труду и к труду своих товарищей и к ребятам. Но никогда требовательность его к другим не превышала его требовательности к себе лично и не превышала его великой заботы о других, заботы, выражавшейся не в словах, а в делах»[41].
«Флаги на башнях» можно назвать лебединой песней педагога-писателя. «Флаги» – это гимн завершающему этапу нелегкого педагогического творчества А. С. Макаренко, это победа, триумф его педагогической системы! Название повести-романа символично: флаги на башнях дома-дворца коммуны были видны издали. По воспоминаниям близких людей можно заключить, что эти флаги ассоциировались у А. С. Макаренко с флагами на рыцарских замках средневековья. Не случайно и то, что коммунары-юноши по-рыцарски относились к коммунаркам, защищали и уважали их.
Для А. С. Макаренко, брат которого был поручиком в царской, армии, знамя имело колоссальное воспитательное значение. Еще в дореволюционном высшем железнодорожном начальном училище в Крюкове, будучи его инспектором (заведующим), А. С. Макаренко ввел школьное знамя как сильнейший воспитательный символ. Эту идею подсказал брат Виталий Семенович, который в тяжелые 1917–1919 годы был учителем спорта, рисования, математики в училище. В. С. Макаренко в своих воспоминаниях писал:
«Надо отметить, что два года, которые мы провели в Высшем начальном училище… прошли под знаком крайних материальных лишений: власти сменялись чуть ли не каждые 2 месяца (большевики, немцы, вновь большевики, петлюровцы, антоновцы, григорьевцы и пр.) и население было разорено. (…) Я донашивал еще форменную одежду (кроме погон) – да другого у меня и не было. Меня расспрашивали о войне, об окопах, о ранениях и наградах. И как-то незаметно, без определенного плана я старался заниматься с ребятами военным строем. Во время уроков гимнастики, несмотря ни на какую погоду, мы строились во дворе, перестраивались и затем уходили с песнями куда-нибудь в ближайшие окрестности.
После военного строя как-то незаметно вопрос зашел о знамени: почему у нас нет своего знамени? Мы хотим иметь свое знамя! Я им советовал обратиться прямо к А.»[42].
Виталий Семенович отметил, что сначала Антон Семенович был против, обосновывая отказ словами: «Я не хочу здесь заводить казарму!» Но Антона Семеновича удалось убедить в том, что знамя, как и военный строй, «применяется не только в армии, но и у бойскаутов, и в кадетских корпусах и имеет большое воспитательное значение»[43]. И вот, вспоминал Виталий Семенович, «в одно из первых весенних воскресений 1918 г., сопровождаемые многочисленными родителями, мы совершили нашу первую военную прогулку со знаменем и оркестром в Деевский лес, в 3-х километрах от училища, где оставались целый день – пели, играли, варили кашу, вообще, провели чудесный день; тогда у А. исчезли последние сомнения относительно полезности военного строя»[44].
Когда Крюков был занят немецкими войсками, продолжал Виталий Семенович, «знамя было шелковое, белое, окаймленное золотой бахромой. С одной стороны были вышиты инициалы училища и эмблема путей сообщения (кажется, скрещенные топор и якорь). С другой стороны, по настоянию попа, Таня Коробова вышила текст из евангелия: „Тако да просветиться свет ваш пред человеком“. (Когда украинцев сменили большевики (в начале 1919 г.), мы сняли со знамени желтую и голубую ленты и заменили их красными»[45]. Позже заменили его красным знаменем, военные прогулки со знаменем стали регулярными, а к лету 1918 года появился собственный оркестр „в 20 человек музыкантов“».
В колонии (коммуне), возглавляемой А. С. Макаренко, знамя было символом единства всех трудящихся большой страны, символом гражданственности и патриотизма.
В связи со сказанным, следует вспомнить историю, случившуюся с Львом Салько, которого Антон Семенович считал своим приемным сыном и который с 14-ти лет был полноправным коммунаром, не раз избирался командиром постоянного и сводного отрядов. Перед войной Лев Салько окончил Московский авиационный институт (МАИ). В начале ВОВ техником-лейтенантом был направлен из ЦАГИ (где работал) в 19-ый полк, осенью переименованный в 1294 с/п 7-ой Баумановской дивизии народного ополчения (находился на второй линии обороны западнее г. Дорогоуша Смоленской области). 5 октября 1941 г. поступил приказ: всему полку выступать в поход на восток к г. Медынь. 7 октября полк прибыл к с. Знаменка (по шоссе Юхново-Вязьма). Вновь приказ – разворачиваться для принятия боя. Полк должен был прикрыть отступление частей Красной Армии из района г. Юхнов. Полк принял бой. Ночью полковник Разгуляев дал приказ отступать по направлению к г. Вязьмы. По шоссе двинулись к г. Вязьмы. Но пробиться в город не удалось: попали под обстрел. Укрывались в лесу, провели разведку. Двинулись по направлению к ст. Иваново по железной дороге. Утром дошли до шоссе, а там двигались немецкие танки. В лесу полковник Разгуляев передал Льву Салько на хранение 2 полковых знамени и обменял винтовку на ППШ.
9 октября 1941 г. группа (человек 80, присоединялись люди – от 50 до 200) во главе с полковником Разгуляевым вышла по направлению к г. Гданску для соединения с частями Красной Армии. Шли ночью. 19 октября вечером находились в 30 км от Можайска Московской области, а ночью сделали последний переход между селениями Борисово и Ведея возле Можайска и соединились с частями Красной Армии.
Полковник Разгуляев передал отряд на пересыльный пункт в г. Дорохово, а сам со своим полком отправился в Москву. С ним был и Лев Салько. 31 октября 1941 г. прибыли в Москву. Лев отдал здесь Разгуляеву два знамени 1294 полка, которые все это время нес. Знамена были сохранены, что позволяло полковнику Разгуляеву формировать полк. Без сохранения знамен это было бы невозможно. Лев Салько попал на пересыльный пункт и далее был послан в распоряжение ВДВКА, где был зачислен в летно-испытательный отряд ВДВ КА, который формировался в г. Саратове.
Сохранилась семейная переписка Льва Михайловича Салько с матерью. В июле 1941 года он с тревогой пишет: «Прошу, умоляю тебя, скорее уезжай из Москвы к нашим. Только это может меня успокоить. Становлюсь на колени и умоляю!!!»[46] В эвакуации уже находилась беременная супруга Льва – Галина Павловна, в девичестве Смирнова. Ее отец – Павел Петрович Смирнов, военный, во время ВОВ помог вывезти архив А. С. Макаренко из Москвы в Куйбышев.
* * *
Роль знамени в военной истории России была огромной. Верность боевому знамени глубоко заложена в сознании русского народа. А. С. Макаренко, прекрасный знаток истории, понимал, что одной из древнейших традиций нашего воинства является верность боевому знамени. У древних славян выше всех других символов почитались свои знамена. Если офицеры или солдаты оставляли свое знамя, они несли жестокое наказание. Не случайно в воинском уставе 1716 записано, что если стоя перед неприятием, «уйдут и знамя свое или штандарт до последней капли крови оборонять не будут, оные имеют шельмовать быть, а когда поймаются, убиты будут».
В «Марше 30 года» А. С. Макаренко писал: «Строевой устав коммуны давно выработан и закреплен, как и полагается для военного устава. Поэтому собраться в поход, построиться и выступить коммуна в случае надобности может в течение трех минут».[47]
В походы обязательно брали знамя. В «ФД-1» читаем: «Вынес четвертый отряд знамя в чехле и замер перед фронтом. С правого фланга отделилась знаменная бригада, под салют оркестра приняли знамя, и вот оно уже на правом фланге во главе нашей белоснежной колонны, чтобы быть там полтора месяца»[48].
В коммуне избиралась знаменная бригада (или отряд) – это знаменщик и два ассистента с винтовками. Знамя в чехле несли во время всех походов. В начале похода, в торжественные моменты всегда отдается честь знамени. Вот как описывает этот ритуал А. С. Макаренко:
«Все готово. (…) В оркестре подымают трубы, и фанфаристы расцвечивают утро красными полотнищами флагов. Волчок настороженно поднимает руку.
– Под знамя смирно! Равнение налево!
Оркестр гремит знаменный салют, все коммунары поднимают руки, перед фронтом замирает Карабанов. Служащие, провожающие колонну, тоже козыряют. Из парадных дверей выходит дежурный по коммуне и с рукой у козырька фуражки «ведет» знамя. Три коммунара бережно и подчеркнуто изящно проносят знамя по фронту и устанавливают его на правом фланге. Знамя держат почти вертикально: если оно без чехла, то оно не развевается, а красивыми мягкими складками падает на плечи знаменщика, и при движении линии этих складок почти не меняются. Древко только касается плеча, вся тяжесть приходится на руки, а двумя руками держать знамя неприлично. Поэтому быть знаменщиком – дело довольно трудное. (…) Коммунары прямо с развернутого фронта переходят в марш, на ходу перестраиваясь в колонну. Наш постоянный строй по шести, расстояние между рядами просторное – шесть шагов до трех. Командиры взводов впереди, а между взводами интервал шесть шагов.
Гремит радостный марш: начался наш праздник.
Через час колонна подходит к городу. Между высокими домами улицы Либкнехта наш большой оркестр разрывает воздух»[49].
Культ знамени несет на себе огромную воспитательную силу. У А. С. Макаренко знамя, флаг ассоциировались со стремлениями гордого коммунарского коллектива к новым высотам в учебе и труде. Коллектив всегда стремился к новым высотам, к борьбе за лучшую жизнь. Педагог неоднократно повторял: «Символ единства – знамя»[50]. О знамени Антон Семенович говорил так: «Если знамя стоит в одной комнате и надо его переместить ввиду ремонта в другую комнату, то вся коммуна одевается в нарядные костюмы и в строю переносит знамя. Это не только символизирует любовь к нашей стране, но и четкость работы коллектива»[51].
Не случайно 17-ю главу третьей части своей последней книги А. С. Макаренко называет «Флаги на башнях» (как и название всей книги). В главе показана работа штаба коммунарского соревнования. Антон Семенович приводит диаграммы штаба, рассчитанные на многие годы. Фронты на диаграммах постоянно перемещаются. Например: «Положение на фронте на 29 августа. Вчера наш краснознаменный правый фланг нанес последний удар противнику: годовой план швейного цеха выполнен полностью, девочки после короткого штурма взяли правые башни города, на башнях развевается Красный флаг СССР…»[52]. Далее А. С. Макаренко поясняет: «На диаграмме, действительно, было видно: на правой башне развевается красный флаг. Это замечательное событие так долго ожидалось, что просто глазам не верилось, когда оно наступило. Четвертая бригада в продолжение целого дня ходила смотреть на диаграмму: действительно, на башнях стоит маленький, узенький красный флаг и на нем написано: СССР»[53].
Вот как воспринимает знамя юный персонаж «Флагов на башнях» Ваня Гальченко: «Знамя колонии им. Первого мая Ваня видел первый раз, но кое-что о нем знал. Знаменщик Колос и его два ассистента не входили ни в одну из бригад колонии, а составляли особую «знаменную бригаду», которая жила в отдельной комнате. Это была единственная комната в колонии, которая всегда запиралась на ключ, если из нее все уходили. В этой комнате знамя стояло на маленьком помосте у затянутой бархатом стены, а над ним был сделан такой же бархатный балдахин»[54].
Редактор «Флагов на башнях» Ю. Б. Лукин в статье «Педагог и писатель», напечатанной в «Комсомольской правде» 1 апреля 1944 г. (к 5-летию со дня смерти А. С. Макаренко) писал: «Особым благоговением овеян у Макаренко культ Красного знамени, символ и борьба за самые светлые идеалы человечества. Воспоминание о крови наших отцов, окрасившей это знамя, всегда служило у Макаренко могучим дисциплинирующим фактором этики и морали нового человека».
Военизация, за которую так ругали А. С. Макаренко представители «Олимпа», была именно той игрой, которая нравилась всем без исключения колонистам (коммунарам). Военизация по Макаренко – это строжайшая дисциплина, выполнение без пререканий установленных правил коммунарской жизни. Это прекрасная тренировка в самодисциплине, выносливости, ответственности. Продуктивная работа Совета командиров, общих собраний, ответственность командиров за свой отряд, бесчисленные комиссии и дежурства по коммуне, за которые отвечали сами коммунары, учеба, производительный труд на заводе, многочисленные кружки – все это делало коммунаров истинными хозяевами своего родного дома, в котором всегда царила атмосфера радости, благополучия, защищенности. Никаких хмурых лиц, только веселый смех, иногда иронический!
В «Марше 30 года» в главе «Куда мы идем?» читаем: «Вообще говоря, в коммуне выработалась очень сложная и хитрая механика внутренних отношений. Механика наших отношений инстинктивно устанавливаются каждым коммунаром. Благодаря этому нам удается избегать какого бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и сплетен. И вся мудрость этих отношений, в глазах коммунаров, концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные»[55].
По словам редактора Ю. Б. Лукина, А. С. Макаренко «сумел создать своим коммунарам такую юность, которой могут позавидовать многие дети, воспитывающиеся в семье, и которая решительным образом определила всю их дальнейшую жизнь. Поразительно чуткий педагог, он в своей воспитательной системе нашел интереснейшие методы… коллективного воспитания. В его системе замечательно учтены были детская тяга к военной игре, детский кодекс чести, строгость детской дисциплины, воспитательное значение образования и квалифицированного труда, яркая реакция психики подростка на оказываемое ему доверие. Он был предельно взыскательным, педантически дотошным в требованиях исполнения его приказов и в то же время по-горьковски верил в человека. Широта его доверия, по рассказам бывших колонистов и коммунаров, прямо-таки потрясала их и была одним из решающих факторов в переломе их психологии»[56]. Антон Семенович «обладал талантом находить дорогу к самому хорошему, что есть у человека. Он уже тогда, в годы лишений и голода, хотел и добивался, чтобы весь мир завидовал его стройным «пацанам» в темных рубашках с белыми воротниками, его прославленным колонистам. Он был страстно, пророчески убежден, что это все будет и уже есть прекрасные люди»[57].
Следует сказать о том, что знакомство А. С. Макаренко с Ю. Б. Лукиным произошло в самом начале 1930-х годов, когда редактировалась рукопись «Марша 30 года». Любопытное совпадение: Юрий Лукин – первый редактор первого опубликованного художественного произведения Антона Семеновича и последнего – «Флагов на башнях». Молодой в те годы редактор вспоминал: «Когда однажды, сидя в редакции, я услышал вопрос: „Где здесь редакция современной литературы?“ и ко мне обратился пожилой человек в военной шинели, с обветренным суровым лицом и совершенно особенным, несомненно макаренковским, чуть насмешливым, затаенно улыбающимися глазами, я, не задумываясь даже о неожиданности своего вопроса, спросил его: „Вы – товарищ Макаренко?“ Он расхохотался и подтвердил это, удивляясь тому, что был так сразу узнан. Мне кажется, его повсюду бы узнали те, кто читал его книги.
Работать над рукописью Антона Семеновича было очень интересно и весело. Его тонкий ум, вкус и юмор превратили эту сложную, подчас очень утомительную работу в увлекательнейшее занятие – вроде игры в шахматы.
Он много балагурил. Так, например, правя однажды в его кабинете в Лаврушинском переулке текст „Флагов на башнях“, мы обнаружили, что там на каждом шагу герои улыбались и хохотали. Антон Семенович, шутливо сетуя на то, что вот, дескать, автор и редактор не дают молодежи повеселиться, рассказал к разговору, что в одной редакции ему слово „пацаны“ всюду переправили на „парни“. И когда мы кончили работу, он улыбнулся своей удивительно теплой улыбкой и сказал: „Ну вот, теперь всех улыбающихся пацанов повыкидывали, остались одни мрачные… парни с Лаврушинского“». Эти воспоминания («За редактированием рукописи») были опубликованы в Литературной газет в 1941 г. от 6 апреля.
За милым балагурством, вспоминал Ю. Лукин, за блестящими парадоксами, неожиданными сопоставлениями, противопоставлениями, «за внешней игрой блестящего ума открывались глубокие, всегда неожиданные, всегда интереснейшие раздумья и мысли».
Смерть А. С. Макаренко 1 апреля 1939 года была неожиданной для всех. Ю. Лукин с болью и горечью невосполнимой утраты вспоминал, что в день похорон его до глубины души поразили бывшие колонисты и коммунары, теперь военные и штатские: «Они были прекрасны. То душевное богатство, которое он сумел в них воспитать, та особая подтянутость, которой они выделяются в массе окружающих их людей, не давали вам возможности остановить свое внимание на неправильностях лица или фигуры: вас поражало то, что они все красивы. Он был бесконечно прав, утверждая это и описывая их такими».
Запомнилась Ю. Лукину речь бывшего колониста, а теперь военного, о своем учителе и отце: «Он требовал неукоснительного выполнения его распоряжений, но он и глубоко верил в каждого из нас. Он умел найти и раскрыть в человеке самое лучшее, что есть в нем. Он был великий гуманист. Он отстаивал свои идеи, не отступая ни на шаг, когда считал себя правым»[58].
Боль неизмеримой утраты отозвалась не только в сердцах воспитанников, соратников и родных. Это была и есть утрата для всех, кому было дорого воспитание молодого поколения, это было общее горе. А как много планировал еще сделать А. С. Макаренко! В день своего рождения 13 марта 1939 года, а ему исполнился 51 год, Антон Семенович торжественно заявлял, что ему нужно еще лет сто прожить, чтобы осуществить все задуманное. К этому обязывал его и орден Трудового Красного Знамени, полученный им за выдающиеся заслуги в области литературы в феврале 1939 года. Заметим, награда получена не за педагогические заслуги!
«Флаги на башнях», последнее произведение Антона Семеновича на педагогическую тему, до сих пор не оценены по достоинству. До сих пор бытует мнение, что колония Первого мая – это утопия. Однако это далеко не так. А. С. Макаренко показал общество трудолюбивых красивых людей, которые творили свою историю, историю своей страны. Педагог выпустил в жизнь трудолюбивых людей, достойных патриотов своей страны, дисциплинированных, ответственных, волевых, мужественных, образованных, целеустремленных, с развитым чувством долга, чести и душевного благородства.
В конце жизни на А. С. Макаренко обрушился шквал критики.
12 марта 1949 года в «Учительской газете» впервые было опубликовано письмо воспитанников А. С. Макаренко, адресованное редактору «Литературной газеты» О. Войтинской и критику Ф. Левину. Письмо было написано еще в апреле 1939 года, сразу же после смерти Антона Семеновича, и подписано письмо С. А. Калабалиным, А. Тубиным, Л. Салько, В. Клюшником, Е. Ройтенбергом. Воспитанники Антона Семеновича писали: «Наш долг – долг коммунаров, наследников светлого имени Антона Семеновича Макаренко, долг советских граждан, большевиков партийных и непратийных – вернуть истине свое место. Мы требуем, чтобы гражданин Ф. Левин публично отказался от напечатанной им статьи в „Литературном критике“… Мы требуем четкой большевистской принципиальности в решении этого спора между ушедшим от нас физически, но живым в своем творчестве, в воспитанных им людях Антоном Семеновичем Макаренко и „живым“ критиком Ф. Левиным, который находится по ту сторону нашей жизни, потому что он не любит ее, не способен понять творческих возможностей советских людей. …Мы во всеуслышание заявляем, что жизнь, описанная в книге А. С. Макаренко „Флаги на башнях“ существовала, что действительно была в Харькове коммуна им. Ф. Э. Дзержинского, названная в романе „Колония Первого мая“, и что мы ее воспитанники. Там действительно был дворец, там была жизнь коллектива, стоящая неизмеримо выше простого общежития неорганизованных ребят. В романе „Флаги на башнях“ показан коллектив, выросший на основе шестнадцатилетнего педагогического опыта А. С. Макаренко, коллектив, впитавший все прекрасное, что дала колония им. Горького. Об этом Вы можете узнать, открыв „Педагогическую поэму“»[59].
Эти строки свидетельствуют о беззаветной любви воспитанников к своему учителю, заменившему им отца. Это акт, направленный на защиту последней повести А. С. Макаренко «Флаги на башнях».
Выход в свет «Флагов на башнях» отдельным изданием после смерти А. С. Макаренко вызвал горячий отклик у читателей.
В заключение отметим, что на заседании президиума ССП и актива «Литературной газеты» высокую оценку последнему художественно-педагогическому произведению А. С. Макаренко дали А. Фадеев, К. Федин, А. Караваева. Отчет о заседании был опубликован в «Литературной газете» 26 апреля 1939 года…
* * *
Основой настоящего издания повести «Флаги на башнях» послужил текст, опубликованный в 6 томе «Педагогический сочинений» А. С. Макаренко в 8-ми томах (М., Педагогика, 1983–1986). В данном издании «Флагов» курсивом выделены восстановленные по первому прижизненному изданию [60] тексты: глава «На всю жизнь!», не вошедшие в отдельное издание фрагменты, предложения, диалоги и отдельные слова. В подстрочных сносках-примечаниях отмечены отдельные варианты слов и выражений, которые соответствуют оригиналу (по журнальной публикации) или редакторской правке к книге.
В основу «Марша 30 года» и «ФД-1» также положен текст, опубликованный во 2 томе «Педагогических сочинений».
«Марш 30 года» сверен по прижизненному изданию (ГИХЛ, 1932 г.). События книги развертываются осенью 1930 года, когда коммуна вернулась из крымского похода. По живым следам А. С. Макаренко пишет книгу и отправляет в редакцию. К сожалению, авторский текст до сих пор не обнаружен. За два года «хождения по мукам» очерк был основательно отредактирован, в таком виде и вышел в свет. Педагог писал повесть, а отредактированный текст, потерявший красоту колоритного макаренковского стиля, скорее стал напоминать очерк. Очерком он и был обозначен в прижизненном издании.
Не менее печальной оказалась и судьба «ФД-1». Являясь прямым продолжением «Марша 30 года», в «ФД-1» события разворачиваются в 1931–1932 годы. Названия этих произведений символичны: в «Марше» коммуна изображена действительно «на марше» – важном переходе от одного этапа своего развития к другому, более сложному. В «ФД-1» заводская марка первой в стране электросверлилки, которую выпустила коммуна, олицетворяет еще один более высокий этап ее развития. К сожалению, при жизни Антона Семеновича «ФД-1» не был опубликован, а рукопись была частично уничтожена самим автором. Отточиями указаны те места книги, которые были потеряны навсегда. Впервые текст книги был опубликован в 1949 году в четвертой книге Избранных педагогических сочинениях А. С. Макаренко.
Читатель впервые по достоинству оценит восстановленные тексты педагогических поэм великого педагога-гуманиста XX века Антона Семеновича Макаренко.
С. С. НевскаяМосква, 2013 гг.Флаги на башнях Повесть
Часть первая
1 Человека сразу видно
Началась эта история на исходе первой пятилетки.
Весна успела покончить только с главными своими врагами: морозом и снегом.[61] От зимы остались только корочки льда, и они покорно изнывают под солнцем, прикрытые от него всяким хламом: соломенным прахом, налетами грязи и навоза. Поношенный булыжник привокзальной площади тоже греется под солнцем, а между булыжником просыхает земля, и за колесами уже подымаются волны новенькой пыли. Посреди площади – запущенный палисадник. Летом в палисаднике распускаются на кустах листья и бывает похоже на природу, сейчас же здесь просто грязно, голые ветки дрожат, как будто на земле не весна, а осень.
От площади в городок ведет мостовая. Городок – маленький, случайно попавший в географию. Многие люди о нем и совсем не знали бы, если бы им не приходилось делать пересадку на узловой станции, носящей имя города.
На площади стоит несколько ларьков, сооруженных еще в начале нэпа. В сторонке – почта, на ее дверях – желтая яркая вывеска. Возле почты скучают две провинциальные клячи, запряженные в перекосившиеся экипажи – линейки. Движение на площади небольшое – больше проходят железнодорожники с фонарями, кругами веревки, фанерными чемоданчиками. Рядок будущих пассажиров – крестьян сидит на земле у стены вокзала, греется на припеке[62].
В сторонке от них расположился в одиночестве Ваня Гальченко, мальчик лет двенадцати. Он грустит у своей подставки для чистки сапог и щурится на солнце. Подставка у него легонькая, кое-как сбитая из обрезков, видно, что Ваня мастерил ее собственноручно. И припасу у него немного. У Вани чистое, бледное лицо[63] и костюм еще исправный, но и в лице и в костюме уже зародился тот беспорядок, который потом будет отталкивать добрых людей на улице и неудержимо привлекать на сцене или на страницах книги. Этот процесс байронизации Вани только-только что начался – сейчас Ваня принадлежит еще к тем людям, которых не так давно называли просто «хорошими мальчиками».
Из-за палисадника, описывая быструю, энергичную кривую, картинно заложив руки в карманы пиджака, щеголяя дымящейся в углу рта папиросой, вышел здешний молодой человек и прямо направился к Ване. Он поддернул новенькую штанину, поместил ногу на подставке и спросил, не разжимая зубов, которыми продолжал держать папиросу:
– Желтая есть?
Ваня испугался, поднял серые глаза, ухватился за щетки, но тут же увял и растерянно-грустно ответил:
– Желтая? Нету желтой.
Молодой человек обиженно снял ногу с подставки, снова заложил руки в карманы, презрительно пожевал папиросу.
– Нету? А чего ты здесь сидишь?
Ваня развел щетками и виновато улыбнулся:
– Так черная есть…
Молодой человек гневно толкнул носком ботинка подставку и произнес скрипящим голосом:
– Только голову морочите! Черная есть! Ты имеешь право чистить?
Ваня наклонился к подставке и начал быстро складывать свое имущество, а глаза поднял на молодого человека. Он собрался было произнести слова оправдания, но в этот момент увидел за спиной молодого человека новое лицо. Это юноша[64] лет шестнадцати, худой и длинный. У него насмешливо-ехидный большой рот и веселые глаза. Костюм старенький, но все-таки костюм, только рубашки под пиджаком нет, и поэтому пиджак застегнут на все пуговицы и воротник поднят. На голове клетчатая светлая кепка.
– Синьор, уступите очередь, я согласен на черную…
Молодой человек не обратил внимания на появление нового лица и продолжал с надоедливой внимательностью:
– Тоже чистильщик! А документ у тебя есть?
Ваня опустил щетки и уже не может оторваться от гневного взгляда молодого человека. Раньше Ваня где-то слышал, какое значение имеет документ в жизни человека, но никогда серьезно не готовился к такому неприятному вопросу. Он смотрит вверх широко открытыми глазами, и в глазах сами собой появляются слезы.
– Ну? – грубо спросил молодой человек.
– Документ? – шепотом переспросил Ваня.
В этот печальный момент на Ваниной подставке опять появилась нога. На ней очень древний ботинок светло-грязного цвета, давно не пробовавший гуталина. Вследствие довольно невежливого толчка молодой человек отшатнулся в сторону, но толчок сопровождался очень вежливыми словами:
– Синьор, посудите, никакой документ не может заменить желтой мази.
Молодой человек не заметил ни толчка, ни вежливого обращения. Он швырнул папиросу на мостовую и, порываясь ближе к Ване, оскалил зубы:
– Пусть документ покажет!
Обладатель светло-грязного ботинка гневно обернулся к нему и закричал на всю площадь:
– Милорд! Не раздражайте меня! Может быть, вы не знаете, что я – Игорь Черногорский?
Наверное, молодой человек действительно не знал об этом. Он быстро попятился в сторону и уже издали с некоторым страхом посмотрел на Игоря Черногорского. Тот улыбнулся ему очаровательно:
– До свиданья… До свиданья, я вам говорю! Почему вы не отвечаете, черт возьми?
Вопрос был поставлен ребром. Поэтому молодой человек охотно прошептал «до свиданья» и быстро зашагал прочь. Возле палисадника он задержался, что-то пробурчал, но Игорь Черногорский в этот момент интересовался только чисткой своих ботинок. Его нога снова поместилась на подставке. Ваня весело прищурил один глаз, спросил:
– Черной?
– Будьте добры. Не возражаю. Черная даже приятнее.
Ваня одной из щеток начал набирать мазь. В его глазах уже нет слез, только на щеке, просыхая на апрельском солнце, слабо блестит влажный след. Героическое столкновение Игоря Черногорского с молодым человеком нравится Ване, но, прищурив глаз, он спрашивает:
– Только… Десять копеек. А у вас есть десять копеек?
Игорь Черногорский растянул свои ехидные губы:
– Товарищ, вы всем задаете такой глупый вопрос?
Ваня рассмеялся громко и покраснел:
– Глупый? А у вас есть десять копеек?
Игорь Черногорский ответил спокойно:
– Десяти копеек нет.
Ваня с тревогой приостановил работу:
– А… сколько у тебя есть?
– Денег у меня нет… Понимаешь, нет?
– Понимаю. Только как же без денег? Без денег нельзя.
Рот у Игоря удлинился до ушей, и в глазах изобразился любознательный вопрос:
– Почему нельзя? Можно.
– Без денег?
– Ну, конечно, без денег. Ты попробуй. Очень хорошо получится.
Ваня взвизгнул радостно, потом прикусил нижнюю губу. В его глазах загорелось настоящее задорное вдохновение.
– Почистить без денег?
– Да. Ты попробуй. Интересно, как получится без денег.
– А что ж? Возьму и попробую…
– Я по глазам вижу, какой ты человек.
– Сейчас попробую. Хорошо получится.
Ваня бросает на клиента быстрый иронический взгляд. Потом он энергично принимается за работу.
– Ты беспризорный? – спросил Игорь.
– Нет, я еще не был беспризорным.
– Так будешь. А в школу ходишь?
– Понимаешь, не хочется.
– Почему?
– Не хочется, страшно не хочется. Другим хочется, а мне нет.
– Вот как?
– Я хочу учиться. Я уже учился. А потом они уехали.
– Кто? Родители?
– Нет, не родители, а… так. Они поженились. Раньше были родители, а потом…
Ване не хочется рассказывать. Он еще не научился кокетничать и с пользой реализовывать в жизни собственные несчастья. Он внимательно заглядывает на потрепанные задники ботинок Игоря.
– Коробку эту сам делал?
– А что? Плохо?
– Замечательная коробка. А где ты живешь?
– Нигде. В город хочу ехать… Так денег нет… сорок копеек есть.
Ваня Гальченко рассказывает все это спокойно. У него ясный, звонкий голос, очень часто, в самых выразительных местах, повышающийся до писка.
Работа кончена. Ваня поднял глаза с гордостью и юмором:
– Хорошо получилось?
Игорь потрепал Ваню по русой взлохмаченной голове:
– А ты пацан веселый. Спасибо. Человека, понимаешь, сразу видно.
– Разве я человек? Мне только двенадцать лет.
– Поедем вместе в город? – наклонился к Ване Игорь.
– Так денег нет… Сорок копеек.
– Чудак. Разве я тебе говорю: купим что-нибудь? Я говорю: поедем.
– А деньги?
– Так ведь ездят не на деньгах, а на поезде. Так?
– Так, – кивнул Ваня, размышляя.
– Значит, нам нужны не деньги, а поезд.
– А билет?
– Билет – это формальность. Ты посиди здесь, я сейчас приду.
Игорь Черногорский достал из кармана пиджака какую-то бумажку, внимательно ее рассмотрел, потом подставил бумажку под лучи солнца и сказал весело:
– Все правильно.
Он показал на здание почты:
– В том маленьком симпатичном домике есть, кажется, лишние деньги. Ты меня подожди.
Он проверил пуговицы пиджака, поправил кепку и направился не спеша к почте. Ваня проводил его внимательным, чуть-чуть удивленным взглядом.
2 Три пирожка с мясом
В кустах станционного палисадника стоит шаткая скамья. Вокруг скамьи бумажки, окурки, семечки. Сюда пришли откуда-то все тот же здешний молодой человек и Ванда Стадницкая. Может быть, они пришли из города, может быть, с поезда, а скорее всего они вышли вот из-за этих самых тощих кустов палисадника. У Ванды калоши на босу ногу, старая юбчонка в клетку и черный жакет, кое-где полинявший и показывающий желтую крашенину. Ванда очень хорошенькая девушка, но заметно, что в ее жизни были уже тяжелые неудачи. Белокурые ее волосы, видно, давно не причесывались и не мылись; собственно говоря, их нельзя уже назвать белокурыми.
Ванда тяжело опустилась на скамью и сказала сонным, угрюмым голосом:
– Иди к черту! Надоел!
Молодой человек дрогнул коленом, поправил воротник, кашлянул:
– Дело ваше. Если надоел, могу уйти.
Он направился к выходу из палисадника. Ванда провожала его медленным, скучным взглядом.
– Ну, дай же что-нибудь! Что ж ты… – крикнула она, когда он должен был скрыться.
Молодой человек остановился. Он хотел как будто оглянуться, но не оглянулся, достал из кармана кошелек, долго в нем искал, облизнул губы, влажно улыбнулся, пожал плечами:
– Есть только двадцать копеек и два пятака.
Он протянул ей деньги, но Ванда не сделала усилия, чтобы взять их. Он положил три монеты на скамейку около Ванды и ушел все с той же влажной улыбкой.
Ванда сонным и тупым взглядом проводила его и сказала негромко про себя:
– Какой… гад!
Держась рукой за спинку скамьи, склонив голову на руку, Ванда не то мечтательным, не то безнадежным взглядом глядела на далекие белые облака. Потом, удобней улегшись щекой на теплое сукно рукава, она, не мигая, засмотрелась на переплеты голых кустов палисадника. В таком положении сидела она очень долго, пока рядом с ней не уселся Гришка Рыжиков. Это угрюмый, некрасивый парень. На щеке – заживающая болячка. Фуражки нет, но рыжие волосы причесаны. Новые суконные брюки и заношенная, полуистлевшая рубаха. Вытянув ноги в тапочках и как бы любуясь ими, он спросил:
– Нет пошамать? [65]
Не меняя позы, Ванда сказала медленно:
– Отстань.
Рыжиков ничего не сказал, но, видимо, и не обиделся. Так они сидели и молчали еще несколько минут, до тех пор, пока у Рыжикова не устали ноги. Он резко повернулся на скамейке. Один двугривенный и два пятака свалились на землю. Не спеша Рыжиков поднял их и разложил на ладони.
– Твои?[66]
Ванда не ответила, только лицо обратила к далеким облакам. Рыжиков несколько раз подбросил деньги на руке. Сказал задумчиво:
– Три пирожка с мясом.
Продолжая подбрасывать монеты на ладони, он побрел к вокзалу. Ванда не заметила его ухода, она, вероятно, мечтала.
3 Добрая бабушка
Игорь Черногорский вошел в помещение почты и огляделся. Комната была маленькая, перегороженная деревянной решеткой. В решетке два окна. У одного – длинная очередь, у другого, где надпись:
«Заказная корреспонденция.
Прием и выдача денежных переводов», —
ожидают всего трое посетителей.
Игорь стал позади сгорбленной, пухлой старушонки и пригляделся к «барышне» за окном. Но это вовсе и не барышня, – сухая и бледная женщина, и лет ей не меньше сорока. Игорь ощупал в кармане свою бумажку и подумал, что барышня, к сожалению, мало симпатична. Соображения о бумажке и «барышне» так его заняли, что он не заметил, как его предшественница в очереди молниеносно закончила свое дело и исчезла.
– Вам что?
Несимпатичная женщина за окном строго смотрела на Игоря.
– Здесь должен быть перевод… до востребования… Игорю Чернявину…
Она забегала сухими пальцами по краям целого отряда переводов, сложенных в ящике. Выхватила один из них, поднесла к глазам:
– Это – вы?
– Это – я.
– Это вы – Чернявин?
У Игоря в груди пробежал легкий, приятный холодок:
– Собственно говоря, это я.
Женщина посмотрела на Игоря сердито:
– Как вы странно говорите – «собственно говоря!» Вы Чернявин или нет?
– Ну, конечно, я. Какие же могут быть сомнения?
– Покажите ваш документ.
Игорь отвернулся и полез в карман. Мельком взглянул на двери. Двери открыты настежь, за ними свежее небо и прекрасный жизненный простор. Игорь протянул женщине документ. Она прочитала все от первого до последнего слова, глянула на обратную сторону, глянула на Игоря:
– Здесь написано, что вы командируетесь в областной отдел связи. А почему вы у нас получаете деньги?
– А я… так сказать, проездом…
– «Так сказать»… Сколько же вам лет?
– Восемнадцать…
– Да не выдумывайте!
Игорь улыбнулся смущенно:
– Что же я могу поделать, если я такой… моложавый…
– Я спрошу у заведующего…
Она направилась к узенькой двери в углу. За спиной Игоря о чем-то зашептались в очереди. Открытая дверь потянула его к себе неудержимо, он прошептал:
– Ох ты, черт!
Оглянулся: в очереди – больше женщины… пожилой рабочий довольно сонного вида. Игорь поставил локоть на полку и принял рассеянно-скучающий вид.
– Чернявин? Вы где живете?
Не снимая с полки локтя, Игорь неохотно повернул лицо. Заведующий небрит и тоже несимпатичен.
– Что?
– Вы где проживаете? В каком городе?
– В Старосельске.
– А почему сюда адресованы деньги?
– Это не ваше дело, – произнес Игорь со скукой.
– Как это не мое дело?
– Абсолютно не ваше.
– Я в таком случае денег не выдам.
Заведующий произнес эти слова решительным голосом, но бумажка дрожит у него в руке, а глаза неуверенно присматриваются к Игорю. Тоже – физиономист!
Игорь Чернявин высокомерно улыбнулся:
– В таком случае позвольте мне жалобную книгу.
Заведующий всеми пальцами потер небритую щеку:
– Жалобную? А что вы будете записывать?
– Я запишу, что вместо денег вы предлагаете мне глупые вопросы…
– Молодой человек! – закричал заведующий.
Но закричал и Игорь:
– Глупые вопросы! Почему сюда выслали деньги? Это не ваше дело, почему! Может быть, они высланы на мои похороны. А может быть, на мою свадьбу! Я должен вам объяснять почему? Давайте или деньги, или жалобную книгу!
В очереди засмеялись. Игорь оглянулся: очередь была на его стороне. Одна из женщин сказала с горечью:
– Вот они всегда такие. Чего куражиться над бедным мальчиком. Родители, может, выслали.
Заведующий стоял, думал над бумажкой.
– Отпускай там скорей, чего нас держишь? – закричали в очереди.
– Хорошо, – произнес заведующий с угрозой, – я деньги выдам. Но я запрошу Старосельск.
– Будьте добры, синьор, запросите.
– Выдайте им, – распорядился заведующий.
И вот Игорь Чернявин стоит на крыльце. В одной руке у него деньги, в другой – старосельский документ. Игорь вытянул губы[67] и прошептал:
– Родители, может, прислали…
На душе у Игоря радостно. Над площадью бродят праздничные облака, станционный палисадник дышит полной грудью и собирается нарядиться в зелень. У стены вокзала сидят крестьяне и с удовольствием ждут поезда. Подальше над своей подставкой сидит Ваня Гальченко и смотрит в сторону Игоря. Игорь отделил белую кредитку и положил в наружный карман пиджака. Остальные деньги аккуратно задвинул подальше, – есть такой карман у самого голого тела. Он направился к Ване:
– Приветствую тебя, труженик!
Ваня поднял к Игорю улыбающееся лицо. Игорь достал из наружного кармана белый кредитный билет, встряхнул им в воздухе, торжественно сказал:
– Вот тебе, мальчик, за то, что помог мне в тяжелую минуту.
Ваня испуганно вскочил[68] с большого серого камня, на котором сидел. Его глаза[69] удивленно заострились. Он осторожно взял бумажку.
– Ого! Это десять рублей. Ой, ой, ой!
Игорь, улыбаясь, наблюдал: на деньги Ваня сначала смотрел серьезно, потом серьезно-недоверчиво, потом поднял на Игоря лукаво-понимающие глаза:
– А теперь какая минута?
– Теперь такая минута, что ты можешь купить себе гуталина – желтого, красного, зеленого и оранжевого.
Ваня радостно взвизгнул:
– А для чего зеленого?
– Ну, представь себе такой случай: подходит к тебе крокодил.
Ваня пришел в восторг:
– Крокодил? И говорит: пожалуйста, у вас есть зеленая?
– Ну да. А ты отвечаешь: «А как же…»
– А почему так: то не было денег, а то сколько денег!
Ваня смотрел на Игоря серьезно, но в его внимательных серых глазах плясали настороженные веселые точечки.
Игорь ответил несколько в нос:
– Чудак. Всегда так бывает: нет денег, а потом есть. И у тебя так: сначала не было, а теперь – десять рублей.
– А где ты взял? Получку получил, да?
– Нет, это бабушка узнала, что я в тяжелом положении, и прислала мне сто рублей.
– Сто рублей?
Игорь громко смеется. Смеется и Ваня. Но чрезвычайно дельный вопрос приходит ему в голову:
– У бабушки не может быть ста рублей. Бабушка ведь не работает. Это, наверное, дедушка?
– Пускай дедушка. Только знаешь что? Давай о родственниках после поговорим. А сейчас купим шамовки и подумаем, как нам добраться до города Лондона.
Ваня не стал расспрашивать и удивляться. Он деловым движением, напрягая губы, сложил десятку и спрятал в карман. Потом расставил ноги в коротких штанишках и в исправных ботинках, пошевелил пальцами и бросил на свое производство взгляд сверху. Быстро присел, сложил в ящик щетки и коробки, прихлопнул крышку, взялся за ремень.
И вот ящик постукивает у Ваниного бока. Идя рядом с Игорем, Ваня спрашивает лукаво:
– А если я не хочу в… Лондон. А хочу… в Сен-Франциско?
– В Сан-Франциско? С удовольствием, – ответил Игорь, – хороший город.
4 Оригинальные приключения Рыжикова
Пирожки были сочные и вкусные, но одним движением челюстей они превращались в нежный невесомый комок, который проглатывался почти без ощущения, – только аппетит просыпался по-настоящему.
На угрюмом лице Рыжикова это отразилось усиленным блеском глаз и острой внимательностью ко всему окружающему.
У кассы стояла очередь. Окно кассира было еще закрыто, но перед окном собралось уже человек двадцать. Некоторые фигуры заслуживали внимания Рыжикова:
Это была опасная провинциальная очередь тех лет – все скромные, трезвые, бедные люди. Самым выдающимся лицом в очереди был невысокого роста человек в зимней бекеше, воротник и карманы которой были обшиты серым барашком. Но за ним стояла обозленного вида худая женщина из тех, которые дрожат за свое место в очереди, как будто в этом месте уж такое большое счастье. За нею стояли тоже женщины, и все простого звания. Деньги они зарыли под юбки или за пазухи, да и какие у них деньги? У черненькой аккуратной девчонки деньги зажаты в кулаке, крепко держит, видно, как напрягаются мускулы.
Эта станция и эта очередь плохо приспособлены для удачной операции. Люди здесь осторожные, деньги у них небольшие[70], и за деньги они держатся обеими руками. И лица у них скучные: билетов здесь на всех хватает, никто не волнуется и не может забыть о своих деньгах.
Рыжиков вспоминает вокзал большого города. Правда, там есть неудобства: милиционеры, стрелки и другие строгости. Каким-то чудом, невзирая на деловую походку Гришки и его пассажирскую физиономию, они умеют узнавать самые сокровенные мысли и даже документов не спрашивают, а говорят просто:
– Ну, молодой человек, пойдем со мной!
Зато какой там пассажир – в большом городе! Какие там волнения, какие чувства, сколько там настоящей жизни! Целый день человек бродит между кассовыми окошками, торчит перед справочным бюро, расспрашивает носильщиков, пассажиров. Целые ночи просиживает на вокзале. Кто попроще, раскладывается на полу и спит так крепко, что не только деньги, душу можно вытащить незаметно. Кто покультурнее, те, конечно, не спят, те бродят, мечтают… Билеты там покупаются дорогие, далекие, в карманах покоятся бумажники, черные, коричневые, пухлые.
Кто может быть счастливее человека, только что получившего билет в вокзальной кассе? Он стоял в очереди, он ссорился с ее нарушителями, он трепетал, ожидая, что не хватит билетов, он жадно прислушивался к невероятным разговорам и слухам. И вот он, радостный, еще не веря своему счастью, бредет в толпе по вокзальному залу и читает билет дрожащими глазами, он забыл обо всем: о жене, о начальнике, о своем чемодане, о своем бумажнике, который так берег в очереди…
Рыжиков вдруг оживился. За последней женщиной стал в очередь заросший волосатый мужчина в стареньком пиджаке. Сапоги у него хорошие – вытяжки, на шее шарф зеленого цвета, а брючной карман приятно рисуется[71] точным, хорошего размера прямоугольником.
Рыжиков не спеша направился к очереди и стал за пиджаком. Внимательно присматриваясь к какой-то рекламе, он повернулся к пиджаку боком, и в следующий момент его два пальца ощутили бугристый угол бумажника. Гришка потянул вверх, бумажник неслышно пошел, еще мгновение и… шершавая лапа жадно ухватила руку Рыжикова, и против его глаз очутилось испуганно-перекошенное лицо:
– Ах ты, сволочь какая! Ну, что ты скажешь!
Рыжиков рванулся в сторону – неудачно. Он тоже закричал общепринятым обиженно-угрожающим голосом:
– Чего ты пристал? Смотри!
– Где я эту руку поймал?
– Чего ты хватаешь?
– Нет, стой, голубчик!
Неожиданным, резким движением Гришка выдернул[72] руку и бросился к двери на перрон. Через платформу и ближайшие пути он перемахнул, почти не касаясь земли, и нырнул под товарный состав. Под другой. Присел, оглянулся. На перроне топталось несколько человек. Плеч и голов он не видел, но сразу узнал вытяжки, а рядом с ними полы серой шинели и блестящие узкие сапоги. Услышал тот же взволнованный голос:
– Ах ты, какой бандюга!
Шинельный подол пошел волнами, и начищенные сапоги двинулись вперед, спрыгнули с перрона. Рыжиков, мелькая тапочками, побежал вдоль товарных составов к стрелкам. На душе у него было тяжело, но зато аппетит прошел[73].
5 Завтрак в саду
В руках у Игоря две французские булки, колбаса и банка варенья. Еще на вокзале он сказал Ване:
– Здесь все пропитано железнодорожными бактериями. Давай лучше позавтракаем в саду. Там есть такая миленькая скамеечка.
Но, войдя в палисадник, они увидели на миленькой скамеечке Ванду Стадницкую. Она сидела, положив голову на руку, вытянутую по спинке скамейки, смотрела на небо и мечтала. Игорь воскликнул:
– О! Это купе занято!
Он на носках обошел мечтательную фигуру Ванды, сначала подозрительно покосился на калоши, надетые на босу ногу, но когда очутился против ее открытых серых глаз, обратился к ней серьезно, без улыбки:
– Мадемуазель, вы разрешите позавтракать в вашем присутствии?
Его учтиво склоненная фигура, застегнутый до воротника пиджак и ярко начищенные ботинки произвели на Ванду приятное впечатление. Грустная и мечтательная, она все же разрешила себе привычно-кокетливую ужимку и даже чуть-чуть улыбнулась:
– Пожалуйста!
Игорь со сдержанным оживлением сказал:
– Мерси.
Ванда удивленно оглядела мальчиков и подвинулась на край скамейки. Облака перестали ее занимать, она занялась более прозаическим пейзажем привокзальной площади. Игорь быстро разложил на скамейке закуску, уселся на другом коне. Ваня прогремел ящиком, поставил его на землю, уселся за скамейкой, как за столом, сводя плечи в предвкушении завтрака. Игорь разрезал колбасу и спросил:
– Ваня! А как мы будем варенье есть? Пальцами?
Ваня завертел головой, оглядел палисадник:
– А мы… такие… ложечки сделаем… из дерева. Ножиком.
– У вас нет ложечки, миледи? – обратился Игорь к Ванде.
Он произнес это чрезвычайно вежливо, таким тоном, каким пользуются только самые изысканные путешественники, обращаясь друг к другу в купе международного вагона. У Ванды блеснули глаза от удовольствия, но, во-первых, очевидно было для самого неиспытанного глаза, что у нее нет никаких вещей, – она имела вид пассажира без багажа, во-вторых, от колбасы исходил чарующий запах. Ванда проглотила слюну и ответила с жеманной обидой:
– Ну что вы? Какие у меня ложечки?
– Серебряные, – приветливо пояснил Игорь.
Ванда ничего не ответила, снова протянула руку по спинке скамейки, обратилась к облакам. Но в ее глазах уже нет прежней грустной мечтательности.
Ваня держит в руке половину французской булки, он решительным рывком головы откусывает от нее большие куски, а колбасу берет с бумажки осторожно двумя грязными пальцами. Проделывая все это, он то и дело поглядывает на Ванду. Он не замечает ни ее босых грязных ног, ни безобразной копны волос. Он видит только ее нежную розовую щеку, наружный уголок глаза, выгнутые темные ресницы.
От своего куска булки Ваня отломил горбушку, положил на нее два ломтика колбасы, протянул Ванде. Ванда не заметила этого, и Ваня вопросительно посмотрел на Игоря. Игорь ест с увлечением, работает руками, зубами, ножиком. Но быстро между делом, он кивает Ване в знак одобрения и свободной рукой треплет его по плечу. Ваня, немного поколебавшись, легонько прикоснулся к колену соседки. Она повернула к нему голову, хотела улыбнуться кокетливо, но не вышло – улыбнулась просто, благородно и не спеша начала есть, отщипывая булку мелкими кусочками. Все это произошло в полном молчании. Покончив с нарезанной колбасой и принимаясь снова резать, Игорь спросил деловито, не глядя на Ванду:
– Вы куда едете, синьорита?
Ванда отвернулась к вокзалу, перестала жевать и сказала скучливо:
– Я не знаю.
Ваня громко захохотал.
– Как так не знаешь? А мы знаем! Мы едем в Сан-Франциско!
– Это далеко? – спросила Ванда из вежливости.
Ваня раскатился смехом еще сильнее.
– Четвертая остановка, – ответил Игорь.
– Не четвертая, а шестая.
– Ну, шестая.
– Поедем с нами, – предложил Ваня весело, поворачиваясь к Ванде на своем ящике. – Поедем? Тебя как зовут?
– Ванда.
– О! Вот это да![74] Ванда!
– Это польское имя.
– Поедем! Там у него дедушка и бабушка, – Ваня иронически сверкал глазами и следил за Игорем, принимающим его иронию с дружеским добродушием.
Но Ванда почему-то ничего не ответила на буйную радость Вани. Она положила на скамью недоеденный кусок булки, сказала почти растерянно, опираясь руками на край скамьи:
– Я не знаю… куда поехать[75]…
Игорь пристально глянул на нее и занялся банкой с вареньем. Оживление Вани вдруг исчезло. Он с недоумением присмотрелся к Ванде, глянул на Игоря, как будто в выражении его лица искал ответа. Игорь замычал какую-то песенку, поставил банку на скамью и сказал строго:
– Ты, Ванда, поедешь с нами, а там видно будет.
Вот теперь Ваня все понял. Он взял Ванду за руку, и она ответила ему чуть слышным пожатием, но на Игоря посмотрела испуганно[76]:
– Я не знаю…
– Ты не знаешь, а я знаю. Сейчас придет поезд, – сядем в купе, все обсудим.
Ваня воззрился на Игоря: какое купе? Ванда покорно ответила тонким щёпотом, немного срывающимся на стон[77]:
– Хорошо.
В этот момент из-за кустов выглянул Рыжиков. Оглядел компанию, выдвинулся вперед, остановился, тупо засмотрелся на еду. Ванда метнула в Рыжикова ненавидящий взгляд. Игорь засмеялся:
– У тебя неприятности[78], Рыжиков?
Рыжиков ничего не ответил.
– Ешь, – предложил Игорь, – я всегда говорил: воровское дело самое невыгодное. Тебя сегодня били? Я видел, как ты засыпался.
– Убежал, – прохрипел Рыжиков и принялся за еду.
– И то счастье! Это ужасно глупо. У каждого человека две руки, и каждый старается схватить тебя руками, – Игорь брезгливо вздрогнул, – это глупо! Надо так делать, как я.
– Бабушка, да? – спросил Ваня…
– Бабушка – почта. Присылает тебе записочку: дорогой Игорь, будьте добры, придите, пожалуйста, и, ради Бога, возьмите сто рублей. А если не придешь – вторая записочка: какое безобразие, почему вы не берете сто рублей? Пожалуйста, возьмите.
Рыжиков отвернулся обиженно:
– Записочку… Тебе хорошо говорить[79], когда ты грамотный.
– А если ты неграмотный – иди работать. А то – в карман! Что может быть глупее?
– А я вот грамотный, а буду работать, – запищал Ваня и поднял руку вверх.
– Во! Работник! Откуда ты такой? – Рыжиков мазнул Ваню рукой по губам. Ваня вскочил с подставки, вытер губы, гневно посмотрел на Рыжикова. Ванда задумалась над чем-то своим. Игорь запустил кусок булки в банку с вареньем:
– Работать – это тоже не плохо. Многие одобряют.
6 В купе
Через степь бежит длинный товарный поезд. На одной из платформ стоит накрытый брезентом трактор. На краю брезента, спускающегося с трактора, спит Ванда, свернувшись калачиком. Игорь Чернявин сидит около ее ног, обнял руками свои колени и рассеянным взглядом посматривает по сторонам. Рыжиков, расставив ноги в тапочках, стоит против него. Ваня спустил ноги с платформы и мирно любуется степью, широкой дорогой, ползущей рядом, курганами на горизонте, первой весенней зеленью.
Выехали вчера вечером, долго укладывались спать, было холодно. Потом залезли под брезент, копошились там и ежились, наконец заснули. Под брезентом еще и тем хорошо, что на остановках ничьи любопытные взгляды не беспокоили пассажиров и никто не мешал спать. Игорь Чернявин, засыпая, сказал:
– Это самое лучшее купе, никакой давки и тесноты, свежий воздух и никто не говорит глупостей: предъявите ваши билеты!
Утром проснулись рано и вылезли из-под брезента в хорошем настроении. Только на больших станциях снова пользовались его гостеприимством, но уже не в качестве спального места, а исключительно для того, чтобы не волновать поездной прислуги. А потом Ванде захотелось поспать на солнышке.
Рыжиков молчал, молчал, наконец спросил:
– Зачем ты Ванду потащил в город?
– А тебе какое дело? – Игорь прищурил на Рыжикова глаза, может быть, потому, что из-за Рыжикова над крышей соседнего вагона поднималось чистое, словно умытое, солнце.
– Значит, есть дело.
– В городе что-нибудь найдем. Работу или что…
– Ты не хочешь работать, а ей нужно?
Рыжиков сказал это в упор, он лез в ссору.
– А ей нужно, – спокойно сказал Игорь, отвернулся от Рыжикова и покровительственно посмотрел на Ванду[80].
С края платформы убежденно-весело отозвался Ваня:
– Люди все работают. Кругом все работают.
Он медленным, круглым движением показал на степень. На далеком поле, действительно, что-то делали люди, разобрать было трудно, только яркими пятнами играли на солнце белые рубахи.
Рыжиков сказал, глядя туда:
– Ну и пусть! Наплевать на твоих людей.
Ваня поднял лицо, приоткрыл зубки, присмотрелся к Рыжикову улыбающимися глазами, протянул:
– И никто не крадет.
Рыжиков закричал на Ваню:
– Ты, пацан, замри[81], пока в рожу не схватил[82]! Много ты понимаешь!
Ванины зубки так и остались открытыми, но глаза потеряли улыбку, насторожились.
– А за что?
Игорь произнес в нос:
– Месье, в рожу можете только с моего письменного разрешения.
Рыжиков медленно навел на Игоря через плечо угрюмо-угрожающие глаза:
– С твоего разрешения?
– И притом письменного… Подайте мне заявление…
– Какое заявление?
– О том, что вы желаете заехать мне в рожу.
Рыжиков оживился, направился к Ване:
– Интересно! Интересно, как выйдет без разрешения.
Ваня испуганно стрельнул взглядом, быстро на руках вскочил, бросился к Игорю. Рыжиков протянул руку, чтобы поймать Ваню, но как-то так случилось, что Игорь стал между ними. Рыжиков не успел даже бросить на Игоря презрительный взгляд, не успел протянуть руку для защиты. Стремительный кулак Игоря Чернявина направился как будто в лицо Рыжикова, но с ног его повалил неожиданный удар в живот. Рыжиков свалился прямо на спящую Ванду. Ванда проснулась, вскрикнула в испуге:
– Ой! Что такое? Чего ты?
Игорь спокойно улыбнулся:
– Не беспокойтесь! Рыжиков спать хочет. Уступите спальное место. Ваня выглядывал из-за спины Игоря и серьезно, внимательно присматривался к Рыжикову:
– Как ты его ударил?
Ванда брезгливо обернулась к Рыжикову, но сейчас же и улыбнулась: вид скривившегося Рыжикова, очевидно, ей понравился.
– Ты его побил, да? За что?
Рыжиков приподнялся на локте, выпятил толстые губы. Рыжие космы в беспорядке спадали на лоб, почти закрывая наглые зеленые глаза.
– Ты чего скалишься? Он за тебя заступаться не будет[83].
Заложив руки за спину, Ванда покачала головой:
– А может, и будет!
– Смотри, Ванда![84] – Рыжиков вскочил на ноги, сжал кулаки.
Игорь улыбнулся, положил руку на плечо Вани, сказал в сторону, почти нехотя, скучно:
– Имейте в виду, сэр, в этом купе вы пальцем никого не тронете.
Рыжиков засунул руки в карманы, ухмыльнулся:
– Ты, наверное, не знаешь, кто она такая?
Игорь посмотрел на Рыжикова удивленно:
– А что такое?
– Ты, может, думаешь, что она вот какая барышня? Сказать, какая ты есть?
Ванда, ненавидяще, наморщила красные, припухшие от сна, губы…
– Пошел ты к черту! Жаба! Ну и говори! Все вы – сволочи!
Рыжиков обрадовался:
– Ха! Она же проститутка! Понимаешь, какое дельце?
Ваня вытянул к Игорю вдруг заострившееся лицо:
– Что? Что?
Ванда медленно пошла к краю платформы, подняла воротник жакета, втянула в воротник встрепанную голову. Игорь, гневный, двинулся к Рыжикову, но Рыжиков захохотал и, ловко перепрыгнув на другую сторону платформы, спрятался за трактором. Игорь звонко сказал ему вслед: – Там и сиди, покажешь нос, выкину на шпалы.
Ваня еле успевал следить за происходящим[85]. Он бросился, было, посмотреть, что делает Рыжиков, но передумал, подошел к Ванде, осторожно прикоснулся к ее локтю:
– Ванда, что он такое сказал? Как это?
Игорь легонько оттолкнул Ваню. Глядя в пол платформы, он спросил:
– Он правду сказал?
Ванда быстро повернулась, ответила с прежней ненавистью[86]:
– Ну, и пусть правду! А тебе какое дело? Может, поухаживать хочешь?
Игорь покраснел, скривил рот, отвел глаза от жадного взгляда Вани Гальченко.
– Да… нет! А только… сколько ж тебе лет?
Ванда кокетливо повела головой, чуть-чуть, через плечо, задела взглядом Игоря:
– Ну и что ж? Пятнадцать.
Игорь почесал медленно затылок, грустно улыбнулся и сказал:
– Хорошо… Больше ничего, синьора, вы свободны.
Ванда внимательно посмотрела на Игоря, но он не заметил этого.
Она тронулась с места, неслышно, медленно прошла к брезенту, зябко втягивая голову в воротник, медленно опустилась на брезент и тихонько улеглась, отвернувшись к трактору.
Игорь, тихо насвистывая, загляделся на степь. Далеко впереди встали из-за пологих холмов белые верхи зданий. Над ними нависло солнце. Оно своим хорошим, щедрым светом заливает землю, яркие, только что родившиеся, невинные, не знающие пыли озими, черные отвалы только что поднятых паров. Даже одичавший прошлогодний ток с бесформенными кучами грязной соломы, и тот молодился под солнцем.
Промелькнула внизу босоногая команда девушек, ноги у них были еще белые, не загоревшие. Одна из девушек что-то крикнула Игорю, другие засмеялись. Игорь проводил их скучным взглядом, отвернулся. Ваня взглянул на Ванду, осторожно прислушался к Рыжикову за трактором, стал рядом с Игорем, поднялся на носки, спросил шепотом:
– А кто это… проститутка? Скажи?[87]
Игорь ответил сурово, не глядя на Ваню:
– Малый ты еще… А только это… хуже всего, понимаешь?[88]
Ваня с испугом оглянулся на Ванду, подался вперед, но платформу сильно качнуло на стрелках.
– Приехали, – сказал Игорь.
Через многочисленные стрелки, мимо мелькающих просветов товарных составов поезд забирал вправо, быстро проходя пассажирскую станцию. Над крышами стоявших вагонов проплыли надстройка вокзала и длинные выпуклые кровли перронов. Поезд выскочил на узкую насыпь, которая правильной кривой огибала неожиданно широкий луг у самого края города. За лугом грелись на солнце соломенные крыши белых хат. Но снова стрелки дернули поезд, и он более осторожно начал втягиваться в широкую сеть товарных путей. Хат уже не было, на горе стояли и смотрели на поезд красные, серые, розовые дома города. Ваня сказал:
– Сан-Франциско? Да!
Ванда зашевелилась на своем брезенте, села, отвернула лицо к городу. Игорь ничего не ответил. Поезд вошел в узкую длинную перспективу других товарных поездов, очень медленно продвигался между ними.
Игорь задумался, глядя на проплывающую замасленную поверхность станионного полотна.
Сзади него что-то глухо стукнуло. Игорь быстро обернулся. На их платформе стоял, выпрямляясь[89] после трудного прыжка и внимательно разглядывая их[90], стрелок железнодорожной охраны. Ванда неслышной тенью слетела с платформы.
– Это ты – Игорь Чернявин?
– Я.
– Ага! Тут у нас телеграмма… Ты получил сто рублей по подложному переводу?
Игорь влепил в стрелка восхищенным взглядом:
– Ой, и народ же быстрый! Получил, представьте! Я отказывался, понимаете…
Стрелок грустно ухмыльнулся, кивнул:
– Идем.
Игорь почесал нос:
– Ах ты, черт! Жалко, Ванька, с тобой расставаться. Хороший ты человек! И Ванда… Вы понимаете, товарищ стрелок, некогда мне.
Ваня растерялся:
– А… куда ты?
– Я? Именем закона… арестован.
– За что?
– За бабушку страдаю.
Ваня вдруг понял:
– Так тебя в тюрьму? Да?
– Идем, идем, – повторил стрелок и тронул Игоря за плечо.
Игорь взялся за борт платформы, готовясь спрыгнуть. Оглянулся на Ваню:
– А ты, Ванюшка, иди в колонию. Здесь, говорят, приличная. Имени Первого мая.
Он спрыгнул. За ним спрыгнул стрелок. Опершись руками о колени, Ваня смотрел им вслед. Он еще не мог вместить в себя это горе.
Из-за трактора вышел Рыжиков. Он улыбнулся злорадно и играл:
– Будьте добры! Присылают записочку: дорогой Игорь, пожалуйста, возьмите сто рублей! Чистая работа! А Ванда где?
Ваня ответил испуганно:
– Не знаю.
7 На своей улице
– Куда ты пойдешь? – спросил Рыжиков, когда они подошли к остановке трамвая возле товарной станции.
Улица здесь была булыжная, изношенная, покрытая угольной пылью. Большое грузовое движение грохотало по ней. Из-под копыт и колес поднималось видимо-невидимо воробьев. У трамвайной остановки стояла очередь. У многих людей ботинки требовали чистки. Ваня не успел ответить: к нему подошел человек в форменной тужурке. Он добродушно кивнул к забору:
– Почистишь, что ли?
– Вам черной?
– Черной, а какой же? Вот спасибо, а то к начальству нужно, а ботинки…
Ваня присмотрелся к заборчику, там[91] сесть было не на чем. Подальше он увидел старое деревянное крыльцо.
– На ступеньках? Хорошо?
Человек, собирающийся к начальству, молча кивнул. Ваня побежал вперед, чтобы все приготовить. Когда клиент подошел, Ваня уже набирал мазь на одну из щеток…
– Э, нет, улыбнулся клиент, ты раньше пыль убери.
Ваня покраснел и приступил к работе. Рыжиков уселся повыше на том же крыльце и молча рассматривал улицу.
– Сколько тебе?
– Десять копеек.
– А сдача у тебя есть? С пятнадцати?
Ваня полез в карман. У него оказалось только четыре гривенника.
– Не рассчитаемся так. Ну, Бог с тобой, бери лишний пятак, ты парень, видно, не плохой.[92]
Ваня взял монету, улыбнулся.
– А я вам завтра почищу.
– Ишь ты какой? Ты думаешь, я у тебя каждый день буду красоту наводить?
Не успел клиент отойти, подошла девушка, попросила почистить туфли, потом – красноармеец. Красноармеец спросил:
– Сколько будет стоить, если вот сапоги?
Перед красноармейцем Ваня оробел. Он еще ни разу не чистил сапоги красноармейцам и не знал, сколько это стоит. Кроме того, почему-то ему стыдно было брать деньги с красноармейца. Ваня поперхнулся и произнес несмело:
– Де… десять копеек.
– Вот еще дурак, – прошептал Рыжиков, но красноармеец обрадовался, поставил ногу на подставку:
– Дешево берешь, малыш, дешево. У нас везде за сапоги двадцать копеек.
Ни тому, ни другому Ваня ничего не сказал. Он с большой охотой приступил к работе. Сначала смел пыль, потом основательно, долго намазывал сапог гуталином. Он забыл, правда, спросить: «Вам черной?» Работал он сильно, действовал глазами, бровями и даже языком. Быстро чистить двумя щетками он еще не умел, одна щетка вырвалась у него из рук и далеко отлетела. Рыжиков громко захохотал, но щетки не поднял. Ваня сам, кряхтя, поднялся и побежал за щеткой.
Красноармеец дал Ване гривенник и сказал:
– Спасибо тебе[93]. Дешево почистил, и блестит хорошо.
Он ушел, поглядывая на сапоги. У Вани заболели руки и спина, но было приятно, что красноармеец его поблагодарил. Опершись на локти, Ваня молча рассматривал улицу.
Дома на улице все были одинаковые, кирпичные, запыленные, двухэтажные. Между ними стояли короткие заборы, а в заборах ворота. Почти у всех ворот стояли скамейки, на скамейках сидели люди и грызли семечки. Ваня вспомнил, что завтра воскресенье. От этого стало как-то приятнее. По кирпичным тротуарам проходили люди по двое, по трое и разговаривали негромко.
Сзади открылась дверь, и скрипучий, неприятный голос спросил:
– А вам чего здесь нужно? Беспризорные?
Ваня вскочил и оглянулся. Лениво поднялся и Рыжиков. В открытых дверях стоял человек высокий, худой, с седыми усами:
– Беспризорные?
– Нет, не беспризорные.
– Чистильщик? Ага? А резиновые набойки у тебя есть?
В ящике у Вани было только две щетки и две банки черной мази. Ваня развел руками:
– Нет! Резиновых набоек нет!
– Хо! Чистильщик! Какой ты чистильщик! Ну, допустим! А этот чего?
Рыжиков недовольно отвернулся.
– Чего ты здесь? Ночи ожидаешь?
Рыжиков прохрипел еще более недовольно:
– Да никакой ночи… Вот… знакомого встретил.
– А… знакомого!
Старик запер дверь на ключ, спустился по ступенькам. Ткнул узловатым пальцем в направлении Вани:
– Этот, видно, трудящий. А ты – марш отсюда. Вижу, какой знакомый. Ты убирайся.
– Да я сейчас пойду. Что, и на улице нельзя остановиться? Ты, что ли, такие порядки выдумал?[94] – Рыжиков чувствовал свою юридическую правоту, поэтому обижался все больше и больше.
Старик усмехнулся:
– Плохие здесь порядки, а поэтому уходи, иди туда, где хорошие порядки. Я вот только в лавочку. Пока вернусь, чтоб тебя тут не было.
Он отправился по улице. Рыжиков проводил его обиженными глазами и, снова усаживаясь на крыльце, прогудел почти со слезами:
– Придирается! «Ночи ожидаешь»!
К ним подошел молодой человек и радостным голосом воскликнул:
– Какой прогресс! На нашей улице чистильщик! Да какой симпатичный! Здравствуй!
– Вам черной? – спросил Ваня.
– Черной! Ты всегда здесь будешь чистить?
Набирая мазь. Ваня серьезно повел плечами и сказал с небольшим затруднением:
– Да, я всегда здесь буду чистить.[95]
Этот клиент не спросил, сколько нужно платить, а без всяких разговоров протянул Ване пятнадцать копеек.
Ваня пропищал:
– Так сдачи нет.
– Ничего, ничего, я всегда буду платить тебе пятнадцать копеек. Мне только надо побыстрее.
Ваня опустил деньги в карман и снова начал рассматривать улицу. Приближался вечер, от этого на улице стало как-то уютнее и как будто чище. Ваню очень интересовал трамвай. Он много слышал об этой штуке, но никогда ее не видел, и теперь ему хотелось залезть в вагон и куда-нибудь поехать. Настроение у него было хорошее. Улица казалась своей, люди казались хорошими, а в душе разгоралась маленькая гордость: все проходят и видят, что на крыльце сидит Ваня и может почистить ботинки.
Рыжиков сказал:
– Ваня, знаешь что? Ты мне дай пятьдесят копеек, ладно[96]? А я тебе завтра отдам.
– А где ты завтра возьмешь?
– Чего это?
– Где ты возьмешь пятьдесят копеек?
– Это я уже знаю, где возьму. Надо пойти пошамать.
Ваня вдруг почувствовал страшный голод. Еще утром они съели на платформе остатки вчерашнего ужина.
– Пятьдесят копеек? А у меня есть сколько? У меня есть девяносто копеек. А, я и забыл про те деньги!
– Какие «те»?
– А мне Игорь дал… Только это… бабушкины.
Вася развернул бумажку, посмотрел на нее грустно и спрятал обратно. – А теперь его повели в тюрьму.
– Так дай пятьдесят копеек. Видал, сколько у тебя денег!
– Те нельзя тратить, – сказал Ваня и дал ему сорок пять копеек, поделив пополам имевшуюся наличность[97].
Рыжиков взял деньги:
– А ночевать… я приду.
Ваня с тоской вспомнил: нужно еще ночевать. Почему-то мысль об этой необходимости до сих пор ему не приходила в голову. Он даже растерялся:
– А где ночевать?
– Ты не думай. Найдем.
– На земле?
Рыжиков понюхал воздух, посмотрел на небо, на мостовую:
– Можно и на земле. Ты здесь посиди, а я пойду. Если бы солома или сено какое-нибудь. А то здесь на вокзале не позволяют. Ты посиди, а я поищу.
Рыжиков деловой походкой направился вдоль по улице. Ваня снова опустился на ступеньки и загрустил. Солнце зашло за дома. Мимо Вани проходили люди, и никто не смотрел на него. На противоположном тротуаре шумела стайка детей, голос балованной девочки сказал громко:
– А вон сидит маленький чистильщик.
Еще одна девочка загляделась на Ваню, но потом кто-то ее дернул, она засмеялась и побежала к калитке. Голос взрослой женщины сказал:
– Варя, твой суп простынет. Я тебе второй раз говорю.
И балованная девочка запела:
– Первый, первый, первый!
Ваня подпер голову кулаком и посмотрел в другую сторону улицы. По ней возвращался усатый хозяин[98].
– Сидишь? – сказал он. – А тот где?
– Ушел, – ответил Ваня.
– Ну и хорошо, что ушел. Да и тебе пора домой, никто больше чистить не будет. Только ты мне завтра резиновые набойки принеси.
Ваня спросил:
– А далеко отсюда лавочка?
– А тебе зачем? Покупать что будешь? Папиросы, наверное?
– Нет, не папиросы. А где она?
– Да вот тут за углом сразу.
Ваня сложил щетки и коробки, поднял ящик и отправился в лавочку. Он шел один по «своей» улице, и так ему было досадно, что нельзя больше чистить людям ботинки, а нужно думать, где ночевать.
8 Ночь[99]
Заночевали действительно в соломе, и оказалось, что это вовсе не далеко. Нужно по той же улице пройти два квартала, перейти через переезд, потом еще немного пройти, а там уже начиналось поле. Может быть, и не настоящее поле, потому что впереди было еще несколько огоньков, но здесь, за последним домом, было просторно, шуршала под ногами трава, а чуть в стороне стояла эта самая солома. Вероятно, она стояла на пригорке[100], потому что отсюда хорошо был виден горящий огнями город. Совсем близко, на переезде, один фонарь горел очень ярко и сильно бил в глаза.
Ваня неохотно шел ночевать. Когда позади[101] осталась последняя хата, он пожалел, что не поискал ночлега в городе. Но Рыжиков брел уверенно, заложив руки в карманы, посвистывая.
– Вот здесь, – сказал он. – Нагребем соломы, тепло будет. И к городу близко.
Ваня опустил ящик на землю, и не захотелось ему сразу ложиться спать. Он начал рассматривать город. Было очень приятно смотреть на него. Впереди огни рассыпались по широкой площади, и было их очень много. Они казались то насыпанными в беспорядке, то обнаруживались в их толпе определенные линии. Выходило так, как будто они играют. Подальше начинался ряд больших домов, и во всех домах все окна горели, только разными цветами: желтыми, зелеными, ярко-красными.
– Отчего это? – спросил Ваня. – То такие, а то такие… окна?
– Чего это? – спросил Рыжиков, наклонившись к соломе на земле.
– Окна отчего такие? Разные?
– А это у кого какая лампа. Колпаки такие, абажуры. Это женщины любят: то красный абажур, то зеленый.
– Это богатые?
– И богатые, и бедные. Это из бумаги можно сделать. Бывает, абажур такой висит, а больше ничего и нет. И взять нечего. Только голову морочат, и все…
– Украсть? – спросил Ваня.
– У нас не говорят «украсть», а говорят «взять». Ты еще не привык.
– Я не хочу привыкать. Я и завтра пойду чистить. А потом пойду к этому… к Первому мая.
– И там можно кое-что взять. Если умно.
– А зачем?
– Ну и глупый ты! Совсем глупый! Как это «зачем»?
– Пойти туда жить, а потом взять?
– А как же?
– А потом в тюрьму?
– Это пускай поймают!
– А Игоря поймали.
– Потому что дурак. На почту лазит. Да ему все равно ничего не будет: несовершеннолетний.
– А я буду работать. Все равно буду работать.
Рыжиков гребнул еще раз солому из стога, помял ее ногами, растянулся:[102]
– Кто работает, тот еще скорей пропадет. Думаешь работать – это легко?
– А зачем Советская власть? Зачем, если не работать?
– Понес – Советская власть. В Советской власти тоже понимать нужно. Ей, конечно, выгоднее, чтобы все работали, она и заставляет.
– Кому это выгоднее?
– Да Советской же власти!
– А кто это?
– Вот дурень: кому это, да кто? Советская власть и есть. Тот, кто начальник. Ему с ворами беспокойство, а лучше, чтобы все работали. Загнали на работу, и сиди там.
– А если бы все были воры, так тогда как? Тогда Советской власти не нужно?
– Отстань, ты, завел: власти, власти!
– Тогда один вор у другого украл бы, а потом тот у того, а потом еще третий, правда? Все покрали бы, и ничего не осталось бы. Правда?
– Ложись уже.
– Я ложусь.
Ваня под самым стогом, наклонившись, устраивал для себя гнездышко.
– А если все воры, так кто будет булки печь? А кто будет тогда ботинки чистить? Тоже воры, да? А они не захотят. Они скажут: пускай кто-нибудь булок напечет, а мы только красть будем. Правда?
Рыжиков заорал на Ваню:
– Спи! Пристал, как смола!
Ваня замолчал и долго думал о чем-то. Потом улегся уютнее. На небе горели звезды. Соломенные пряди казались черными, большими конструкциями. Уже засыпая, Ваня сказал вслух:
– Пойду к этому… к Первому мая.
* * *
Проснулся Ваня рано, но день уже наступил. Солнце вставало за стогом, Ваня лежал в тени, ему стало холодно. Он вскочил, подымая за собой солому[103], приставшую к нему, и посмотрел на город. Город сейчас был другой. Кое-где горели ненужные уже фонари, и ярко светился тот самый фонарь возле переезда. Ваня засмотрелся на него, он казался уставшим, было его жалко: он, бедный, всю ночь светил.
Город был сейчас интереснее и сложнее, но уже не был таким красивым. Впрочем, это не имело особенного значения. Все-таки там было много домов и крыш, а дальше стояло высокое белое здание с колоннами. Вот где настоящий город, и нужно пойти туда посмотреть. Ваня заработает денег и пойдет… нет, поедет на трамвае. И, наверное, в городе есть кинотеатр. А сегодня он пойдет[104] на «свою» улицу. Ваня вспомнил вчерашнего молодого человека, который так обрадовался, что завелся чистильщик на этой улице. Наверное, там сейчас много народу хочет почистить ботинки. Хорошо, что есть лишняя коробка черной мази. Ване захотелось хорошенько рассмотреть эту коробку. Он наклонился к ящику, но ящика не было. Ногой Ваня откинул солому. Оглянулся. Только сейчас он заметил, что и Рыжикова тоже нет. Ваня обошел стог, вернулся на прежнее место и сказал растерянно:
– Украл… ящик…
Скучно посмотрел на город, еще раз оглянулся, прошептал:
– И мазь… И щетки…
Он прислонился к стогу, задумался. Вдруг вспомнил, полез в карман, пошарил в нем, вывернул:
– И десять рублей украл.
Ваня сделал несколько шагов в сторону дороги. Но остановился. Собственно говоря, в город идти было нечего. Ваня возвратился к стогу.
Он потянул к себе одну соломинку. Соломинка оказалась длинной и красивой, на ее конце был пустой, дрожащий колосок. Ваня провел пальцами по колоску. Между пальцами упала и разбрызгалась одна слеза.
9 Козлы
Целый месяц прошел после этих происшествий. В это время весенние дни успели вырасти и возмужать, они нарядились в богатые платья из зелени и цветов.
Рано утром милиционер, человек молодой, подтянутый и добросовестный, разбудил Игоря в приемнике и сказал ему:
– Трогаем, товарищ! Ты потом выспишься, в колонии, а мне до девяти нужно назад вернуться.
Игорю Чернявину не нравилось в приемнике: народ здесь был случайный, кормили плохо, было скучно.
Игорь быстро натянул на плечи свой пиджак, под которым уже имелась рубаха. Хотя это была короткая и бязевая рубаха, но Игорь умел ее желтоватый воротник кокетливо разбрасывать над воротником пиджака.
Дворники сухими метлами подметали улицы, но пыль еще не успела проснуться и неохотно взлетала над тротуарами. Утро стояло над городом ясное, прозрачное, здоровое. Игорю было приятно в такое утро идти «в новую жизнь».
Впрочем, Игорь не очень интересовался новой жизнью. Это у Полины Николаевны, в Комиссии по делам несовершеннолетних, за каждым словом: новая жизнь, новая жизнь! Игорь любил вообще жизнь, а какая там она, новая или старая, он не привык разбирать. Он никогда не задумывался ни над завтрашним днем, ни над вчерашним. Но сегодняшний день всегда привлекал его внимание, как еще не раскрытая страница, и ему нравилось не спеша перевертывать ее и любопытным глазом присматриваться к новым[105] рассказам. Эту вечно новую жизнь он приветствовал улыбкой своего большого рта и веселым ироническим взглядом. Сегодня это тем более было приятно, что в течение всего минувшего месяца ему пришлось переворачивать очень однообразные страницы, и он начал даже привыкать к этому однообразию.
В Комиссии по делам несовершеннолетних он и раньше бывал, и в этот раз не встретил там ничего существенно нового. Давно ему известная Полина Николаевна, женщина маленькая, остроносая, казавшаяся очень умной и доброй, как и раньше, с грустной вежливостью расспрашивала его о родителях, об учебе и вообще о том, как он дошел до такой жизни. Расспрашивая, она уже не заглядывала, как в прошлом году, в большой лист с заглавием: «Порядок опроса», но задавала все та же вопросы, что и в прошлом году. Игорь отвечал ей тоже вежливо. Он понимал, что Полина Николаевна честно обслуживает таких, как он, получает за это небольшое жалованье, что ей будет приятно, хотя изредка, поговорить с приличным человеком. Игорь Чернявин любил доставлять людям радость, поэтому и с Полиной Николаевной он разговаривал в джентельменском тоне, тем более что это было вовсе не трудно. Полина Николаевна постукивала тупым концом карандаша по столу и спрашивала:
– Ваш отец профессор?
– Да.
– В Ленинграде?
– Да.
– Почему вы не хотите к нему возвратиться?
– Мне не нравится его характер. Он – грубый, черствый, он изменяет моей маме, я с ним жить не могу.
– Вы с ним часто ссорились, крупно говорили?
– Нет. Я с ним не желаю разговаривать.
– Вы могли бы мать пожалеть, Игорь.
– Мне очень жаль, но мать не хочет от него уйти.
– Вы, Игорь, такой культурный мальчик, до каких же пор вы будете заниматься этими… приключениями?
– Полина Николаевна! Иначе не выходит. Уже два раза меня силой возвращают к отцу. Я все равно жить у него не буду.
– А если мы вас не отправим к отцу?
– Я надеюсь, что это будет очень хорошо.
– Вы бросите ваши фокусы?
– Я надеюсь.
– Почему вы надеетесь?
– А вот вы со мной поговорили.
Полина Николаевна посмотрела на него с благодарностью:
– Поможет ли вам это… мои разговоры?
– Я думаю, что ваши разговоры хорошо помогут.
– Что мне с вами делать, Игорь? Неужели только с вами одним и говорить? И другие ведь есть!
Полина Николаевна показывала карандашиком на дверь, за которой, в узком коридоре, другие мальчики ожидали своей очереди. На бледном остреньком личике Полины Николаевны, в беленьком узком кружевном воротничке, даже в ловком, юрком карандашике, которым она действовала, – во всем чувствовалось искреннее сожаление, что не может она взять Игоря за руку и повести по трудной дороге жизни. И Игорь понимал и сочувствовал: ей нужно заняться и другими сбившимися с пути объектами. Вероятно, это сочувствие довольно сильно выражалось на лице Игоря, потому что Полина Николаевна страдательно опустила глаза, и ее карандашик застучал по столу несколько нервно.
К ним подошел человек в белом халате. У него была беспорядочная шевелюра, начинавшаяся чрезвычайно низко, почти от самых бровей. Глазные яблоки этого человека были очень велики, они были покрыты мелкими красными жилками и почти целиком выкатывались наружу. Казалось, что этот человек в чистом белом халате везет что-то очень тяжелое и везти ему трудно. Полина Николаевна сказала устало:
– Вы, Чернявин, идите в кабинет. Товарищ должен произвести некоторые исследования относительно ваших трудовых предрасположений…
Игорь Чернявин при прошлых посещениях комиссий[106] уже подвергался подобным исследованиям, только тогда в белом халате был какой-то другой человек. Игорь покорно поднялся со стула, и ближайший отрезок жизненного пути (он так и не разобрал, нового или еще старого) он прошел за человеком в халате. Идти было недалеко. В небольшой комнате, обставленной белой крашеной мебелью, Игоря усадили на стул, а человек в халате сказал другому человеку в халате:
– Лабиринт Партеуса!
По спине у Игоря пробежали неприятные холодные иголочки, он почти притих за белым столом и даже начал думать о том, что, действительно, надо начать более спокойную жизнь. Но когда перед его глазами на столе расположился широкий картон с какими-то клетками и ходами, Игорь оживился. Он посмотрел на людей в белых халатах, и ему захотелось подробнее узнать, что это за люди и какая им цена.
Лупоглазый оперся руками на стог и сказал сухим, немного дрожащим голосом:
– Вы находитесь в центре этого лабиринта, понимаете? Вам нужно из него выйти. Вот вам карандаш, покажите, как вы будете выходить.
Игорь еще раз оглянулся на этих людей, но в общем не протестовал. Он взял карандаш и с улыбкой наклонился над лабиринтом. Повел карандаш к выходу, но скоро очутился в тупике и остановился. За большим окном что-то начало сильно хлопать. Игорь посмотрел и увидел девушку на балконе. Она тонкой палочкой колотила по развешанному на веревке ковру. Игорь снова подумал, что нужно все-таки… черт его знает. В этот момент лупоглазый вытащил картон у него из-под руки, а на место его положил другой. Это был тоже лабиринт. В одном его углу был изображен козел, вкушающий какие-то запрещенные плоды, а в другом углу – девушка с прутиком в руке. Было у нее что-то общее с той девушкой, которая работала на балконе. Игорь улыбнулся, глянул на балкон, потом сообразил: пока девушка доберется до козла, пройдет очень много времени и козел успеет полакомиться как следует. Игорь поднял лицо к человеку в халате[107]:
– Как это у них неудобно устроено!
– У кого «у них»?
– Да вот… у этих. Зачем такие дворы? Для козлов тут раздолье!
– Если вы будете оглядываться, вы ничего не сделаете.
Игорь сосредоточился над картоном. У козла был[108] очень добродушный вид. Игорю не захотелось его прогонять.
– А знаете что, синьоры? Пускай себе пасется!
– Как это так? – вскрикнул лупоглазый.
– Я думаю, что вреда будет немного. Какие-то кустики.
– Представьте себе, что там малинник.
– Не думаю. Вы напрасно беспокоитесь, синьоры.
– Почему вы так разговариваете? – человек в халате с силой дернул картон.
– С флейтой будем исследовать? – спросил другой.
Старший ответил сухо:
– Нет.
Он пошел к умывальнику, а потом долго вытирал каждый палец отдельно. Игорь улыбнулся во всю ширь, спросил с вежливой иронией:
– Собственно говоря… вы только этим и занимаетесь?
– Чем «только этим»?
– А вот… козлами.
– У нас не только козлы.
– А еще что?
Но лупоглазый принял гордый вид и ничего не ответил. Потом он вышел в дверь и уже из коридора пригласил:
– Идемте.
У столика Полины Николаевны он устало опустился на стул:
– Как? – спросила Полина Николаевна.
– Слабо. Очень слабо. Отношение к работе рассеянное, результаты нулевые. Рассеян, безынициативен, воображение отсутствует.
– Что вы говорите? У него инициативу нужно уменьшить вдвое, а вы говорите: безынициативен! Прочтите.
Она протянула довольно толстую папку. Человек в халате поднес ее к самым глазам и стал быстро вертеть головой вправо и влево, бегая по строчкам.
– Это ничего не значит, Полина Николаевна. Мы не знаем, инициатива это или подражание. Такие штуки, – он потряс папкой в руках, – вообще ничего не доказывают.
– А я вам говорю, что вы ошибаетесь. Я вас очень прошу посмотреть еще раз. Вы увидите, что вы ошибаетесь.
Лупоглазый поднялся со стула обиженный и двинулся к дверям своей комнаты.
– Хорошо!
– Что же вы сидите? – сказала Полина Николаевна Игорю.
Игорь посмотрел вслед белому халату и, когда закрылась за ним дверь, спросил доверительно:
– А для чего это нужно, Полина Николаевна?
Она подняла на него глаза:
– Значит, нужно.
– Я не понимаю, для чего.
– Это исследование ваших способностей.
– А для чего им мои способности?
– Идите, Игорь, не спорьте.
– Да там козлы, Полина Николаевна! Вот вы нас судите, таких, как я, под арестом держите. А я получил на почте пустяк, – сто рублей. А эти синьоры сколько получают?
– Идите, Игорь, перестаньте глупить.
Игорь снова вошел в комнату, посмотрел с презрением на людей в халатах, молча стал у стены. Пока люди в халатах перебирали какие-то папки, ящики, карты, у него в душе скопилась густая обида. Кто-то сильной рукой подчеркнул в ней одиночество, чреду последних скудных дней, брошенного на товарных путях симпатичного Ваню, отошедшие в вечность светлые дни детства, и мать, и старые обиды: вздорный, неверный, сумасбродный отец и другие люди, и жестокие и холодные. А сегодня опять эти два типа пристали к нему с козлами.
На столе стояла длинная коробка с отделениями. Старший предложил:
– Садитесь.
– Послушайте, милорды! Это, конечно, у вас здорово придумано! Прямо… настоящий блат. А только вы мне ответьте на один вопрос. Такой вопрос: верит вам кто-нибудь или никто не верит?
– Старший взмахнул рукой и закричал что-то…
Обо всем этом вспомнил Игорь Чернявин, шагая рядом с милиционером по просторным, освещенным утром тротуарам. Нет, истекший месяц был печальным месяцем. Это было скучное и глупое время. Полина Николаевна убеждала его начать новую жизнь, люди в халатах раскладывали перед ним разные картоны. Особенно стало скучно после того, как Игорь примирился со своей участью и научился выходить из всех лабиринтов, научился продевать веревку через дырочки флейты. Все эти занятия он сначала сопровождал насмешкой над самим собой, над козлами, над человеками в халатах, а потом он все упражнения проделывал с угрюмой технической серьезностью. От скуки, сделав небольшое усилие, он даже сумел понравиться людям в халатах и помогал им исследовать других ребят. Только записывать и высчитывать он не научился. Его наставники не посвящали никого в свои тайны и прятали их значение за непонятными словами: «тесты»[109], «корреляция»[110].
Все-таки в кабинете было занятнее проводить время, чем в приемнике. Игорь не любил беспризорную, шумную и ржавую толпу, дешевое ее остроумие и низкую культуру. В кабинете же он говорил новичку с высокомерием жреца:
– Вот, синьор, пока щука не поймает эту жалкую рыбешку, вы отсюда не выйдете!
– Видите: куда мяч закатился? Доставьте его к волейбольной сетке. Перекинуть нельзя. Несите в руках. Через забор перелезть? Забудьте эти ваши уличные привычки.
Он стоял за плечом новичка и холодным взглядом наблюдал неудачные попытки исследуемого субъекта. Субъект разочарованно тянул:
– Если так играть, никогда не выиграешь.
– Вы, мистер, и не должны выиграть. Выигрываем в таком случае только мы.
Досадно только было, что в сравнении с хозяевами кабинета он выигрывал до смешного мало: бесплатный бутерброд во время завтрака. По сравнению с таким заработком предприятие на почте было все же выгоднее, оно было и гораздо проще оборудовано, чем кабинет.
Сейчас Игорь с внутренним смущением вспоминал о своих легкомысленно-позорных действиях в кабинете, на которые его подвинуло дикое невезение с деньгами бабушки. Но… страницы этого прошлого были перевернуты. Сегодняшний день быстро бежал навстречу: сначала промелькнули хорошо знакомые улицы центра, потом пошли и новые места, узкая, грязная набережная, запруженная подводами базарная площадь, потом широкая, щедро накрытая небом Хорошиловка. Домики на Хорошиловке маленькие, между ними цветут сады, мимо домиков бегает трамвай, бегает хлопотливо, быстро, весело. Но вот и Хорошиловка кончилась, мостовая пошла среди молодой зелени, а трамвай побежал по шпалам, как будто это не трамвай, а поезд. И зеленые полосы, и шоссе, и трамвай – все направляются к дубовой рощице. К этой рощице пришли милиционер и Игорь. В сторону ведет просека, в просеке тоже мостовая, а через нее сетчатая с золотыми буквами вывеска:
«Колония имени Первого мая»
10 Первые впечатления
Через просеку милиционер и Игорь прошли быстро. Милиционер был доволен, что заканчивает свою командировку. И Игорь был доволен: впереди была «новая жизнь».
Сквозь просеку были видны крыши, да и сама просека скоро вышла в поле – настоящее пахучее поле с рожью, с цветами на межах. За полем по всему горизонту пошел лес, а к лесу прислонилась колония.
На одном из зданий, на высоких флагштоках – два узких флага. Флаги какие-то особенные, узкие и длинные, такие флаги видел Игорь когда-то давно на изображениях сказочных дворцов.
Он спросил у милиционера:
– Они там живут?
Милиционер удивился: разумеется, они там живут, если путники подходят к этим зданиям:
– Само собою там, а где же им жить?
– Флаги у них какие… Скажите, пожалуйста!
– Да, флаги, это верно! Да у них все такое… чудное! А народ здесь хороший, крепко живут!
Игорь повел плечами, засунул руки в карманы и все не мог отвести взгляда от двух узких, гуляющих на ветре флагов. Флаги были на флагштоках, а флагштоки стояли на двух башенках, венчающих здание.
– У них башни, как будто крепость!
– Такое просто здание, – ответил милиционер, – никакого сравнения с крепостью не может быть.
Игорь не стал спорить. А все-таки две башни напоминали крепость, в этом заключалось и что-то приятное и что-то сомнительное, во всяком случае, в расчеты Игоря не входило жить в крепости. Но когда подошли ближе, Игорь и сам увидел, что никакой крепости нет, а стоит, действительно, просто здание, широкое, двухэтажное, серое; построено здание красиво, блестят на его стенах искорки, выступающие вперед «фонари» подымаются вверху[111] башнями, на башнях всё полощутся флаги.
Милиционер и Игорь шли по мостовой уже мимо здания, но оно отделялось от них широкой полосой цветников. Игорь давно не видел такого обилия цветов. Между цветами проходили яркие золотые дорожки, на одной из них поближе к Игорю шли две девушки, настоящие девушки, черт возьми, хорошенькие и нарядные. Одна из них, с вздернутым носиком, с веселыми живыми глазами, взглянула на Игоря и сказала подруге – черноглазой и смуглой:
– Новенький! Посмотри какой, в пиджаке!
Игорь чуть-чуть покраснел и отвернулся. Собственно говоря, что ж тут такого, в пиджаке!
Они повернули на поперечную дорожку к выходным дверям.
На тротуаре мимо дверей гуляет народ: и постарше, и пацаны, и девушки. У некоторых юношей[112] начинает темнеть верхняя губа… Одеты все разнообразно, но видно, костюмы для работы: кое-где пропитаны маслом. Пацаны в трусиках, босиком. Девушки, как всегда, наряднее.
– Солидный народ, – как будто про себя сказал Игорь. Улыбнулся милиционеру, но милиционер не заметил улыбки.
В открытых настежь дверях здания стоял пацан лет тринадцати, лобастый и серьезный; среди этой спокойной, оживленной толпы он выделялся странно официальной внешностью: ботинки, суконные полугалифе, гамаши, темно-синяя гимнастерка заправлена в штаны, талия стянута узким черным поясом с пряжкой. На одном рукаве золотой вензель, широкий белый воротник ослепительно чист, хотя чуточку примят. В руках настоящая винтовка со штыком, пацан держит ее обеими руками за конец дула.
Игорь засмотрелся на эту фигуру, но развлекали его и другие впечатления. В толпе наметилось движение, – все устремились куда-то за угол здания. Походка у всех деловая, но на лицах совершенно свободная игра. Удивило Игоря то, что здесь не заметно суетливости, лишнего визга. Правда два пацана стремглав вылетели из дверей и помчались по дорожке. Тот, который бежал сзади, закричал:
– Васька! Васька! Постой! Ключи у меня!
Ключи были у них, значит, побежали что-то отпирать.
Игорю удалось поймать и другие слова, но они касались событий неясных, хотя, без сомнения, и драматических.
– А Алексей вызвал его и говорит: найди!
– О!
– Говорит: найди! А не найдешь – разберем на общем собрании!
– Ой-ой-ой!
Удивило Игоря еще одно обстоятельство. Идя сюда, он испытывал неприятное чувство ожидания: все на него набросятся, закидают вопросами, взглядами, шутками, а тут еще и милиционер: подробность особенная. А теперь было даже обидно: сколько народу, а у всех такой вид, как будто никакого Игоря под стражей и не существует на свете. Но в то же время нельзя было сомневаться: появление фигуры Игоря между цветников всеми отмечено, и все поставили своего рода нотабене на его фигуре, и, кажется, нотабене ироническое. Игорь подумал: «Вредный народ!» – но немедленно получил и более активные знаки внимания. По дорожке мимо него проходил черноглазый мальчик в трусиках, посвистывал, поглядывал по сторонам – видно было, что шел по какому-то определенному, нужному ему направлению, – на Игоря еще издали бросил легкий взгляд, и снова куда-то отвлекся, и, тем не менее, проходя мимо Игоря, сказал:
– Дядя! А где ваш галстук?
Игорь сразу не разобрал, что это обращаются именно к нему, и огляделся. Но тут же он догадался, что по характеру костюма проблема галстука могла возникнуть только с его, Игоря, появлением, ибо к костюмам местных жителей добавления галстука, безусловно, не требовалось. Но когда Игорь все это сообразил и бросился догонять взглядом черноглазого мальчика, то уже не мог отличить его среди других мальчиков.
Как раз в этот момент из здания вышел, тоже босоногий и тоже в трусиках, пацан лет двенадцати, хорошенький, румяный, чуть-чуть важный. Как-то особенно играючи и уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяйски оглядывали все. Он стал на краю единственной ступени, поднял длинную, блестящую серебряным блеском трубу, быстро облизал губы и, крепко охватив ими мундштук, подняв вверх раструб трубы, заиграл. Это был сигнал, короткий, отрывистый, а в конце украшенный шутливо-разливчатым хвостиком. Пацан проиграл его только один раз, опустил трубу, улыбающимися глазами посмотрел на мальчиков поближе и вдруг, сорвавшись со ступеньки, побежал. На углу здания остановился и снова проиграл тот же сигнал. Движение куда-то за угол, уже замеченное Игорем, стало стремительным. Игорь не утерпел, спросил первого попавшегося:
– Что это он играл?
– Кто играл? Бегунок? А это на работу…
Через полминуты из дверей только одиночки торопливо выбегали и устремлялись следом за всеми. Остался только пацан с винтовкой, и к нему обратился милиционер.
– Куда здесь? Вот привел…
Тот серьезно оглянулся на вопрос, но, видно, ничего не нашел подходящего и сказал:
– Сейчас!
Бегунок со своей трубой не спеша возвращался к дверям.
– Володька, позови дежурного бригадира.
Володька Бегунок сразу догадался, для чего нужен дежурный бригадир. Повернув голову, он прищурился на Игоря и, проходя в двери, почти пропел:
– Е-есть… Позове-ем…
Он ушел в здание, пацан с винтовкой один остался при входе и теперь составлял единственную мишень для Игоря Чернявина. Игорь сказал улыбаясь:
– А если я пройду… вот, без спросу? Что же ты, будешь стрелять? Часовой опустил глаза, но ответил басом:
– Стрелять не буду, а прикладом по башке получишь.
После этих слов он покраснел и недовольно отвернулся. Игорь рассмеялся, прицепился к часовому удивленным взглядом:
– Ух ты?
Часовой посмотрел на Игоря исподлобья, вдруг улыбнулся, но что-то почуял справа, в прохладном полумраке вестибюля, вытянулся, винтовка моментально оказалась у его плеча. На ступеньку вышел юноша лет шестнадцати. Он одет был в такой же костюм, как и часовой, только на левом рукаве у него была красная повязка. Игорь догадался, что это дежурный бригадир, да и часовой показал на Игоря:
– Воленко! Привели…
У Воленко тонкое лицо, очень интеллигентное и бледное. Особенно строгое выражение имеет рот Воленко: у него нежные подвижные губы, от которых, кажется, всегда можно ожидать слова осуждения.
Воленко подошел к милиционеру, мельком[113] глянул на Игоря:
– У вас есть бумага?
Милиционер раскрыл книжку:
– Есть тут бумажонка. Вот здесь распишитесь.
Воленко расписался и возвратил книжку милиционеру:
– Все?
– Все как будто…
Игорь подал милиционеру руку, улыбнулся:
– Надеюсь, больше не увидимся?
Милиционер ответил с тонкой улыбкой:
– А кто его знает? – козырнул Воленко и отправился в обратный путь.
Воленко, до сих пор наблюдавший процедуру прощания, сказал Игорю:
– Пойдем.
Он рукой показал на вход в здание. Чуть-чуть покраснев от такой вежливости, Игорь заторопился, и еще больше покраснел, когда часовой вытянулся, пропуская мимо себя дежурного бригадира.
11 Беседы культурных людей
Игорь Чернявин вошел в вестибюль и попятился назад. Молнией блеснула у него мысль, что случилось недоразумение: он сюда попал по ошибке. Растерянно оглянулся он на Воленко, потом снова глянул вперед. Перед ним был марш широкой лестницы, покрытой бархатной малиновой дорожкой. В конце марша – просторная площадка, дубовые двери, на них золотом на стекле написано:
Театр
А рядом с дверями в театр огромное квадратное зеркало, оно отражает следующий марш лестницы, и еще площадку, и еще зеркало, а самое главное – оно отражает бесконечную и щедрую ленту ярко-красных цветов, уставленных по всему барьеру в особых, длинных ящиках.
– Вытри ноги, – сказал Воленко и показал на большую темную[114]тряпку, лежащую на кафельном полу.
Игорь посмотрел на свои ботинки. Никакой грязи на них не было:
– У меня чистые.
Подошел часовой с винтовкой.
– Они у тебя не чистые, а совсем грязные. Вытирай, когда тебе говорят.
Игорь пробормотал[115]:
– Черт его знает…
Все-таки он зашаркал подошвами по темной тряпке, и только теперь понял, что тряпка потому и кажется темной, что она влажная.
– Теперь здесь, – часовой показал на трехстороннюю щетку и внимательно и строго нахмурил лицо, пока Игорь исполнял его приказание. Воленко терпеливо ожидал, стоя на третьей, верхней, ступеньке, ведущей в более высокую часть вестибюля. Игорю стало интересно:
– Синьоры, у вас все такие серьезные[116]?
У Воленко чуть-чуть вздрогнул уголок строгого рта, он переступил стройными ногами, завертел вокруг пальца шнурок с ключиком на конце.
Игорь, обчищая ботинки в щетках, разглядывал часового. У того из-под тюбетейки выбегал на выпуклый лоб небольшой чубчик и закручивался крутой спиралью.
– Сколько же тебе лет?
Часовой пошевелил губами, сдержал улыбку, еще строже глянул на ноги Игоря:
– Это не твое дело, вытирай себе!
Игорь иронически дернул плечом.
– Идем, идем, – сказал Воленко.
Он двинулся влево по коридору. Вправо коридора не было, а на такой же дубовой двери таким же нарядным золотом было написано:
Столовая
Дверь эта открылась, из столовой выглянула девочка лет четырнадцати в белом халате, звонко спросила:
– Воленко, ты ведь еще не завтракал?
– Нет, нет, ты мне оставь, Лена. И вот… новенькому.
– А как же, – ответила девочка и спряталась за дверью.
С одной стороны коридора были большие окна, а с другой несколько дверей и между ними в больших рамах не то стенгазеты, не то что-то другое. В конце коридора тоже дверь, и на ней тоже надпись:
Тихий клуб
Но они вошли не в эту дверь. Последняя дверь слева:
Совет бригадиров
Воленко именно эту дверь открыл и взглядом пригласил Игоря войти. Игорь переступил порог. Солнечное сияние в двух огромных окнах ослепило его. Он прищурился, но сразу отметил особенности этой комнаты: в ней у всех четырех стен проходил неширокий диван, мягкий, но узкий. Диван нигде не имел конца, а в углах комнаты он заворачивал по кривой. В правом углу на диване сидел Володя Бегунок, на голом колене держал свою трубу, натирал ее суконным обрезком. Бегунок быстро глянул на Игоря, но сказал в другой угол:
– Когда же мази купят? Говорили, говорили, аж надоело! Это бесхозяйственность, правда, Витя?
В другом углу дивана стоял маленький письменный столик, и за ним сидел тот, кого Бегунок назвал Витей. Витя поднялся за своим столиком и ответил:
– Сейчас денег мало.
– Сколько там нужно денег? Тридцать копеек. – Володя с большей силой начал натирать свою трубу и на Игоря больше не посмотрел. Очевидно, для Володи Бегунка Игорь представлял сейчас явление малозанимательное и особенно в сравнении с вопросом о мази. Но тот, кого называли Витей, заинтересовался Игорем, вышел из-за своего столика и подошел вплотную к Игорю. Он был тоже в трусиках и в парусиновой рубашке. И у него трусики были стянуты узким черным пояском. Но Витя был уже не малыш. Ему было не меньше шестнадцати лет, это был человек серьезный и бывалый, – опытный взгляд Игоря это сразу почувствовал.
У Вити быстрый, острый, сдержанно-насмешливый взгляд[117]. Он взял из рук Воленко большой пакет и бросил его на стол:
– Из комиссии?
– Из комиссии.
Игорь вежливо ему поклонился. Витя ответил ему таким же вежливым поклоном, но в этом поклоне просвечивало[118] очень тонкое передразнивание. Бегунок громко засмеялся, завалившись на диван и задирая вверх босые ноги. Игорь доверчиво, с улыбкой, оглядел всех. Витя присел к столику, взял в руки конверт, прочитал то, что было на нем написано:
– Игорь Чернявин? Много про тебя понаписывали…
Но в конверт не заглянул, снова подошел к Игорю. Последнему захотелось как можно скорее отделаться от разных вопросов:
– Написано там много, а дело пустое. Маленькая неправильность при получении денег.
Витя сказал ему в глаза, улыбаясь одними ресницами:
– Вот что, друг. Какая там у тебя неправильность, это никому не интересно. Понимаешь, не интересно. А вот другой вопрос: будешь бежать или останешься?
Бегунок поднял лицо, медленно улыбнулся. Игорь[119] оглянулся на обстановку, словно она решала вопрос, оставаться ему или бежать. Бежать ему не хотелось, но нельзя было и сдаваться так легко. Он ответил:
– Там видно будет.
– Это верно, – сказал Витя весело. – Ну, идем к Алексею Степановичу.
Только теперь Игорь увидел, что в одном месте диван прерывался узкой дверью, и на ней тоже надпись:
Заведующий колонией
Эту дверь Витя распахнул, и Игорь неожиданно для себя очутился в кабинете. За ним прошли Витя и Воленко, а за ними и Бегунок, бросив свою трубу на диван, прошмыгнул в кабинет; прошмыгнул ловко, во всяком случае. Игорь увидел его уже возле письменного стола. Володя поставил локти на стол, на ладошках пристроил голову и выжидающе глядел на заведующего.
Заведующий сидел за письменным столом и перелистывал книгу. В этом человеке не было ничего особенного: подстриженные усы, стеклышки пенсне, под машинку стриженная голова. Он поднял на Игоря глаза, и глаза у него были обыкновенные: серые, чуть-чуть холодные.
– Вот, Алексей Степанович, новичок, – Витя показал рукой на Игоря.
Игорь вежливо поклонился, и Володя Бегунок не смог удержать улыбки, да уж так и оставил улыбку надолго. По всему было видно: Алексей Степанович заметил улыбку Володи и знал ее причину, но сделал такой вид, как будто он ничего не заметил.
– Как тебя зовут?
– Игорь Чернявин.
– Ты учился в школе?
– Да. Окончил семь классов.
– Почему так мало?
Алексей Степанович с недовольным видом откинулся к спинке кресла. Его глаза холодно, осуждающе смотрели на Игоря. Но Игорь всегда был убежден, что его образование превышает среднюю необходимость в жизни, и поэтому ему показалось сейчас, что заведующий шутит. Игорь оживленно удивился и даже руками дернул вперед:
– Мало? Семь классов – это мало?
– А ты разве не знаешь? Есть восьмые группы, девятые, десятые.
– Конечно, есть, так это не для всех.
Алексей Степанович не обратил внимания на ответ Игоря. Он начал перелистывать книгу, помолчал, протянул скучновато:
– Та-ак… Днепрострой, что это такое?
– Как?
– Днепрострой… ты знаешь, что такое Днепрострой?
– Днепрострой? Это… это станция.
– Какая станция?
– Станция… мост и… там станция.
Бегунок восторженно пискнул в ладошки, которыми прикрыл рот…
– Виноват… там, кажется, нет моста.
Игорь видел, с каким трудом Бегунок прикрывает ладонями губы, чтобы не засмеяться. На лице Воленко не было улыбки, но еле заметно вздрагивала нижняя губа.
Алексей Степанович кивнул головой над книгой:
– Стыдно! Просто стыдно! Культурный человек! Окончил семь классов – говорит такие глупости. Надо себя больше уважать, товарищ Чернявин.
– Я забыл, товарищ заведующий…
– Что забыл?
– Забыл… вот… Днепрострой.
– Днепрострой – такая вещь, о которой нельзя забывать. Понимаешь, нельзя! А кроме того… ты сказал… старшие классы не для всех. Это тоже… не блещет остроумием.
– Я в том смысле сказал…
– Смысла мало. Такое количество смысла меня не устраивает. Мало смысла, понимаешь?
Алексей Степанович глянул Игорю в глаза, и Игорь увидел, что у заведующего нет ничего холодного, ничего скучноватого: у него было живое, требовательное лицо. Игорь ответил:
– Да, понимаю, товарищ заведующий.
– Ага! Это уже лучше. Это гораздо умнее сказано. Теперь еще один вопрос: ты хороший товарищ?
Глаза Алексея Степановича смотрели сейчас иронически, как будто в его вопросе был нескрываемый подвох. И поэтому Игорь переспросил:
– Хороший ли я товарищ?
– Да. Хороший товарищ или… так себе?
Этот вопрос, в сущности, был для Игоря легким вопросом, он ответил уверенно и охотно:
– Да, я могу сказать: товарищ я неплохой.
Алексей Степанович улыбнулся вдруг просто и дружески, и в его улыбке было что-то такое задорное, почти мальчишеское, только у детей так свободно, беззастенчиво открываются губы, у них не остается никаких узких щелей и углов.
– Молодец! Нет, знаешь, ты далеко не глупый человек, это очень приятно. Ну… хорошо. Ты познакомишься с нами ближе. Витя, у нас где место?
– Есть место в восьмой бригаде.
– Хорошо. Будешь в восьмой бригаде. Бригадир Нестеренко – человек основательный. Ты немного зубоскал, правда?
Игорь чуть-чуть покраснел.
– Немножко.
– Это ничего, а то в восьмой бригаде много серьезных. Отдохни, а там и за дело. Бежать не будешь?
Почему-то Игорь не захотелось сказать «там будет видно», но он помнил свой ответ Вите и посмотрел на него. Свободно, просто и уверенно Витя ответил за Игоря, чуть-чуть улыбаясь одними глазами:
– Нет, Алексей Степанович, он бежать не собирается.
– Добре. Значит… Воленко, действуй.
Воленко вытянулся.
– Есть!
12 Полное недоверие
Все вышли из кабинета, кроме Володи Бегунка. Володя снял локти со стола:
– Алексей Степанович!
– Ну?
– До зарезу нужно тридцать копеек на мазь.
– Тридцать копеек? Хорошо, я скажу завхозу.
Все в Володе оставалось в положении «смирно», только шея вытянулась и в глазах появилось обиженно-убедительное, страстное выражение.
– Да он не купит! Честное слово, он не купит… Он будет говорить…
– Ладно. Вот тебе тридцать копеек на мазь, а это двадцать на трамвай.
– Сейчас можно?
– Можно… до четырех часов.
Очень радостно, громко, с молниеносным салютом Бегунок сказал:
– Есть, Алексей Степанович!
Он выскочил из комнаты, потом приоткрыл дверь, просунул голову.
– Спасибо!
По коридору мимо часового Володя пролетел с предельно скоростью, но и пришлось с такой же скоростью возвратиться, чтобы спросить у часового:
– Куда дежурный пошел? Воленко?
Часовой, опираясь на свою винтовку, нахмурил брови:
– Воленко? А он туда пошел, с этим чудаком… туда.
Часовой показал направление.
Володя побежал догонять. По плиточному тротуару он повернул за угол и выбежал на широкий двор, обставленный хозяйственными постройками. В самом центре двора он увидел Воленко и Чернявина, направляющихся к кладовой. Володя, запыхавшись, обогнул их и пошатнулся, останавливаясь перед дежурным:
– Товарищ дежурный бригадир! Товарищ Захаров разрешил в город до четырех.
Воленко удивился:
– В этом костюме?
– Нет, не в этом. Я только говорю. А я надену парадный. Я сейчас надену.
Воленко отправился дальше:
– Ты переоденься и приди показаться.
У Бегунка на этот раз даже руки вышли из положения «смирно».
– Так, Воленко! Я же не какой-нибудь новенький. Другие дежурные всегда отпускают и то… доверяют. Я хорошо оденусь.
– Я посмотрю.
Володя несколько увял, опустил плечи, неохотно и сумрачно сказал «есть» и уступил дорогу. Игорь Чернявин смотрел на дежурного с уважением.
Через пятнадцать минут, когда Воленко вел Игоря в баню, Володя стал перед дежурным:
– Товарищ дежурный бригадир! Я могу идти?
Воленко уже занес ногу на ступеньку, но оглянулся, внимательно осмотрел Володю, тронул его пояс, бросил взгляд на ботинки, поправил белый воротник. Румяное личико Бегунка над белым воротником сияло совершенно неизъяснимой красотой. Большие карие глаза ходили по следам взглядов дежурного и постепенно меняли выражение, переходя от смущенного опасения к победоносной гордости. Тюбетейки Воленко не тронул, но сказал возмущенно:
– Я не понимаю, что это за мода! Почему у тебя всегда тюбетейка набекрень?
Рука Володи быстро поправила тюбетейку, и глаза потеряли некоторую часть гордости.
– Зеркало у вас есть? Надо в зеркало смотреть, когда уходишь. Деньги на трамвай имеются?
– Деньги есть.
– Покажи.
– Да есть! Вот еще, Воленко, какое у тебя недоверие!
– Показывай!
Маленькая ладонь Володи расправилась у пояса, и над ней склонились две головы в золотых тюбетейках.
– Это тридцать копеек на мазь, а это двадцать копеек на трамвай.
– Только смотри, все равно узнаю: нужно покупать билет, а без билета нечего кататься. А то я знаю: все экономию загоняете!
– Да когда же я, Воленко, загонял экономию? У тебя всегда… такое недоверие.
– Знаю вас… Можешь идти!
– Есть!
На этот раз «есть» было сказано без всякой обиды.
13 «Исплотация»[120]
Город был большой, и самая лучшая улица в городе – улица Ленина. На этой улице, на горке, стоит белое здание с колоннами, в здании помещается театр. На улице много прекрасных витрин, но Ваня Гальченко бредет между людьми и витринами грустный. Чулки у него исчезли, голова заросла грязной, слежавшейся порослью, ботинки порыжели. Личико у Вани побледневшее, немытое, только большие серые глаза оставались прежними – над ними нахмурились бровки.
Ваня пережил плохой месяц. Тогда, у стога соломы, ограбленный и обиженный, он недолго плакал, но долго думал и не придумал ничего. Продолжал думать и потом, когда, перебравшись через переезд, прошел по «своей» улице; со стесненным сердцем посмотрел на крыльцо[121], на котором вчера чистил людям ботинки. На этом месте у него в глазах снова появились слезы, и он нарочно остановился перед афишей и читал ее, чтобы никто не увидел слез.
Так начались его трудные дни. Ночевал он в той же соломе, и в первые две ночи его никто в ней не заметил. После третьей ночи он проснулся ослабевшим от двухдневного голода, вставать ему не хотелось. И тогда он увидел над собой удивленное лицо старой женщины.
– Кто это здесь? А?
– Что?
– Мальчик какой-то, что ли? Беспризорный?
– Нет, я не беспризорный…
– Не беспризорный, а ночуешь в соломе. Нехорошо так. Где твои родные?
– Родные? Это кто, отец, да?
– Отец, мать… Где они?
– Они уехали.
– Уехали? А тебя бросили?
– Они уехали, а только они не отец и мать.
– Чудно ты говоришь. Бледный ты какой, больной что ли?
Ваня просто поправил ее.
– Нет, не больной, а только… голодный очень.
И улыбнулся, сидя в соломенном гнездышке, сложив по-турецки ноги.
– Голодный… – старушка потирала руки в смущении, потом заторопилась, прошептала:
– Беда, какая беда! Пойдем я тебе хлебца дам, что ли?
Ваня пошел за ней к хате. В хате было чисто и просторно: блестели недавно крашенные полы. На лежанке, накрытой самодельным вязаным ковриком, сидели двое мальчиков года по три-четыре и, надувая щечки, играли деревянными кубиками. Увидев Ваню, они не успели даже принять руки от кубиков, загляделись на него испуганно-внимательными глазенками. Ваня стоял у порога и смотрел, как бабушка торопливо открыла низенький шкафчик, достала из него половину ржаного хлеба. Она приложила хлеб к груди и большим ножом начала резать, потом подумала, наметила кусок побольше и отрезала. Спрятала хлеб и нож и только тогда протянула отрезанный кусок Ване. Ваня принял кусок двумя руками, такой он был большой. Бабушка стояла и смотрела на Ваню печальными глазами. Мальчики на лежанке так и не пошевелились: пальцы их все держали кубики, глаза все смотрели и не могли оторваться от гостя, кажется, они не разу не моргнули с той минуты, когда он вошел.
Ваня сказал:
– Спасибо.
– Ну а дальше как? Ты пошел бы куда? Приюты есть такие, детские дома называются. Попросил бы, что ли?
– Я попрошу, – Ваня ответил деловито-спокойным голосом, рассматривая огромное свое хлебное богатство. – Я пойду в колонию Первого мая, там, говорят, прилично.
– Ишь ты какой! Прилично! Да тебе какую-нибудь, все равно. А то еще придумал: прилично.
Несмотря на голодный желудок, Ваня не согласился с бабушкой. Хлеб остался у него в одной руке, а другую руку он поднял к плечу:
– Бабушка! Это вовсе не я придумал, а все так говорят.
Его глаза загорелись забавной решительностью во что бы то ни стало убедить бабушку. Но бабушка и не спорила.
– Так ты пойди. Пойди, голубок, что ж тебе так страдать. А красть ты не умеешь, видно. Правда?
Ваня быстро глянул в окно, немного суматошливо нашел правильный ответ и только тогда обратил оживившиеся глаза к бабушке:
– Я так думаю, что я сумел бы, только я не хочу красть. Я, понимаете, не хочу.
– А ты, что ж… когда-нибудь стащил у кого, что ли?
– Нет, еще никогда.
– Так, значит, и не умеешь. Какой же там умеешь!
Ваня не сдавался, он начал уже и хлебом жестикулировать:
– Разве это нужно уметь? Это совсем нельзя сказать «уметь». Если ботинки чистить, так нужно уметь.
Бабушка улыбнулась ласково:
– Чего это мы разговариваем все? Ты кушай хлеб, кушай.
– Я там… в соломе. Там…
– Ну, это, как тебе лучше.
– До свиданья.
– До свиданья. А как же тебя зовут?
– Ваня Гальченко.
– Ишь ты, фамилия у тебя какая! Гальченко. Ты, Ваня, не бойся. Если не скоро найдешь эту самую колонию, так заходи. Хлеб у нас всегда есть.
Мальчики на лежанке зашевелились. Один из них взволнованно забегал глазенками по комнате, бросил, наконец, свои кубики:
– Баба! А почему он такой?
Ваня открыл дверь и не слышал, что ответила бабушка на этот важный вопрос.
Возле соломы съел Ваня половину хлеба, а вторую половину запрятал. Он не чувствовал себя способным когда-нибудь зайти к бабушке и попросить хлеба. За два дня, истекшие после катастрофы, Ваня обошел весь город, несколько раз заходил на рынок, прохаживался мимо столиков и киосков, в закоулках рынка и на второстепенных улицах он видел просящих старух, калек и детей, и тогда решил, что протягивать руку и просить, как они, долго, надсадно, привязчиво и жалобно, – он никогда не будет.
Все-таки Ваня хотел найти работу. Какая именно должна быть работа, Ваня не знал и даже не думал об этом. Он находил много рабочих мест в запущенных парадных ходах, и кое-как сбитых деревянных пристройках. Прямо на улице сидели сапожники и заливщики галош, в закопченных, покосившихся хибарках стучали жестянщики, арматурщики. Ваня подходил к ним, прислонялся на притолоке – и, постояв, уходил. У всех них был инструмент, у него инструмента не было, и выхода из этого положения он не мог найти!
На другой день после знакомства с бабушкой Ваня остаток хлеба тоже поделил на две части, хотя это было трудно сделать. Но впереди все было очень неопределенно, и Ваня не хотел снова два дня голодать.
Где находится колония им. Первого мая, Ваня никак не мог выяснить. На улицах он спрашивал встречных, но большинство отвечало незнанием, а были и такие, которые отмахивались рукой и молча проходили дальше. К милиционерам Ваня подходить боялся. Боялся он и беспризорных и старался куда-нибудь скрыться, когда видел их приближающуюся стайку. Вообще Ваня плохо привыкал к сложности и многолюдству большого города. На той станции, откуда он приехал, все было проще и понятнее. Поэтому и сейчас Ваня старался больше бывать на окраинах города, там было меньше движения и доступнее люди.
На четвертый день он спросил у молодой женщины, катящей перед собой детскую коляску:[122]
– Знаете что? Мне нужно найти колонию Первого мая, а я никак не могу найти?
– Колония Первого мая? – женщина остановила коляску. – Я слышала. Только это далеко. Это за городом, мальчик.
– За городом? А где?
– Я не знаю. Ты спроси в наробразе.
Режущее, незнакомое слово так испугало Ваню, что он даже вздохнул. Стало вдруг очевидно, что в городе жизнь гораздо более запутана, чем ему казалось.
– В наробразе? А что это?
– Это учреждение, понимаешь, дом такой. Там тебе и скажут…
– Дом…
– Это на главной улице. Не забудешь? Наробраз.
– Наробраз.
– Ты на главной улице спроси. Тебе каждый покажет.
– Там написано?
– Наверное, написано.
Ваня обрадовался. Главную улицу он хорошо знал, на ней нетрудно будет найти и наробраз. Но пришлось истратить целый день на это дело. Несколько раз он прошел главную улицу. В последний раз шел медленно, останавливался перед каждым входом, от первого до последнего слова прочитывал все вывески, но такого слова «наробраз» так и не встретил. Наконец догадался спросить. Пожилой человек в шляпе показал палкой на огромный дом с просторной перед ним площадкой и сказал:
– Наробраз? А это в окрисполкоме. Это там…
Этот дом давно заметил Ваня и даже прочитал все вывески при входе. Там такой вывески «наробраз» тоже не было. Все же он поверил пожилому человеку и направился к этому дому.[123]
Ваня еще раз просмотрел все вывески при входе в большое здание, просмотрел рассеянно, потому что хорошо знал, что наробраза там не было. Потом вспомнил, что с другой стороны подъезда на асфальтированной площадке выступает крылечко и над ним есть какая-то вывеска. Он нашел этот вход. Действительно, здесь была вывеска, и на ней написано:
Окружной отдел народного образования
Опять не то. Но в этом месте Ваня увидел нечто, не имеющее никакого отношения к наробразу, но, безусловно, важное. На асфальтированной площадке сидело целых четыре чистильщика – все мальчики. Такого собрания маленьких чистильщиков он никогда еще не встречал. До сих пор Ваня не останавливался перед чистильщиками: наступили пыльные дни, клиенты становились в очередь. Ваня не хотел мешать вопросами. И здесь каждый чистильщик работал напряженно, перед афишами в сторонке стояли люди, ожидающие свободной подставки. Но одна подробность Ваню сильно заинтересовала: стояла пятая подставка для чистки обуви, на ней лежали две щетки. Ваня заметил, как на это соблазнительное оборудование с аппетитом поглядывали люди, читавшие афиши, но ничего сделать не могли: работник, вероятно, отлучился надолго. Ваня подошел сбоку к самой подставке и начал наблюдать работу мальчиков. Ближайший к нему, скуластый, веснушчатый пацан лет пятнадцати, работал быстро, весело, щетки у него в руках ходили незаметно для глаза. Начищая задник, он наклонялся вперед и вбок, поглядывая на Ваню. Когда клиент снял ногу с подставки и полез в карман за кошельком, пацан дробно застучал колодками щеток по ящику и внимательно загляделся на Ваню. Глаза у него были ловкие, напористые, уверенные. Ваня смутился и двинулся уходить. Пацан крикнул:
– Ты чего здесь заглядываешь?
– Это я?
– «Это я»! Чего торчишь? Может, чистить умеешь?
– Умею.
– Врешь.
– Нет, я умею.
– А ну покажи!.. Пожалуйте, гражданин! Вот к нему! Пожалуйте, пожалуйте!
– Да, может, он не умеет?
– Я отвечаю. Если будет плохо, перечищу. Как тебя зовут?
– Ваня.
– Ванька? Садись.
Пацан энергично перемахнул к свободной подставке, открыл ящик, достал одну коробку, другую, открывал, закрывал их. В ящике находилось большое богатство: мази всех цветов, даже бесцветная, две бархотки, банка с разведенным мелом. Он выбросил малую щетку, банку с черной мазью, хлопнул рукой по подставке, сказал:
– Начинай! Видишь, сколько народу!
Ваня уселся на скамеечке, расставил ноги[124], с удовольствием принялся за работу. На подставке стоял хороший, новый ботинок, и над ним нависла штанина, тоже новая, дорогого сукна. Ваня начал сметать пыль с ботинка, но энергичный пацан крикнул на него недовольным голосом:
– Умеешь! Штаны подкати!
Ваня оглянулся растерянно, но скоро догадался, в чем дело. Аккуратно, не спеша, подкатил штанину, получилось хорошо. Ваня продолжал работу. Скуластый хозяин был занят своим клиентом, но все время посматривал на работу Вани, а когда клиент Вани ушел, он сделал ему одно замечание.
– Зачем мази много кладешь? Он не понимает, говорит: «Чисти», – а на самом деле мази не нужно. Туда, сюда – и готово. А ты намазал!
К Ване подошел новый клиент, потом еще один. Ваня работал охотно, с радостью, но руки и спина у него заболели почему-то очень скоро, и он был доволен, когда наступила передышка.
– Деньги давай, – сказал скуластый, не глядя на Ваню. – Ох ты, черт, спать хочется. У тебя есть документ?
У Вани было тридцать копеек. Ему не жалко было этих денег, но почему-то раньше ему не приходило в голову, что их придется отдавать, поэтому он немного удивился требованию и переспросил:
– Тебе деньги отдать?
– А как же? Ха! А кому ж отдавать?
Он взял тридцать копеек и небрежно бросил в свой ящик. А из ящика достал три копейки.
– На. Я тебе буду платить по копейке с гривенника. Хочешь?
– Как это: по копейке?
– По копейке, хочешь? Буду тебе платить за каждого.
– Мне будешь платить?
– Ну да, за работу. Тебе нужно платить или не нужно? А документ у тебя есть?
– Какой документ?
– У тебя нет документа? Видишь, тебе и по копейке много. А если спросят: какое право имеешь чистить, тогда что будет?
– А я скажу, что нету документа.
– Он скажет! Подумаешь! А он возьмет ящик, и ты пойдешь… знаешь?
– Я никуда не пойду.
– Да, не пойдешь! Юрка, посмотри за ним, а я пошамать…
Их сосед в общем ряду – Юрка – кивнул головой, ответил нехотя:
– Посмотрю.
– И посчитай, сколько он наработает.
– Считать мне некогда, сам считай.
– И не надо. Все равно, если спрячешь, найду. Все равно найду, понимаешь? – Он стоял перед Ваней и теперь, во весь рост, казался выше и основательнее. На нем были хорошие брюки навыпуск и новые ботинки. Ване стало не по себе перед его настойчивой угрозой, Ваня отвернул лицо в сторону, прошептал:
– Ничего я прятать не буду.
Скуластый отправился по улице. Юрка повернул к Ване лицо, сказал недружелюбно:
– По копейке взялся! Ходит тут всякая шпана!
Ваня ничего не ответил. Юрка еще два раза посмотрел на него, задумался, плюнул с осуждением через свой ящик, сказал своему соседу слева:
– Спирка таки нашел дурака. По копейке!
Подошел клиент. Юрка застучал щетками:
– Пожалуйте, гражданин. Почистим шевровые!
Но гражданину, видно, не понравилась развязность Юрки, тем более что ботинки у него были вовсе не шевровые. Он поставил ногу к Ване.
– Да он и чистить не умеет, он приблудный! Жалеть будете!
Ваня ощущал неприятную робость перед Юркой. Он нахмурил брови механически, без увлечения закончил работу, положил гривенник в ящик. Юрка с презрением наблюдал за ним, а когда клиент ушел, снова пристал:
– По копейке! Это разве можно! И у нас работу отбиваешь. Ты отсюда уходи.
Ваня не стал спорить. Он сложил коробки и щетки в ящик, спрятал туда же бархотку, протянул Юрке тринадцать копеек. Юрка удивленно засмеялся:
– Вот дурак! А это твои три копейки, зачем отдаешь?
– Не хочу, – сказал Ваня.
– И не надо. А только ты дурак: сейчас же уходить! Садись, я ничего не буду говорить, чисти себе.
Ваня снова присел на скамейку. Юрка помолчал, посвистел:
– Ты беспризорный?
– Нет, я еще не был беспризорным.
– А как же ты?
– Я чистил, а у меня украл один.
– Ящик украл?
– И ящик, и щетки. И десять рублей.
Юрка принялся натирать собственные ботинки.
– В этом городе зевать нельзя. Вот в Тамбове, там другое дело. А здесь обязательно украдут. А только ты напрасно по копейке. Надо по пять копеек. И то ему сколько прибыли будет. Спирка – он шкура. Ох, и шкура! По копейке!
Последний в ряду слева, большой, неповоротливый, скучный, бросил[125]:
– Спирька меня целое лето эксплуатировал, сволочь! Целое лето, так и то по три копейки платил.
– По пять нужно, – сказал[126] Юрка.
Большими стаями пошли клиенты, разговоры прекратились. Ваня не успевал разогнуть спину, одна нога за другой менялись на подставке, гривенники прибавлялись в ящике. Но сейчас Ваня не испытывал прежней трудовой радости, лица клиентов его не интересовали, и он с клиентами не разговаривал. Наконец он так устал, что щетки еле-еле двигались у него в руках, чаще стали вырываться. Возвратился Спирька с папиросой в зубах, увидел группу ожидающих, закричал весело:
– Вот пришел мастер первой категории! Пожалуйте!
Еще с полчаса все пятеро разгружали очередь. У Вани вспотел лоб и стало болеть в груди. Когда последний клиент бросил ему гривенник, Ваня даже не поднял монету, она так и осталась лежать на асфальте. Потом Спирька сказал:
– Давай выручку!
Не считая, Ваня передал ему серебро.
– Ого! Рубль шестьдесят! Здорово! А больше нет?
– Нет.
– А ну, выверни карманы.
Ваня вывернул.
– Значит, тебе шестнадцать копеек. На. Видишь, и заработал.
Юрка, положив руки на колени, обратил глаза к Спирьке. Глаза выражали негодование. Негодование выражали и другие пацаны, но только последний в ряду, неповоротливый и скучный, сказал:
– А все-таки, Спирька, паскудно ты поступаешь[127].
Спирька воинственно направил на него скуластое лицо[128]:
– Что ты сказал? Что ты сказал?
Последний ничего не ответил, но Юрка подтвердил тихо с улыбкой:
– Не слыхал? Правильно сказал! Это называется, знаешь как?
– А как? А как?
– Это называется исплотация! Исплотация! Что ж ты ему по копейке! Так же только буржуи делают, исплотаторы.
Спирька гневно завертелся на асфальте, покалывал взглядами Ваню, но с наибольшим возмущением обращался к последнему в ряду:
– А по скольку ему давать? Он и чистить не умеет. А гуталину сколько изводит? Ты видел? А если тебе, Гармидер, жалко, так и плати ему сам. Пожалуйста, плати хоть по десять копеек.
Гармидер по-прежнему скучно смотрел в сторону и ничего не сказал. Спор поддерживал Юрка.
– Гармидер не исплотатор, у него и ящика лишнего нету.
– Ага! У него нету! И у тебя нету! Так вам хорошо говорить! А я гуталин должен покупать? А щетки стоят? А бархат стоит? А за ящик ты не платил четыре рубля, не платил? Так тебе легко!
Юрка далеко плюнул прямым, как стрела, броском.
– Мне легко, у меня свой ящик. И ты себе чисть. А второй ящик – это исплотация значит.
– Заладил, как сорока: исплотация, исплотация! Какой пионер, подумаешь! Его никто не держит, пускай себе идет куда хочет. И документа у него нет. Он поймается, а мой ящик и весь припас пропали!
Юрка еще раз далеко плюнул, поднялся, потянулся, зевнул.
– Как себе хочешь. А только при советской власти…
– Ох, советская власть! Скажи, пожалуйста!
– Да, советская. Как себе хочешь. А только мы не позволим. Плати ему по пять копеек с гривенника.
Спирька заверещал на всю улицу:
– По пять копеек?
– По пять копеек!
– По пять копеек без документа?
– Ну… если ящиком рискуешь, плати по три копейки. Гармидеру платил по три и ему по три.
Спирька вдруг неожиданно сдался, перестал кричать, захохотал, хлопнул Юрку по плечу.
– Да я и плачу ж по три. Чего ты взъерепенился?
– И плати по три.
– А по сколько ж? Это я пошутил, что по копейке. Думал, посмотрю, как он работает, а может, он убежит. Очень мне нужно: исплотация! Пускай себе чистит. Это я на смех, а вы тут целый митинг завели!
Спирька долго посмеивался, поглядывал острыми глазами на всех. Гармидер не обращал на него внимания и скучно глядел в сторону. Юрка снова уселся за свой ящик, улыбался понимающе, наконец, сказал:
– Да чего ты представляешься? Что, мы не знаем? У тебя этот ящик целый месяц даром стоит. А тут нашелся пацан, другой бы обрадовался, если разумный человек, а ты жадничаешь: по копейке.
– Вот чудаки! Жадничаю! Пошутил я, это верно. Пожалуйста: по всей справедливости расчет. Начистил ты на три гривенника, потом еще на пятнадцать гривенников.
– На шестнадцать, – поправил Юрка.
– Ну да, на шестнадцать. Значит, на девятнадцать разом. Вот тебе еще по две копейки с гривенника – тридцать восемь копеек. Целую кучу денег заработал.
Ваня в течение всей этой истории сидел неподвижно на скамейке и слушал. Заработок меньше всего его занимал. Его захватила неожиданная глубина проблемы, поднятой чистильщиками. Еще так недавно Ваня учился в школе, в четвертой группе. В школе говорили об Октябрьской революции, о поражении буржуев, о гражданской войне. Все это, казалось Ване, давно прошло, как вдруг он сам сделался предметом эксплуатации. Спирька в его глазах вдруг перестал быть чистильщиком, соседство с ним стало неприятным. Но когда Спирька высыпал на его руку тридцать восемь копеек, Ваня с радостью увидел и другую сторону проблемы: теперь у него было пятьдесят семь копеек, да еще до вечера оставалось много времени… Съеденный вчера последний кусок бабушкиного хлеба перестал быть печальным воспоминанием. Сегодня он поужинает не иначе, как замечательно влажной, вкусной колбасой с мягкой булкой. Ваня с большим удовольствием набросился на новый ботинок, очутившийся на подставке, и легко принял дополнительное требование Спирьки:
– Только ты и ящик домой отнесешь. Я тебе носить не буду.
14 Непонятное
Три недели работал Ваня у Спирьки, зарабатывал по рублю в день, а то и больше. На пищу ему хватало. Но работать приходилось много, к вечеру Ваня очень уставал, а еще нужно было и ящик относить и утром приходить к Спирьке за ящиком. К счастью, Спирька жил недалеко от товарной станции, следовательно, и от той соломы, где Ваня ночевал.
За это время Ваня ближе, чем с другими, сдружился с Юркой. Юрка был человек опытный и много понимал в жизни. Несмотря на то, что он был круглый сирота, он спал не на улице, как другие, а нанимал угол у какой-то «тетки». Он очень одобрительно отнесся к намерению Вани идти в колонию им. Первого мая, но тут же и разочаровал его:
– Там хорошая колония, но только тебя не примут.
– Почему меня не примут?
– Думаешь, так легко принимают? Тут в городе пацанов ой-ой-ой сколько хотят, а попробуй. Я тоже ходил.
– Ты в колонию ходил?
– Ходил. Еще в прошлом году. Меня как пришпилит декохт, а ящика у меня не было. Я и пошел. А теперь мне наплевать на них. Еще и лучше, потому – у них все-таки строго: чуть что – «есть», «есть». И пацаны там есть знакомые, а только наплевать!
Юрка и действительно плюнул артистическим своим способом:
– Проживу и без них.
– Значит, они не берут?
– Они не имеют права, а нужно в комиссию идти.
– В какую комиссию?
– Комонес называется.
– А где она?
– Комонес? А вот тут за углом сейчас. Только туда не пустят.
– В колонию?
– Нет, в комонес. Я ходил, так туда не пустили.
Все-таки Ваня улучил минутку и побежал в комонес. Это было, действительно, за углом. Окончился его визит очень быстро. Ваня успел проникнуть только в коридор, и уже через минуту он снова стоял на крыльце, а на него глядела из полуоткрытой двери лысая голова сторожа. Разговор между ними начался еще в коридоре и за самое короткое время успел дойти до большого накала. Быстро обернувшись к двери, Ваня дернул плечом и крикнул со слезами:
– Не имеете права!
Сторож никакого мнения по вопросу о праве не высказал, он выражался директивно:
– Иди, иди!
– Я хочу в колонию Первого мая!
– Мало ты чего хочешь! Здесь таких не берут.
– А каких?
– Правонарушителей берут, понимаешь?
– Каких нарушителей?
– Повыше тебя сортом. А не то, что всякий сброд: захочется ему в колонию, скажите, пожалуйста.
– А если мне жить негде?
– Это что: жить негде? Это пустяки. Это спон принимает.
– Спон? Какой спон?
– Так говорится: спон. И иди себе!
Сторож захлопнул дверь. Ваня задумался, пожал плечами, прошептал недоуменно:
– «Спон!»
К месту работы Ваня возвращался расстроенный, пощипал губу. Юрка еще издали увидел его и крикнул:
– А что я говорил?
Ваня присел на скамейку, взялся за щетки. Клиент уже поставил ногу, Юрка заканчивал щегольской командирский сапог и все-таки отозвался на события:
– Он думал, там ему сейчас: пожалуйте, товарищ Гальченко, садитесь.
Ваня ничего не сказал, а когда кончил работу, спросил:
– А он говорить, в спон какой-то идти?
– Кто говорит?
– Да там такой лысый: в спон.
– Стой, стой! Спон? О! Знаю! Это в наробразе, знаю спон. Только там… – Юрка завертел головой, и Ваня понял, что Юрка выразил предельное пренебрежение к спону.
– А ты скажи…[129]
– Да там… ну… туда лучше не ходи. Буза!
Спирька к подобным разговорам относился с самым холодным презрением. Он принимал и отпускал клиентов, курил, посвистывал, с кем-то перемаргивался, как будто никакого спона не существовало.
– Спон этот здесь. – Юрка кивнул на входную дверь, возле которой они сидели. – Только они здесь не берут[130], а говорят: иди в приемник. Буза!
Но Ваня не мог не думать, на следующий день отправился в спон. Он вошел в ту самую дверь, на которую показывал Юрка, поднялся по узкой и темной лестнице и попал в такой же темный коридор. Здесь было много дверей, они открывались и закрывались, какие-то люди входили и выходили, за фанерными створками дверей гудели голоса, стучали машинки. В коридоре на деревянных диванах сидели потертые, с нечищеными ботинками клиенты и скучали. Ваня прошел весь коридор, прочитал все надписи и вернулся. У одного из сидящих спросил:
– Спон, понимаете…
– Ну?
– Какой это спон?
– Спон самый обыкновенный. Сюда иди.
Он показал пальцем на дверь. На двери Ваня прочитал:
Социально-правовая охрана несовершеннолетних
Прочитал еще раз. Ничего не понял. Обернулся.
– Это спон?
– Еще не верит, малыш. Прочитай первые буквы.
Ваня прочитал и обрадовался, теперь он все понял, действительно, это был спон. Ваня открыл дверь и вошел. В небольшой комнате сидели четыре женщины и один мужчина. Все они что-то писали. Ваня осмотрел всех и обратился к маленькой женщине с черными большими глазами.
– Здравствуйте.
Женщина посмотрела на Ваню, но продолжала держать перо в руке:
– Тебе чего, мальчик?
– Мне… спон.
– Ну да, спон, так что тебе нужно?
– Отправьте меня в колонию Первого мая.
Женщина заинтересовалась Ваней, положила ручку, ее глаза улыбнулись:
– Это ты сам придумал?
– Я придумал. Уже давно придумал.[131]
– Не может быть. Тебя кто-то научил.
– Нет, меня никто не учил. В колонии Первого мая[132], говорят, прилично.
Женщина с черными глазами переглянулась с другой женщиной, обе они улыбались, не открывая губ.
– Еще бы! Ты – беспризорный?
– Нет, еще не был беспризорным.
– Так чего же ты пришел? Мы берем только беспризорных.
– Я не хочу быть беспризорным.
– Видно, ты очень неглупый мальчик.
Ваня повел головой к плечу:
– А чего ж я буду глупый?
– Это и видно. – Они опять поглядели друг на друга.
– Ну, хорошо. Не мешай… – сказала одна из них.
– Я не мешаю.
– В колонию Первого мая мы не отправляем. Это комонес.
– Комонес?
– Да, комонес. Туда правонарушителей отправляют.
– Я был в комонесе. Так там выгоняют! Такой… у него волос нету[133].
– У них есть кому выгонять, а у нас некому, так ты и стоишь. Я тебе сказала: не мешай!
За столом в углу поднялся молодой мужчина и сказал недовольно:
– Мария Викентьевна, сами виноваты: зачем эти разговоры? Сами вступаете с ними в прения, а потом не выгонишь. Работать абсолютно невозможно.
Он вышел из-за стола, подошел к Ване, ласково, осторожно взял его за плечи, повернул лицом к двери:
– Иди!
В коридоре Ваня еще раз прочитал надпись:
Социально-правовая охрана несовершеннолетних
Потом прочитал первые буквы. Выходило, действительно, спон. Но теперь это уже было не так понятно, как четверть часа тому назад[134].
Через[135] три недели произошла новая катастрофа. К чистильщикам подошел молодой человек с портфелем и потребовал документы. В катастрофе виноват был сам Спирька. Нужно было посадить Ваню в середине шеренги чистильщиков – в таком случае, как потом объяснили опытные люди, Ваня успел бы смыться. Ваня же сидел крайним, и человек с портфелем прежде всего потребовал документы у него.
В ответ на это Ваня только похолодел. Человек с портфелем помолчал над ним и распорядился:
– Собирай свое добро.
Ваня беспомощно обратился к Спирьке, но Спирька вел себя самым странным образом: он любовался улицей, любовался всласть, его глаза смеялись от удовольствия.
– Бери ящик, чего ты оглядываешься?
– Так это не мой ящик.
– Не твой? А чей?
– Это его, Спирьки.
– Ага, Спирьки? Это ты – Спирька?
– Я! А какое мне дело?
Спирька очень честно и обиженно пожал плечом.
– Чей это ящик, ребята?
Сначала молчали, а Гармидер все-таки сказал:
– Ваньку нечего подводить. Спирькин ящик. И припас тоже его.
– Да идите вы к черту! Чего пристали, смотри! Я тебе продал ящик? Продал? Чего же ты молчишь?
– Когда ж это ты мне его продавал?[136]
Юрка сказал примирительно:
– Засыпался, Спирька, нечего.
Человек с портфелем все понял, и судьба всей системы стала очевидной и для Спирьки. Человек с портфелем произнес после этого только одно слово:
– Идем!
Спирька выругался головокружительно, размахнулся и ударил Ваню по уху. Гармидер бросился на помощь, но Спирька успел ногой очень сильно ударить по своему ящику. Коробки с гуталином и деньги покатились по асфальту, а Спирька, заложив руки в карманы, спокойно отправился по улице. Человек с портфелем глазами искал подкрепления, но оно пришло не скоро. Юрка шепнул растерявшемуся Ване:
– Дергай!
И Ваня «дернул». Через десять минут на глухой, заросшей вербами улице он остановился. Ему казалось, что за ним погоня. Он присмотрелся к уличной дали: там никого не было, а поближе только белая собака перебегала улицу. Собака посмотрела в сторону Вани несколько подозрительно, но, когда Ваня тронулся с места, она поджала хвост и побежала скорее. Денег у Вани было двадцать две копейки, сегодняшняя выручка вся осталась в ящике.
Снова начались дни одиночества и голода. Двадцать две копейки помогли поддерживать жизнь в течение двух[137] дней. Потом стало совсем плохо, а тут еще и небо выступило против Вани. С утра светило солнце, к двум часам собирались черные говорливые тучи, к вечеру проходила над городом гроза: ливень несколько раз с силой обрушивался на город, громовые удары били без разбору, а к ночи начинался тихий дождик и продолжался до утренней зари. Этот порядок установился на целую неделю. Ваня в своей соломенной постели промок в первую же ночь, он думал, что на второй день не будет дождя, и снова промок. На третью ночь он уже побоялся идти ночевать в солому, долго ходил по городу, пережидая дождь в подъездах и воротах домов. Так он добрался до вокзала.
На вокзале стояла тишина. В зале для ожидания только что прошла уборка. Влажный чистенький кафель с опилками, кое-где к нему приставшими, блестел под ярким электричеством, на больших диванах дремали редкие пассажиры. Двое красноармейцев закусывали. Они доставали еду из холщового мешка, стоящего между ними, и еда была вкусная: розовую французскую булку они разломили пополам, разлом этой булки был ослепительно пушистый. Шесть яиц лежало на диване, один из красноармейцев подставил широкое колено, чтобы они не скатились на пол. Другой на газетном листе потрошил и резал селедку. Кусочки селедки красноармейцы осторожно брали двумя пальцами и ели. Ваня сделал к ним несколько шагов, красноармейцы посмотрели на него, один из них чуточку ухмыльнулся. Ваня сказал:
– Знаете что?
– Ну?
– Знаете что? У меня нет денег. А вы мне дайте без денег.
Один из них, широколицый, с вздернутой губой, нисколько не удивился предложению Вани и не спешил ему ответить. Он долго выбирал глазами, потом взял одно яйцо, стукнул о спинку дивана:
– Даром, значит? Выходит, – ты голодный?
Ваня развел руками:
– У меня, понимаете… денег… нету и все.
– Денег нету? Это плохо. Беспризорный, выходит?
– Нет… я еще…
– Ну, добренько[138]. Садись с нами, вот сюда.
Ваня сел против них на другом диване. Рядом с ним легла приятная порция: половина французской булки, два кусочка селедки и одно яйцо. Красноармейцы все это разложили перед ним молча, в своем мешке они оба хозяйничали дружно, но обходились тоже без слов, только изредка гмыкали. Стрелок железнодорожной охраны подошел к ним, показал пальцем.
– Этот с вами едет… пассажир?
Красноармеец постарше и посмуглей ответил:
– Пока… видишь, с нами едет.
Стрелок недоверчиво скосил глазом на Ванину закуску:
– Чего-то он мало соответствует.
– Ничего, подходящий. Будет соответствовать.
Стрелок отошел. Красноармейцы даже не переглянулись, продолжали закусывать. До самого конца ужина они не сказали Ване не слова. Только когда холщовый мешок был завязан и газета с крошками и требухой брошена в сорный ящик, молодой протянул:
– Поужинали, значит. Ты далеко едешь, пацан?
– Я? Я никуда не еду. Я здесь живу, в этом городе.
– Здесь живешь? А как же так у тебя затруднение с деньгами вышло?
– Вышло так… Ночевать негде. А сегодня дождь.
– Это не годится: ночевать негде и денег нет. Это называется прорыв на всех фронтах. Ты, брат, иди в колонию.
– Я поеду в колонию Первого мая.
– А? Ты знаешь колонию? У меня брат там.
– В колонии Первого мая?
– В колонии Первого мая.
Ваня горячо обиделся. Оказывается, все-таки есть на свете колония Первого мая, и вот перед ним сидит живой человек – брат! Ваня вскрикнул и затаращил возмущенные глазенки:
– Так не отправляют, понимаете! Я и в комонес ходил, и в этот, как его… спон. Не отправляют – и все!
Красноармеец рассмеялся, как смеются люди, увидевшие подтверждение своих догадок:
– Правильно говоришь: комонес и спон! И я там бывал…
Он обратился к товарищу:
– Неделю ходил. Как меня взяли в Красную Армию, братишка у меня – двенадцать лет, вот такой самый. Куда девать? Надо пристроить. Туда-сюда. Говорят, хорошая колония Первого мая. Иди в колонию. Пошел я. Целую неделю ходил. Не сочувствуют мне, толкую свое. А потом в спон. Ну, там взяли брата, отправили, где-то такой детский дом. Воробьевский какой-то. Думаю, устроил все-таки. А в полку получаю от Петьки одно письмо, другое письмо, третье. Пишет мне все по одной форме: не буду здесь жить, не хочу. И скучно, и пища плохая, и наряд плохой, и воспитатели у них какие-то не такие, я так думаю – шкурники. Я ему пишу: держись, браток, держись. А он мне свое. А потом получаю письмо от заведующего. Так и написано: ваш брат Петька Кравчук – дезорганизатор, оскорбляет всех, курит, на уроки какие-то веревки носит. Что такое? Какие, думаю, веревки. Сколько я с ним жил, никаких веревок не было, а тут веревки. Я ему написал про эти веревки и про оскорбление, строго так написал. Да. Ответа долго не получал. А потом мне Петька и написал: меня, как дезорганизатора, отправили в колонию Первого мая, теперь я живу здесь и ты не беспокойся. А потом, как начал писать, как начал, вижу, выходит мой Петька на дорогу. А теперь вот приехал в командировку, пошел к нему, посмотрел – советская жизнь! Строго у них, очень строго, прямо по ниточке ходят, а молодцы народ! Петька что, тринадцать исполнилось, а он уже все понимает, и знаешь, так… цену себе знает. И в одну душу, мотористом буду, мотористом, не иначе. И будет!
Красноармеец закончил рассказ, посмотрел на Ваню, глаза у него щурились. Ваня сказал с решительной мечтой:
– Я пойду… в колонию Первого мая.
– Ты, добивайся, брат, добивайся. Если захочешь, добьешься. Ты по-советскому, знаешь?
– Я по-советскому, – сказал Ваня. И в эту минуту он почувствовал, что колонии Первого мая он добьется.
15 Серебряный гривенник
Ваня здесь, на вокзале, и заснул, сидя на диване. Стрелок не беспокоил его до утра, потому что на противоположном диване сидели красноармейцы. Но утром, когда стрелок все-таки разбудил Ваню, красноармейцев уже не было. Стрелок молча смотрел на Ваню, а Ваня молча догадался, что нужно уходить.
Он побрел к главной улице, ему хотелось посмотреть, что теперь происходит на асфальте возле наробраза, а кроме того, он решил еще раз зайти в спон и поговорить там о колонии Первого мая.
Походка у Вани деловая, но настроение у него плохое: мужчина в споне, который сидит за самым дальним столом, бросает на жизнь довольно мрачную тень. Из магазина вышел мальчик в золотой тюбетейке – Володя Бегунок. И на тюбетейку эту, и на вензель на рукаве, и на живые темные глаза Ваня так[139] загляделся, что даже приостановился у деревянной клетки[140], ограждающей молодое дерево.
Володя Бегунок держал в руке коробку мази для чистки своей сигнальной трубы. Стоя при выходе из магазина, он внимательно рассматривал этикетку на коробке. Потом спрятал мазь в карман, но, вынимая руку из кармана, выронил гривенник, который назначен был на обратный трамвай. Гривенник покатился под ноги Вани Гальченко. Ваня быстро наклонился, поднял монету. Бегунок выжидательно посмотрел на Ваню. Ваня протянул ему гривенник. Володя взял и несколько смущенно объяснил:
– Это у меня на трамвай. А то пешком… пришлось бы… шагать. Шесть километров все-таки.
Ваня улыбнулся из вежливости. Собственно говоря, у Вани есть свои дела, гораздо более трудные.
– Шесть километров? Ты живешь там… далеко?
– Там… – Володя показал на небо[141], – колония Первого мая.
Ваня вспыхнул, ошеломленный, бросился[142] к Володе.
– Первого мая?
– Ну да.
– Ты из Первого мая? Да?[143] – Ваня, не сдерживая радости, засмеялся. Володя улыбнулся, гордый своим высоким званием.
– Да. Я – колонист. Видишь, – и форма первомайская.
Володя поднял локоть. На рукаве на бархатном ромбике было вышито: золотым цветом цифра «1», а серебром, через цифру, слово: «Мая».
– Слушай. Я давно хочу… Мне очень нужно. И все. Мне некуда, видишь…[144]
– Ты – беспризорный?
– Нет, я еще не был беспризорный. Я все хочу… И ничего… Денег нету. Я хочу по-советскому, понимаешь, в колонию… А никто не отправляет.
Ваня говорил серьезно. Они стояли на середине тротуара, их толкали проходящие. Володя первый заметил это неудобство, нахмурил брови, взял Ваню за руку, потащил в сторону.
– Я тебе так скажу… Там у нас совет бригадиров, так он строгий. Там такие черти, бригадиры! Они скажут: а место где? А еще скажут: почему? А ты пойди в комиссию, называется комонес.
– Был я в комонесе. И в споне был. Везде я был.
– Она не хочет?
– Кто «она»?
– Там женщина такая. Не хочет?
– Она не хочет, а он тоже толкается. Говорит, что это для первого сорта – право…нарушителей. А ты разве правонарушитель?
Володя носком[145] ботинка застучал по выступу цоколя, опустил глаза, улыбнулся:
– Они там такое придумали: правонарушители, а только это буза, понимаешь? Это все равно. И наши так говорят: это неправильно.
Володя на секунду задумался, скучно повел взглядом по улице.
Очень возможно, что поднятый вопрос был выше его сил. Брови у Володи оставались еще нахмуренными. Наконец он решительно шевельнул губами, гневно вздернул голову:
– Знаешь, что? Черт с ними! Ты приходи. В субботу. Мы попросим, я моему бригадиру скажу. У меня, ох, и хороший бригадир, Алеша Зырянский! Ты найдешь колонию? Через Хорошиловку нужно.
– Найду.
– А ты эти десять копеек… купи булку.
Ваня взял гривенник.
– А на трамвай? Будешь пешком?
– Вот еще: пешком! С какой стати! Поеду, только я так… бесплатно поеду.
– Без билета?
– Конечно, это нельзя, ну, так что ж! Только я с пересадкой: в одном трамвае, потом в другом трамвае, а кондуктор и не увидит.
Ваня улыбнулся:
– Спасибо.
Володя строго салютнул.
Они разошлись. Ваня считал, сколько дней осталось до субботы, а Володя Бегунок вспоминал дежурного бригадира Воленко и ясно видел, что в колонию нужно идти пешком.
16 Акула Нью-Йорка
Игорь Чернявин рано закончил все процедуры: побывал у врача, в бане, в парикмахерской. В швейной мастерской с него сняли мерку. Воленко объяснил:
– Это для парадного костюма.
В кладовой в присутствии Воленко старик кладовщик выдал Игорю «школьный» костюм, спецовку, ботинки, трусики, тюбетейку и пояс. В бане Игорь переоделся, кое-что осталось у него в руках. Воленко привел его в «тихий» клуб и сказал:
– Здесь побудь до пяти часов. В спальню я тебя не могу допустить, потому что нет дома восьмой бригады – все заняты. А в обед им некогда с тобой возиться.
Игорь не был утомлен никакими процедурами, его ничто не раздражало, а суховатая сдержанность дежурного бригадира даже немного импонировала ему. И, может быть, поэтому распоряжение Воленко его неприятно удивило:
– Я должен здесь сидеть? Безвыходно?[146]
– Почему? Ты можешь выйти. Только на второй этаж и в другие здания тебя еще не пустят, потому что ты еще не принят бригадой. Ведь ты новенький, тебя никто не знает.
– Но я уже в колонистском костюме!
– Это ничего не значит. Ты здесь посиди до обеда. А после обеда пойдем в школу, там тебя проэкзаменуют.
Воленко ушел. Игорь сложил спецовку на диване и решил познакомиться с «тихим» клубом.
«Тихий» клуб представлял собой большой, красиво расписанный зал. У его стен проходил такой же бесконечный диван, как и в комнате совета бригадиров. В одном месте, в узком конце зала, диван прерывался, здесь находился небольшой помост, устланный ковриком. На помосте на мраморном пьедестале стоял бюст Сталина, и вся стена в этом месте была украшена портретами и картинами из жизни Сталина. В других частях зала тоже были портреты и картины. Игорь долго ходил и рассматривал их. Ему понравилось, что все в зале было сделано красиво и основательно: все портреты и картины были в дубовых рамах, под стеклом. Пол в «тихом» клубе был паркетный, вероятно, только сегодня его натерли. Кое-где возле дивана стояли дубовые восьмигранные столики, а вокруг них полумягкие стулья.
На одной из продольных стен Игорь увидел длинный ряд небольших портретов. Были здесь изображены и пожилые, и молодые люди, и пацаны. Игорь легко узнал среди лиц, изображенных на портретах, лицо Воленко, все остальные были незнакомы.
Рассматривая все это, Игорь дошел до большого зеркала. В бане он переоделся в костюм, который Воленко называл школьным, но Игорь еще не видел себя в зеркале в этом костюме. Сейчас на него смотрел румяный молодой человек, узкий черный ремень туго стягивал поясок суконных брюк навыпуск, темно-синяя плотной материи блуза была заправлена в брюки, ее воротник не имел пуговиц и широко раскидывался, открывая шею. Все это Игорю понравилось. Он давно уже не имел нового костюма, и сейчас приятно было видеть себя таким нарядным. Жаль только, что нижняя сорочка была без воротника, и ничего беленького нельзя выпустить. Жаль еще, что его остригли под машинку: голова Игоря была немного торчком и остриженная казалась чуть-чуть глуповатой. Но Игорь видел, что многие колонисты носили прическу, прическа была и у Воленко, значит, это здесь можно.
Игорь любил свое лицо. Больше всего ему нравились в нем постоянная склонность к ехидной улыбке и чистый блеск небольших, немного прищуренных глаз. Но сейчас что-то изменилось в его лице, хотя оно оставалось таким же приятным. Может быть, оно стало серьезнее, может быть, удивленнее? Игорь разобрать хорошо не мог. А все-таки в нем было что-то новое.
Игорь уселся на диван и задумался. Очевидно, придется ему жить в этой колонии им. Первого мая! Сколько времени? Год, два, три? Уходить отсюда еще не хотелось. Он провел два года «на свободе». Деньги доставались легко, попадались хорошие знакомые, но как-то так получалось, что радости от всего этого было мало. Кино, конфеты, колбаса давно перестали его удовлетворять. Больше всего надоела бездомность. Ночевки на вокзалах, в соломе, в ночлежках, в притонах были одинаково отвратительны. Самые лучшие костюмы, которые он покупал при удаче, очень быстро обращались в паскудную рвань.
Получалось несолидно. В такой же рвани щеголяло большинство таких, как он, «свободных» людей. Это некрасиво, это ни в какой мере на напоминало той элегантной, блещущей остроумием и удачей жизни, которая так притягательна в американских кинофильмах. Игоря раньше привлекал этот бесшабашный задор, блеск таланта и смелости, благодарная борьба с сыщиками, такими же джентельменами, такими же элегантными и смелыми. Черт его знает, в жизни получалось совсем не так. Игорь мог проделывать захватывающие дух операции, но никакие сыщики против него не выступали. Обыкновенный стрелок в полном вооружении или милиционер в своей шинели один вытаскивал с вокзала или ночлежки целую кучу таких акул Нью-Йорка. А потом нужно было разговаривать с Полиной Николаевной и ловить какого-то безобразного и, в сущности, невинного козла. Эта жизнь не обнаружила в себе ни одной привлекательной черты. Не было никаких преследований на автомобиле, таинственных писем, трюков, блондинок с револьвером, направленным на человека в маске. Ничего не было, кроме американской мечты. Игорю сейчас не хотелось возвращаться в этот мир приключений.
А что здесь, в колонии? Как пойдет жизнь? Ему выдали спецовку, обязательно заставят работать. Игорь уважал работу других людей, никогда не позволял себе обидеть трудящегося. Он думал, что уважает советскую власть, рабочий класс, партию коммунистов. Он ничего не имеет против честных трудовых рук. Но сам он никогда ничего не делал, и работать ему не хотелось. А здесь, вероятно, гордятся: вот мы работаем! Надо все-таки разбираться: одному нравится, другому не нравится. Игорю не нравилось. Впрочем, можно будет попробовать. Черт его знает, может быть, из него выйдет какой-нибудь токарь. С другой стороны, его заставят и в школу ходить. Заведующий этот, Захаров, конечно, дока. Игорь не возражал против образования, особенно против высшего образования. Но ему и раньше не нравилось учиться, не нравилась добродетельная скука учителей, их мелочная придирчивость, их бесполетный, надоедливый шаг, их упрощенная серость. Не нравилась и беспорядочно-шумная, желторотая толпа школьников.
Игорь думал долго, но не пришел ни к каким решениям. Впереди все оставалось открытым. Самым открытым был вопрос о матери. К этому вопросу Игорь давно не возвращался, так слабо его тянуло пробираться к этому страшному вопросу сквозь дебри расстояний и противоречий. Вопрос о матери – это вопрос какого-то, черт его знает, отдаленного будущего, но, пожалуй, мать была бы рада, если бы он приехал к ней в гости в парадной форме колониста и на пороге отдал сдержанный строгий салют. Это у них шикарно. Но взгляд его упал на спецовку, мирно лежащую на диване; спецовка пахнула очень сложным и скучноватым будущим.
Как хорошо ограничиваться остроумными заботами сегодняшнего дня. Бывали все-таки, ох, какие бывали блестящие, захватывающие дни, полные опасности и остроты! Бывали. А сегодня что? Он сидит в этой красивой клетке, и его стережет с винтовкой в руках какой-то сопливый Петька Кравчук. Хорошенькая акула Нью-Йорка! Эту акулу сегодня будут просто потрошить школьными перочинными ножиками.
Игорь сумрачно встретил дежурного бригадира Воленко, который пришел звать его обедать.
17 Приятный разговор
После обеда Игорь Чернявин был в школе. Его принял старик учитель. Или он здесь назывался как-нибудь иначе?
Учительская была красивая, большая и тоже с огромными окнами. Но здесь были приспущены тяжелые гардины и на полу лежали ковры. Старик учитель выбрал для разговора затененный угол, где стояли большой диван, два кресла и маленький столик.
Учитель Игорю понравился. Пиджак его застегнут на все пуговицы, очень чистый воротник рубахи, щеки гладко выбриты и седые усы привычно-умело, несколько даже кокетливо, подкручены. Он напоминал Игорю профессора из американской картины. Больше всего ему понравился вежливый склад речи учителя. Он сказал:
– Вы Игорь Чернявин? Я вас жду. Садитесь, прошу вас.
Он тронул рукой спинку кресла, а когда Игорь сел, он расположился рядом с ним на диване и, немного склоняясь вперед, сказал:
– Меня зовут Николай Иванович. Надо с вами выяснить. Алексей Степанович говорил мне, что вы окончили семь групп, но это было, вероятно, давно: некоторые жизненные обстоятельства, так сказать, мешали вам.
Он остановил взгляд на Игоре с молчаливым вопросом. Игорь сидел прямо в кресле, сложа руки на коленях, внимательно слушал.
– Да, я два года не занимался.
– Скажите пожалуйста, товарищ Чернявин, вы хорошо учились?
– Иногда хорошо, иногда плохо.
– Я думаю, это зависело от разных посторонних причин, способности вам не мешали?
– Да, у меня были способности…
– Разрешите, я вам предложу кое-что написать. Очень важно узнать, как у вас с грамотностью. Пожалуйста. Вот вам бумага, чернила и перо. Что бы вам такое предложить? Ну вот, если вы не возражаете? Напишите коротко, очень коротко – вы ведь из Ленинграда? – напишите, что вам больше всего нравится в Ленинграде – улицы, мосты, может быть, парки. Это вы можете?
– Да, попробую.
– Пожалуйста, а я займусь своим делом.
Николай Иванович мило улыбнулся, чуть-чуть кивнул головой и присел за большим столом посреди комнаты. Игорю понравилась тема. Действительно, Ленинград было чем вспомнить. Игорь часто думал о родном городе и грустил. В Ленинграде живет мать… Да и вообще Ленинград – шикарный город, больше всего соответствующий его вкусам.
Через полчаса Игорь вручил Николаю Ивановичу исписанный лист. Николай Иванович достал большие черные очки и, вытянув губы, стал читать работу Игоря. Прочитал один раз, прочитал второй раз.
– Очень хорошо. Очень грамотно и интересно. Одна ошибка, и то незначительная: колонна пишется через два эн.
– Разве?
– Да, через два, но этого в седьмом классе вы могли не знать. А вот с математикой как?
Игорь покраснел. Ничего не ответил. Так же вежливо Николай Иванович попросил Игоря разделить дробь на дробь. Целую минуту Игорь рассматривал написанное выражение, но карандаша в руки не взял.
Николай Иванович от своего стола посмотрел на Игоря через плечо.
– Что же вы? Забыли?
– Забыл. Представьте себе, совершенно забыл.
Игорь поднялся с кресла. Он мог тоже показать пример вежливости:
– Я не буду больше затруднять вас, Николай Иванович. Писать я могу, а все остальное забыл, алгебру забыл, биологию, всякую политику. Я думаю, что… мне уже поздно учиться.
Николай Иванович зашарил по карманам, нашел очки на столе, надел их и сквозь[147] очки посмотрел удивленно на Игоря:
– Как вы странно говорите, товарищ Чернявин! Как это можно так говорить? Какая там особенная премудрость! Забыли, это вполне естественно. Будем вспоминать. Да садитесь, чего вы вскочили.
Он снова усадил Игоря в кресло, придвинул стул, сел прямо против него и, поглаживая свои колени, поглядывая вкось на яркие окна, заговорил:
– Я вам предложу такую программу. Учебный год кончается. Сейчас нет смысла зачислять вас в школу. Мы сделаем просто: запишем вас на следующий год прямо в восьмой класс. Только летом нужно будет позаниматься. Я вам очень советую. У вас хорошие способности, нужно учиться. Вы согласны со мной?
– Я мог бы согласиться с вами. И даже… я вам благодарен, понимаете? Но, может быть, я не останусь здесь до осени. Может быть, мне в колонии не понравится.
– То есть… вы уйдете из колонии?
– Да.
Николай Иванович посмотрел на него поверх очков:
– Куда же вы уйдете?
– Там будет видно, куда.
– У нас никогда не было случая, чтобы уходили. Отсюда может уйти только очень глупый, совершенно запущенный субъект. Я уверен, что вы не уйдете, товарищ Чернявин.
Этот милый старик, на румяных щеках которого уютными завитками шевелились седые усы, был просто прелесть. Он говорил с живым огоньком в глазах, иногда делал паузу, чтобы найти более точное выражение, и в это время его глаза быстро бросались в сторону. Он не просто болтал, он задумывался, соображал, но все это выходило у него без натуги и очень симпатично. Главным образом, он говорил о значении образования, о том, какие пути лежат перед молодым человеком в Союзе, какое достоинство заключается в том, чтобы идти по этим путям, как растет личность человека в учебной работе, какие радости она с собой приносит. Он думал сейчас об Игоре Чернявине, и ни о ком другом. Он уважал Игоря Чернявина и с особым удовольствием высказывал это уважение. И именно поэтому Игорь не захотел покончить с ним разговор как-нибудь формально, хотелось и самому с такой же искренностью и честным вниманием отнестись к собеседнику. И Игорь сказал:
– Николай Иванович! Я не привык работать. Я никогда не работал.
Николай Иванович спокойно улыбнулся:
– Да, это может быть. Вы еще так мало жили, и привычек у вас мало.
– А если не привыкну?
Николай Иванович скрестил на животе пальцы и добродушно рассмеялся:
– Почему же? Это такая приятная привычка.
– Приятная?
– А как же? Очень приятная. Я вот работаю сорок лет, и знаете, мне до сих пор нравится.
– Ну да, так вы учитель!
– О, пожалуйста! Если вы хотите быть учителем, это очень хорошо. Но многие думают, что труд учителя самый неприятный. Это, конечно, чепуха. Всякий труд очень приятная вещь. Вот вы увидите.
– Попробую, – сказал Игорь и снова поднялся.
– Попробуйте. Вам здесь помогут. У нас хорошие ребята.
– Спасибо, Николай Иванович.
– Все-таки, когда вы можете начать подготовку?
– С первого июня?
– Хорошо. Давайте с первого июня. Я вас запишу.
Игорь поклонился Николаю Ивановичу. Николай Иванович радушно, внимательно ему ответил. Володи Бегунка здесь не было, и некому было скалить зубы по поводу обычной вежливости двух воспитанных людей.
Игорь шел по двору и беспомощно оглядывался. Ему захотелось, до зарезу хотелось встретить что-нибудь такое, что его возмутило бы, вызвало бы злобу, протест[148], или хотя бы такое, над чем подмывало бы пошутить. Нельзя же в самом деле: с утра, с самого утра он был предоставлен самому себе, а против него стояла непонятная, уверенная и вежливая сила. В пять часов он будет принят бригадой. Неужели и бригада с таким же спокойствием будет его обрабатывать?
18 Разговор, не для всех приятный
В пять часов в «тихий» клуб пришел Воленко в сопровождении высокого массивного юноши с лицом чрезвычайно добродушным, какие бывают только у очень мягких, покладистых людей. Все в этом лице отливало миром: и серые глаза с поволокой, и полные губы, и круглые щеки, и пушисто раскиданная прическа, и какой-то еле уловимый остаток беспризорности в тяжеловатой мимике.
Воленко сказал:
– Товарищ Чернявин! Это твой бригадир Нестеренко.
Только теперь Воленко позволил себе некоторую шутливость тона и движения. Он немного иронически повел рукой и взглядом:
– Сдаю его в полном порядке: остриженный, чистый и вполне оборудованный. Спецовка вот лежит. Парадный костюм заказан. Пожалуйста!
Видимо, Воленко надоело уже возиться с Чернявиным, и он с облегчением передавал новичка бригадиру. Бригадир, видимо, понимая это, с такой же сдержанной игрой склонился перед дежурным:
– Очень благодарен, товарищ дежурный. Вы понимаете, следующий раз и я вам приготовлю.
Воленко отдал салют и удалился.
В этой церемонии, торжественной и чуть-чуть шутливой, Игорь почувствовал большую приятную теплоту. Не вызывало сомнений, что Воленко и Нестеренко были очень дружны между собой, а сейчас в шутливых, чуть-чуть церемонных поклонах они что-то играючи подчеркивали. Нестеренко в этой игре вовсе не казался уже таким добродушным. У него был симпатичный голос, мягкого баритонного оттенка, но слышно было, что этим голосом он умеет владеть как сильный и культурный человек. В его глазах во время разговора с Воленко проявилась внутренняя теплота: в его обращении с людьми был небольшой привкус замедленного, украинского юмора. Но ту же выправку, какая была у Воленко, Игорь заметил и у Нестеренко.
Впрочем, как только ушел Воленко, Нестеренко оставил всякую игру.
– Ты назначен в восьмую бригаду. Бригада сейчас в сборе. Пойдем. Он направился к двери. Игорь остановил его:
– Товарищ бригадир!
– Что такое?
Игорь взял в руки свою спецовку, так же, как и во дворе, беспомощно оглянулся на окна, не вытерпел, растянул в улыбку свой ехидный рот:
– Товарищ бригадир, вы учитесь?
– В школе?
– Да, в школе учитесь?
– Во-первых, учусь в десятом классе. А во-вторых, не называй меня на вы, товарищем бригадиром. Это у нас не нужно. Меня зовут Васей.
– Разве? А я слышал, как обращаются к Воленко: товарищ дежурный бригадир!
– Это другое дело. Дежурный бригадир – у нас большая власть. Он ведет день. Если он в повязке, с ним без салюта нельзя разговаривать.
– А зачем это нужно?
– Видишь ли?.. Вот с тобой сегодня сколько он повозился? Ты заметил? Сколько у него дела! Если каждый будет с ним рассусоливать, так он ничего не успеет. А кроме того… какие же могут быть споры с дежурным?
– А с тобой можно спорить?
Нестеренко пожал плечами:
– Со мной, конечно, можно. Только у нас это не в моде.
– К тебе не нужно с салютом?
– Иногда нужно. Потом узнаешь. Идем, бригада ждет.
Они прошли мимо часового (стоял уже другой) и поднялись по лестнице между цветов. На втором этаже проходил такой же светлый коридор, только здесь на полу был не кафель, а паркет, он так же блестел, как и в «тихом» клубе. Они остановились у двери, на табличке которой было написано:
8-я бригада
Нестеренко взялся за ручку двери, но раньше, чем открыть ее, он объяснил:
– У нас две спальни по восемь человек. Вторая спальня рядом.
Спальня была большая. В ней стояло восемь кроватей, добротных, красивых, окрашенных розовато-желтой краской. На кроватях лежали одеяла вишневого цвета. Все постели находились в идеальном порядке. На кроватях никто не сидел, никто даже не стоял рядом. Больше десятка мальчиков собралось вокруг большого стола. У стены Игорь заметил диван, очень длинный и тоже, видимо, имеющий претензию быть бесконечным, – очевидно, такие диваны в колонии любили.
При входе Игоря и Нестеренко все повернули к ним головы. Нестеренко остановился у дверей и сказал несколько торжественным голосом, в котором Игорь все же услышал оттенок сдержанной шутливости:
– Принимайте нового товарища. Рекомендую: Игорь Чернявин.
Все задвигали стульями, но не встали, а еще плотнее уселись за столом, заботливо оставляя рядом два места для вошедших. Нестеренко сел на один стул, хлопнул рукой по другому, приглашая Игоря:
– Садись.
Все вдруг притихли и с интересом ожидали, что будет дальше. Глаза у Нестеренко вспыхивали иронически:
– У нас такой обычай: когда приходит новенький, вся бригада собирается и бригадир знакомит. Так у нас в колонии пошло издавна, годков пять тому будет. И в это время бригадир должен всю правду сказать о товарищах, как он думает, брехать нельзя. Когда и ты, Чернявин, будешь бригадиром, тоже так будешь делать. Так вот видишь, они на меня и смотрят, потому знают: пощады не будет.
Все это Нестеренко говорил не спеша, добродушно, чуть-чуть окая и растягивая слова.
– Да начинай уже, Василь, довольно мучить!
Это сказал самый младший в бригаде, беленький мальчик лет четырнадцати, с тем аккуратным, чистеньким и умным лицом[149], какие часто бывают у природных отличников по учебе.
– Рогову невтерпеж, знает, что ругать буду.
– Ругай, только, пожалуйста, скорее.
– И еще у нас обычай, никто не должен спорить и обижаться. Какое бы слово не сказал бригадир – каюк! А новенький, вот, скажем, ты, Чернявин, не должен воображать, а должен учиться, как правду говорить и как правду слушать нужно. Понимаешь?
Игорь Чернявин был очень поражен словами бригадира. Он даже рот приоткрыл, и его лицо потеряло последнее выражение остроумной ехидности. Жизнь показалась вдруг страшно интересной. Игорь представил себе: вот он будет бригадиром и ему надо принимать новенького. Хватит ли у него силы сказать всем товарищам правду в глаза?
Нестеренко начал. Он показал на взрослого юношу, которому было не меньше восемнадцати лет. У него был низкий лоб и жесткие волосы, не признающие никакого пробора. Лицо расплывчатое, губошлепистое, а в то же время и энергичное в движении, боевое.
– Это Миша Гонтарь, слесарь по ремонту, хороший слесарь, только в школе учиться не хочет. Дошел до пятого класса, а теперь выдумал, что он уже ученый. Сдурел, приходится силой заставлять. Товарищ он хороший, прямо скажу, хоть бы и все были такие товарищи, а только неряха – никакого спасения. Куда ни повернется, или поломает что-нибудь, или набросает, пойдет и забудет. Ему каждый день бриться нужно, а он три дня не брился. А живет в детской колонии… Через него наша бригада по чистоте никак не может на хорошее место выйти, а бригада хорошая. Он как наденет спецовку с утра, да еще в цехе задержится, известно – слесарь по ремонту, так и в столовую в спецовке прется, а там, конечно, ДЧСК скандал устраивает, и все на бригаду. Видишь? Если Миша дежурит по бригаде, так мы к нему буксир назначаем, как к маленькому. Еще у него недостаток: строя не любит, в ногу ходить не умеет, да и костюм парадный на нем сидит, как на сундуке. Это нам, всей бригаде, конечно, очень грустно, потому что, собственно говоря, пустяк, а он никак не справится. А слесарь он хороший и товарищ тоже. Добрый, каждому свое отдаст, и работать любит, самые пустяки остались, чтобы человеком стать. Он хочет шофером стать, а каждый шофер образованный человек должен быть. А теперь у него новая напасть: влюбился. Как же ему можно влюбляться, когда прическу ему всей бригадой делаем – сделать не можем.
Нестерненко все это проговорил сочно, основательно, поглядывая на товарищей, а товарищи смотрели на Мишу. Очевидно было, что в характеристике Миши все с бригадиром согласны, пожалуй, согласен и сам Миша. Он даже не протестовал против информации о влюбленности, в которой были, несомненно, нотки нестеровской шутливости.
– Теперь дальше: Петр Акулин.
Петр Акулин не улыбнулся. Как сидел боком, так и остался сидеть. У него было худое простецкое лицо, покрытое густым деревенским румянцем. Казалось, что лицо это не способно к улыбке.
– Акулин у нас лучший токарь в колонии и в восьмом классе лучше всех учится. И аккуратист, и дисциплину знает, и комсомолец первый сорт. Будет летчиком по прошествии времени. Само собой, будет. Только корзину у нас каждый имеет, и у него есть корзина. И никто никогда не запирает, такого обычая нет в колонии. Акулин же три дня назад замок повесил, – некрасиво. Либо ты воров боишься, либо тайну какую собираешься завести, кто тебя знает, а только замки в колонии заводить не следует. Другое дело на заводе, государственное имущество должно быть заперто для порядка, а в бригаде товарищи живут, к чему здесь замок?
Акулин не обернулся к Нестеренко, одну руку положил на спинку соседнего стула, сказал невыразительно, тихо:
– Я не от товарищей замок…
– Знаем. Думаешь, у нас место свободное, новенького пришлют, а он к тебе в корзину полезет. Конечно, полезет, если замок висит. А зачем так думать: как новенький, так и вор. Мало ли чего там у каждого было – в старой жизни! Чернявин тоже новенький, видишь, сидит с нами, так и по нему ж видно: он к товарищу в корзину не полезет.
Акулин убрал[150] руку со спинки стула, прохрипел:
– Сниму.
В бригаде, притаившейся в ожидании, как будто все вздохнули. На самом деле не вздохнули, а просто пошевелились.
– Дальше: Александр Остапчин – помощник бригадира восьмой бригады трудовой колонии имени Первого мая.
Уже по тому, как торжественно произнес бригадир название должности Остапчина, можно было заключить, что Остапчина в бригаде любят и относятся к нему немножко насмешливо. И сам Александр Остапчин, услышав свою фамилию, мигнул, повернулся к бригадиру, положил голову на кулаки, поставленные один на другой. У Остапчина большие карие, красивые глаза, чуть-чуть подернутые веселой, маслянистой влагой.
– Совсем человек как человек – и токарь неплохой, и в десятом классе, и помбригадира, и прочее. Настоящий человек, а только одна беда: трепач. Ох, и трепаться же любит, прямо хлебом не корми, а дай поговорить. И хоть бы дело говорил, а то язык говорит, а он за языком бегает, остановить не может и на правильную линию пустить тоже не может. И по сторонам не смотрит: свой, чужой, совсем посторонний – ему все равно; он говорит и непременно загнет куда-нибудь. Всей бригадой удержать не можем. Мечтает: прокурором буду. Так разве можно, чтобы прокурор за собой не смотрел? Прокурор если что скажет, так все к делу, да перед этим два раза подумает. А нашему Александру всегда нянька нужна, чтоб его за полы хватала.
Остапчин не смутился, не обиделся, его глаза по-прежнему смотрели на Нестеренко, улыбались дружески, но в какой-то еле заметной степени и нахально. Он как будто был даже доволен, что у него есть такой интересный недостаток, и тоном полудетского каприза возразил:
– А что я такое когда говорил?
– А помнишь, приехала к нам женщина из Наркомпроса. А ты ей такое натрепал, что она чуть не плакала.
– Правду говорил.
– Правду? Правду говорить тоже к месту нужно. Она приехала познакомиться с нашей жизнью, и может, и поучиться хотела, значит, у нее где-то там натерло, а ты речь… прямо с горы: ничего вы, наркомпросовцы, не понимаете, все путаете, даром хлеб едите. Она потом спрашивает, кто это такой? А я ей, конечно, ответил: не обращайте внимания, так себе, новенький, еще не отесался.
Колонисты расхохотались. Остапчин смущенно отвернулся, но глаза его даже в этот момент не потеряли своей влажной улыбки.
– Санчо Зорин, во! Он – сам видишь, какой!
И действительно, Санчо был виден, как бывает виден насквозь ясный апрельский день. Услышав свое имя, он немедленно взобрался с ногами на стул, открыл любопытную улыбку прямо в лицо бригадиру. А бригадир сказал ему с добродушной строгостью:
– Чего ты с ногами на стул залез? Чернявин, он назначается твоим шефом, давно тебя ждет. Будет твоим шефом, пока ты получишь звание колониста. Будет тебя всему учить и на общем собрании докладывать на звание колониста. Человек он горячий, а только не всегда справедливый бывает. Если ему вожжа попадет под хвост, так никакого удержу нет. Ты на это не обращай внимания.
Игорь кивнул и засмотрелся на Зорина. А Зорин уже кивал ему, и моргал, и всем лицом рассказывал о чем-то. Лицо у него было острое, живое, быстрое. В течение одной секунды он успевал отозваться на все впечатления, всем ответить и у всех спросить. И сейчас каким-то чудом он успел показать бригадиру, что он благодарен ему за правду и постарается поменьше горячиться, что он видит любовь к себе всей бригады и отвечает ей такой же любовью, что он поможет Чернявину сделаться хорошим колонистом и что Чернявин не должен робеть. Это лицо больше рассказывало о Зорине, чем мог о нем рассказать бригадир.
Нестеренко перешел к другим, их было еще шесть человек, все юноши шестнадцати – восемнадцати лет. Нестеренко всех их признал хорошими мастерами, прекрасными товарищами и колонистами, но в каждом отметил и недостатки, отметил в упор, улыбаясь сдержанно, выбирая и округляя слова, но в то же время не скрывал и досады, требовательной и въедливой. Лиственному Сергею он приписал слишком большую любовь к чтению, послужившую причиной того, что Лиственный ходит «как сумасшедший». Широкоскулому, белобрысому, нескладному Харитону Савченко – вялость характера. Борису Яновскому, кучерявому красивому брюнету, – наклонность к запирательству и брехне. Всеволоду Середину – пижонство, Данилу Горовому – неуязвимость характера и излишнее хладнокровие.
Все слушали бригадира молча, никто ничего не возражал, но когда он кончил, все загалдели, засмеялись, напомнили друг другу самые вредные детали характеристик и напали даже на Нестеренко с разными дополнительными вопросами. Но Нестеренко не долго их слушал:
– Чего крик подняли? Дайте же кончить. Познакомьтесь вот с Чернявиным, забыли, что ли?
Александр Остапчин закричал:
– Ты про нас можешь рассказывать, а про себя ничего не сказал? Когда я буду бригадиром, я про тебя расскажу.
– Вот я и подожду, когда ты будешь бригадиром, тогда и про меня скажешь, хотя я так полагаю, что ничего умного не скажешь. Принимайте Чернявина!
– Да уж приняли! Чернявин, руку! – Остапчин размахнулся своей рукой. – Санчо, довольно тебе там, бери человека в работу. Смотри, какой хороший материал для комсомольца.
Все посмотрели на Игоря, и этим моментом Игорь воспользовался:
– Синьоры!
Все затихли, повернулись к нему.
– Синьоры! Вы понимаете, я очень благодарен вам, что приняли меня к себе. Только вы понимаете… про вас вот товарищ бригадир все рассказал, а про себя я сам должен рассказать, правда?
Кое-кто улыбнулся. Акулин посмотрел подозрительно. Гонтарь с осуждением, Нестеренко сказал:
– У нас нет такой моды, чтобы новенький о себе рассказывал. Да тебе и нечего рассказывать. Какой ты человек, мы и сами увидим. А кроме того, не нужно говорить «синьоры». Понял?
– Понял, товарищ бригадир, виноват, товарищ Нестеренко.
– Иди сюда, Чернявин, – Санчо Зорин ожидал его в углу комнаты. – Вот твоя кровать, вот твоя тумбочка, все хозяйство. Мыло и зубной порошок получишь у помощника бригадира Остапчина. Два дня будешь отдыхать, а потом за дело. Вечером я тебе что-нибудь расскажу. Ты в каком классе будешь?
– В восьмом.
– Здорово. И я в восьмом. А вообще – ты свободный гражданин! Куда хочешь!
Санчо широким жестом показал на окно. За окном было поле, а на самом горизонте виднелись постройки города.
19 Он еще сырой
Вечером Игорь Чернявин заснул не скоро. Постель была свежая, прохладная, чистая, такая постель была у него только тогда, когда он жил еще дома; заснуть в такой постели показалось ему высшим блаженством. В эту минуту ему хотелось выразить кому-то благодарность и за эту постель, и за чистое белье, и за новый симпатичный костюм, и за узкий черный пояс. Кого только благодарить? Алексея Степановича? Воленко? Восьмую бригаду? А может быть, просто Советскую власть? Но о Советской власти Игорь Чернявин имел самое сложное представление. От школы остались чисто словесные образы, от Ленинграда – неясное, забытое ощущение детства, зато в «вольной» жизни Советская власть вспоминалась – власть строгая, требовательная и настойчивая: милиционеры, стрелки, воспитатели в приемниках, люди в белых халатах. Изо всей Советской власти наиболее покладистым и безобидным существом была Полина Николаевна, но он вспоминал ее остренькое и умненькое лицо с острой неприязнью. А здесь, в колонии, он ощущал Советскую власть очень сложно, в непонятном, густом экстракте; трудно даже было разобрать, где она находилась. Конечно, Алексей Степанович, конечно, Николай Иванович. Но Санчо только что рассказывал: все эти дома наново построены на чистом поле. Все сделано наново: и цветники, и зеркала, и паркет. Санчо говорил: ничего старого, все Советская власть сделала. И по словам того же Санчо выходило, что Советская власть – это не только Алексей Степанович и учителя, но еще и они, все колонисты. Санчо так и говорил: мы сделали, мы купили, мы решили, мы постановили. Выходит так, что и сам Санчо Зорин тоже Советская власть. И Володя Бегунок!
Да… Хитро придумано: на что бывалый человек Игорь Чернявин, и тому благодарить кого-то захотелось. Хитро: восьмая бригада даже корзинок запирать не хочет – фасон! А, черт возьми, действительно хитрый фасон, ни за что в чужую корзинку после этого не полезешь. Рыжикова бы сюда, интересно посмотреть, как он эти корзинки обчистит? Разумеется, Рыжиков – дрянь, это и говорить нечего. А все-таки здесь они здорово спелись – когда только успели? Сидит Алексей Степанович в кабинете, и не видно его, а кругом начальство; даже этот лобастый Петька тычет нахальными глазенками в щетку и требует – вытирай! Всякие у них обычаи, фасоны, и все это только для того, чтобы свободному человеку, Игорю Чернявину, заморочить голову. Игорь Чернявин на отца ухитрился наплевать, – неужели он поймается на эти удочки?
Игорь согласен, что и кровать на сетке, и свежая простыня, и пододеяльник – хорошие вещи, но Игорь понимает и другое: такими хорошими вещами покупается покорность, особенно если человек попадается жадный на все эти удовольствия. И папаша, вероятно, на это рассчитывал, однако у папаши не вышло. Что же? Можно поспать и в хорошей постели, пускай, но посмотрим, чем это кончится. Вот, например, работать. Николай Иванович говорит: приятная штука. А если неприятная? Ему хорошо в чистом костюме поучать там… в классе. А если они заставят доски строгать, покорно благодарю, синьоры! Допустим, не захочу. Выгонят? Интересно. Какой позор для трудовой колонии Первого мая! Одного человека – Игоря Чернявина, не какого-нибудь там бандита, а скромного интеллигента и джентельмена не смогли заставить работать. Не справились! Интересно, как они будут выгонять? Игорь Чернявин представил себе расстроенные физиономии восьмой бригады. Ох, как им будет досадно! Сколько они здесь нахитрили, вежливость какая, простыни какие, «обычаи», а купить не купили. Игорь Чернявин может прожить и без их досок. Он вспомнил некоторые свои самые остроумные комбинации. Сколько в них было вдохновения, привлекательных, забавных, неожиданных поворотов! Никакие свежие постели с ними сравняться не могут, потому что в этих поворотах – свобода.
Все-таки Игорь счастливо потянулся, вкусно свернулся калачиком и заснул, так и не разрешив противоречия приятных вещей и неприятных, хотя и гордых, мыслей.
Когда утром он открыл глаза, было уже светло. Перед этим ему снились надоедливая трубная музыка и пожар. На пожаре было много огня, шума и треска, Игорь в какой-то толпе куда-то спешил, а в уши бил настойчивый, звонкий голос:
– Слышишь? Слышишь?
Игорь открыл глаза. Перед ним стоял беленький, чистенький Рогов и звенел:
– Слышишь, Чернявин, вставай!
Рогов увидел открытые глаза Игоря и повторил уже спокойнее:
– Вставай, сейчас уборку начнем.
Другие колонисты восьмой бригады чуть-чуть суматошились, входили и выходили с полотенцами, убирали[151] постели, взбивали подушки. Рогов мотался по спальне с белой тряпкой в руках, вытирал пыль. Он прыгал от стульев к подоконникам, заглядывал в тумбочки, подскакивал к верхней перекладине дверей, продевал руку за батареи отопления, возился у портретов, потом застыл у какой-то кроватной ножки. Игорь закрыл глаза; хороший, счастливый, теплый сон снова к нему возвратился…
– А чего этот спит?
Игорь узнал голос Нестеренко и глаз не открыл.
– Ты будил его, Рогов?
– Да, будил. Он же проснулся!
Игорю стало интересно, что эти представители Советской власти будут делать, если он не встанет? Вот просто не встанет, да и куда ему спешить? Даже по здешним[152] «обычаям» он два дня не должен работать. Он снова услышал над собой голос Нестеренко:
– Чернявин!
Помолчал и опять:
– Чернявин!
Сильная рука легла на его плечо, плечо заходило взад и вперед. Игорь открыл глаза:
– А что?
– Давно сигнал был.
– Какой сигнал?
– Сигнал «вставать»! Тебе вчера Санчо объяснял?
Игорь повернулся на спину, улегся поуютнее, показал бригадиру свою широкую ехидную улыбку:
– Объяснял, синьор, да я не все разобрал!
– Так вот я тебе говорю: был сигнал «вставать», а ты опять свое: синьор!
– Это несущественно, товарищ!
Нестеренко вытаращил на него большие свои серые глаза, полные удивления. Рогов натирал пол и подскочил к ним на босой ноге. Наконец, Нестеренко нашел слова, нашел с таким замедлением, что у Игоря даже смех начал срываться.
– Что ты там мелешь? Смотри: несущественно! Сейчас поверка будет! Игорь повернулся на бок и руку подложил под щеку:
– Это тоже малосущественно.
В спальню влетел Санчо Зорин и закричал:
– Товарищ бригадир! Уборка нижнего коридора сдана мною на пять! Но бригадир находился в таком недоумении, что не услышал рапорта: он сказал Игорю грубоватым голосом:
– А это будет существенно, если я тебя поясом потяну?
Игорь ответил спокойно
– Это будет существенно, но незаконно.
– Ах ты, панское зелье!
Одеяло и пододеяльник куда-то полетели с Игоря. Ничем не прикрытый, он почувствовал себя в смешном положении и хотел уже вставать, но снаружи долетели звуки нового сигнала. Рогов соскочил со своей щетки и вскрикнул:
– Ой, лышенько! Уже поверка!
Он бросился к ботинкам. Все колонисты завертелись перед зеркалом, поправляя прически, сегодня они были как один одеты в школьные костюмы. Игорь знал, что вся бригада до обеда работает в школе. Приведя себя в порядок, все спешили занять место на свободном участке спальни – выстраивались в просторный ряд. Нестеренко беспомощно оглянулся, Санчо подбежал к нему:
– Да закрой ты его, ну его к черту! Сегодня Клава дежурит!
– Клава? Ну, что ты скажешь!
Нестеренко набросил одеяло на Игоря. Сообщение о Клаве и Чернявина привело в ужас. Оказаться перед девушкой в одном белье! Поэтому он охотно подхватил одеяло и закутался с головой, но оставил щель, чтобы видеть.
Нестеренко быстро обошел спальню, потрогал пальцем подоконник, заглянул под кровать, спросил:
– Санчо, не знаешь, Алексей будет на поверке?
– Алексей спозаранку в город уехал.
Из коридора влетел Рогов, шепнул: «Поверка идет!», стал на свое место в ряду. Открылась дверь, Нестеренко громко скомандовал:
– Бригада, смирно! Салют!
Игорь увидел, как ряд колонистов вытянулся, повернул головы к дверям, поднял правые руки. Нестеренко стоял отдельно против двери. Сияя золотом тюбетеек, вензелями на рукавах, белизной широких воротников, вошли невысокая девочка лет пятнадцати-шестнадцати и мальчик гораздо моложе ее. За ними голоногий Володя Бегунок с трубой, в парусовке, направил любопытные, загоревшиеся глаза на необычную фигуру в постели.
У дежурного бригадира Клавы Кашириной очень хорошенькое, нежное, немного полное лицо, темно-русые кудри из-под тюбетейки и красивые ясные, хоть и небольшие, серые глаза. Она, очень серьезная, строго стояла перед высоким Нестеренко и смотрела на него вверх из-под чистенькой, розовой руки.
Нестеренко сделал шаг вперед:
– Товарищ дежурный бригадир! В восьмой бригаде трудовой колонии имени Первого мая все благополучно. Не поднялся к поверке Чернявин!
Клава бросила быстрый, по-женски лукавый взгляд на лежащего Игоря и сказала замечательно красивым, высокого серебряного тона голосом:
– Здравствуйте, товарищи!
Шеренга дружно ответила ей:
– Здравствуй!
И после этого шеренга разрушилась. Заговорили, засмеялись. Центральной фигурой сделался вдруг мальчик в повязке с красным крестом – ДЧСК – дежурный член санитарной комиссии. Сегодня в роли ДЧСК – Семен Касаткин. Ему со всех сторон говорят:
– И здесь смотрите.
– Пожалуйста!
– Будьте покойны!
Но Касаткин не улыбается. У него придирчивый взгляд, и он рыщет по всей спальне, заглядывает в корзины, щупает батареи. В руке у него чистый носовой платок, он пользуется им в качестве контрольного приспособления. Но всякий раз, когда он подносит платок к глазам, пыли на платке не обнаруживается, и восьмая бригада торжествующе «агакает». За пальцами ДЧСК и за его платком особенно напряженными глазами следит сегодняшний дежурный по бригаде Олег Рогов. От волнения его аккуратная прическа растрепалась, и ДЧСК издевательски спрашивает:
– А почему ты сегодня не причесывался?
Рогов с некоторым страхом поглядывает на Клаву и отвечает:
– Да понимаешь, беспокойства столько!
Потерявший надежду «поймать» бригаду, Касаткин задирает голову к лампочке:
– А лампочка, кажется, в мухах!
Ему отвечают хором:
– Да это разве мухи? Это точки такие! Каждое дежурство спрашивает. Стекло такое!
А Игорь Чернявин в это время крепко спит[153]. Черт его знает, дежурство хорошенькой Клавы им абсолютно не было предусмотрено. По движению голосов Игорь чувствует, что Клава уже стоит у его постели. И если секундой раньше Игорь еще дышал, как дышит каждый крепко спящий человек, то сейчас и дышать перестал. Серебряный голос Клавы спрашивает:
– Может, он заболел? Касаткин, проверишь потом.
Касаткин отвечает негромко:
– Есть проверить!
Но Нестеренко не может забыть «это несущественно».
– Кто заболел? Чернявин? Ты послушала бы, как он перед поверкой разговаривал. А потом взял и заснул сразу.
Клава тронула плечо Игоря:
– Чернявин! Чернявин, как тебе не стыдно?
Но Игорь не дышит и в самой далекой глубине души проклинает свой вздорный характер. Он невольно, сквозь досаду, представляет себе, как это было бы красиво, если бы он сегодня, хоть и новенький, самым точным[154] образом отсалютовал этой милой девушке и вместе со всеми крикнул бы ей: «Здравствуй!» Очень возможно, что она обратила бы внимание на его оригинальное лицо и ехидную улыбку. Неужели она еще будет его тормошить? С облегчением он слышит голос своего шефа Санчо Зорина:
– Да брось его, Клава! Пускай лежит. Он еще совсем сырой!
Игорь слышит, как легкие шаги удаляются от его постели. Он приоткрывает глаз, видит движение к двери и снова закрывает глаз, потому что встречает карий, веселый и все понимающий взгляд Володьки Бегунка.
20 Несправедливость
Через час Игорь Чернявин весело вошел в столовую. Только остриженная под машинку голова несколько смущала Игоря, костюм у него самый новый, пояс самый изящный, лицо у него самое интеллигентное и интересное. Заканчивала завтрак первая смена, которая должна отправиться в школу. Игорь знал, что Нестеренко на него зол, ожидаются неприятные разговоры, но, с другой стороны, его продолжала увлекать роль остроумного протестанта. С уверенной грацией Игорь проходил через всю просторную, светлую, украшенную цветами, столовую. Скатерти сияют такой белизной, точно их сегодня переменили, или это утреннее солнце так радостно светит?
Из столовой многие уже выходили. Игорь не заметил насмешливых взглядов пацанов, направленных на него. Он знал свое место за столом и свое исключительное право на него. За этим столом, кроме Игоря, сидят Нестеренко, Гонтарь и Санчо Зорин. Действительно, Нестеренко и Санчо на своих местах, наверное, уже поели и разговаривают. За другими столами только одиночки заканчивают завтрак, а в конце столовой, возле Клавы Кашириной, вертится Володя Бегунок – самый верный признак того, что сейчас будет сигнал на работу. Но Игорь еще не работает, поэтому он весело подходит к столу и говорит свободно:
– А вот и мое местечко!
К удивлению Игоря, Нестеренко ничего укорительного на это не сказал, напротив, спросил по-своему добродушно:
– Выспался?
– Ох, и хорошо выспался! Меня будили, кажется?
– Кажется, будили.
– Я что-то там такое говорил?
– Что-то говорил.
Санчо отвернулся к окну. Откуда-то взялся возле окна Миша Гонтарь и сердито посматривает на Игоря. Нестеренко увидел подходившую к ним Клаву и вежливо приподнимается навстречу:
– Спасибо, Клава, за завтрак. Хорошо накормила.
Это Игорю нравится. Санчо ему вчера рассказывал, что существует правило – за пищу благодарить дежурного командира.
– Не стоит, – говорит Клава.
Она смотрит на ручные часы и кивает Володьке, следующему за нею, как тень:
– Через минуту можешь давать.
Володька проделал трубой движение, отдаленно напоминающее салют. Нестеренко говорит ему тихо:
– Вот я скажу Алешке, как ты отвечаешь. Он тебе завинтит гайку.
Володька серьезнеет, краснеет и спешит к выходу, кстати, у него и дело есть.
Нестеренко недовольно обращается к Клаве:
– Ты, Клава, распускаешь пацана. Он мне так не ответил бы!
Клава улыбается. У нее прекрасные зубы, и она еще краше в улыбке:
– Да я и не заметила. И не привыкла. Второй раз дежурю. А это кто? Ты – Чернявин?
Чернявин вежливо поклонился.
– Почему ты прикидываешься в спальне? Такой большой, а прикидываешься, как ребенок.
Краска заливает лицо Игоря. Он хотел бы видеть в Клаве только хорошенькую девушку – и не в состоянии. Черт его знает, как получается, но никак он не может забыть о том, что она дежурный бригадир. Неужели шелковая повязка производит такое сильное впечатление? Игорь что-то лепечет, начинает сбиваться:
– Сон… товарищ… Бывает… товарищ…
– Как это так «бывает»? А чего ты в столовую пришел?
– С вашего разрешения… кушать.
– Кушать! Разве тебе не объяснили? Опоздать можно не больше, как на пять минут. Раздача кончена двадцать минут тому назад. Столовая готовится для второй смены. Тебе объяснили?
– Мне говорил товарищ Зорин, но я выпустил из виду.
– Выпустил из виду?
Не дождавшись его ответа, Клава тронулась к выходу.
Это возмутило Игоря. Она говорить с ним не хочет! Неужели они здесь воображают, что ему неизвестны советские законы?
Игорь сделал шаг вперед и очутился перед Клавой:
– Позвольте, выходит так, что вы меня лишаете завтрака?
– Вот какой ты чудак! Ты сам себя оставил без завтрака. Почему ты не пришел?
– Значит, я без завтрака?
Нестеренко сказал мечтательно, глядя в сторону:
– Это малосущественно.
Игорь взялся за спинку стула, произнес медленно, веско, так, как он разговаривал с начальником почты:
– Оставление без пищи все-таки запрещено. Мне это хорошо известно.
Зорин пришел в восторг. Быстрой рукой он дернул по своей и без того всклокоченной шевелюре и сказал звонко:
– Верно, товарищ! Ты на Клаву пожалуйся.
– Обязательно! Имейте в виду, товарищ дежурный бригадир, я буду жаловаться. Кому у вас нужно жаловаться?
В таком же тоне, с прибавкой небольшой дозы невинности, Зорин ответил:
– Общему собранию.
Нестеренко, Зорин и даже Клава громко рассмеялись. Только Зорин был серьезнее:
– А ничего! Что ж тут такого? Он имеет право…
Но и Зорин не выдержал и захохотал уже в полную силу.
На дворе заиграли сигнал. Клава быстро направилась к выходу.
Игорь посмотрел ей вслед, бросил гневный взгляд на Зорина, но и сам не выдержал: улыбнулся.
21 Руслан
После «завтрака» Игорь в очень скучном настроении отправился осматривать колонию. Голод его не беспокоил. Во время своей свободной жизни он привык вкушать пищу независимо ни от каких расписаний и даже независимо от аппетита, а исключительно по обстоятельствам. Его больше задело насилие, произведенное над ним этой смазливой девчонкой, которая не только не проявила интереса к его оригинальной наружности, но еще вздумала поучать его.
Выйдя из здания, Игорь даже с некоторым удовольствием нашел и формулу осуждения: они здесь гордятся своими порядками, салютами и вензелями; воображают себя Советской властью, а на самом деле – обыкновенные бюрократы. На своем веку Игорь насмотрелся таких бюрократов. «Скажите пожалуйста, почему деньги присланы как раз на эту станцию?» Опоздать к завтраку можно только на пять минут, а если опоздаешь на шесть минут, сиди голодный. И они собираются воспитывать Игоря Чернявина! Кто знает, захочет ли еще Игорь Чернявин, чтобы из него тоже бюрократа сделали. И все бюрократы так говорят: можешь жаловаться.
Так размышлял Игорь Чернявин, проходя по дорожке цветника. Цветы его мало радовали. Собственно говоря, можно было выйти из цветника и отправиться по дороге в город. К сожалению, у него не было никаких планов, никакого начатого дела, а во-вторых, можно уйти и завтра.
Игорь прошел цветники и свернул вправо. Здесь сразу начинался лес. На его опушке – новое каменное здание. Оно было пристроено к глагольному концу того дома, из которого Игорь вышел, и соединялось с ним висячим закрытым мостиком. Санчо рассказывал ему об этом здании. В нем будут новые спальни, только спальни. А в старых спальнях будет школа, а в теперешней школе еще что-то будет. Игорь уже забыл. Вообще, строительство. Санчо, захлебываясь от восторга, называл какие-то цифры: двести тысяч, триста тысяч. Санчо в то же время и возмущался: кто-то где-то ассигнует деньги на новые спальни и на прием новых ребят, а на производство никто не хочет давать ни копейки, колонисты сами об этом должны подумать. Ребят можно набрать, а работать где? Надо развивать производство. Слово «производство» Санчо произнес с уважением, восторженно вспоминал Соломона Давидовича Блюма, но тут же и посмеивался над ним. Вообще, у них только снаружи все это прибрано, а что на самом деле, кто их разберет. Вчера перед сном вся бригада потешалась, вспоминая какой-то стадион. И Нестеренко сказал:
– В такой колонии такой стадион! Что это такое?
Игорь прошел мимо нового здания. Оно было уже закончено, блестели стекла в оконных переплетах.
Дальше был разработан парк, проведены широкие дорожки, посыпанные песком, стояли чугунные скамьи. Санчо и об этом парке рассказывал с энтузиазмом. Подумаешь, большое дело: дорожки и гимнастический городок. Посмотрели бы они, какие гимнастические городки в Ленинграде. А то: собственными руками! И еще пруд какой-то! Довольно запутанная сеть дорожек куда-то заметно спускалась. Ага! Вот и пруд! По берегу пруда тоже идет дорожка и тоже стоят скамейки. Пруд небольшой, над ним нависли деревья, кое-где на берегу сделаны деревянные ступени.
Игорь присел на скамью, а потом подумал: почему бы ему не искупаться. Он разделся и полез в воду. Воды была прохладная, ласковая и пахла чем-то особенным, духов они напустили в пруд, что ли? Нет, это пахнет мята, все берега заросли мятой. Игорь выплыл на середину; попробовал достать дно, не достал, внизу вода была ледяная. Перевертываясь в воде, Игорь заметил движение у скамьи, где он оставил одежду. Он подпрыгнул, посмотрел, подплыл поближе. На берегу столя, заложив руки в карманы спецовки, и смотрел на него коренастый парень, стриженный тоже под машинку, наверное, новенький. Он крикнул:
– Холодная вода?
– Хорошая.
– Полезу.
Через минуту он с разгона бултыхнулся в воду, и скоро его стриженая голова очутилась рядом с Игорем:
– Ты что, колонист? – спросил он.
– Да, в этом роде.
– Новый, что ли? Что-то я тебя не видел.
– Со вчерашнего дня.
– Ага!
– А ты?
– А я две недели.
– Тоже новый?
– Тоже.
– Ну и что?
– Удирать буду.
– Да ну?
– Честное слово! Ну их к чертям!
Он перевернулся в воде, выставил зад, подрыгал ногами:
– Холодная! Я – одеваться!
Они подплыли к берегу. Натягивая штаны, Игорь спросил:
– А тебе есть куда удирать?
– Да у меня папан в городе. Только он – сволочь. Я к нему не пойду. Я у него облигаций на пять сот рублей стырил, так он такой хай поднял, в милицию потащил. А сам ответственный работник, как же – Заготзерно какое-то. Меня сюда и спровадили.
– Ты уже работаешь?
– А как же, приспособили. Социализм, говорят, строим. Ну и стройте!
– А почему ты сейчас гуляешь?
– Да какой там социализм! Материалу нету! Меня на шипорезный поставили. Станок, правда, мировой, так материалов нету. Да ну их…
– Как твоя фамилия?
– Фамилия у меня еще ничего: Горохов. А вот имя… брат, прямо удивительно! Куда их головы торчали? Руслан!
Игорь рассмеялся. Горохов тоже осклабился. У него было очень простое, прыщеватое, носатое лицо, и нос был гораздо красивее всего остального. Когда он смеялся, зубы показывались разной величины и направления и даже разного цвета.
– Руслан! Я пока не читал «Руслана и Людмилу», так еще ничего, терпел, а как прочитал!.. Ты читал?
– Читал.
– С моей мордой! Руслан! Так это им, понимаешь, нужно, а как ассигнаций паршивых на пятьсот рублей, так в милицию побежали!
– Я тоже, наверное, уйду, – сказал Игорь.
– У тебя тоже родители?
– Мои далеко – в Ленинграде.
– К ним пойдешь?
– Нет, к ним не пойду.
– А куда?
– А ты куда?
Они сели на скамью, глянули друг на друга, улыбнулись неохотно. Руслан задумался:
– Черт их знает… может, они и правильно[155]…
– Кто?
– Да… эти… тут. А только нельзя так: все это ходи по правилам. По правилам и по правилам. И тащат тебя в разные стороны. И вякают, и вякают: в стрелковый кружок, в драматический кружок, в изокружок! «Учиться необходимо!» А я хотел в оркестр, так у них тоже правила.
– А ты говорил: удирать будешь.
– И убегу, а что ж ты думаешь? Терпеть буду? Хотел в оркестр – «подожди», в оркестр принимают только колонистов.
– Так… и ты же колонист?
– Черта с два! Тебе разве не рассказывали? Черта с два!
– Что-то я слышал… звание колониста…
– Звание колониста. Ты не колонист, а воспитанник. Ого! Тебе, может, и пошьют парадный костюм, так без этого… на рукаве… без знака. И наказывать тебя можно как угодно: и наряды, и без отпуска, и без карманных денег. Алексей что захочет, то и сделает. И из бригады в бригаду, и на черную работу погонит… И в оркестр нельзя.
– Черт знает что, – протянул Игорь удивленно. – И долго это так?
– Самое меньше четыре месяца. А потом, как бригада захочет. Бригада должна представить на общее собрание, а на собрании, как по большинству решат. А на собрании известно кто – комсомольцы. Там где-то по секрету поговорят, а ты и не знаешь.
– А почему же в оркестр только колонисты?
– А кто их знает, почему? Да еще знаешь какое правило: в оркестр можно, допустим, колонисту, а из оркестра черта с два!
– Нельзя?
– Боже сохрани! Так уж до смерти и оставайся музыкантом. Понимаешь ты, порядки? Допустим, мне надоело – нет, играй! Все равно убегу.
Руслан отвернул обиженное лицо к глубине парка, задумался: задумался и Игорь. Слышно было, как за парком шумело машинное отделение. Какие-то еще звуки долетели оттуда: не то детские крики, не то лай собак. Потом звонко ударило один раз, другой и пошло ритмично звенеть дальше. Руслан вытянул шею, встревожился.
– Ты в какой бригаде? – спросил Игорь.
Руслан не расслышал:
– А?
– В какой ты бригаде? В первой? У Воленко?
– У Воленко. Кажется, лес привезли. Говорили, привезут.
– Воленко хороший бригадир?
– Они тут все одинаковые. Побегу. Это лес привезли.
Руслан прыгнул через кустики на соседнюю дорожку. Игорь посмотрел ему вслед: синяя куртка Руслана далеко уже мелькала между деревьями, так быстро он побежал.
22 Стадион имени Блюма
Игорь тоже направился на «производственный двор», как говорили в колонии. Санчо уже рассказывал ему, что в колонии есть несколько мастерских. Недавно приехал новый заведующий производством, так уже не будут мастерские, а будут цехи: механический, литейный, машинный, сборочный и швейный. Игорь никогда не видел никакого производства и не интересовался этим делом, поэтому он ничего не понял во всех этих названиях, догадывался только, что в швейном что-то шьют. Но теперь выходило так, что и ему придется работать в каком-нибудь цехе. Он решил посмотреть, что это за «производственный двор».
Через парк, идя по тому же направлению, куда побежал Руслан, Игорь, действительно, вышел на новый двор, видно, недавно расчищенный из-под леса: кое-где стояли еще пни, а в других местах, в огромных ямах, валялись выкорчеванные могучие корневища. Двор был громадный и весь забросан, трудно было разобрать чем. Здесь было много бревен, досок, балок – все это в беспорядке, вперекос, перемешано с углем, железом разного сорта, с опилками, стружками, пустыми бочками из-под извести. Вокруг двора стояло несколько приземистых деревянных строений, похожих на сараи, но через крыши их выходили трубы, а из труб валил дым самых разнообразных оттенков и густоты, следовательно, это были не сараи. В одном из строений, более солидном, что-то делали с деревом, и дереву то, что делали, было, видимо, неприятно: оттуда неслись стоны и вопли самых разнообразных оттенков: тихие, гулкие, низкие звуки – звуки привычного и безнадежного протеста; звуки нервные, визгливые, раздражительные; наконец, время от времени вырывался настоящий вопль, отчаянный, душераздирающий, невыносимый. Возле этого здания стояло несколько длинных подвод, рабочие сбрасывали с них доски.
Выйдя из парка, Игорь остановился, выбирая, как легче пройти, и рядом с собой увидел группу людей: Алексей Степанович без шапки, в сапогах и в военной рубашке хаки, Витя, Клава Каширина и еще двое. Один из них полный, с брюшком, с круглой головой, выбритой начисто, а может, быть, просто лысый. Игорь догадался: это и был знаменитый заведующий производством – Соломон Давидович Блюм. Он торжественно показывал рукой на широкое, приземистое, барачного типа здание, выстроенное недавно, и тем не менее производящее отталкивающее впечатление. Трудно было установить, из чего оно сделано: из обрезков, щепок, старой фанеры, глины? Покрыто оно тоже весьма странной смесью из самых различных материалов: железа, фанеры, толя, а в одном месте красовалось даже несколько рядов черепицы. Это было очень длинное здание, и именно поэтому бросалась в глаза его несуразность: здание довольно круто спускалось в сторону пруда, и его наклонная, скошенная конструкция дико противоречила всякому привычному представлению о строении[156].
Как будто пораженный этим внезапным величием, Захаров стоял на опушке парка, шевелил руками в карманах галифе и смеялся:
– Да-а! Я приблизительно предчувствовал нечто подобное, но… все-таки…
Витя хохотал, наклоняясь к земле:
– Вот молодец, Соломон Давидович! За неделю построил!
Клава улыбнулась сдержанно. Виктор сказал:
– Это и называется: стадион имени Блюма.
Соломон Давидович выпятил полную стариковскую губу:
– Что вы такое говорите, имени Блюма? Это плохой сборочный цех? Плохой? Да?
Захаров увидел[157] Игоря:
– Чернявин, иди сюда.
Игорь вытянулся, красиво – это было несомненно – поднял руку и успел заметить любопытствующий взгляд Клавы Кашириной:
– Здравствуйте, товарищ заведующий!
– Здравствуй. Иди сюда. Ты ведь человек ленинградский, всякие дворцы видел. Как тебе нравится сборочный цех?
– Вот этот сарай?
– Это стадион, – повторил Виктор.
Соломон Давидович произнес спокойно:
– Пускай себе сарай, пускай себе стадион, зато в нем можно работать.
Игорь спросил:
– А он не завалится?
Блюм возмутился так серьезно, как будто он давно знал Игоря и обязан был считаться с его мнением:
– Вы слышите, что он говорит: завалится! Волончук, он завалится или не завалится?
Скучный, нескладный, состоящий из каких-то мускульных узлов инструктор Волончук – правая рука Соломона Давидовича – ответил невозмутимо, определяя судьбу стадиона с завидной беспристрастностью:
– С течением времени должен завалиться, но нельзя сказать, чтобы скоро.
– Через год завалится?
– Через год? – Волончук внимательным взглядом присмотрелся к стадиону. – Нет, через год он не завалится. Другое дело, если, скажем, дожди большие пойдут.
Блюм закричал на него:
– Кто вас про дожди спрашивает. Когда был Ной и пошли большие дожди, так все на свете завалилось. Когда человек строится, так он не может ориентироваться на всемирный потоп, а ориентируется на нормальную погоду.
Волончук спокойно выслушал гневную речь Соломона Давидовича, даже глазом не моргнул лишний раз, и уступил:
– Если хорошая погода, так ничего… выдержит.
Алексей Степанович поправил пенсне, каким-то особенным взглядом, преисполненным векового терпения, глянул на двор и тронулся вперед.
– Хорошо, посмотрим, что там внутри.
Блюм обрадовался:
– Конечно, внутри! Нам внутри работать, а вовсе не наблюдать разную красоту. Красота тоже деньги стоит, дорогие товарищи. Если у тебя нет денег, так ты бреешься один раз в неделю. И ничего.
Через скрипящие воротца, кое-как сбитые из обрезков, они вошли в здание сборочного цеха. В цеху еще ничего не было, сразу бросался в глаза деревянный пол, отдаленно напоминающий паркет: он был составлен из многочисленных концов досок разной длины и ширины и даже разной толщины. Витя первый выразил свое восхищение внутренним устройством здания, но очень сдержанно:
– Если деталь какая упадет, так ее и не поймаешь, так покатится!
Все рассмеялись, кроме Блюма:
– А почему она будет катиться? Это теперь здесь, конечно, ничего нет. А когда будут люди, верстаки и доски, так куда она будет катиться?
Волончук серьезно оглядел все и ответил:
– Так, чтобы катиться, не должна. Зацепится.
Виктор серьезно подтвердил:
– Беру свои слова обратно, если зацепится, тогда другое дело.
И теперь Блюм разгневался окончательно: своими короткими руками он несколько раз хлопнул себя по бедрам, на отекшем лице появилось выражение боевой готовности…
– Вам нужно делать мебель, или вам нужен какой-нибудь бильярд? Чтобы ничто никуда не катилось, пока его не ударишь палкой? Что это за такие разговоры? Мы делаем серьезное дело, или мы игрушками играемся? Вам нужны каменные цехи? А деньги у вас есть? А что у вас есть? Может, у вас кирпич есть? Или железо? Или фонды? Ваши сборщики работают под небесами, а я вам построил крышу, так вам еще не нравится, вам подавай архитекторский фасад и какие-нибудь пропилеи[158]. Вы сюда пришли, приемочная комиссия, и фыркаете губами, и говорите: стадион! А что вы мне дали? Смету, проект, чертежи, деньги? Вы дали хоть одного инженера? Что вы мне дали, товарищ секретарь совета бригадиров Виктор Торский?
Секретарь совета бригадиров Витя Торский ничего не ответил. Алексей Степанович дружески взял Блюма за локоть:
– Не сердитесь, Соломон Давидович, мы на лучшее и не рассчитывали. Увидите, в будущем году мы построим настоящий завод, а это здание с благодарностью спалим: подложим соломки и…
– Мне очень нравится: они спалят! Здесь будет замечательный склад[159].
– Потерпим.
– Триста тысяч на новые спальни!
– То деньги государственные. Новые спальни для новых людей. Прибавим еще сто человек, и вашему производству легче будет.
– Пожалуйста! Теперь есть где работать. А что бы вы[160] делали, если бы не было этого самого стадиона имени Блюма, товарищ Торский?
– А я всегда говорил: нужно строить не спальни, а завод.
– Так видите, вы только говорили, а я построил.
– Я говорил: строить завод, а вы построили стадион.
– Товарищ Торский! Живая собака в тысячу раз лучше английского[161] льва!
Алексей Степанович, смеясь, любовно прижал локоть Соломона Давидовича и направился к выходу. Игорь Чернявин подождал, пока все выйдут. Оглянулся на пустой стадион. Кого-то ему стало жаль. При выходе он остановился, и было ясно: жаль стало Соломона Давидовича.
23 Довольно интересная мысль
Вечером Нестеренко сказал Игорю:
– Завтра ты пойдешь на работу в сборочный цех.
– Я никогда не работал в сборочном цехе.
– А завтра будешь работать.
– Это значит в стадионе?
– Потом в стадионе, а пока во дворе.
– А что я там буду делать?
– Мастер тебе покажет.
– А может, я не собираюсь быть сборщиком?
– Я тоже не собираюсь быть литейщиком, а работаю в литейном.
– Это дело твое, а я иначе думаю.
– Ты думаешь? А ты научился думать? Слышишь, Санчо? Он так думает, что он не будет сборщиком, а поэтому он не хочет работать. Ты его шеф, должен ему объяснить, если он не понимает.
Санчо с радостью согласился объяснить Игорю, хлопнул рукой по сиденью дивана рядом с собой.
– А что же? Садись, я тебе все растолкую.
Игорь сел, кисло улыбнулся, приготовился выслушать поучение. Вспомнил жалкий стадион, жалкую бедность Соломона Давидовича, стало скучно и непонятно, для чего все это нужно?
– Чего ты такой печальный, Чернявин, это очень плохо. А я знаю почему. Ты думаешь так: какие-то колонисты, где они взялись на мою голову? А я вон какой герой, Чернявин, скажите пожалуйста! Поживу у них четыре дня и пойду на все четыре стороны. Правда, ты так думаешь?
Игорь промолчал.
– А на самом деле, может, ты у нас проживешь четыре года.
– А если проживу, так что?
– Как это «что»? Если ты умный человек… Представь себе: четыре года живешь! Так сегодня ты в сборочном не хочешь, а завтра в литейном не хочешь. А потом ты скажешь, не хочу быть токарем, а хочу быть доктором, давайте мне, пожалуйста, больницу: а я буду лечить людей, ха! Так мы с тобой четыре года будем возиться! Ты, значит, как будто не в себе – психуешь, а мы с тобой все возимся и возимся?
Нарисованная Зориным картина заинтересовала Игоря, но заинтересовала прежде всего глубоким противоречим той ясной логической линии, которая принадлежала ему, Игорю Чернявину, и которую он мог изложить в самых простых словах. Санчо сидел рядом с ним, глаза его, как всегда, были горячи, но все-таки этот самый Санчо Зорин соображает довольно тупо.
– Ты неправильно говоришь, товарищ Зорин.
– Хорошо. Неправильно. А как правильно?
– Ты говоришь: Чернявин хочет быть доктором? А скажи, пожалуйста, почему это плохо? А разве мало людей хочет быть докторами? А вы здесь, дорогие товарищи, придумали: как себе хочешь, а иди в ваш сборочный цех. А я должен сказать: «Есть, в сборочный цех!» А вот я не хочу.
– Так кто тебе мешает, Чернявин? Разве мы тебя заставляем? Мы тебя не заставляем. Смотри, пожалуйста, – Зорин показал на окно, – заборов у нас нет, стражи нет, – никто тебя не держит и не уговаривает – иди себе!
– Мне некуда идти…
– Как некуда? Ого! Ты же говоришь, не хочу быть сборщиком, а хочу быть доктором.
– Куда же я пойду?
– Да в доктора и иди. Учиться там или как… Добивайся, пожалуйста.
– А у вас, значит, нельзя?
– А у нас тоже можно, только по-нашему.
– Сначала в сборочный цех?
– А что же ты думаешь? А если в сборочный? Думаешь, плохо?
– Я не думаю, что это плохо, а ты мне ничего не объяснил. С какой стати?
– А с такой стати: для нас это нужно. Ты у нас живешь два дня? Живешь. Шамаешь? Одели тебя, кровать тебе дали? А ты еще сегодня в столовой кричал: не имеете права! А почему? Откуда все это берется, какое тебе дело? Я – Чернявин, все мне подавайте. Я хочу быть доктором. А может, ты врешь? Откуда мы знаем? А мы можем сказать: иди себе, Чернявин – доктор Чернявин, к чертовой бабушке!
– Не скажете.
– Не скажем? Ого! Ты еще нас не знаешь! Можем так сказать, что тебя никакое начальство не спасет. Ты думаешь: уйду. А на самом деле мы тебя раньше прогоним. Для чего ты нам сдался? Мы тебя ни о чем не спросили, кто ты такой, откуда, а может, ты дернешь. Мы тебя приняли как товарища, одели, накормили и спать уложили. Так ты один, а нас колония. Ты против нас куражишься: хочу быть доктором, ты нам ни на копейку не доверяешь. Тебе нужно все доказать сразу, а почему ты вперед поверить не можешь, нам поверить?
– Кому поверить? – задумчиво спросил Игорь, чувствуя, что Санчо далеко не так туп, как ему показалось сначала.
– Как «кому»? Нам всем.
– Поверить?
– Ага, поверить. Видишь, ребята живут и работают, и учатся, что-то делают. Подумал бы: значит, у них какой-то смысл есть. А то ничего не видишь, кроме себя: я доктор. А какой ты доктор, если так спросить? Мы знаем, что мы – трудовая колония, это же видно, а откуда видно, что ты доктор?
Они сидели на диване в полутемной спальне, на дворе зажигались фонари, ребята куда-то разошлись. В коридоре слышались редкие шаги. Потом кто-то крикнул:
– Се-евка!
И стало очень тихо, так же тихо, как и на душе у Игоря. Он, конечно, не был убежден словами Санчо, но спорить с ним уже не хотелось, и возникло простое, легкое желание: почему в самом деле не попробовать? Этому народу можно, пожалуй, оказать некоторое доверие. И он сказал Санчо Зорину:
– Да это я к примеру. Ты не думай, что я такой бюрократ. А ты где работаешь?
– В сборочном цехе.
– Интересно там?
– Нет, не интересно.
– Вот видишь?
– А тебе только интересное подавай? Может, с музыкой? А если неинтересное что делать, так ты не можешь?
– Неинтересное делать?
Игорь присмотрелся к Зорину. У Санчо задорно горели глаза, горели они и у Игоря.
– Неинтересное делать? Это, сэр, довольно интересная мысль.
24 Девушка в парке
Сигнал «вставать» Игорь услышал без посторонней помощи. Было приятно – быстро и свободно вскочить с постели, но когда он начал заправлять кровать, оказалось, что это совершенно непосильная для него задача. Он посматривал на другие кровати и все делал так, как делали и остальные, но выходило гораздо хуже: поверхность постели получалась бугристая, складка шла косо, одеяло не помещалось по длине кровати, а его излишек никуда толком не укладывался. Санчо посмотрел и разрушил его работу:
– Смотри!
Санчо работал ловко, из его техники Игорь уловил главное назидание: складка на одеяле потому получалась прямая, что с самого начала Санчо укладывал одеяло сложенным вдвое, потом отворачивал[162] половину, складка сама выходила прямой, как стрела. Это Игорю понравилось.
– Спасибо, Санчо.
– Не стоит.
У Игоря было прекрасное утреннее настроение. Вместе со всеми он салютом встретил приход дежурства. Сегодня дежурил бригадир четвертой бригады – знаменитый в колонии Алеша Зырянский, именуемый чаще «Робеспьером[163]». И сегодня дежурные по бригадам мотались, «как соленые зайцы», а за десять минут до поверки сам Нестеренко взял тряпку и бросился протирать стекло на портрете Ворошилова, а дежурному по бригаде Харитону Савченко сказал с укором:
– Ты забыл, кто сегодня дежурит по колонии?
Харитон с озабоченной быстротой заглядывал в тумбочки и под матрацы. Когда уже строились на поверку, Нестеренко спросил:
– А ногти? Ногти у всех стрижены?
Кто-то глянул на ногти и закричал:
– Да черт его знает, где ножницы наши?
Нестеренко рассердился:
– Если искать ножницы, когда сигнал на поверку играют, так, конечно, никогда не найдешь. Чернявин, у тебя как?
– Да ничего, как будто…
– Как будто не считается. Гонтарь, давай ножницы. Да куда же ты режешь? Ну что ты наделал? Эх, Мишка!
Но уже входила в спальню поверка, и Нестеренко подал команду.
Зырянский был невысокого роста, лет шестнадцати. Он хорошо сложен, строен. Обращали на себя внимание его пристальные, умные, но в то же время и веселые серые глаза. Брови у Зырянского короткие, прямые, ближе к переносице они заметнее. Губы подвижные, очень выразительные.
Еще приветствуя бригаду, Зырянский увидел все, хотя как будто ничего не старался увидеть. Он не рыскал по спальне, ничего не искал, но, уходя, сказал своему компаньону по дежурству, скромной и тихой девочке – ДЧСК:
– Отметишь в рапорте: в спальне восьмой бригады грязь.
– Да какая же грязь, Алеша?
– А это что? Натерли пол, а потом набросали ногтей? Это не грязь, по-твоему?
Нестеренко ничего не ответил. В дверях Алеша сказал:
– Нельзя заниматься туалетом только для дежурного бригадира, это, Василь, ты хорошо знаешь. Да и новенькому вашему не остригли когтей. Салютует, а лапы, как у волка.
Нестеренко был очень расстроен после поверки и все повторял:
– Ах ты, черт! Вот нечистая сила! А все ты, Мишка. Человек влюбленный, а ногти какие. И как же это можно: на паркет. Хорошо, если Захаров так пропустит рапорт. А если передаст на общее собрание?
Миша Гонтарь ничего не сказал на это. Сидя на корточках, он подбирал с полу собственные ногти.
– Я тогда прямо и скажу на собрании: это наш влюбленный Михаил Гонтарь. Честное слово, так и скажу. А еще раз случится такое неряшество, попрошу Алексея посадить тебя часа на три. И Оксане все расскажу, чтоб знала.
Гонтарь так ничего и не ответил бригадиру. Достаточно того, что ему и перед своими было неловко. Нестеренко оставил его и тем же уставшим, недовольным голосом обратился к Игорю:
– Ты идешь в сборный цех или еще будешь ногами дрыгать?
Игорь был рад, что мог утешить бригадира хотя бы в этом вопросе:
– Иду.
На производство Игорь должен был выйти после обеда, во вторую смену. Это было хорошо: все-таки оттягивалась процедура первого рабочего опыта. После завтрака Игорь решил погулять в парке и искупаться. Но как только он вступил в парк, на первой же дорожке встретил «чудеснейшее видение» – девушку.
Уже и раньше, в своей «свободной жизни», Игорь стремился[164] понравиться девчатам и принимал для этого разные меры: заводил прическу, украшал костюм, произносил остроумные слова. В том, что он девушкам нравился, было для него смешное, что-то очень важное, свидетельствующее о какой-то привлекательной для людей силе. Но никогда еще не было, чтобы девушка ему самому очень понравилась. Он по-джентельменски привык отдавать должное привлекательности и красоте и считал себя в некотором роде знатоком в этой области, но всегда забывал о красавицах, как только они уходили из его поля зрения. И поэтому каждую новую девушку он привык встречать свободным любопытством донжуана.
Так он встретил и девушку в парке и прежде всего должен был признать, что она «чудесна». Это слово Игорь очень ценил, гордился его выразительностью и от самого себя скрывал, что унаследовал его от отца, который всегда говорил:
– Чудесный человек!
– Чудесная женщина!
– Чудесная мысль!
Девушка, проходившая по дорожке парка, была «чудесна». Это в особенности бросалось в глаза оттого, что одета она была очень бедно и некрасиво. Не было никаких сомнений в том, что она не колонистка – колонистки всегда чистюльки.
У нее было чуть-чуть смуглое лицо, очень редкого розовато-темного румянца, расходящегося по лицу без каких бы то ни было ослаблений или усилений, удивительно чистого и ровного. Ничто у нее в лице не блестело, ничто не было испорчено царапиной или прыщиком, редко у кого бывает такое чистое лицо. Из-под тонких черных бровей внимательно и немного смущенно смотрели большие карие глаза, белки которых казались золотисто-синими. Зачесанные к косе темные волосы, отливающие заметным каштановым блеском, непокорно рассыпались к вискам. Словом, девушка была действительно чудесна.
Игорь остановился и спросил удивленно:
– Леди! Где вы достали такие красивые глаза?
Девушка остановилась, отодвинулась к краю дорожки, поднесла руку к лицу:
– Какие глаза?
– У вас замечательные глаза!
Этими самыми глазами девушка сердито на него взглянула, потом наклонила покрасневшее лицо, метнулась с дорожки в сторону, на травку.
– Миледи, уверяю вас, я не кусаюсь.
Она остановилась, посмотрела на него исподлобья, строго.
– А вам какое дело? Идите своей дорогой.
– Да у меня никакой своей дороги нет. Скажите ваше имя.
Девушка переступила босыми ногами[165] и улыбнулась:
– Вы из колонии, да?
– Из колонии.
– Смешной какой!
Она произнесла это с искренним оживлением насмешки, еще раз боком на него посмотрела и быстро пошла в сторону, прямо по траве, не оглянувшись на него ни разу.
25 Проножки
Мастер Штевель, широкий, плотный, румяный, внимательно глянул на Игоря круглыми глазами:
– Никогда не работал?
– Нет.
– Значит, начинаешь?
– Начинаю.
– Дома… хоть пол подметал?
– Нет, не подметал.
– Незначительный у тебя стаж. Ну что же… начнем. Я тебе дам для начала проножки зачищать. Работа легкая.
– Какие это проножки?
Мастер ткнул ногой в готовый стул:
– А вот она – проножка, видишь? Поставили, как была, нечищеную, с заусенцами, вид она имеет отрицательный. А теперь ты будешь зачищать, лучше выйдет стул. А то все чистили, а на проножки так смотрели: что там, проножка, и так сойдет.
Мастер был словоохотливый, но деловой[166]: пока говорил, руки его действовали, а на подмостке перед Игорем появились куча проножек, рашпиль и лист шлиферной бумаги. Заканчивая речь, Штевель прошелся рашпилем по одной проножке, потом зашаркал по ней бумагой, полюбовался проножкой, погладил ее рукой:
– Видишь, какая стала! И в руки приятно взять. Действуй!
Пока все это говорилось и делалось, Игорю занятно было и слушать и смотреть на мастера, на проножку и на всякие принадлежности. Когда мастер, похлопав его по плечу, отошел, Игорь тоже взял в руки проножку и провел по ней рашпилем. В первый же момент обнаружилось все неудобство этой работы: проножка сама собой вывернулась из руки, а рашпиль прошелся твердым огневым боком по пальцам. На двух пальцах сразу завернулась кожица и выступили капельки крови. Рядом чей-то знакомый голос сказал весело:
– Хорошее начало, товарищ сборщик.
Игорь оглянулся. Голос недаром казался знакомым – свой, из восьмой бригады, только из второй спальни, Середин, тот самый, которого Нестеренко упрекал в пижонстве. У него чисто лицо и голова немного откинута назад. В руках несколько тонких пластинок для спинок стула, и Середин любовно отделывает их при помощи линейки со вставленными листками шлифера. Не успел Игорь рассмотреть их, как они полетели в кучу готовых пластинок, а рука Середина захватила уже новую порцию.
– Возьми там, в шкафчике, йод, – улыбаясь кивнул Середин. – Это ничего, все так начинают.
Игорь полез в шкафчик, нашел в нем бинты и большую бутылку с йодом. Он смазал царапины[167] и обратился к Середину:
– Завяжи.
– Да что ты! Зачем это? Бинт зачем? Ты еще скажешь, доктора вызвать.
– Так она течет. Кровь.
– Вся не вытечет. Намазал йодом? Ну и хорошо. И не течет вовсе, просто капелька.
Игорь не стал спорить и положил бинт обратно в шкафчик. Но пальцы все-таки болели, и он боялся взять в руки новую проножку. Все-таки взял, подержал, примерился рашпилем. Потом со злостью швырнул все это на примосток и, отвернувшись от верстака[168], начал рассматривать цех.
Никакого цеха, собственно говоря, и не было. К стене машинного отделения, вздрагивающей от гула станков, снаружи кое-как был прилеплен дырявый фанерный навесик. Он составлял формальное основание сборочного цеха; под навесиком помещалось не больше четырех ребят, а всего в цехе работало человек двадцать. Все остальные распологались просто под открытым небом, которое, в самой незначительной степени, заменялось по краям площадки красными кронами высоких осокорей. На площадке густо стояли примостки различной высоты и величины, сделанные кое-как из нестроганных обрезков. Некоторые мальчики работали просто на земле. На площадку эту из машинного отделения высокий чернорабочий то и дело выносил порции отдельных деталей. Деревообделочная мастерская колонии производила исключительно театральную, дубовую мебель. Детали, подаваемые из машинного отделения, были: планки спинок, сидений, ножки, царги, проножки. Собирали театральные стулья по три штуки вместе, но раньше, чем собрать такой комплект, составляли отдельные узлы: козелки, сиденья и т. д. Сборкой узлов и целых комплектов занимались более квалифицированные мальчики, между ними и Санчо Зорин. Они работали весело, стучали деревянными молотками, возле них постепенно нарастали стопки собранных узлов, а возле Зорина располагались на земле уже готовые, стоящие на ногах трехместные конструкции, еще без сиденья.
Большинство же ребят занимались операциями, подобными той, которая была поручена Игорю, в руках у них ходили рашпили, зудели, посвистывали, дребезжали.
Игорь до тех пор рассматривал цех, пока Середин не спросил у него:
– Что же ты не работаешь? Не нравится?
Игорь молча повернулся к примостку, взял в руки рашпиль. В руке он ощущался очень неприятно: тяжелый, шершавый, осыпанный опилками – и все старался перевиснуть куда-то вниз. Игорь положил его и взял в руки проножку. Это было симпатичнее. Игорь внимательно рассмотрел ее. Глаз увидел те неправильности, неровности, острые углы, которые нужно было снять, увидел и неряшливый край, вышедший из-под шипорезного станка. Вторая рука снова протянулась к рашпилю, но в это время прилетела пчела. Собственно говоря, ей абсолютно нечего было делать здесь, в сборном цехе. Игорь следил за ней и думал, что она должна понять бесцельность своего визита и улететь. Пчела, однако, не улетала, а все сновала и сновала над примостком, тыкалась, подрагивая телом, в свежие изломы дубовых торцов, а потом вдруг набросилась на раненую руку Игоря, ее соблазнила засыхающая капелька крови. Похолодев, Игорь взмахнул проножкой и обрадовался, увидев, что пчела улетела. Он перевел дух и оглянулся, и сейчас только заметил, что ему жарко, что солнце припекает голову, что шея у него вспотела. Вдруг на эту самую потную, горячую шею что-то село, мохнатое, тяжелое. Игорь взмахнул свободной рукой – огромная, зеленоватая муха нахально взвизгнула у его головы. Игорь поднял глаза и увидел, что их две – мухи, они нахально не скрывали от Игоря своих злобных физиономий. Игорь тоже обозлился и произнес неожиданно, чуть ли не со слезами:
– Черт его знает! Мухи какие-то!
И Санчо, и Середин, и другие засмеялись. Середин смеялся добродушно, закидывая голову, а Санчо – громко, на всю площадку:
– Игорь! Они ничего! Они не кусаются!
Из молодых кто-то сказал:
– А может, они думают, что это лошадь.
Игорь швырнул проножку на стол:
– К черту!
– Не хочешь? – спросил Середин.
– Не хочу.
Санчо оставил работу, подошел к нему.
– Чернявин, в чем дело?
Игорь надвинулся на Санчо разгневанным лицом.
– Я больше не хочу! К черту! – кричал он. – Не буду! С какой стати! Какие-то проножки! Рашпили! Для чего это мне? Цех, называется, – мухи, как собаки!
Краем глаза он видел, как Середин, не прекращая работы, неодобрительно мотнул головой, другие обернули к ним удивленные, но серьезные лица. Санчо сказал:
– А что же? Просить тебя не будем. Иди, выйти можно здесь.
– И пойду.
Не глядя ни на кого, Игорь переступил через кучу деталей. Санчо что-то сказал ему вслед, но Игорь не расслышал. Не услышал потому, что увидел перед собой неожиданное видение: та самая девушка, которую он сегодня встретил в парке, присела у корзинки, в которой лежали обрезки, но лицо подняла к нему, и на лице этом была задорная и откровенная насмешка.
26 Герой дня
День пошел вперед, жаркий, неслаженный и… одинокий. В столовой за ужином хохотали по-запорожски, а Гонтарь, который ничего и не видел, со вкусом рассказывал:
– Говорят – мухи, как собаки.
У соседнего стола звонкий пацаний голос деловито произнес:
– Безобразие! Мух надо на цепь посадить!
И за тем столом тоже хохотали.
Игорь сидел, отвернувшись к окну, злой. Нестеренко спросил:
– Значит, не будешь работать?
– Нет.
– А жить в колонии будешь?
– Меня прислали сюда, я не просил.
– Здорово! – Зорин сделался серьезным. Хохот везде прекратился. Игорь заметил несколько лиц, смотрящих на него с интересом, а может быть, даже и с уважением. Игорь почувствовал гордость, встал за столом и сказал Зорину громко, так, чтобы и другие слышали:
– Видите ли, не чувуствую у себя призвания чистить ваши проножки. И вышел из столовой.
Он был даже рад. На его лице восстановилась обычная уверенность в себе, склонность к ехидной улыбке, глаза сами собой стали сильней прищуриваться. Перед сигналом «спать» он гулял в парке, посмотрел партию в волейбол. Среди других, наблюдавших игру, приметил группу девочек и между ними, рядом с Клавой Кашириной, полное, тронутое веснушками, но очень милое лицо. Девушка посмотрела на него, улыбнулась, о чем-то зашептала подруге. У нее были ярко-рыжие кудри. Игорь придвинулся ближе[169], и она спросила:
– Твоя фамилия Чернявин? Ты играешь в волейбол?
– Играю.
– А мух не боишься?
Окружающие девочки засмеялись, одна только Клава смотрела на Игоря осуждающим взглядом, презрительно сжала красивые губы. Но Игорь не обиделся.
– Мухи мешают только в вашем сборочном цехе. Мешают этой важной работе. Тут нужно проножку чистить, а она без всякого дела.
– А ты сколько проножек зачистил?
Девочки притихли, но было видно: притихли только для того, чтобы услышать его ответ и смеяться над ним еще больше, еще веселее. Игорь не хотел потешать их:
– Я отказался от этой глупой работы. Я думаю и без меня найдутся охотники чистить разные проножки, сороконожки.
– А ты что будешь делать?
Рыжая девочка спрашивала со спокойной улыбкой, приятным грудным голосом, очень теплым и без насмешки. И никто больше не хохотал. Игорь был доволен успехом: он умел вызвать к себе уважение. И на вопрос постарался ответить с достоинством:
– Я, синьориты, еще посмотрю: думаю, роль для меня найдется.
Впечатление было такое, какого он хотел. Девочки посмотрели на него с уважением, но Клава неожиданно сказала, отворачиваясь:
– Роль для тебя уже нашлась: шута горохового.
И тут все девочки громко захохотали, даже глаза их увлажнились от смеха. Игорю пришлось заинтересоваться волейбольной партией и отойти от них. Но в общем этот разговор его не особенно смутил. Конечно, Клава Каширина у них бригадир, конечно, она может позволить себе назвать Игоря шутом гороховым, а они будут смеяться. Но вот другая, рыжая, эта не очень смеялась. Кто она такая? Пробегающего Рогова Игорь спросил:
– Кто эта рыжая?
– Рыжая? А это Лида. Лида Таликова, бригадир одиннадцатой.
Ого, тоже бригадир, а не очень смеялась.
В спальне, когда все собрались, Игоря приятно поразило, что никто не вспоминал о его уходе из цеха, все держали себя так, как будто в бригаде ничего не случилось, каждый занимался своим делом, читали, писали. Санчо и Миша Гонтарь играли на диване в шахматы. Нестеренко разложил на полу газеты и разбирал на них какой-то странный прибор, весь состоящий из пружин и колес. Игорь ходил один по комнате и стеснялся спросить, что это за прибор. На дворе заиграли короткий сигнал, Нестеренко удивленно поднял голову:
– Да неужели на рапорты? Ох, и время ж бежит! Саша, пойди, сдай рапорт, а то у меня руки.
Он расставил черные пальцы, Александр Остапчин, помощник бригадира, повертелся перед зеркалом, посмотрел на всех красивыми глазами:
– И хитрый же у вас бригадир! Это, значит, с Алексеем разговаривать насчет Мишиных ногтей?
Все улыбнулись. Нестеренко ответил хмуро:
– Ну и поговоришь, чего там. Скажешь, этот франт не успел. Да ведь ты любишь поговорить, для тебя будет… вроде прокурорская практика. А если Гонтарю попадет, тоже не жалко.
Он бросил убийственный взгляд на Гонтаря. Гонтарь крякнул и с досадой хлопнул себя по затылку.
Остапчин еще раз глянул в зеркало и выбежал из спальни. Игорь спросил:
– Товарищ Нестеренко, что это такое?
Нестеренко поднял голову, неохотно повел глазом на Игоря и махнул рукой, что, безусловно, могло обозначать только одно: отвяжись!
Игорь подошел к шахматистам. Рука Гонтаря еще лежала на затылке. Он не обратил внимания на Игоря, а, подвигая фигуру, тихо спросил:
– Как ты думаешь, Санчо, меня сейчас вызовут к Алексею?
– Тебя?
– Да, по рапорту Зырянского.
Санчо взялся за голову коня:
– По рапорту? Думаю, нет. Алексей по таким пустякам не вызывает.
– А вдруг?
– Нет. А Сашке что-нибудь скажет. А кого позовет, так, может, этого лодыря.
Санчо кивнул на Игоря. Гонтарь снял руку с затылка, отодвинул Игоря подальше.
– Отойди, свет заслоняешь.
Но Игоря заинтересовало последнее слово Зорина:
– Меня позовет? Пожалуйста! Я уже испугался, синьоры!
Игорь победоносно посмотрел на всех, но никто не обратил на него внимания.
Через пять минут в спальню ворвался Остапчин, переполненный словами, багрово-красный и явно смущенный.
– Под арест на один час! – закричал он, вытаращивая на всех глаза.
Гонтарь показал на себя пальцем:
– Меня?
– Меня, – ответил с тем же жестом Остапчин.
– Тебя? – все вскочили с мест, глаза у всех сделались задорно-круглыми. Даже Харитон Савченко совершил какое-то быстрое движение.
– Тебя? Ой!! – Нестеренко повалился спиной на пол, дрыгая в воздухе ногами, хохотал громовым хохотом. Гонтарь снова отправил руку на затылок и улыбался смущенно. Санчо обрадовался больше всех, прыгал, воздевая руки, ухватил Остапчина за руки[170]:
– За ногти?
– Да за ногти же! Робеспьер, дрянь такая, мало того, что рапорт сдал, да еще с подробностями. После рапортов я говорю: «Алексей Степанович, Гонтаря нужно подтянуть», а он мне отвечает: «Я у вас не нанимался всех подтягивать, другое дело Чернявин, вчера пришел, а Гонтарь пять лет у вас живет». Я ему и скажи: «Зырянский придирается». Тут мне и попало, насилу вырвался. Во-первых, говорит, споры во время рапорта не допускаются, а во-вторых, и в рапорте восьмой бригады, который ты сдавал, сказано: отмечается неряшливость колониста Михаила Гонтаря. За неумение держать себя во время рапортов и за неряшливость в бригаде – один час ареста.
Все слушали молча, широко открыв глаза. Игорь забыл о собственных делах и в увлечении сказал:
– А ты ему объяснил же?
Все на Игоря посмотрели, как на докучный посторонний предмет, но Остапчин ответил:
– Конечно, объяснил: «Есть, один час ареста».
Нестеренко снова ударился в хохот:
– Вот здорово! Хорошо, что я тебя послал.
– Я больше за тебя никогда не пойду…
Нестеренко ответил ему весело, с дружеской угрозой:
– Попробуй не пойти. Да ты и не за меня сел, а за себя. Любишь трепаться и на рапортах трепанулся. Как это можно такое говорить: дежурный придирается! Подумать только! Я удивляюсь, что ты дешево отделался, видно, сегодня Алексей добрый.
Игорю вдруг стало обидно и не по себе. Черт их разберет, что у них делается: совершенно было ясно, что Остапчин получил один час ареста незаслуженно, а настоящий виновный, Миша Гонтарь, остался безнаказанным. Наконец, было обидно и другое: почему-то все, даже Алексей Степанович, интересуются таким пустяком, как остриженные ногти Гонтаря, и никто не обращает внимания на открытый, демонстративный отказ от работы Игоря Чернявина?
Когда укладывались спать, зашел в спальню Алеша Зырянский, уже без повязки, и его почему-то встретили радостными возгласами, обступили, а сам Зырянский в изнеможении упал на диван:
– Сашка влопался! Я уверен: Алексей сейчас сидит в кабинете и смеется: Александр Остапчин пришел отдать рапорт! А между прочим, рапорт он сдает красиво, прямо лучше всех.
И Зырянский ничего не сказал об Игоре, даже не вспомнил, что он есть в спальне и что он сегодня демонстративно отказался от работы в сборочном цехе.
27 Тебе отдуваться
Утром Игорь встал вовремя и долго возился с постелью. Может быть, он и еще поспал бы, но вчера забыл спросить, кто сегодня дежурит, ему не хотелось опять оказаться в постели перед «дамой». Оказалось, что он сделал хорошо, потому что поверку принимал сам Захаров, а вместе с ним вошла дежурным бригадиром Лида Таликова. Захаров был весел, в белой косоворотке. Так же как и дежурные бригадиры, он поднял руку и сказал:
– Здравствуйте, товарищи!
Игорю показалось, что ему ответили дружнее и любовнее, чем отвечали дежурным[171], а в то же время чувствовалось, что Захарова и побаивались здорово. Но он осмотрел спальню без придирок, ни в какие тайники не заглядывал, все это проделывал юркий и маленький ДЧСК. Алексей Степанович все-таки попросил Гонтаря показать ногти, в этот момент Остапчин весело покраснел, но Захаров ничего не заметил. Мимо Игоря он прошел бесчувственно. Нестеренко спросил:
– Алексей Степанович, какая сегодня картина, не знаете?
– Говорят, «Броненосец Потемкин». Поехали за картиной, Лида?
– Поехали.
Уходя, Алексей Степанович глянул на лампочку под потолком, и все закричали обиженными голосами:
– Да это точечки такие! Стекло такое! Сколько говорили, никто не переменяет!
Захаров остановился в дверях:
– Чего вы кричите?
– А вы посмотрели на лампочку.
– Мало ли куда я посмотрю, так вы кричать будете?
– Мы уж знаем, как вы смотрите!
Игорь отправился завтракать. По дороге никто с ним не заговорил, а за столом Санчо и Гонтарь о чем-то громки вспоминали. Нестеренко ел молча и осматривал столовую.
В столовой в одну смену сидело сто человек. Все они сидели за небольшими столами, покрытыми белыми скатертями, и, по правде сказать, все они Игорю нравились. Хотя он и жил в колонии только четвертый день, но уже многих знал, знал ДЧСК, очень похожих друг на друга, аккуратных, въедливых и строгих мальчиков и девочек в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Примелькались и другие лица. В каждом лице Игорь бессознательно отличал два характера, две линии. Что-то в каждом было свое, мальчишеское, назвать это Игорь не умел, но это были несомненная энергия, агрессивность, проказливость, боевой нрав и самостоятельный, плутовской, расторопный взгляд, от которого трудно укрыться – все более или менее знакомые типы лиц и привычек, которые Игорь и раньше наблюдал и которые ему нравились. С другой стороны, у всего этого народа, живущего в колонии, ясно были заметны и другие черты характера. Игорь отмечал их тоже бессознательно, и даже самому себе не говорил утвердительно, что черты эти – именно от колонии, но это были те черты, которые он нигде не наблюдал, которые вызывали у него симпатию и возбуждали желание сопротивляться.
Не было никаких сомнений, что вся эта публика, заседающая в столовой, составляет одну семью, очень дружную, сбитую – и гордую своей собранностью. Особенно нравилось Игорю, что за четыре дня ему не пришлось наблюдать не только драк или ссор, но даже сколько-нибудь заметной размолвки, озлобленного или вздорного тона. Сначала Игорь объяснил это тем, что все боялись Захарова или бригадиров. Может быть, и боялись, но почему-то этой боязни не было видно. Правда, дежурные бригадиры и бригадиры в спальнях давали распоряжения, не оглядываясь, не сомневаясь в исполнении, тоном настоящих начальников, видно было, что они привыкли это делать, как будто годами командовали в колонии. Но Санчо рассказывал Игорю, что большинство бригадиров все новые, что Нестеренко и Зырянский занимают свои посты более полугода. Кроме того, Игорь заметил, что не только бригадиры, но и все остальные, обладающие какой-то крупинкой власти только на один день, распоряжаются этой властью с уверенностью, без осторожной оглядки, а колонисты принимают эту власть как вполне естественное и необходимое явление. Так держались и ДЧСК, и дежурные по столовой и по бригадам, и часовые у парадного входа.
Часовыми обыкновенно стояли малыши, те самые малыши, которые с визгом гоняли по парку, кувыркались в пруду, перекидывались на аппаратах в физкультурном городке. У них были разные лица и разные походки, разные голоса и повадки, были между ними и «вредные» пацаны, зубоскалы и насмешники, выдумщики и фантазеры, у многих бродили в голове всякие ветры. Но как только такой пацан брал в руки винтовку, он сразу становился похожим на Петьку Кравчука, встретившего Игоря в день его прибытия. Как Петька, они становились серьезны, подтянуты, старались говорить басом и были ослепительны и официальны. Обязанности были несложные: не впускаит в здание посторонних и следить, чтобы все вытирали ноги. Никаких пропусков ни для взрослых, ни для колонистов в колонии не было, часовые просто на глаз хорошо знали, кого можно пропустить, а кого нельзя. А что касается вытирания ног, то в этом вопросе они все были одинаково беспристрастны и неумолимы. Игорь сам видел вчера, как такой малыш остановил Виктора Торского, пролетевшего со двора с предельной спешностью:
– Витя, ноги!
– Да спешу очень, Шурка!
Но Шурка отвернулся и даже не повторил приказания. И Виктор Торский, глава всей этой республики, только с секунду подумал и с половины лестницы возвратился к тряпке вытирать ноги, а Шурка еще и следил, как он вытирает.
Здесь, в колонии, была единая, крепко склеенная компания, а чем она склеена, разобрать было трудно. Иногда у Игоря возникало странное впечатление, как будто все они – и те, кто постарше, и пацаны, и девочки – где-то, по секрету, очень тайно договорились о правилах игры и сейчас играют честно, соблюдая эти правила и гордясь ими, гордясь тем больше, чем правила эти труднее. Иногда Игорю казалось, что и эти правила, и вся эта игра придуманы нарочно, чтобы посмеяться, пошутить над Игорем, посмотреть, как он будет играть, не зная правил. И досадно было, что вся игра проходила с таким видом, как будто никакой игры нет, как будто так и полагается и иначе быть не может, как будто везде нужно встречать дежурного бригадира салютом, везде нужно называть заброшенный кусок двора сборочным цехом и чистить в нем бесчисленное количество проножек.
И поэтому, при всей своей симпатии к этому веселому и гордому обществу, Игорь не хотел сдаваться. Он допустил, что легко дело не пройдет, что все эти добродушно-бодрые пацаны и девчата только вид такой делают, как будто никакого Игоря не существует, как будто присутствие в столовой одного лодыря и дармоеда среди такой массы трудящихся никого не раздражает. Игорь понимал, что должен наступить момент, когда они все на него набросятся и захотят заставить работать. Очень интересно, как они это сделают. Силой – не имеют права. Голодом? Тоже не имеют права. Оставят жить в колонии и позволят не работать? Едва ли. Выгонят? Им, конечно, не хочется выгонять. Посмотрим.
Игорь завтракал и любовался колонистами. Они тоже завтракали, все в школьных костюмах, свежие, чистые, разговаривали друг с другом, негромко смеялись, иногда гримасничали. Поглядывали на сегодняшнего симпатичного дежурного бригадира Лиду Таликову, проходившую между столами.
Вот она остановилась у соседнего стола. Смуглый, игривый мальчик поднял на нее глаза. Она спросила у него:
– Филька, ты зачем книги притащил в столовую?
Он встал за столом, ответил:
– Так, очень нужно, я хотел правило повторить.
– Тебе лень после завтрака подняться в спальню за книгами?
Филька ничего не ответил, отвернулся, и выражение у него было такое: говорить она будет недолго, потерплю.
– Что это за манера отворачиваться?
Филька обиделся:
– Никакая вовсе манера, а что ж я буду говорить?
– Чтобы этого больше не было. Нельзя учебники носить в столовую. И отворачиваться нечего.
Филька облегченно вздохнул, поднял руку:
– Есть, книг не носить.
Когда Лида удалилась, все четыре стриженые головы сблизились, пошептали, потом одна оглянулась на Лиду, снова пошептали. Лида подошла к Игорю, они обернулись тоже к Игорю.
– Чернявин, ты сегодня выходишь на работу?
Игорь открыл рот. Гонтарь сказал строго:
– Встань.
Игорь поднялся.
– Не выхожу.
– У нас не хватает рабочих рук, ты об этом знаешь?
– Я не собираюсь быть столяром.
Лида пояснила ему ласково:
– А если на нас нападут враги, ты скажешь, я не собираюсь быть военным?
– Враги, это другое дело.
И тот самый Филька, который только что отвечал перед дежурной, сказал своему столу, но сказал очень громко, на всю столовую:
– Это другое дело! Он тогда под кровать залезет.
Лида строго посмотрела на Фильку. Он улыбнулся ей проказливо и радостно, как сестре.
– Значит, не выйдешь?
– Нет.
Лида что-то записала в блокнот и отошла.
После обеда Игорь читал книгу: нашел в тумбочке Санчо «Партизаны». В спальню вошел Бегунок, вытянулся у дверей.
– Товарищ Чернявин! ССК передал: в пять часов вечера совет бригадиров. Чтобы ты пришел. Отдуваться тебе.
– Хорошо.
– Придешь или приводить надо?
Володя спросил серьезно, даже губами что-то проделывал от серьезности при слове «приводить».
– Приду.
– Ну смотри, в пять часов быть в совете.
Помолчали.
– Чего же ты не отвечаешь?
Игорь глянул на его серьезную, требовательную мордочку, вскочил, сказал со смехом:
– Есть, в пять часов быть в совете!
– То-то же! – строго сказал Володя и удалился.
28 После дождя
В четыре часа прошла гроза. По лесу била аккуратно, весело, как будто договор выполняла, колонию обходила ударами, поливала крупным, густым, сильным дождем. Пацаны в одних трусиках бегали под дождем и что-то кричали друг другу. Потом гроза ушла на город, над колонией остались домашние хозяйственные тучки и тихонько сеяли теплым дождиком. Пацаны измокли и побежали переодеваться. Более солидные люди, переждав ливень, быстро на носках перебегали от здания к зданию. У парадного входа, с винтовкой, аккуратненькая, розовая Люба Ротштейн стоит над целой территорией сухих мешков, разостланных на полу, и сегодня пристает к каждому без разбора:
– Ноги!
– Богатов, ноги!
– Беленький, не забывай!
К пацанам, принявшим холодный душ, она относится с нескрываемым осуждением:
– Все равно не пущу.
– Да я вытер ноги, Люба!
– Все равно с тебя течет.
– Так что же мне, высыхать?
– Высыхай.
– Так это долго.
Но Люба не отвечает и сердито поглядывает в сторону. Пацан кричит кому-то в окно на втором этаже, тому, кого не видно и, может быть, даже в комнате нет, кричит долго,
– Колька! Колька! Колька!
Наконец кто-то выглядывает:
– Чего тебе?
– Полотенце брось.
Через минуту натертый докрасна пацан улыбается подобревшей Любе и пробегает в вестибюль.
В пять часов Володя проиграл «сбор бригадиров», посмотрел на дождик и ушел в здание.
К парадному входу прибрел совершенно промокший, без шапки, в истоптанных ботинках, похудевший и побледневший Ваня Гальченко. Он остановился против входа и осторожно посмотрел на великолепную Любу.
– Ты откуда, мальчик?
– Я. Я пришел сюда…
– Вижу, что ты пришел, а не приехал. А кого тебе нужно?
– Мне очень нужно. Меня примут в колонию?
– Скорый ты какой. У тебя есть ордер?
– Какой ордер?
– Бумажка какая-нибудь есть?
– Бумажки нету.
– А как же? По чему тебя принимать?
– Очень нужно!
Ваня развел руками и пристально посмотрел на Любу. Люба улыбнулась.
– Чего ты на дожде мокнешь? Стань сюда… Только тебя не примут.
Ваня очень грустный вошел в вестибюль. Стал на мешках, засмотрелся на дождь. По щекам его пробежало несколько слезинок. Глянул на Любу, быстро рукавом вытер слезы.
В этот самый момент Игорь Чернявин стоял на середине в комнате совета бригадиров и «отдувался». Народу в комнате было много. На бесконечном диване сидели не только бригадиры, сидели еще и другие колонисты, всего человек сорок. Из восьмой бригады, кроме Нестеренко, были здесь Зорин, Гонтарь, Остапчин. Рядом с Зориным сидел большеглазый, черноволосый Марк Грингауз, секретарь комсомольской ячейки, и печально улыбался, может быть, думал о чем-то своем, а может быть, об Игоре Чернявине – разобрать было трудно. За столом ССК сидели Виктор Торский и Алексей Степанович. В дверях стояли пацаны и впереди всех Володя Бегунок. Все внимательно слушали Игоря, а Игорь говорил:
– Разве я не хочу работать? Я в сборочном цехе не хочу работать. Это, понимаете, мне не подходит. Чистить проножки, какой же смысл?
Он замолчал, внимательно провел взглядом по лицам сидящих. На лицах выражалось нетерпение и досада, это Игорю понравилось. Он улыбнулся и посмотрел на заведующего. Лицо Захарова ничего не выражало. Над большой пепельницей он осторожно и пристально маленьким ножиком чинил карандаш.
– Дай слово, – сказал Гонтарь.
Виктор кивнул. Гонтарь встал, вытянул вперед правую руку:
– Черт его знает! Сколько их таких еще будет? Я живу в колонии пятый год, а их, таких барчуков, стояло в этой самой комнате человек, наверное, тридцать.
– Больше, – поправил кто-то.
– И каждый торочит одно и то же. Аж надоело. Он не собирается быть сборщиком. А что он умеет делать, спросите? Жрать и спать, больше ничего. Придет сюда, его, конечно, вымоют, а он станет на середину и сейчас же: я не буду сборщиком. А кем он будет? Угадайте, чем он будет. Дармоедом будет, так и видно. Я понимаю, один такой пришел, другой, третий. А то сколько! А мы уговариваем и уговариваем. А я предлагаю: содрать с него одежду, выдать его барахло, иди! Одного выставим, все будут знать.
Зырянский крикнул:
– Правильно!
Виктор остановил[172]:
– Не перебивай. Возьмешь потом слово.
– Да никакого слова я не хочу. Стоит он того, чтобы еще слово брать? Он не хочет быть столяром, а мы все столяры? Почему мы должны его кормить, почему? Выставить, показать дорогу.
– Его нельзя выставить, пропадет, – спокойно сказал Нестеренко.
– И хорошо. И пускай пропадает.
В совете загудели сочувственно. Высокий, полудетский голос выделился:
– Прекратить разговоры и голосовать.
Игорь навел четкое ухо, надеялся услышать что-либо более к себе расположенное. Захаров все чинил свой карандаш. В голове Игоря промелькнуло: «А, пожалуй, выгонят». И стало вдруг непривычно тревожно.
На парадном входе Люба спросила грустного Ваню Гальченко:
– Ты где живешь?
– Я нигде не живу.
– Как это «нигде»? Вообще ты живешь или умер?
– Вообще? Вообще живу, а так нет.
– А ночуешь где?
– Вообще, да?
– Что у тебя за глупый разговор? Где ты сегодня спал?
– Ах, сегодня? Там… в одном доме… в сарае спал. А почему меня не примут?
– У нас мест нет, а мы тебя не знаем.
Ваня снова загрустил, и снова ему захотелось плакать.
29 Все, что хотите…
В совете бригадиров речь говорил Марк Грингауз. Он стоял не у своего места на диване, а подошел к письменному столику, опирался на него рукой. Захаров уже очинил карандаш и на листке бумаги что-то тщательно вырисовывал. Марк говорил медленно, тихо, каждое слово у него имело значение:
– Сколько раз уже здесь говорилось, и Алексей Степанович тоже подчеркивал, – как это так выгнать? Куда выгнать? На улицу? Разве мы имеем право? Мы не имеем такого права!
Марк большими черными глазами с мягкой грустью посмотрел на Зырянского. Зырянский ответил ему задорным взглядом, понимающим всю меру доброты оратора и отрицающим ее.
– Да, Алеша, не имеем права. Есть советский закон, а закону мы обязаны подчиняться. А закон говорит: выгонять на улицу нельзя. А вы, товарищи бригадиры, всегда кричите: выгнать!
– Выгонять нельзя, – Грингауз нажал голосом и головой, – а, конечно, мы не можем терпеть, потому что у нас социалистический сектор, а в социалистическом секторе все должны работать. Игорь говорит: буду работать в другом месте. Тоже допустить не можем: в социалистическом секторе должна быть дисциплина. Обойди у нас всю колонию, хоть одного найдешь, который сказал бы, хочу быть сборщиком? Все учатся, все понимают: дорог у нас много и дороги прекрасные. Тот хочет быть летчиком, тот геологом, тот военным, а сборщиком никто не собирается, и даже такой квалификации вообще нет. Никаких капризов колония допустить не может, а только и выгонять нельзя.
– В банку со спиртом… посадить!
Марк оглянулся на голос. Смотрел на него, покраснев до самого вихревого своего чубчика, Петька Кравчук. Покраснел, а все-таки смотрел в глаза, очень был недоволен речью Грингауза.
Витя Торский прикрикнул на Петьку:
– Ты чего перебиваешь? Залез сюда, так сиди тихо.
Марк, продолжая смотреть все-таки на Петьку, пояснил:
– Выгонять нельзя, но и оставлять его я не предлагаю. Если он не хочет подчиниться социалистической дисциплине, нужно его отправить.
Нестеренко добродушно смотрел мимо Марка:
– В какой же сектор ты его отправишь, Марк?
Громко засмеялись и бригадиры, и гости. Захаров поднял на Марка любовно-иронический взгляд.
Марк улыбнулся печально:
– Его нужно отправить куда-нибудь… в детский дом…
Петька Кравчук в этот момент испытал буйный прилив восторга.
Он высоко подскочил на диване, кого-то свалил в сторону и заорал очень громко, причем обнаружилось, что у него вовсе нет никакого баса:
– Я приветствую, я приветствую! Отправить его в наш детский сад… в этот детский сад, где пацаны… который для служащих!
Виктор Торский и сам хохотал вместе со всеми, но потом нахмурил брови:
– Петька, выходи!
– Почему?
– Выходи!
Салют, который отдал Петька, больше был похож на жест возмущения:
– Есть!
Петька покраснел и вышел. За ним выскочил Бегунок. Слышно было, как в коридоре они звонко заговорили и засмеялись. Захаров что-то рисовал на своей бумажке, глаза еле заметно щурились. Володя Бегунок выскочил на крыльцо и сразу увидел Ваню Гальченко.
– Ты пришел?
Ваня обрадовался:
– Пришел, а как дальше-то?
– Стой! Я сейчас!
Он бросился в вестибюль и немедленно возвратился:
– Ты есть хочешь?
– Есть. Ты знаешь… лучше… если бы меня приняли.
– Подожди, я сейчас.
Володя осторожно вдвинулся в комнату совета бригадиров. Игорь по-прежнему стоял на середине, и видно было, что стоять ему уже стыдно, стыдно оглядываться на присутствующих, стыдно выслушивать предложения, подобные Петькиному. И Виктору Торскому стало жаль Игоря.
– Ты присядь пока. Подвиньтесь там, ребята. Слово Воленко.
Бегунок поднял руку:
– Витя, разреши выйти дежурному бригадиру.
– Зачем?
– Очень нужно! Очень!
– Лида, выйди. В чет там дело?
Лида Таликова направилась к выходу, Володя выскочил раньше нее.
Воленко встал, был серьезен, его рот по-прежнему показывал склонность к осуждению, но в самом голосе звучала у него симпатичная дружеская ласковость.
– У Зырянского всегда так: чуть что, выгнать. Если бы его слушаться, так в колонии один бы Зырянский остался.
– Нет, почему? – сказал Зырянский. – Много есть хороших товарищей.
– Так что? Они сразу стали хорошими, что ли? Куда ты его выгонишь? Или отправишь? Это наше несчастье. Присылают к нам белоручек, а мы обязаны с ними возиться. Кто у вас шефом у Чернявина?
– Зорин.
– Так вот пускай Зорин и отвечает.
Многие недовольно загудели. Санчо вскочил с места.
– Ты добрый, Воленко! Вот возьми его в первую бригаду и возись!
Воленко снисходительно глянул на Зорина:
– Не по-товарищески говоришь, Санчо. У вас и так в восьмой бригаде собрались одни философы, а у меня посчитайте: Левитин, Ножик, Московиченко, этот самый Руслан. У меня четыре воспитанника, а вы сразу закричали – выгнать.
Игорь теперь сидел между Нестеренко и изящным, тонким бригадиром второй Поршневым. Ему и теплее становилось от защитных слов Воленко, и в то же время разыгрывалась неприятная внутренняя досада – что это они его рассматривают, как букашку. Залезла к ним в огород букашка, и они смотрят на нее, будет из нее толк или не будет. Вспоминают каких-то других букашек. Никто не хочет обратить внимание, что перед ними сидит Игорь Чернявин, а не какой-нибудь Ножик или Руслан, которые все-таки не решились отказаться от работы.
У главного входа Лида Таликова смотрит на Ваню, мягко и нежно сочувствует ему, но у нее сегодня душа дежурного бригадира, и эта душа заставляет ее говорить:
– Принять в колонию? А кто тебя знает? Может, ты все врешь.
Ваня из последних сил старался рассказать этой важной и милой девушке что-то особенное, но слова находились все одни и те же:
– Ничего нету… и денег нету… и ночевать негде. Я был в комонесе и был в споне… там тоже… ничего нету. Нету – и все!
– А родители?
– Родители? – Ваня вдруг заплакал. Плачет он беззвучно и не морщится при этом, просто из глаз льются слезы.
Володя дернул Лиду за рукав, сказал горячо:
– Лида! Ты понимаешь? Надо его принять!
Лида улыбнулась пылающим очам Бегунка:
– Ну!
– Честное слово! Ты подумай!
– Подожди здесь, – Лида быстро ушла в дом.
Бегунок поспешил за ней, но успел еще сказать:
– Ты не робей! Самое главное, не робей! Держи хвост трубой, понимаешь?
Ваня доверчиво кивнул. Собственно говоря, это он понимал, но хвост у него тоже отказывался держаться трубой.
В совете бригадиров говорил Алексей Степанович. По-прежнему в руках у него остро очиненный карандаш. Говорил сурово, иногда поднимая взгляд на Игоря:
– Нельзя, Чернявин, в таких легких вопросах не разбираться. Ты пришел к нам, и мы тебе рады. Ты член нашей семьи. Ты не можешь теперь думать только о себе, ты должен думать и обо всех нас, обо всей колонии. В одиночку человек жить не может. Ты должен любить свой коллектив, познакомиться с ним, узнать его интересы, дорожить ими. Без этого не может быть настоящего человека. Конечно, тебе не нужно сейчас чистить проножки. Но это нужно для колонии, а значит, и для тебя нужно. Кроме того, и для тебя это важное дело. Попробуй выполнить норму: зачистить 160 проножек за четыре часа. Это большой труд, он требует воли, терпения, настойчивости, он требует благородства души. К вечеру у тебя будут болеть и руки и плечи, зато ты зачистить 160 проножек на 120 театральных мест. Это важное советское дело. Раньше наш народ только в столицах ходил в театр, а сейчас мы выпускаем в месяц тысячу мест, и все не хватает, а разве мы одни делаем? Какое мы важное дело делаем! Каждый месяц по всему Союзу мы ставим тысячу мест. Мы отправляем наши кресла целыми вагонами в Москву, в Одессу, в Астрахань, в Воронеж. Приходят люди, садятся в эти кресла, смотрят пьесу или фильм, слушают лекцию, учатся. А ты говоришь, тебе это не нужно. Нам же за эту работу еще и деньги платят. За эти деньги через год или два мы построим новый завод, тоже необходимый и для нас, и для всей страны. Тебя здесь противно слушать: «Я не собираюсь быть сборщиком». С нашей помощью, как член нашего коллектива, ты будешь тем, чем ты захочешь. В одиночку ты можешь быть только врагом советского общества. А проножка – это мелочь. Когда у людей нет мяса, они едят ржаной хлеб и должны быть благодарны этому хлебу.
Игорь слушал внимательно. Ему нравилось, как говорил Захаров, в каждом его слове говорила душа, душа простая, мужественная и суровая… Игорь представлял себе всю страну, по которой разбросаны проножки, это ему тоже нравилось. Игорь видел, как, затаив дыхание, слушали колонисты, которым, очевидно, не часто приходилось слышать речи Захарова. И сейчас было ясно видно, почему все колонисты составляют один коллектив, почему слово Захарова для них дорого.
В дверях стояли Лида и Бегунок. Захаров кончил говорить, посмотрел на кончик своего карандаша – и только теперь улыбнулся.
– Лида, чем ты так встревожена?
– Алексей Степанович! Мальчик там плачет, просится в колонию.
– Можно оставить переночевать, а в колонию некуда. Отправим куда-нибудь.
– Хороший такой мальчик.
Захаров еще раз улыбнулся волнению Лиды и крякнул:
– Эх! Ну… давай сюда его.
Лида вышла, Володя вылетел вихрем. Виктор Торский вкось повел строгим всевидящим глазом:
– Говори, Чернявин, последнее слово. Только не говори глупостей. Выходи на середину и говори.
Игорь вышел, приложил руку к груди:
– Товарищи!
Он глянул на лица. Ничего не понятно, просто ждут.
– Товарищи! Я не лентяй. Вы привыкли, вам легче. А тут рашпиль, первый раз вижу, он падает, проножки…
Зорин подсказал дальше:
– Мухи!
Все засмеялись, но как-то нехотя.
– Не мухи, а какие-то звери летают…
Зорин закончил:
– И рычат.
Под общий смех, но уже не такой прохладный, открылась дверь, и Лида пропустила вперед Ваню Гальченко. И все еще продолжая смеяться, взглянул на него Игорь. Оглянулся и вдруг, вытаращив глаза, совсем по другому, чем говорил все время, закричал горячо и радостно:
– Да это же Ванюша! Друг!
– Игорь! – со стоном сказал Ваня и точно захлебнулся.
Игорь уже тормошил его:
– Где ты пропал?
Виктор загремел возмущенно:
– Чернявин, к порядку! Забыл, что ли?
Игорь повернул к нему лицо, все вспомнил и с разгона, протягивая руки, обратился к совету:
– Ах, да! Милорды!
Он сказал это слово так горячо, с такой душевной тревогой, с такой любовью, что все не выдержали, снова засмеялись, но глаза сейчас смотрели на Игоря с живым и теплым интересом, и не было уже в них ни капельки отчужденности.
– Товарищи! Все, что хотите! Проножки? Хорошо! Алексей Степанович! Берите меня с потрохами, со всем, делайте что хотите! Только примите этого пацана!
– А мухи?
– Черт с ними! Пожалуйста!
Виктор кивнул на старое место:
– Сядь пока, посиди.
30 Славная, непобедимая, четвертая бригада
Виктор спросил:
– Тебе что нужно?
Ваня серьезными, большими, серыми глазами осмотрел всех, и ему все сразу понравилось, но такой знакомой и родной была длинная улыбка Игоря, так тепло ощущалось соседство Володи Бегунка и девушки в красной повязке, что Ваня не затруднился с ответом:
– Чего мне нужно? Я, знаете, что? Я буду здесь жить.
– Это еще посмотрим, будешь или нет.
Но Ваня был уверен в своем будущем:
– Нет, я буду здесь жить. Понимаете, я уже целый месяц все сюда иду и иду.
– Ты беспризорный?
– Нет… я еще не был беспризорным.
– Как тебя зовут?
– Ваня Гальченко.
– Родители у тебя есть?
Ваня на этот вопрос не ответил, а только головой завертел, не отрываясь от Виктора взглядом.
– Нету, значит, родителей?
– Они… они были, только взяли и уехали.
– Отец и мать? Уехали?
– Нет, не отец и мать.
– Разбери себя. Рассказывай по порядку.
– По порядку? Отец и мать умерли, давно, когда еще была война, тогда отец пошел на войну, а мать умерла.
– Значит, родители умерли?
– Одни умерли, а потом были другие. Там… дядя был такой, и он меня взял, и я жил, а потом он женился, и они уехали.
– Бросили тебя?
– Нет, не бросили. А сказали: пойди на станцию, купи один фунт баранины. Я пошел и все ходил, а баранины нигде нету. А они взяли и уехали.
– Ты пришел домой, а их нет?
– Нет. Ничего нет. И родителей нету, и вещей нету. Ничего нету. А там жил хозяин такой, так он сказал: ищи ветра в поле.
– А потом?
– А потом я сделал ящик и ботинки чистил. И поехал в город.
– Та-ак, – протянул Виктор. – Как скажете, товарищи бригадиры?
Сказал Нестеренко:
– Пацан добрый, да и куда же ему деваться? Надо принять.
Кто-то несмело:
– Но у нас же мест нет?
Володя стоял у дверей:
– Вот я скажу, Торский!
– Говори.
– Мы с ним вместе будем. Вместе! На одной кровати.
Зырянский перед этим долго рассматривал Ваню, а теперь одобрительно притянул его к себе:
– Правильно, Володька, давайте его в четвертую бригаду.
Игорь встал:
– А я прошу, если можно, в восьмую. Я тоже могу уступить пятьдесят процентов жилплощади.
Володя обиженно закивал на Игоря головой:
– Смотри ты какой! Ты еще сам новенький! В восьмую! А твой бригадир молчит! А ты за бригадира?
Виктор на Володьку прикрикнул:
– Володька, это что за разговоры!
Володя отошел к дверям, но на Игоря смотрел сердитым, темным глазом, и полные губы его шевелились, продолжая что-то шептать, видно, по адресу Игоря.
Из бригадиров коротко высказывалось несколько человек, каждый не больше, как в десяти словах:
– Пока еще не разбаловался, нужно взять.
– Мальчишка правильный, сразу видно. Берем.
– Это хорошо. Он еще не познакомился с разными там тетями, так из него человек будет. А нам отгонять его от колонии, рука ни у кого не повернется.
Клава Каширина недовольно сказала:
– И чего вы все одно и то же? Конечно, нужно принять, а только пускай Алексей Степанович скажет, как там по правилам выходит.
Ее поддержали, обернулись к Захарову, но Володя Бегунок предупредил слово заведующего:
– Вот постойте! Вот постойте! Вот я расскажу. Алексей Степанович, помните, в прошлом году пришел такой пацан, да этот, как же, Синичка Гришка, он у тебя в десятой бригаде, Илюша. А его тогда не хотели принимать. Сказали: места нету и закона такого нету. И не приняли. А он две недели в лесу жил. И опять пришел. И опять его не приняли. Сказали: почему такое нахальство, его не принимают, а он в лесу живет. И взяли его и повезли в город, в спон, еще ты возил, помнишь, Нестеренко?
– Возил, – Нестеренко улыбнулся и покраснел.
– Возил, а он от тебя из трамвая убежал. Помнишь, Нестеренко?
– Да отстань, помню.
– Убежал и начал опять в лесу жить. А потом вы, Алексей Степанович, взяли и сказали: черт с ним, давайте его возьмем. И еще тогда все смеялись.
И видно было, что тогда все смеялись, потому что и теперь по лицам заходили улыбки. А только нашелся голос и против Володькиной сентенции. Голос принадлежал бригадиру третьей, некрасивому, сумрачному Брацану:
– Много у нас воли дали таким, как Володька. Он трубач, с дежурством шляется целый день, так теперь уже и речи стал говорить на совете бригадиров. По-твоему, всех принимать? Ты знаешь, какая у нас колония?
– Знаю… Правонарушительская?
– Такая она и есть.
– И вовсе ничего подобного.
Виктор прекратил прения:
– Довольно вам!
Но Воленко считал, что вопрос поднят важный:
– Нет, Виктор, почему довольно? Брацану нужно ответить.
– Ты ответишь?
– Надо ответить. Брацан давно загибает.
– Чего загибаю?
– Говори, Воленко.
– И скажу. Ты, Брацан, так считаешь: правонарушитель – человек, а все остальные – шпана. Я не знаю, кто ты такой, правонарушитель или нет, и знать не хочу. Я знаю, что ты хороший товарищ и комсомолец. Ты что? Гордишься, что под судом был? В твоей бригаде Голотовский не был под судом, а я Голотовскому все равно не верю. И вы ему не верите: скоро год, как в третьей бригаде, а до сих пор не колонист.
Воленко кончил речь, но, видно, Брацана не убедил. Брацан, по-прежнему сердитый, сидел на своем месте.
– Слово Алексею Степановичу.
– Ты, Филипп, нехорошо сделал, напрасно этот вопрос зацепил. Правонарушители – это дети, которым прежде всего нужна помощь. Советская власть так на них и смотрит. И правонарушителям этим гордиться нечем, разве можно гордиться несчастьем! И вот пришел мальчик. У него тоже несчастье, и ему тоже нужно помочь.
– А почему нашу колонию приспособили?
– Потому что вы в колонии прекрасно работаете и прекрасно живете. Теперь в споне кричат: «Это наша колония!» И в комонесе кричат: «Это наша колония!» А если бы наша колония была плохая, так кричали бы на другое: «Это ваша колония!» А на самом деле эта колония…
Петька Кравчук, стоящий возле дверей, закричал:
– Наша!!
Покрывая общий смех, Виктор возмутился:
– Ну что ты скажешь! Он опять здесь! Вопрос выяснен. Голосую: кто за то, чтобы принять Ваню Гальченко в четвертую бригаду?
Душа у Вани Гальченко счастливо замерла, когда поднялись руки. Только один его глаз покосился на Брацана, и поразился: Брацан улыбался ему, и лицо у него было красивое и вовсе не сумрачное.
– Единогласно. Алешка, бери его. Стойте, чего загалдели? С Чернявиным, значит, остается по-старому – сборочный цех. А кроме того, он слово дал. Закрываю совет бригадиров.
Вечером в спальне четвертой бригады было весело. Алеша Зырянский поставил Ваню между коленями, расспрашивал, шутил, пугал. Потом все уселись за стол и выслушали рассказ Алеши о том, какая славная, непобедимая, боевая существует на свете четвертая бригада трудовой колонии имени Первого мая и какие в ней замечательные пацаны! Этот самый Алеша Зырянский, которого боялась вся колония, в дежурство которого все вставали на полчаса раньше, чтобы лучше приготовиться к поверке, сейчас сверкал глазами, с трудом сдерживал улыбку и откровенно рассыпал восторженные слова о четвертой бригаде.
– Не бригада, а просто пирожное! А пацаны у нас какие, Ванька! Ой, и пацаны ж, не знаю даже, кто лучше, даром что у нас самые малые собрались. На кого ни посмотри: вот тебе Тоська Таликов, ты на него только глянь: вот будет бригадир, да у него уже и сейчас сестра бригадиром одиннадцатой. А Бегунок! А Филька Шарий! А Кирюшка Новак! А Федька и Колька Ивановы! И Семен Гайдовский, и Семен Гладун! И еще Петька Кравчук!
– Петька Кравчук? – закричал Ваня.
– Знаешь?
– Я брата твоего видел… на станции.
– У него и брат замечательный, красноармеец! Да ты посмотри, какие богатыри!
На Ваню смотрели разные лица: то смуглые, то румяные, то красивые, то не очень красивые, то открыто доверчивые, то доверчивые с иронией, то веселые, то забавно-серьезные, то нахмуренные просто, то нахмуренные через силу, но все одинаково счастливые, гордые своей бригадой и бригадиром, довольные, что живут они на советском свете с честью и умеют за эту честь постоять. Потом Алеша сказал, что он будет перечислять недостатки. Алеша заявил, что он скажет только по одному недостатку на каждого, но зато этот недостаток очень важный. И сказал, что Володька важничает, Петька Кравчук задается, что он там где-то был дезорганизатором, Кирюшка думает, что он самый красивый, Гайдовский думает… одним словом, недостатки у всех были одинаковые: все воображали, думали и задавались. Алеша закончил:
– Никогда не нужно себя хвалить, потому что это очень глупо и для четвертой бригады не подходит. Лучше я вас похвалю, когда придется к слову. Дежурный по бригаде!
Володя выскочил из-за стола и вытянулся перед бригадиром:
– Есть, дежурный по бригаде!
– Барахло Ванюшино!
– Есть, Ванькино барахло!
Володя торжественно поднес:
– Получи, Гальченко! Вот трусики, голошейка, тюбетейка. А это мыло. А это пояс. А это простыни, а это полотенце. А школьный костюм завтра. Идем! Там душ горячий. А кто будет Ванькиным шефом?
– Ты и буешь шефом.
– Есть! Алеша, дай машинку, мы его сейчас… – Володя показал пальцами.
В дверь заглянул Игорь Чернявин.
– К вам в гости можно?
– Можно.
– Хоть ты меня и собирался выгнать, я на тебя не обижаюсь.
– У нас нет такой моды – обижаться.
Ваня воззрился на Игоря:
– Выгнать? Не может быть?[173]
– Он большой барин. А может, наследство от кого получил.
Ваня захохотал:
– От бабушки? Да?
Игорь поднял Ваню на руках:
– Смотри, Ваня! А скажи, где твой ящик?
Он поставил его на пол.
– А тот украл… Рыжиков. И десять рублей.
– А Ванда?
– Не знаю.
Володя нетерпеливо дернул Ваню за рукав.
– Идем!
Мальчики побежали по коридору. Зырянский улыбнулся Игорю:
– Не обижайся, Игорь. Это называется: горячая обработка металлов.
Часть вторая
1 Не может быть![174]
Колония им. Первого мая заканчивала седьмой год своего существования, но коллектив, собравшийся в ней, был гораздо старше. Его история начиналась довольно давно, на второй день после Октября, в другом месте, в совершенно ином антураже, среди полей и хуторов старой полтавской степи. «Основателями» этого коллектива были люди ярких характеров и рискованной удачи. Они принесли с собой «с воли» много беспорядочной страсти и горячего фасона, все это было у них черномазое… собственно говоря, негодное к употреблению, ибо было испорчено орнаментами культуры, так сказать, капиталистической, с маленьким креном в уголовщину.
Небольшая группа педагогов, людей обыкновенных и добродушных, по случайной раскладке заняла этот скромный участок революционного фронта. Во главе группы был Захаров, человек тоже обыкновенный. Необыкновенным и ошеломляющим в этом зачине было одно: Октябрьская революция и новые горизонты мира. И поэтому Захарову и его друзьям задача казалась ясной: воспитать нового человека! В первые же дни выяснилось, что дело это очень трудное и длинное. Тысячи дней и ночей – без передышки, без успокоения, без радости – пришлось пережить Захарову, но и после этого до нового человека оставалось еще очень далеко. К счастью, Захаров обладал талантом, довольно распространенным на восточной равнине Европы, – талантом оптимизма, прекрасного порыва в будущее. В сущности, это даже и не талант. Это особое, чисто интеллектуальное богатство русского человека, человека со здоровой башкой и зорким глазом, умеющего различать ценности. До Октябрьской революции этим богатством души и веры спекулировали хозяева жизни, обращая веру в доверчивость, а оптимизм в беззаботность, расценивая эти качества как особые атрибуты замечательного «русского» прекраснодушия. И народная вера в разум, в цену ценностей, в истину и правду, в общем, была выведена за границы практической жизни, в область легенд, сказаний и анекдотов, приноровленных для развлечения. Оптимистической силе русского народа потом приделали тульской работы ярлычок и написали на нем с самоуничижительным юмором: «Авось, небось и как-нибудь». И осталось для оптимизма прилично нищенское место, над которым можно было и посмеяться с европейским высокомерием, и поплакать с русской тоской.
В порядке не то высокомерия, не то тоски поставили на этом самом месте беломраморный дворянский памятник и написали на нем вдохновенные слова поэта[175]:
Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исходил, благословляя.Это и все, что осталось от великолепного русского оптимизма к началу двадцатого века: наивность и умиление. Ибо только безгранично наивный человек не мог понять, что светит в смиренной наготе. Люди более практические ухмылялись в бороды: русский человек ограблен был весьма успешно, а по оптимизму своему даже и не обижался. И только в 1917 г. неожиданное обнаружилось, что народный оптимизм есть нечто гораздо более сильное и гораздо менее безобидное. Без всякого расчета на «авось» и «как-нибудь», чрезвычайно основательно, с настоящей деловитостью, русский народ выгнал старомодных эстетов «за Черное море», и очистилось место для новой эстетики и для нового оптимизма. Вероятно, в Западной Европе и до сих пор еще не могут понять, откуда у нас взялись простота и уверенность действия? Советский человек показал себя не только в пафосе загоревшихся глаз, не только в усилии волевого взрыва, но и в терпеливых ежедневных напряжениях, в той черной, невидной работе, когда будущее начинает просвечивать в самых неуловимых и тонких явлениях, настолько нежных, что заметить их может только тот, кто стоит у их источника, кто не отходит от них ни помышлением, ни физически. После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и срывов, отчаяния и слабости наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки, пролеты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На таком празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что иначе и быть не могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на ощущении действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая уверенность, а оптимизмом она называлась из застенчивости.
И Захаров прошел такой тяжелый путь – путь оптимиста. Новое рождалось в густом экстракте старого: старых бедствий, зависти, озлобления – толкотни и тесноты человеческой и еще более опасных вещей: старой воли, старых привычек и старых образцов счастья. Старого обнаружилось очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под руки и под ноги, говорило речи и сочиняло законы воспитания. Старое умело даже писать статьи, в которых становилось на защиту советской педагогики.
Было время, когда это старое в самых новых выражениях куражилось и издевалось над работой Захарова и тут же требовало от него чудес и подвижничества. Старое ставило перед ним сказочно глупые загадки, формулируя их в научно-нежных словах, а когда он совсем не по-сказочному изнемогал, старое показывало на него пальцами и кричало:
– Он потерпел неудачу!
Но пока происходили все эти недоразумения, протекали годы. Было уже много нового, над чем хорошо следовало задуматься. Со всех сторон, от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского человека приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители.
Да, все пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и сотни мальчиков и девочек вовсе не были дикими зверенышами, не были они и биологическими индивидами. Захаров теперь знал их силы и поэтому мог без страха стоять перед ними с большим политическим требованием:
– Будьте настоящими людьми!
Они с молодым, благородным талантом принимали эти требования и хорошо знали, что в этом требовании больше уважения и доверия к ним, чем в любом «педагогическом подходе». Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины. Эта педагогика рождалась на всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды.
Старое крепко держалось на Земле, и Захаров то и дело сбрасывал с себя отжившие предрассудки. Только недавно он сам освободился от самого главного «педагогического порока»: убеждения, что дети есть только объект воспитания. Нет, дети – это живые жизни, и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность ответственности. И тогда Захаров предъявил к ним последнее требование: никаких срывов, ни одного дня разложения, ни одного момента растерянности! Они с улыбками встречали его строгий взгляд: в их расчеты тоже не входило разложение.
Наступили годы, когда Захарову уже не нужно было нервничать и с тревогой просыпаться по утрам. Коллектив жил напряженной трудовой жизнью, но в его жилах пульсировала новая, социалистическая кровь, имеющая способность убивать вредоносные бактерии старого в первые моменты их зарождения.
В колонии перестали бояться новеньких, и Захаров потушил в себе последние остатки уважения к эволюционной постепенности. Однажды летом он произвел опыт, в успехе которого не сомневался. В два дня он принял в колонию пятьдесят новых ребят. Собрали их прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали между товарными составами. Сначала они протестовали и «выражались», но специально выделенный «штаб» из старых колонистов привел их в порядок и заставил спокойно ожидать событий. Это были классические фигуры в клифтах[176], все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами «социальной запущенности». Ближайшее будущее представлялось им в тонах пессимистических, дело было летом, а летом они привыкли путешествовать – единственное качество, которое сближало их с английскими лордами. То, что произошло дальше, Захаров называл «методом взрыва», а колонисты определяли проще: «Пой с нами, крошка!»
Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развернутого строя, шелестом знамен и громом салюта «новым товарищам». Польщенные и застенчивые, придерживая руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между третьим и четвертым взводами.
Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя и на других произвели сильное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и корреспонденты газет.
Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущенные до глубин своей души и общим вниманием, и увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись еще одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников были сложены в большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из бутылки керосином, «барахло» это горело буйным, дымным костром, а потом пришел Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смел жирный мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому:
– Вся твоя биография сгорела!
Старые колонисты хохотали над Мишиным неповоротливым остроумием, а новенькие оглядывались виновато: было уже неловко.
После этой огневой церемонии начались будни, в которых было все что угодно, но почти не было пресловутой перековки: новенькие не затрудняли ни коллектив, ни Захарова.
Захаров понимал, что здоровая жизнь детского коллектив законно и необходимо вытекает из всей советской действительности. Но другим это не казалось таким же законным явлением. Захаров теперь мог утверждать, что воспитание нового человека – дело счастливое и посильное для педагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорченный ребенок» – фетиш педагогов – неудачников. Вообще он теперь многое мог утверждать, и это больше всего раздражало любителей старого.
Старое – страшно живущая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться. Казалось бы, что может быть священнее детской радости и детского роста? И все это утверждают, и все исповедуют, но…
Приезжает в колонию человек, ходит, смотрит, достает блокнот и еще не успел вопрос поставить, а глаза его уже увлажняются в предчувствии романтических переживаний.
– Ну… как?
– Что вам угодно?
– Как вы… вот… с ними… управляетесь?
– Ничего… управляемся.
– Э… э… расскажите какой-нибудь случай… такой, знаете, потруднее.
Захаров с тоской ищет портсигар:
– Да зачем вам?
– Очень важно, очень важно. Мы понимаем… перековка… конечно, они теперь исправились, но… воображаю: как вам трудно!
– Перековка…
– Да, да! Пожалуйста, какой-нибудь яркий случай. И, если можно, снимок… Как жаль, что у вас нет… до перековки.
Захаров роется в памяти. Что-то такое очень давно, действительно, было… вроде перековки. Он смотрит на любопытного романтика и про себя соображает: как легче отделаться – доказывать ли посетителю, что никакой перековки не нужно, или просто соврать и рассказать какой-нибудь анекдот. Второе, собственно говоря, гораздо легче.
В подобных недоразумениях было для Захарова много трагического. А еще трагичнее вышло, когда приехали к нему приятели из Наркомпроса.
Они видели людей, машины, цветы, рассмотрели цифры и сводки. Вежливо щурились на предметы реальные и вежливо мычали над бумагой. Захаров видел по их лицам, что они просто ничему не поверили.
– Это беспризорные?
– Нет, это колонисты.
Володя Бегунок на диване неслышно хихикнул.
– А… вот этот мальчик! Был беспризорный?
Володя встал, бросил на Захарова секретный, дружеский взгляд:
– Я колонист четвертой бригады.
– Но… раньше, раньше ты был беспризорным?
Почему-то Володе стало неудержимо смешно, он быстро посмеялся в угол дивана. Отвечать все же нужно:
– Я… забыл.
– Как это забыл? Забыл, что ты был беспризорным?
– Угу…
– Не может быть!
– Честное слово!
Володя сказал это с искренней убедительностью, но им показалось, что мальчик над ними издевается, и это было вполне возможно, если принять во внимание, что здесь все в чем-то сговорились.
Приятели уехали расстроенные. Редко им приходилось встречать такой единодушный заговор. А разве в таком случае можно установить, где правда, а где очковтирательство. Во всяком случае, у Захарова чересчур уж благополучно.
– Не может быть!
– И если даже так, где же борьба? Где же сама педагогика? И где, наконец, беспризорные? Откуда он набрал этих детей?
У этих людей никогда не было оптимизма.
2 Ваня[177]
Только один месяц прошел после совета бригадиров, памятного для Вани на всю жизнь. Над колонией стоял июль – жаркий, солнечный, полный радостей и впечатлений мальчишеской жадности и летней свободы. Школьный костюм Вани лежал в тумбочке. Бригадир четвертой никому не разрешал надевать школьных костюмов.
– Вам, пацанам, только и погулять теперь в трусиках, вроде как солнечная ванна… – говорил он.
И Ваня и другие члены четвертой бригады ходили в трусиках и голошейках, а в парадных случаях добавочно к трусикам наряжались в просторную, блестяще отглаженную «парусовку», одежду полноценную, с рукавами, воротником и карманом на груди. На ноги при этом надевались голубые носки и «спортсменки», а на голову – золотая тюбетейка. В этом костюме пацаны имели вид настолько великолепный, что в приказе по колонии было даже объявлено: считать этот костюм для малышей летним парадным.
Обыкновенно же малыши даже голошейкой пренебрегали и в свободное время гуляли во дворе и по лесу в одних трусиках; даже птицы привыкли к их черным, блестящим телам и спокойно занимались своими делами в их присутствии.
Ваня быстро входил в колонистскую жизнь, все ему нравилось в ней и все ему было по плечу. Он отказался от своего законного права погулять два дня и на второй день после приема пошел работать в литейных цех шишельником. Литейный цех помещался в старом каменном сарае. В одном углу здесь стоял литейный барабан, в другом – работали шишельники. Литейный цех отливал из меди масленки. Ване нравилось, что они важно назывались «масленки Штауфера». Нравилось Ване и то, что масленки Штауфера были очень нужны для разных заводов – без них ни один станок не мог работать: так, по крайней мере, утверждала вся четвертая бригада. Ваня нарочно выбегал смотреть, как полная подвода, нагруженная небольшими ящиками, отправлялась на вокзал. В ящиках лежали масленки, никелированные, совсем готовые, завернутые в бумагу.
Масленки были разных размеров, от двадцати до восьмидесяти миллиметров в диаметре, таких же размеров делались и шишки. С первого же дня Ваня с счастливым трепетом стал входить в работу. Конечно, техника ему давалась не сразу. Бывало, что шишка развалится у него в руках, когда, проткнув ее песчаное тело тонкой проволокой, он укладывал шишки на фанерный лист, чтобы отправить их в сушилку. Но уже через неделю он научился деревянным молотком придавать шишке определенную плотность в форме, научился сообщать песку необходимую влажность, осторожно вынимать шишку из формы и протыкать проволокой и если еще не умел делать ста шишек за четыре часа, то шестьдесят выходило у него совершенно свободно. Соломон Давидович платил ребятам по копейке за каждую шишку: Филька, Кирюшка и Петька говорили, что это очень мало.
Работа на шишках была особенно приятна Ване потому, что с каждым днем он догонял Фильку, который делал за четыре часа работы сто двадцать штук, причем шишки у него никогда не разваливались.
Но отнюдь не одни шишки владели Ваниной душой. Каждый день приносил что-либо новое. Перед каждым днем он останавливался с глазами, широко открытыми, даже чуть-чуть задыхаясь от силы новых впечатлений, оглядывался на новых друзей и требовал от них разъяснений.
Например, оркестр. Все пацаны четвертой бригады преклонялись перед оркестром, многое о нем рассказывали, умели напевать «Марш милитэр» и марш из «Кармен», а «Смену караула» напевали на такие слова:
Папа римский вот-вот-вот Собирается в поход. Видно, шляпа – этот папа — Ожидаем третий год.А после этого следовало тарараканье, очень сложное и красивое. Но в настоящих тайнах оркестра разбирались немногие: Володя Бегунок, Пеьтька Кравчук и Филька Шарий, потому что Володя играл на второй трубе, Петька на пиколке[178], а Филька был самый высокий класс – первый корнет. Ване тоже жадно захотелось играть на чем-нибудь, но приходилось ожидать, пока он получит звание колониста: воспитанников в оркестр не принимали. А пока наступит этот счастливый момент, Ваня не пропускал ни одной сыгровки. Услышав сигнал «сбор оркестра», он первым приходил в тот класс, где оркестр обыкновенно собирался. В первые дни дежурные по оркестру старались его «выставить», но потом к нему привыкли, так уже и считали, что Ваня Гальченко – будущий музыкант. В оркестре Ване все нравилось: и блестящий белый хор инструментов – с серебром, как уверял Володя Бегунок, – целых тридцать штук, и восемь черных кларнетов, и хитрые завитки тромбонов, и пульты, и строгость полного, веселого старика-дирижера Виктора Денисовича, его язвительные замечания.
– Ты был в цирке? – обращается Виктор Денисович к «эсному басу»[179] Данилу Горовому, после очередного недоразумения с си-бемоль.
– Был, – отвечает Горовой и краснеет.
– Был? Видел – морской лев на трубе играет?
Данило Горовой, массивный, с могучей шеей, славный кузнец колонии, молча облизывает огромный мундштук своего баса. Виктор Денисович сердито смотрит на Горового; подняв лица от своих мундштуков, смотрят на Горового и все сорок музыкантов. Виктор Денисович продолжает:
– Так это же морской лев! Морской лев, а как играет!
Горовой подымает недовольный взгляд на дирижера. Известно всей колонии, что он не отличается остроумием, но не может он молчать сейчас, не может оставить без возражения обидного намека на морского льва. Морской лев – у него даже ног нету, а голова собачья. И Горовой с пренебрежением отводит глаза от дирижера и говорит тихо:
– Как он там играет!
После этого радостно заливаются смехом и музыканты, и Виктор Денисович, и Ваня Гальченко, и сам Данило Горовой. Чей-то голос прибавляет к смеху одинокую реплику:
– Морской лев си-бемоль тоже не возьмет, Виктор Денисович!
Но Виктор Денисович уже серьезен. Он холодно смотрит через головы оркестра, стучит тоненькой палочкой по пульту:
– Четвертый номер. Тромбоны, не кричите! Раз… два!
Ваня замирает рядом с малым барабаном, в его уши вливается прекрасная сложная музыка. Но оркестр притягивает его не только музыкой. В колонии говорили, что оркестр, существуя пять лет, ни разу не отдувался на общем собрании. Старшиной оркестра ходил Жан Гриф, высокий, черноглазый, красивый юноша из девятой бригады. Ваня и смотреть на него остерегался, а не то разговаривать… Если же смотрел, так только тогда, когда Жан выделывал какое-нибудь соло на своем коротеньком корнете, и ничего, кроме нот и палочки дирижера, не видел.
Но и оркестр не поглощал целиком душу Вани Гальченко. Замирала его душа и на физкультурной площадке. С таким же почтением, как и на Жан Грифа, смотрел он на Перлова, у которого голова всегда победоносно забинтована: о нем гремит слава отчаянного форварда. Затаив дыхание, Ваня слушал рассказы о величественных матчах волейболистов. Славились и городошники. Их капитан Круксов говорил:
– В нашей команде «письмо» выбивают с одного удара.
– Ну, это врешь, положим, «письмо» не выбьют.
– Выбиваем. Как «не выбьют»? А про «аэроплан» и говорить нечего. У наших пацанов хоть и не сильный удар, а зато как повернет, каждым концом зацепит.
А в коридоре главного здания висел еще и ребусник. Ваня подолгу останавливался перед ним, прочитывал сотни его потрясающих вопросов, картин, загадок, чертежей, труднейших математических формул. Нарисованное окно, в окно смотрит девочка, а внизу вопрос:
– Сколько этой девочке лет?
Потом еще вопрос: где можно построить такую избу, чтобы все ее четыре стены смотрели на юг? И тут же нарисована симпатичная избушка, а на ней флаг.
За спиной Вити стоит Семен Гайдовский, он человек серьезный:
– Это пятая серия, она теперь так висит – для красоты; уже решили и уже премии получили. А когда будет осень, Петр Васильевич повесит новую. Я в прошлую зиму четыре тысячи очков заработал на ребуснике.
Познакомился Ваня и с Петром Васильевичем, фамилия у которого была странная: Маленький. А на самом деле он был страшно большой, самый высокий человек в колонии и худой-худой. У него были и ноги худые и шея худая, и нос худой, а все-таки это был веселый, неутомимый человек. Самое же главное – он был какой-то «не такой», как говорили пацаны. Они рассказывали о нем много смешных историй, но в то же время стаями, обуреваемые сложнейшими планами, проектами и начинаниями, ходили за ним. Видно, у Маленького был приметливый глаз. Уже на второй день он увидел Ваню, пробегавшего через двор, и закричал:
– Эй, пацан! Паца-ан!
Ваня задержался.
– А иди сюда!
– А чего?
У Маленького были такие длинные ноги, что он сделал только три шага и очутился возле Вани:
– Новенький?
С высоты, с неба, смотрело на Ваню носатое, худое лицо. Под носом что-то такое растет – не то усы, не то как будто нарочно; глаза ярко-голубые, напористые.
– Новенький? Зовут как? Ваня Гальченко? Ты перемет умеешь делать?
– Перемет?
– Перемет – рыбу ловить? Не умеешь? А радиоприемник? Тоже не умеешь? А может, ты стихи пишешь? А что же ты умеешь делать?
Ваня был смущен многими вопросами, но ему захотелось не ударить лицом в грязь, и он сказал, подняв лицо и прищурив один глаз:
– А я сделал ящик.
– Какой ящик?
– Ботинки чистить…
– Сам делал?
– Сам.
– И чистил?
– Чистил.
– Щеткой намазывал?
– Ага, маленькой такой, а потом большой.
– И хорошо выходило?
– Очень хорошо. Один даже сказал спасибо. Нет, не один, а два сказали спасибо.
– А! Видишь? Значит, мы с тобой завернем.
– Кого?
– Не кого, а дело завернем. Гребной автомобиль! Ваня Гальченко! Кажется, ты человек деловой.
И, больше не сказав ни слова, Маленький сделал в сторону несколько шагов и исчез между двумя зданиями. Через цветник, он, кажется, просто перешагнул.
Это было интересно. Гребной автомобиль! Ваня расспросил всю четвертую бригаду, но никто не знал, что такое гребной автомобиль. Слух о том, что Петр Васильевич Маленький собирается с Ваней делать гребной автомобиль, сильно взбудоражил четвертую бригаду. Оказалось, что у колонистов четвертой бригады были свои планы на Маленького: с теми в воскресенье он идет рыбу ловить в каком-то таинственном озере в десяти километрах, с другими затевает сложную игру, называемую «смерть пленному», с третьими отвоевал у совета бригадиров комнату и в ней устраивает что-то.
– А кто он такой? – спросил Ваня.
– Петр Васильевич? А… он… он – никто.
– Почему никто?
– Он считается учитель, так это он учит по черчению в старших группах, а так он никто, просто себе…
Через неделю Ваня встретил Маленького в лесу. Он ходил между деревьями, заглядывал на их вершины, но Ваню сразу узнал:
– Ага! Ваня! Гребной автомобиль – замечательная вещь. Мы с тобой завтра сядем и поговорим.
Но завтра Петр Васильевич заболел, и говорили, что он заболел туберкулезом. Известие об этом с большой печалью повторялось в четвертой бригаде. И не столько таинственный гребной автомобиль, сколько сам Петр Васильевич запомнился Ване: такой большой, быстрый и занимательный и так печально заболевший туберкулезом, тоже таинственной и, кажется, смертельной болезнью…
Но, по совести говоря, больше всего нравилась Ване самая жизнь в четвертой бригаде. Было здесь по-дружески тепло, по семейному приветливо, интересны были все ребята, и в такой красивой строгости держал всех Алеша Зырянский. Каждый день хотелось Ване поскорее закончить работу и вернуться в чистую, уютную спальню, слушать, говорить, смеяться, жить. Хотелось, чтобы Алеша что-нибудь приказал, даже самое трудное, и чтоб салютнуть и только сказать ему:
– Есть!
3 Старые и новые счеты
Игорь Чернявин каждый день работал – зачищал проножки. Руки его были покрыты ссадинами и царапинами, и рашпиль по-прежнему вызывал отвращение. Игорь не скрывал своего отрицательного отношения к работе над проножками, но считал себя обязанным ее выполнять, потому что дал слово в совете бригадиров. Однако он скрывал свой панический страх перед пчелами и мухами и с осторожным вниманием поглядывал на них, когда они прилетали к его верстаку. К счастью, через неделю после начала работы Игоря сборочный цех был переведен в помещение стадиона. Как ни плохо шла работа над проножками, Игорь к концу четырехчасового рабочего дня сдавал Штевелю тридцать проножек, а за это количество полагалось в день заработка девяносто копеек. Штевель утверждал, что такой молодой человек, как Игорь, должен сдавать в день, по крайней мере, сотню проножек, но Игорь на это только ухмылялся.
Работа в цехе отнимала всего четыре часа после обеда. Все остальное время проходило гораздо симпатичнее. Утром Игорь шел в школу, и там в одном из классов Николай Иванович полчаса или час занимался с ним, а потом уходил, оставляя самостоятельно решать разные задачи. Николай Иванович был по-прежнему всегда чисто одет, чрезвычайно вежлив и прост. За это время Игорь познакомился и с другими учителями и учительницами и заметил, что все они отличаются такой же безукоризненной вежливостью и так же чисто одеваются. Вообще учителя здесь были какие-то «не такие», да и от всей школы, помещавшейся в отдельном здании, исходил приятный запах: в школе было солидно, чисто, приветливо и даже несколько торжественно. Игорю захотелось в ней учиться.
Понравилась Игорю и библиотека. Она помещалась рядом с «тихим» клубом. Книг в ней было много, книги все были переплетены, стояли в порядке на полках до самого потолка, а у широких дверей с перекинутой поперек полочкой всегда собиралась очередь читателей. Библиотекой заведовала древняя старушка Евгения Федоровна, но копошились с книгами, выдавали, принимали, записывали, чертили, рисовали и мазали рекомендательные списки три колониста, и между ними главную роль играла Шура Мятникова, тонкая, очень стройная девушка. У нее смуглое лицо, строгие брови и большой рот.
– Прочитал? Или картинки посмотрел? – спрашивала она, и при этом в лице ее была шутливая и серьезная очень живая игра…
Игорь всегда любил читать. Бродячая жизнь отвлекла его от книг, и сейчас он с новой жадностью набросился на чтение. Проснувшись утром, приятно было вспомнить, что в тумбочке лежит книга и что в пять часов вечера, сбросив спецовку и умывшись, можно будет отдаться ей. Вечером Нестеренко не позволял долго читать и тушил свет в одиннадцать часов. Игорь приспособился просыпаться раньше сигнала «вставать» и часок почитать в постели. Именно с этого утреннего сладкого чтения начался день, который потом до самого вечера был наполнен выдающимися происшествиями.
Еще с вечера Нестеренко сказал Игорю:
– Завтра ты дежуришь по бригаде.
Игорь удивленно обрадовался:
– Я? Дежурю? Каррамба?
Дежурный по бригаде должен был вставать в шестом часу, чтобы к поверке успеть закончить уборку. Игорь проснулся рано, но вспомнив о «Таинственном острове», который лежал в его тумбочке, не вспомнил о дежурстве. Когда прозвенел сигнал и поднялась вся бригада, Нестеренко только ахнул:
– Что же ты со мной делаешь?
Игорь бросился к тряпкам и щеткам, но было уже поздно. Поверка застала спальню в беспорядке и Чернявина в разгар работы. Не повезло еще и в том отношении, что поверку принимал сам Захаров. Он строго нахмурился, холодно рассматривал спальню, холодно сказал: «Здравствуйте, товарищи», небрежно выслушал рапорт и спросил:
– Кто дежурит?
Игорь улыбнулся смущенно:
– Я.
– Получи один наряд.
Игорь так же смущенно улыбнулся и услышал шипение Нестеренко:
– Да отвечай же, как следует! Что это такое?
Игорь обрадовался выходу из мучительного положения, вытянулся:
– Есть, один наряд, товарищ заведующий!
После поверки Нестеренко долго еще читал Игорю нотации, по-старушечьи детально разбирал недостатки его характера и барского воспитания.
– Даже книга, даже книга, святая вещь, и та тебя с толку сбивает, а если ж ты повстречаешься с какой сволочью, что тогда будет!
Но другие товарищи не сильно осуждали. Санчо Зорин даже одобрил:
– Это хорошо, Нестеренко, чего ты испугался? Боевое крещение! Ты посуди: какой же из него будет человек, если он ни одного наряда не получит?
И Нестеренко не выдержал, улыбнулся:
– Это, конечно, верно, а только и бригаде неприятность.
В тот же день дежурил по бригаде Ваня Гальченко. У него дело прошло гораздо благополучнее и даже со славой. Все еще спали, а Ваня стоял на подоконнике и мыл стекла, тихонько насвистывая. За окном распускалось утро, внизу, в цветнике, возились с поливкой, горели на солнце окна в здании школы. Володя Бегунок давно захватил свою трубу и пошел будить дежурного бригадира Илюшу Руднева из десятой бригады. Скоро во дворе он заиграл сигнал побудки.
Ванино сердце было переполнено счастьем. Счастье шло и от утра, и от цветников, и от этой спальни, которую Ваня сегодня решил довести до блеска; счастьем веяло и от Володи, потому что Володя встретился с ним на улице, потому что Володя был несказанно прекрасен, он вставал раньше всех в колонии и всех будил, он каждое утро входил в спальню с поверкой и с привычным изяществом салютовал рапорту, он всех знал, и все его любили, а Ваня больше всех.
Продолжая работать, Ваня лукаво посмотрел на спящих товарищей. Отвечая сигналу, Филька о чем-то заговорил во сне. У окна зашуршали шаги. Снизу, из сада, Володя спросил тихо:
– Спят?
Ваня кивнул.
Через минуту тихонько приоткрылась дверь, в щель продвинулся раструб трубы. Сигнал раздался страшно громко. Алеша Зырянский мгновенно вскочил с постели, но Володи уже не было.
– Вот чертенок! Ну, я его поймаю! Ваня! Какой же ты молодец, даже окна помыл.
Ваня, краснея, выслушивает похвалу бригадира и еще сильнее натирает стекло. В двери снова просовывается серебряный раструб. Зырянский вспыхивает и крадется к дверям, но дверь распахивается. Володя налетает на Алешу, вскакивает верхом на его живот, обнимает его руками, ногами и трубой и орет:
– Ребята! Бей бригадира!
Этот крик производит магическое действие. С постелей вскакивают Филька, Петька, оба Семена, и подымается общая возня. Стоя на подоконнике, Ваня громко смеется. В дверь заглядывает невысокий, собранный, хорошенький мальчик – дежурный бригадир Руднев, улыбается и спрашивает:
– Встаете?
После завтрака Игорь увидел Ваню:
– Ванюша, как дела?
– О! Здорово, понимаешь! Сегодня будет благодарность в приказе!
– Да ну! За что?
– А за дежурство по бригаде.
– За дежурство? Ох, ты, черт! И я получил.
– Благодарность?
– Нет, один наряд. Только говорят, это к лучшему: хорошего колониста не бывает без наряда.
– А кто это говорит?
– А это мой шеф говорит, Санчо Зорин.
– Это у тебя такой шеф? Вот у меня шеф – так шеф – Володька! Он меня научил и как пол натирать, и как цветы поливать, и гардины, и зеркало, и окно – все!
– Большому кораблю большое плавание, – сказал с грустью Игорь и отправился в парк.
Лето – школа не работает, и в парке народу много. Кто идет к пруду, кто к гимнастическому городку, а кто на скамьях расположился поуютнее и читает книжку. Игорь с книжкой в руках – причиной утреннего скандала – направился в самый далекий и тенистый уголок. На запущенной дорожке он третий раз в жизни встретил «чудесную» девушку с карими глазами. Она очень спешила, идя ему навстречу, быстро перебирала загоревшими ногами, волосы у нее были еще мокрые после купания. Девушка подняла на Игоря глаза, такие, как и раньше, прекрасные, с золотисто-синим блеском, но не смутилась, что-то вспомнила, задорно улыбнулась.
Игорь стал на ее дороге. Она отступила назад и машинально руку подняла к лицу.
– Не бойтесь, мисс, не бойтесь. Скажите только ваше имя.
– А на что вам?
– Я хочу с вами познакомиться, а меня зовут Игорь.
– Ну так что?
– Ничего, конечно, особенного. Просто – Игорь.
Девушка попыталась обойти его сбоку. Юбчонка на ней была поношенная.
– Скажите ваше имя, миледи, я же больше ни о чем не прошу.
Девушка остановилась, поднесла кулачок к губам:
– Вы… мух боитесь.
Игорь вдруг вспомнил, при каких бедственных обстоятельствах он встретил эту девушку в последний раз, и покраснел. Она заметила его смущение, опустила руку, двинулась вперед. Игорь уступил ей дорогу. Она быстро оглянулась на него, сверкнула зубами:
– А меня зовут Оксана!
Игорь всплеснул руками:
– Боже мой, какое имя! Оксана!
Но девушка была уже далеко, только ноги ее светло и быстро мелькали на запущенной дорожке.
– Чего ты? – окликнули Игоря сзади. Игорь оглянулся. Это был Володя Середин. Сын старого инженера, он и в колонии старался не терять «интеллигентности» – по-пижонски крепко сжимал склонные к улыбке губы, как-то особенно высоко задирал голову.
– Ты не знаешь, что это за девчонка? Она ведь не колонистка!
Середин ответил с небольшим возмущением:
– Какая там колонистка! Прислуга!
– Не может быть?!
– Почему не может быть?
– Прислуга?
– Ну да, прислуга. Здесь за прудом дача… дом просто. Она там прислуга.
– А кто же там хозяин?
– Там не хозяин, а черт его знает… адвокат какой-то.
– А ты откуда знаешь?
– Ты спроси у Гонтаря. Он в эту девчонку влюблен.
– Влюблен? Да ну?
– Еще как влюблен. Он для нее и прическу сделал. Он тебе ребра переломает.
Игорь тронул Середина за рукав:
– Сэр! Дело не в ребрах. Дело, понимаешь… если он адвокат, так почему она так одевается?
– Я не знаю. Гонтарь думает, что он ее для огорода держит. Свои овощи, понимаешь, только не сам работает, а занимается эксплуатацией – Оксана работает. Батрачка. А ей только пятнадцать лет. Сволочь!
Середин смотрел на Игоря умным, спокойным взглядом, и слово «сволочь» особенно сочно звучало в его культурном выговоре.
Они направились к главному зданию. Игорю хотелось еще расспросить Середина об Оксане. Дежурный бригадир Руднев стоял на крыльце с блокнотом в руках. Увидев Игоря, он сказал:
– Чернявин! У тебя есть один наряд. Вот эту дорожку нужно подмести и посыпать песком. Работы здесь на полчаса, а у тебя как раз один наряд. Сдашь мне к обеду.
Игорь не забыл стать смирно и отдать салют:
– Есть, выполнить один наряд, сдать к обеду.
Но забыл спросить, чем нужно подметать и где взять песок. Руднев ушел. Игорь осмотрелся. И Середина уже не было возле него.
Через полчаса Игорь уже работал на дорожке. В руках у него были три гибких прутика, и как он ни царапал ими дорожку, они не в силах были зацепить мелкий сор. Проходивший мимо Нестеренко остановился:
– Это наряд?
– Да.
Откуда-то взялся Ваня Гальченко. Нестеренко пренебрежительно надул полные щеки:
– Так… кто же это… прутиком?
– А чем?
– Что ты за человек? Веник сделай!
Нестеренко еще с секунду молча смотрел на Игоря, неодобрительно пожал плечами, ушел. Игорь оглянулся на Ваню, покраснел. Ваня убежал.
Игорь прекратил работу, задумался. Еще царапнул два раза. Собственно говоря, против наряда он ничего не имело, но дайте же орудия производства! На дорожке были мелкие веточки, два-три старых окурка, лепестки цветов. Вся эта мелочь никак не хотела поддаваться прутику. Игорь еще раз беспомощно оглянулся и увидел Ваню. Ваня бежал к нему вприпрыжку, и в руках у него был великолепный веник.
– Ваня! Вот спасибо! Где ты такой веник достал?
– А нарвал. Сколько хочешь!
– Давай я буду сам.
– Ты подметай, а я пойде песка принесу.
Через двадцать минут Игорь и Ваня заканчивали работу, посыпая дорожку из одного ведра. Захаров вышел из-за угла здания:
– Гальченко, помогаешь?
– Это так… немножко. Он все.
– Ты – хороший товарищ!
Ваня поднял голову, но Захаров уже ушел. У него была тонкая талия и хорошие, блестящие сапоги.
– Новенького ведут, – сказал Игорь.
Ваня посмотрел вдаль по шоссе. Действительно, было видно, что один из идущих – милиционер.
– Меня тоже с милиционером. А нехорошо с милиционером.
Ваня не ответил, деловым взглядом осмотрел работу.
– Надо здесь досыпать, а то получилась лысина.
– А куда мы песок денем? Остаток?
– Давай на этой дорожке приберем. Она маленькая.
Игорь не возразил. Они в десять минут убрали небольшую поперечную дорожку. Игорь взял ведро и направился к главному входу, где как раз дежурный бригадир Руднев расписывался в книге милиционера. Пока друзья подошли к ним, милиционер уже козырнул и направился в город.
– Товарищ дежурный бригадир, наряд выполнил.
– Сейчас посмотрю, вот только этого сдам Торскому.
Игорь посмотрел на новенького и остолбенел: перед ним стоял Гришка Рыжиков. Ваня Гальченко, глядя на Рыжикова, давно уже задохнулся в удивлении и даже рот открыл. Рыжиков развязно улыбался, но заговорить не решался. Заговорил Игорь:
– Этого гада в колонию? Я его сейчас с лица земли сотру!
Руднев протянул руку, чтобы остановить Игоря, но Игорь уже схватил Рыжикова за воротники и скрутил его тугим жгутом вокруг горла.
– Мокрица! Вонючий клоп! Ограбить такого пацана! – с гневом и презрением выговаривали живые, длинные губы Игоря.
– Да пусти, – захрипел Рыжиков, цепляясь своими грязными пальцами за пальцы Игоря.
– Я тебя уничтожу…
Игорь уже занес кулак другой руки над головой Рыжикова, но в этот момент Руднев с силой схватил Игоря за пояс и повернул к себе:
– Товарищ Чернявин! К порядку!
Игорь не мог не оглянуться на этот окрик, а, оглянувшись, увидел сразу и белый воротник, и золотисто-серебрянный вензель, и яркий шелк повязки. Он выпустил Рыжикова и стал «смирно». Руднев посмотрел на Рыжикова, как показалось Игорю, с гадливостью, но Игорю сказал сурово, негромко и властно:
– В колонии нельзя сводить старые счеты, товарищ Чернявин!
И в тоне[180] этого хорошенького мальчика, в его сведенных насильно бровях, в ясном взгляде, в том уважении, с которым было сказано слово «товарищ», Игорь почувствовал нечто совершенно непреодолимое. Он поднял руку с глубокой радостью:
– Есть, не сводить старые счеты, товарищ дежурный бригадир!
Руднев уже уводил Рыжикова в дом. Игорь никак не мог прийти в себя, но о Рыжикове уже забыл: он только сейчас почувствовал, как это удивительно[181], что он мог с такой готовностью и радостью подчиниться маленькому Рудневу…
Ваня вдруг вышел из оцепенения и трепыхнулся рядом с ним…
4 Дружба на всю жизнь
Ваня заметил Володю Бегунка на другом конце двора и побежал рассказать ему о своем несчастье. Прибытие Рыжикова как будто закрыло солнце, светившее над колонией. Мрачные тени легли теперь на все эти здания и на лес, и на пруд, и даже на четвертую бригаду. Рыжиков в колонии – это было оскорбительно!
Володя нахмурил брови, напружинил глаза, расставив босые ноги, терпеливо выслушал взволнованный Ванин рассказ:
– Так это тот самый, который тебя обокрал? Так чего ты сдрейфил?
– Так он же теперь в колонии! Он теперь все покрадет!
– Ха! – Володя показал на Ваню пальцем. – Испугался. Обкрадет! Думаешь, так легко обокрасть? Пускай попробует! А ты думаешь, тут мало таких было? Ого! Сюда таких приводили, прямо страшно.
– А где они?
– Как где? Они здесь, только они теперь уже не такие, а совсем другие.
Они пошли в парк. Ни они, ни Игорь Чернявин не видели, как к главному зданию подкатил легковой автомобиль. Из него вышли две женщины и с ними – Ванда Стадницкая. Дежурный бригадир Илюша Руднев, выбежавший к ним навстречу, бросил быстрый взгляд на Ванду и увидел, какая она красивая. Сейчас у Ванды волосы совсем белокурые, чистые, они даже блестят, и на волосах – синий берет. И на ногах не хлюпающие калоши, а чулки и черные туфли. И лицо у Ванды сейчас оживленное, почти счастливое, она оглядывается на своих спутниц и улыбается им. Официальный блеск дежурного бригадира Ванда встречает дружеской улыбкой.
К сожалению, в настоящий момент Руднев не может ответить ей такой же улыбкой. Он поднимает руку и спрашивает с приветливой, но настороженной вежливостью:
– Я дежурный бригадир колонии. Скажите, что вам нужно.
Полная, с ямочками на щеках, с пушистыми черными бровями, видно, веселая и добрая женщина, так засмотрелась на хорошенького Руднева, что не сразу даже ответила. Засмеялась.
– Ага, это вы такой дежурный. А нам начальника нужно.
– Заведующего?
– Ну, пускай заведующего.
– По какому делу?
– Ну что ты скажешь – она обернулась к другой женщине, такой же полной, но солидно, немного даже строго настроенной. – Значит, обязательно вам сказать?
– Да.
– Хорошо. Мы привезли к вам девушку… вот… Ванду Стадницкую. А сами мы из партийного комитета завода им. Коминтерна. И письмо у нас есть.
Руднев показал дорогу:
– Пожалуйте.
Часовой у дверей, тоненький белокурый Семен Касаткин, чуть заметным движением глаз спросил Руднева и получил такой же еле ощутимый ответ. Попросил:
– Будьте добры, вытрите пыль на ботинках.
– Да мы на машине…
– Пожалуйста, очень прошу.
И он проводил их к смоченной водой тряпке.
– Ну, что ты с ними сделаешь, – воскликнула первая женщина.
Ванда улыбнулась Касаткину благодарно и застенчиво. Сделав все, что нужно, они пошли по коридору.
Руднев открыл дверь в комнату совета бригадиров, но отступил, пропуская выходящих. Еще с улыбкой, сохранившейся от Касаткина, Ванда подняла глаза: вдруг побледнела, слабо вскрикнула, повалилась на окно:
– Ой!
Рыжиков, нахально улыбаясь, прошел мимо. Руднев сказал ему:
– Подожди здесь, я сейчас. Пожалуйте. Витя, это к Алексею Степановичу.
Все обернулись к Ванде, предлагая ей пройти, но Ванда сказала, опустив голову:
– Я никуда не пойду.
Рыжиков стоял на отлете, руки держал в карманах, смотрел с необъяснимой насмешкой. Виктор опытным глазом оценил положение.
– Руднев, забирай его!
Руднев, ухватив за рукав, повернул Рыжикова лицом к выходу. Витя пригласил:
– Заходите.
– Никуда я не пойду. – Ванда еще ниже опустила голову, а когда Рыжиков скрылся в вестибюле, она с опозданием бросила ему вдогонку ненавидящий взгляд, потом отвернулась к открытому окну и заплакала.
Женщины растерянно переглянулись. Витя мягко подтолкнул их в комнату:
– Посидите здесь, а я с ней поговорю.
Женщины послушно вышли. Витя закрыл за ними дверь, потом осторожно взял Ванду за плечи, заглянул в лицо:
– Ты этого рыжего испугались? Ты его знаешь?
Ванда не ответила, но плакать перестала. Платка у нее не было, она размазывала слезы рукой.
– Чудачка ты! Таких хлюстов бояться – жить на свете нельзя.
Ванда сказала в угол оконной рамы:
– Я его не боюсь, а здесь все равно не останусь.
– Хорошо. Не оставайся. Машина ваша стоит. А только можно ведь зайти в комнату?
– Куда зайти?
– Да вон к нам.
Ванда помолчала, вздохнула и молча направилась к двери. В комнате совета бригадиров она хотела задержаться, но Витя прямо провел ее в кабинет к Захарову.
Алексей Степанович удивленно посмотрел на Ванду, Ванда отступила назад, вскрикнула:
– Куда вы меня ведете?
– Поговорите там, Алексей Степанович, женщины… две…
Захаров быстро вышел. Ванда испуганно глянула ему вслед, упала на широкий диван и на этот раз заплакала с разговорами:
– Куда вы меня привели? Все равно не останусь. Я не хочу здесь жить! Ой, Боже мой! Почему надо мной все издеваются?! И какое вы имеете право издеваться?
Она два раза бросалась к двери, но Витя молча стоял на дороге, она не решилась его толкнуть. Потом она тихо плакала на диване. Витя видел в окно, как ушел в город автомобиль, и только тогда сказал:
– Ты зря плачешь, теперь все будет хорошо.
Она притихла, начала вытирать слезы, но вошел Захаров, и она снова зарыдала. Потом вскочила с дивана, сдернула с себя берет, швырнула его в угол и закричала:
– Советская власть! Где Советская власть?
Стоя за письменным столом, Захаров сказал:
– Я – Советская власть.
И Ванда закричала, некрасиво вытягивая шею:
– Ты? Ты – Советская власть? Так возьми и зарежь меня! Возьми нож и зарежь, я все равно жить больше не буду.
Захаров не спеша, основательно уселся за столом, разложил перед собой принесенную бумажку, произнес так, как будто продолжал большой разговор:
– Эх, Ванда, мастера мы пустые слова говорить! И у меня вот… такое бывает… А покажи, какая у тебя беретка. Подними и дай сюда.
Ванда посмотрела на него тупо, села на диван, отвернулась.
Витя поднял берет, подал его Захарову.
– Хорошая беретка… Цвет хороший. А наши искали, искали и не нашли. Интересно, сколько она стоит?
– Четыре рубля, – сказала Ванда угрюмо.
– Четыре рубля? Недорого. Очень хорошенькая беретка.
Захаров, впрочем, не слишком увлекался беретом. Он говорил скучновато, не скрывал, что берет его заинтересовал мимоходом. Потом кивнул, Витя вышел. Ванда направила убитый взгляд куда-то в угол между столом и стеной. Поглаживая на руке берет, Захаров подошел к ней, сел на диван. Она отвернулась.
– Видишь, Ванда, умереть – это всегда можно, это в наших руках. А только нужно быть вежливой. Чего же ты от меня отворачиваешься? Я тебе зла никакого не сделал, ты меня не знаешь. А может быть, я очень хороший человек. Другие говорят, что я хороший человек.
Ванда с трудом навела на него косящий глаз, угол рта презрительно провалился:
– Сами себя хвалите…
– Да что же делать? Я и тебе советую. Иногда очень полезно самому себя похвалить. Хотя я тебе должен сказать: меня и другие одобряют.
Ванда наконец улыбнулась попроще:
– Ну, так что?
– Да что? Я тебе предлагаю дружбу.
– Не хочу я никаких друзей! Я уже навидалась друзей, ну их!
Захаров поднялся с дивана, прошелся по кабинету, постоял перед картинами, которых много висело в кабинете, потом залез за стол.
– Какие там у тебя друзья! Я уже знаю. Я тебе предлагаю серьезно: большая дружба и на всю жизнь. На всю жизнь, ты понимаешь, что это значит?
Ванда пристально на него посмотрела, прошептала:
– Понимаю.
– Где твои родители?
– Они… уехали… в Польшу. Они – поляки.
– А ты?
– Я потерялась… на станции, еще малая была.
– Значит, у тебя нет родителей?
– Нет.
– Ну, так вот… я тебе могу быть… вместо отца. И я тебя не потеряю, будь покойна. Только имей в виду: я такой друг, что если нужно, так и выругаю. Человек я очень строгий. Такой строгий, иногда даже самому страшно. Ты не боишься? Смотреть я на тебя не буду, что ты красивая.
У Ванды вдруг покраснели глаза, она снова отвернулась, сказала очень тихо:
– Красивая! Вы еще не знаете, какая.
– Голубчик мой, во-первых, я все знаю, а во-вторых, и знать нечего. Чепуха там разная.
– Это вы нарочно так говорите, чтобы я осталась в колонии?
– А как же… Конечно, нарочно. Я не люблю говорить нечаянно, всегда нарочно говорю. И верно: хочу, чтобы ты осталась в колонии. Очень хочу. Прямо… ты себе представить не можешь.
Он вылез из-за стола и подошел к ней.
– А знаешь, что? Оставайся. Хорошо заживем. Вот увидишь.
Она подняла к нему внимательные, недоверчивые глаза, а он смотрел на нее сверху, и было видно, что он и в самом деле хочет, чтобы она осталась в колонии. Она показала рукой на диван рядом с собой.
– Вот садитесь, я вам что-то скажу.
Он молча сел.
– Знаете что?
– Возьми свою беретку.
– Знаете что?
– Ну?
– Я сама очень хотела в колонию. А меня тут… один знает… Он все расскажет.
Захаров положил руку на ее простоволосую голову, чуть-чуть провел рукой по волосам:
– Понимаю. Это, знаешь, пустяк. Пускай рассказывает.
Ванда со стоном вскрикнула:
– Нет!
Посмотрела на него с надеждой. Он улыбнулся, встряхнул головой:
– Ни за что не расскажет.
В кабинет ворвался Володя Бегунок, остолбенел перед ними, удивленно смутился:
– Алексей Степанович, Руднев спрашивает, не нужно ему новенькую девочку… тот… принимать?
– Не нужно. Клава примет. Пожалуйста: одна нога здесь, другая там, позови Клаву.
– Есть!
Володя выбежал из кабинета, а Ванда прилегла на боковине дивана и беззвучно заплакала. Захаров ей не мешал, походил по комнате, посмотрел на картины, снова присел к ней, взял ее мокрую руку:
– Поплакала немножко. Это ничего, больше плакать не нужно. Как зовут того колониста, который тебя знает?
– Рыжиков!
– Сегодняшний!
Влетел в комнату Володя, снова быстро и с любопытством взглянул на Ванду, что не мешало ему очень деловито сообщить:
– Клава идет! Сейчас идет!
– Ну, Володя! Вот у нас новая колонистка! Видишь, какая грустная? Ванда Стадницкая.
– Ванда Стадницкая? Вот здорово! Ванда Стадницкая?
– Чего ты?
– Да как же! А Ванька собирается в город идти… искать тебя. И я тоже.
– Ваня? Гальченко? Он здесь?
– А как же! Гальченко! Вот он рад будет! Я позову его, хорошо?
Захаров подтвердил:
– Немедленно позови. И Рыжикова.
– Ну-у! Тогда и Чернявина нужно…
– Ванда, ты и Чернявина знаешь?
Ванда горько заплакала:
– Не могу я…
– Глупости. Зови всех.
В дверях Володя столкнулся с Клавой Кашириной.
– Алексей Степанович, звали?
– Слушай, Клава. Это новенькая – Ванда Стадницкая. Бери ее в бригаду и немедленно платье, баню, доктора, все и чтобы больше не плакала. Довольно.
Клава склонилась к Ванде:
– Да чего же плакать? Идем, Ванда…
Не глядя на Захарова, пошатываясь, торопясь, Ванда вышла вместе с Клавой.
Через десять минут в кабинете стояли Игорь, Ваня и Рыжиков. Торский и Бегунок присутствовали с видом официальным. Захаров говорил:
– Понимаете, что было раньше, забыть. Никаких сплетен, разговоров о Ванде. Вы это можете обещать?
Ваня ответил горячо, не понимая, впрочем, какие сплетни может сочинять он, Ваня Гальченко:
– А как же!
Игорь приложил руку к груди:
– Я ручаюсь, Алексей Степанович!
– А ты, Рыжиков?
– На что она мне нужна? – сказал Рыжиков.
– Нужна или не нужна, а языком не болтать!
– Можно, – Рыжиков согласился с таинственной снисходительностью.
На него все посмотрели. Вернее сказать – его все рассмотрели. Рыжиков недовольно пожал плечами.
Но в комнате совета бригадиров разговор на эту тему был продолжен.
Игорь Чернявин настойчиво стучал пальцем по груди Рыжикова:
– Слушай, Рыжиков! То, что Алексей говорит, – одно дело, а ты запиши, другое запиши… в блокноте: слово сболтнешь, привяжу камень на шею и утоплю в пруду!
Виктор Терский рассматривал Рыжикова с деловой строгостью:
– Правильно. Только утопить!
Рыжиков заметался взглядом по комнате, но так заметался, чтобы не встретить ни одного взгляда присутствующих:
– Да что вы, хлопцы! Разве я…
– Знаю вас, синьор!
Рыжиков страдальчески поморщился. Тяжесть этих подозрений была для него непосильна.
5 Литейная лихорадка
В спальнях, в столовой, в парке, в коридорах, в клубах – между колонистами всегда шли разговоры о производстве. В большинстве случаев они носили характер придирчивого осуждения. Все были согласны, что производство в колонии организованно плохо. На совете бригадиров и на общих собраниях въедались в заведующего производством Соломона Давидовича Блюма и задавали ему вопросы, от которых он потел и надувал губы:
– Почему дым в кузнице?
– Почему лежат без обработки поползушки, заказанные заводом им. Коминтерна?
– Почему не работает полуревольверный?
– Почему не хватает резцов?
– Почему протекает нефтепровод в литейной?
– Почему перекосы в литье?
– Почему в механическом цехе полный базар? Барахла накидано, а Шариков целый день сидит в бухгалтерии, не может никак пересчитать несчастную тысячу масленок?
– Когда будут сделаны шестеренки на станок Садовничего, клинья к суппорту[182] Поршнева, шабровка[183] переднего подшипника у Яновского, капитальный ремонт у Редьки?
Колонисты требовали ремонта станков, ходили за ремонтными слесарями, ловили во дворе Соломона Давидовича, жаловались Захарову, но к станкам всегда относились с презрением:
– Мою соломорезку сколько ни ремонтируй, все равно ей дорога в двери. Разве это токарный?
Соломон Давидович обещал все сделать в самом скором времени, но остановить станок и начать его ремонт – на это не был способен Соломон Давидович. Это было самоубийство – остановить станок, если он еще может работать. Станок свистел, скрипел, срывался с хода, колонисты со злостью заставляли его работать, и станок все-таки работал. Работали соломорезки, работали суппорты без клиньев, работали изношенные подшипники. «Механический» цех ящик за ящиком отправлял в склад готовые масленки, около сборочного цеха штабелями грузили на подводы театральные кресла. Швейная мастерская, как и предсказывал Соломон Давидович, выпускала исключительно трусики из синего, коричневого и зеленого сатина, но выпускала их тысячами, и на каждой паре трусиков зарабатывал завод[184] три копейки. В колонии не было денег, но на текущем счету колонии все прибавлялись и прибавлялись деньги. Среди колонистов находились люди с инициативой, которые говорили на собраниях:
– Соломон Давидович деньги посолил, а спецовок прибавить, так у него не выпросишь.
Соломон Давидович возражал терпеливо:
– Вы думаете, если завелась там небольшая копейка, так ее обязательно нужно истратить? Так не делают хорошие хозяева. Я ни капельки не боюсь за вас, дорогие товарищи: тратить деньги вы всегда успеете научиться и можете всегда добиться очень высокой квалификации в этом отношении. А если нужно беречь деньги, так это не так легко научиться. Если ты не будешь терпеть, так ты потом будешь хуже терпеть. Я дал слово Алексею Степановичу и вам, что мы соберем деньги на новый завод, так при чем здесь спецовки? Потерпите сейчас без спецовок, потом вы себе купите бархатные курточки и розовые бантики.
Колонисты и смеялись и сердились. Смеялся и Соломон Давидович. Смотрели все на Захарова, но и он смотрел на всех и улыбался молча. И трудно было понять, почему этот человек, такой напористый и строгий, так много прощает Соломону Давидовичу, – правда, и колонисты прощали ему немало.
Самым скандальным цехом был, конечно, литейный. Это был кирпичный сарай с крышей довольно-таки дырявой. В сарае стоит литейный барабан. В круглое отверстие на его боку набрасывается «сырье», винтовочные патроны, оставшиеся от ружей старых систем, измятые, покрытые зеленью и грязью. Не брезговал Соломон Давидович и всяким другим медным ломом. Из того же круглого отверстия выливается в ковши расплавленная медь. К барабану приделана форсунка, а под крышей в углу – бак с нефтью. Все это оборудование далеко не первой молодости – продырявлено и проржавлено.
Система барабана, форсунки[185] и бака, в сущности, очень проста и не заключает в себе ничего таинственного, но мастер-литейщик Баньковский, бывший кустарь и бывший владелец барабана, имеет вид очень таинственный: ему одному известны секреты системы.
В литейной кипит работа. У столика шишельников работают малыши. Все они одеты в поношенные спецовки, очевидно, раньше принадлежавшие более взрослому населению колонии: брюки слишком велики, они целыми гармониями укладываются на худых ногах пацанов, рукава слишком длинны.
На полу литейной расположены опоки[186], возле которых копаются формовщики – колонисты постарше: Нестеренко, Синицын, Зырянский. У одной из стен старая формовочная машина, на ней работает виднейший специалист по формовке, худой, серьезный Крусков из седьмой бригады.
Литейная полна дыму. Он все время пробивается из барабана, из литейной он может выходить только через дырки в крыше. Каждый день между мастером Баньковским и колонистами происходят такие разговоры:
– Товарищ Баньковский! Нельзя же работать!
– Почему нельзя?
– Дым! Куда это годится? Это же вредный дым – медный!
– Ничего не вредный. Я на нем всю жизнь работаю.
Через щели в крыше, через окна и двери дым расходится по всей колонии и в часы отливки желтоватым, сладким туманом гуляет между зданиями. Молодой доктор, сам бывший колонист, Колька Вершнев, лобастый и кучерявый, бегает из кабинета в кабинет, стучит кулаками по столам, потрясает томиком Брокгауза – Ефрона[187] и угрожает, заикаясь:
– Я п-пойду к п-прокурору. Литейная л-лихорадка! Вы з-знаете, что это т-такое? П-прочитайте!
Этого самого доктора Алексей Степанович давно знает. Он морщит лоб, снимает и одевает пенсне:
– Призываю тебя, Николай, к порядку. Прокурор нам вентиляции не сделает. Он закроет литейную.
– И п-пускай закрывает!
– А за какие деньги я тебе зубоврачебное кресло куплю? А синий свет? Ты мне покою уже полгода не даешь. Синий свет! Ты обойдешься без синего света?
– В каждой п-паршивой амбулатории есть с-синий свет!
– Значит, не обойдешься?
– Так что? Будем т-травить п-пацанов?
– Надо вентиляцию делать. Я нажимаю, и ты нажимай. Вот сегодня комсомольское.
На комсомольском собрании Колька размахивает Брокгаузом – Ефроном и вспоминает некоторые термины, усвоенные им отнюдь не в медицинском институте:
– З-занудливое п-производство т-такое!
И другие комсомольцы «парятся», вздымают кулаки. Марк Грингауз направляет черные, печальные глаза на Соломона Давидовича:
– Разве можно допустить такой дым, когда вся страна реконструируется?
Соломон Давидович сидит в углу класса на стуле – за партой его тело поместиться не может. Он презрительно вытягивает полные, непослушные губы:
– Какой там дым?
– Отвратительный! Какой! И вообще нежелательный! И для здоровья неподходящий!
Это говорит Похожай, чудесно-темноглазый, всегда веселый и остроумный.
Соломон Давидович устанавливает локоть на колено и протягивает к собранию руку жестом, полным здравомыслия:
– Это же вам производство. Если вы хотите поправить здоровье, так нужно ехать в какой-нибудь такой Крым или, скажем, в Ялту. А это завод.
В собрании подымается общий возмущенный галдеж.
– Чего вы кричите? Ну, хорошо, поставим трубу.
– Надо поручить совету бригадиров взяться за вас как следует.
Теперь и Соломон Давидович рассердился. Опираясь на колени, он тяжело поднимается, шагает вперед, его лицо наливается кровью.
– Что это за такие разговоры, товарищи комсомольцы? Совет бригадиров за меня возьмется! Они из меня денег натрусят или, может, вентиляцию? Я строил этот паршивый завод или, может, проектировал?
– У вас есть деньги.
– Это разве те деньги? Это совсем другие деньги.
– Вы «стадион» проектировали!
– Проектировал, так что? Вы работаете сейчас под крышей. Вы думаете, это хорошо делают некоторые комсомольцы? Он смотрит на токарный станок и говорит: соломорезка! Он не хочет делать масленки, а ему хочется делать какой-нибудь блюминг. Он без блюминга жить не может!
– Индустриализация, Соломон Давидович!
– Ах, так я не понимаю ничего в индустриализации! Вы еще будете меня учить! Индустриализацию нужно еще заработать, к вашему сведению. Вот этим вот местом! – Соломон Давидович с трудом достал рукой до своей толстой шеи. – А вы хотите, чтобы добрая старушка принесла вам индустриализацию и вентиляцию.
– А трубу все-таки поставьте!
– И поставлю.
– И поставьте!
Расстроенный и сердитый Соломон Давидович направляется в литейный цех. Там его немедленно атакуют шишельники, и Петька Кравчук кричит:
– Это что, спецовка? Да? Эту спецовку Нестеренко носил, а теперь я ношу? Да? И здесь дырка, и здесь дырка!
Соломон Давидович брезгливо подымает ладони:
– Скажите пожалуйста, дырочка там! Ну что ты мне тыкаешь свои рукава? Длинные – это совсем не плохо. Короткие – это плохо. А длинные – что такое? Возьми и подверни, вот так.
– Ой, и хитрый же вы, Соломон Давидович!
– Ничего я не хитрый! А ты лучше скажи, сколько ты шишек сделал?
– Вчера сто двадцать три.
– Вот видишь? По копейке – рубль двадцать три копейки.
– Это разве расценка – копейка! И набить нужно, и проволоку нарезать, и сушить.
– А ты хотел как? Чтобы я тебе платил копейку, а ты будешь в носу ковырять?
Из дальнего угла раздается голос Нестеренко:
– Когда же вентиляция будет? Соломон Давидович?
– А ты думаешь, тебе нужна вентиляция, а мне не нужна вентиляция? Волончук сделает.
– Волончук? Ну! Это будет вентиляция, воображаю!
– Ничего ты не можешь воображать. Он завтра сделает.
Вместе с Волончуком, молчаливым и угрюмым и, несмотря на это, мастером[188] на все руки, Соломон Давидович несколько раз обошел цех, долго задирал глаза на дырявую крышу.
Волончук на крышу не смотрел:
– Трубу, конечно, отчего не поставить. Только я не кровельщик.
– Товарищ Волончук. Вы не кровельщик, я не кровельщик. А трубу нужно поставить.
Ваня Гальченко работал в литейном цехе, и ему все нравилось: и таинственный барабан, и литейный дым, и борьба с этим дымом, и борьба с Соломоном Давидовичем, и сам Соломон Давидович. Не понравилось ему только, что Рыжиков был назначен тоже в литейный цех – на подноску земли.
6 Петли
Ванда Стадницкая с трудом привыкала к пятой девичьей бригаде. Она как будто не замечала ни нарядности и чистоты спальни, ни ласковой деликатности новых товарищей, ни вечернего их щебетания, ни строго порядка в колонии. Молча она выслушивала инструктивные наставления Клавы Кашириной и назначенной к ней шефа Оли Коломиец, круглолицей, некрасивой, но серьезно-приветливой девушки, кивала головой и скорее отходила, чтобы по целым часам стоять у окна и рассматривать все одну и ту же картину: убегающую дорожку парка, ряд березовых вершин и небо. В столовой она боком сидела на своем месте, как будто собиралась каждую минуту вскочить и убежать, ела мало, почти не поднимая взгляда от тарелки. И новое школьное платье, которое она получила в первый же день: синяя шерстяная юбка в складку и две миленькие батистовые блузки – очень простой и изящный наряд, который ел шел и делал ее юной, розовой и прекрасной, – и блестящие вымытые волосы – ничто ее не развлекало и не интересовало.
Но однажды и Ванда разговорилась с Олей. Они сидели в парке на скамье. Ванда спросила:
– Эти девочки, которые в колонии живут, они откуда?
– А девочки у нас из разных мест.
– А почему они здесь живут?
– Тоже по-разному… Вот у Клавы давно родители умерли, а у меня есть отец и мать. Только отец больше не работает, а мать похлопотала, меня сюда и приняли.
– А такие девочки… беспризорные, есть?
– Наверное, есть.
– А разве ты не знаешь?
– Я не знаю. Да у нас никто не знает.
– А как же так?
Ольга удивлено посмотрела на свою подшефную:
– Тебе разве не все равно?
– Конечно, интересно.
– А мы даже и не думаем об этом. И некогда думать. То то, то другое, все некогда. А зачем про это думать, разве не все равно? И мальчики тоже. К некоторым родители приезжают, а то письма получают, а есть и такие, которые не получают. А только мы этим не интересуемся. И Алексей Степанович говорит, не нужно на это время тратить.
– А может, я – беспризорная?
– Ну, так что?
– Может, я на улице жила?
– На улице? У нас девочки не живут на улице. Мальчики бывают, если очень балованные. А девочки нет. Если у кого родители умрут, так сейчас же в колонию.
– А я знаю, что есть: просто девочки и живут на улице.
– Может быть, и есть. Только все равно. Поживешь немного, а потом, все равно, в колонию. И те – колонистки, и те – колонистки.
Так Ванда ничего нового и не узнала в этом разговоре.
В швейной мастерской, которая помещалась в одной из комнат в здании школы, Ванде предложили было серьезную работу, но оказалось, что она ничего не умеет делать. Тогда ей поручили метать петли. Эту работу обычно выполняли самые маленькие, таких в бригаде было около полдюжины: бойкие, веселые, тонконогие, у них по углам спальни водились куклы. Но и петли Ванда метала очень плохо, медленно, лениво. Старшие молча наблюдали, неодобрительно поглядывали друг на друга, показывали, поправляли. Ванда покорно выслушивала их замечания, на время уступала им работу, скучно посматривала боком, как ловкая, юркая игла мелькает между розовыми опытными пальчиками.
Однажды Ванда пришла в мастерскую, когда уже давно стучали машинки. Не отрываясь от работы, Клава спросила:
– Ванда, почему ты опоздала?
Ванда не ответила.
– А вчера ты ушла раньше времени. Почему?
Неожиданно Ванда заговорила:
– Ну что же, и скажу. Не буду работать: не хочу.
– Не будешь работать? А как же ты будешь жить?
– Ну и пусть. Поживу без ваших петель.
– Стыдно, Ванда. Надо учиться. Мы все с петель начинали.
Ванда бросила работу. В горле у нее стояли рыдания, она дико оглядела комнату:
– Куда мне до вас! Петлями начинали! А я кончу петлей!
Она вышла из комнаты, хлопнула дверью.
Вечером она лежала, отвернувшись к стене, ужинать не пошла. Девочки посматривали на ее белокурый, нежный затылок испуганными глазами. Клава сводила брови и что-то шептала про себя.
Утром, когда Ванда одна гуляла по спальне, к ней пришел Захаров. При виде его она покраснела и поправила юбку.
Он улыбнулся грустно, сел у стола:
– Что случилось, Ванда?
Ванда не ответила, продолжала смотреть в окно. Он помолчал.
– В столярной хочешь работать? Там интересно: дерево!
Она быстро повернулась к нему.
– Ой, какой же вы человек. Такое придумали: в столярной!
– Хорошо придумал. Ты вообрази: в столярной!
– Будут смеяться.
– Напротив. Первая девушка в нашей колонии пойдет в столярную. Честь какая! А то девчата все считают: их дело тряпки. Неправильно считают.
Ванда задорно взметнула ресницы:
– А что же вы думаете? И пойду. В столярную? Пойду. Сейчас?
– Идем сейчас.
– Идем. – Он повернулся и, не оборачиваясь, пошел к двери, она вприпрыжку побежала за ним и взяла его под руку:
– Это вы нарочно придумали?
– Нарочно.
– У вас все нарочно?
– Решительно все, – сказал он, смеясь. – Я туть еще одну вещь придумал.
– Скажите. Про меня?
– Про тебя.
– Скажите, Алексей Степанович!
Он наклонился к ее уху, прошептал таинственно:
– Потом скажу.
Ванда ответила ему таким же секретно-задушевным шепотом:
– Хорошо.
7 Коромысло
После работы Игорь решил погулять в окрестностях колонии. Взяв с собой книгу, он прошел парк и вышел на плотину. Слева блестел пруд, а справа между двумя скатами холмов в заросшем камышами овраге еле-еле пробивалась речушка. На вершине противоположного холма стояла дача, по белой стене к черепичной крыше поднимались простодушные побеги «крученого паныча», пестрели его синие, лиловые и розовые колокольчики. У самого дома возвышался ряд тополей, за ними темнел приземистый садик. По эту сторона домика деревьев не было, небольшая площадка огорожена была плетнем, на площадке расположился огород. Огород был не такой, как у крестьян: между грядами проложены были дорожки, и кое-где стояли деревянные диванчики.
Игорь заглянул через плетень. На огороде никого не было, только у одного из диванчиков лежала большая рыжая собака. Увидев Игоря, она поднялась, зарычала, потянулась и побежала к дому. Присмотревшись к огороду, Игорь заметил, что ближайшие грядки были политы и у самого плетня, накренившись на кочке, стояла пустая лейка. «Где же они воду берут?» – подумал Игорь, и в этот же момент увидел калитку в плетне, привязанную к нему старой проволокой. Проследив дальше, он увидел, что вниз к речке спускается узенькая, хорошо протоптанная тропинка, а в конце тропинки, у самых камышей, медленно поднимается с двумя ведрами на коромысле Оксана. Ведра были большие, свежеокрашенные в зеленый цвет; по тому, как слабо они раскачивались на коромысле, было видно, как они тяжелы. Это было заметно и по тому, с какими осторожностью и напряжением делала Оксана маленькие шаги.
Игорь быстро сбежал и схватил дужку ближайшего к нему ведра. Оксана пошатнулась от толчка, подняла к нему испуганные глаза:
– Ой!
– Я тебе помогу.
– Ой, не надо! Ой, не трогайте!
– Игорь даже не знал, что у него в запасе имеется такая сила. Одной рукой он шутя поднял вверх выгнутое плоское коромысло, подхватил его другой рукой. Оксана еле успела выскочить из-под заходивших вокруг них ведер и коромысла. Выскочила и рассердилась:
– Кто тебя просит? Чего ты пристал?
– Леди! Никто не имеет права…
Договорить было трудно: коромысло вертелось на его плече, как на шарнире. Игорь попробовал остановить его, но стряслась другая беда, тяжесть руки перевесила всю систему, одно ведро пошло к земле, другое нависло почти над головой. Оксана уже смеялась:
– Ты не умеешь, без привычки трудно. Поставь на землю. Вот прицепился, что ты будешь делать! Поставь на землю.
Игорь уже сам догадался, что поставить ведро на землю надо. Оксана заговорила с ним на «ты». Ему было весело.
– Дорогая Оксана! Это правильная мысль – поставить их на землю. К черту это допотопное изобретение. Как оно называется?
– Да коромысло ж!
– Коромысло? Получите его в полное ваше распоряжение.
Он взял ведра в руки, потащил в горку. Нести было так тяжело, что он не мог даже говорить. Оксана шла сзади и волновалась:
– И где ты взялся со своей помощью? Поставь ведра, тебе говорю.
Но когда Игорь поставил ведра у самого плетня, она глянула на него из-под дрожащих ресниц и улыбнулась:
– Спасибо.
– Разве можно такое… носить? Это же черти, а не ведра. Это кровожадная эксплуатация!
– А как же ты хочешь? Без воды сидеть? Огород пропадет без воды.
– Культурные люди в таких случаях водопровод устраивают, а не носят на этих самых коромыслах.
– А у нас вся деревня на коромыслах носит. Тут совсем близко. И вода добрая, ключевая.
Оксана уже хозяйничала на огороде. Она легко подняла ведро, отлила воды в лейку и пошла по узкой меже между грядами картофеля.
Игорь любовался ее склоненной головкой, на которой так мило рассыпались к вискам темно-каштановые волосы. Она бросила на него взгляд искоса, но ничего не сказала. У нее была тонкая подвижная талия и осторожный легкий шаг.
– Давай я тебе помогу.
– У нас другой лейки нету.
– А ты мне эту отдай.
– Ты не умеешь.
– Почему ты так стараешься? Ему барыши, ироду, а ты работаешь. Твой хозяин – он эксплуататор.
– Все люди работают, – сказала Оксана, и Игорь вспомнил Ваню Гальченко.
– Твой хозяин работает?
– Работает.
– Он эксплуататор, твой хозяин. Он имеет право держать батрачку? Имеет право?
– Я не батрачка. И он не хозяин вовсе, вы все врете. Он хороший человек, ты такого еще и не видел. И не смей говорить, – проговорила Оксана с тихой обидой и сердито посмотрела на Игоря.
Она перевернула пустую лейку, на стебли растений упали последние струйки. Вдруг она, улыбаясь, посмотрела на Игоря. В улыбке этой была легкая насмешка:
– Картошка всем людям нужна. Здесь хорошая будет картошка. Ты любишь картошку?
На этот вопрос Игорь почему-то не ответил. Картошку он очень любил, но то была другая картошка, на тарелке, а сейчас он видел картошку в непривычном виде, видел, кажется, первый раз в жизни, и не был даже уверен, что это именно картошка. Оксана прошла дальше по меже, оттуда спросила с неожиданной для Игоря свободной смелостью:
– Ты ел когда-нибудь свою картошку?
Вопрос ударил Игоря с фронта, а с тылу ударил другой вопрос:
– Я не помешал? Может, я помешал, так сказать?
Оглянувшись, Игорь увидел Мишу Гонтаря. Миша был в парадном костюме, но этот костюм сейчас не украшал Мишу. Белый широкий воротник находился даже в некотором противоречии с его физиономией, в настоящую минуту выражавшей подозрительность и недовольство.
Оксана ответила:
– Здравствуй, Михайло. Ничего, не помешал.
Игорь саркастически улыбнулся:
– Миша ревнует.
Оксана гневно удивилась. Разгневался и Гонтарь:
– Ты, Чернявин, зря[189] языком!
У самой дачи молодой женский голос позвал:
– Оксана! Скорее беги сюда, скорее!
Оксана поставила поливалку на землю и убежала.
Колонисты помолчали, потом Гонтарь постучал носком ярко начищенного ботинка в плетень и сказал со смущенным хрипом:
– А только ты сюда не ходи, Чернявин!
– Как это: «не ходи»?
– А так, не ходи. Нечего тебе здесь делать.
– Синьор! А если я здесь найду для себя работу?
– Какую работу? Он найдет работу!
– А, например, картошку поливать.
– Я тебе говорю: не ходи!
Игорь склонился над плетнем:
– Сейчас подумаю, сэр: ходить или не ходить?
Миша вдруг закричал:
– Иди отсюда к черту! Найди себе другое место и думай!
Игорь отступил от плетня, с ехидной внимательностью посмотрел на Гонтаря:
– Милорд! Как сильно вы влюбились!
Светло-серые, широко расставленные глаза Гонтаря засверкали. Он замотал головой так, что его жесткие патлы рассыпались по лбу и ушам.
– Это такие, как ты, влюбляются, барчуки!
Игорь демонически захохотал и побежал вниз, к пруду.
8 Каждому свое
В первой бригаде Рыжикова встретили сдержанно. Мало доверия внушала его мясисто-подвижная физиономия, угрюмо-нахальные зеленоватые глаза. Дошел до первой бригады и рассказ о том, как Игорь Чернявин, старый знакомый Рыжикова, вместо приветствия сразу сгреб его и стал душить. Воленко был недоволен назначением Рыжикова в его бригаду, ходил к Виктору Торскому спорить, перечисляя фамилии: Левитин, Руслан Горохов, Ножик, а теперь еще и Рыжиков. Но Виктор Торский ничуть не был поражен этим списком:
– Ты думаешь – у тебя одного? Пожалуйста, в восьмой: Гонтарь, Середин, Яновский, прибавился Чернявин. В десятой: Синичка, Смехотин, Борода, а бригадир какой – ребенок, Илюша Руднев. А у тебя, подумаешь, Ножик! Ножик хороший мальчишка, только фантазер. Зато актив у тебя какой: Колос, Радченко, Яблочкин, Бломберг. Пожалуйста, возьми себе Чернявина, а Рыжикова отдай.
Воленко подумал-подумал и ушел молча.
Рыжикову он сказал на первом бригадном собрании, после того как сухо и коротко познакомил его с бригадой:
– Слушай, Рыжиков. Я знаю, ты не привык к организованному трудовому коллективу. Я тебе советую: привыкай скорее, другой дороги для тебя все равно нет.
Рыжиков ничего не ответил. Он уже начинал разбираться в организованном трудовом коллективе. Назначенный к нему шефом кучерявый, курносый, умный и уверенный Владимир Колос, ученик десятого класса и член бюро комсомольской ячейки, не любил длинных разговоров и нежностей. Он сказал Рыжикову:
– Я твой шеф, но ты не воображай, пожалуйста, что я тебя за ручку буду водить. Ты не ребенок. Я тебя насквозь вижу и еще под тобой на полметра, и все твои мысли знаю. В голове у тебя уборка еще не произведена как следует. Ты этим делом и займись. Колония живет… все видно, хитрого ничего нет. Смотри и учись. А если не знаешь, значит, ты человек очень плохой.
Рыжиков подумал, что Колос тоже насквозь виден, и поэтому ответил с чувством.
– Ты будь покоен, я буду учиться.
– Посмотрим, – сказал Колос небрежно и ушел.
А на другой день Рыжиков подружился с Русланом Гороховым. Руслан первый подошел к нему:
– В литейную назначили?
– В литейную.
– Землю таскаешь?
– Таскаю.
– Правильно. Остригли?
– Остригли.
– Все по правилам. Будешь жить?
Рыжиков обиженно отвернулся:
– С ума я сошел – тут жить!
Руслан захохотал, показывая свои разнообразные зубы, и пригласил Рыжикова погулять в лесу. После прогулки Рыжиков вдруг сделался веселым парнем, со всеми заговаривал по делу и без дела, острил, вертелся возле Воленко. Игорь был очень удивлен, когда Рыжиков остановил его посреди цветника.
– Чернявин, а ты все на меня злишься?
Игорь посмотрел на него недружелюбно, но вспомнил дежурного бригадира – маленького, хорошенького Ильюшу Руднева:
– Я на тебя не злюсь, а только ты паскудно поступил с Ваней.
– Да брось, Игорь, чего там «паскудно»! Ему все равно было в колонию идти, а мне жить нужно было. Мало ли что?
– А здесь… останешься?
– Я вот с тобой хочу поговорить: жить или не жить? Ты как?
Поведение Рыжикова было непонятно. С одной стороны, задумчивая серьезность и доверие к товарищу, советом которого, он, видимо, дорожил. С другой стороны, Рыжиков явно показывал, что человек он бывалый и себе цену знает. Он поминутно сплевывал, поднимал брови, небрежно скользил взглядом по цветникам, – этот взгляд говорил, что цветами его не купишь. В этой игре было что-то приятное для Игоря, напоминающее прежнюю свободу «жизненных приключений». И он ответил Рыжикову, не поступаясь своей славой человека бывалого.
– У меня свои планы, синьор, а только я воровать не буду.
Рыжиков еще раз одобрительно сплюнул.
– Каждому свое.
Они вошли в вестибюль. С винтовкой стоит маленькая, кругленькая Лена Иванова, с веселым безбровым лицом. Она посторонилась, пропуская входящих, нахмурилась, разглядывая действия Рыжикова. Рыжиков остановился на мокрой тряпке, докуривал папиросу, часто затягиваясь. Лену он не замечал.
– Здесь нельзя курить, – сказала громко Лена.
Рыжиков не спеша рассмотрел Лену, пустил ей в лицо струйку дыма.
Лена прикрикнула на него:
– Ты чего хулиганишь? Здесь нельзя курить, тебе говорю.
Рыжиков с неспешной развязностью повернулся к Игорю:
– Вот такие они все! Легавые!
Он сплюнул с досадой.
Лена вздрогнула так, что весь ее парадный костюм пришел в движение, и сказала тоном приказа:
– Вытри!
– Что?
Лена показала пальцем:
– Вытри! Ты зачем плюнул? Вытри!
Рыжиков усмехнулся, повернулся к ней боком и вдруг провел рукой по ее лицу снизу вверх:
– Закройся, юбка!
Лена крепко сжала губы и с неожиданной силой толкнула его своей винтовкой. Рыжиков рассвирепел:
– Ах! Ты так?
Игорь схватил его за плечо, повернул круто:
– Эй![190]
– Ты тоже легавый?
– Синьор, бить не дам. Не тронь девчонку!
– А чего она прямо в живот, сволочь!
Лена отбежала к лестнице, крикнула звонко:
– Как твоя фамилия? Говори, как твоя фамилия?
На площадке лестницы у зеркала показалась Клава Каширина – дежурный бригадир. Лена приставила винтовку к плечу. Рыжиков тронул Игоря локтем:
– Идем, начальство ползет.
Он сказал Лене, уходя на двор:
– Я тебе еще задеру юбку.
Они вышли из здания.
Спустившись вниз, Клава вопросительно посмотрела на Лену. Лена одной рукой молча вытерла слезы, не оставляя положения «смирно».
9 Юридический случай
Они разговаривали в парке. Рыжиков, Руслан и Игорь.
– Ты это зря[191] девчонку тронул, – говорил Руслан.
– А что? Вская мразь – начальство?
– Тебя сегодня вызовут на общем собрании.
– Ну и что?
– Выведут на середину.
– Пускай попробуют.
– Выведут.
– Посмотрим.
По Рыжикову было видно, что он на середину, пожалуй, и не выйдет. Игорю это нравилось.
– А это интересно: не выйдешь?
– Сдохну, а не выйду.
– Это здорово! Вот будет потеха!
Рыжиков до вечера ходил по колонии с видом независимым и уверенным в себе. Случай в вестибюле уже не был секретом, на Рыжикова посматривали с некоторым интересом, но разобрать было трудно, что это за интерес.
Общее собрание открылось в восемь часов, после ужина. В тихом клубе на бесконечном диване все колонисты не умещались, хотя и сидели тесно, и впереди дивана были поставлены стулья. На коврике вокруг бюста Сталина и на ступеньках помоста гнездами расположились малыши, на весь зал блестели их голые колени. Девочки заняли один из тихих углов клуба, но отдельные их группки были и среди мальчиков.
Малыши на помосте оставили небольшое место для ораторов. Председатель, Виктор Торский, сидит на самой верхней ступеньке, спиной опираясь на мраморный пьедестал, малыши и председателя облепили, как мухи. На краю помоста стоит Соломон Давидович и держит речь:
– Я очень хорошо понимаю, что трусики шить – не большая приятность. Но зато трусики приятно надеть, особенно на курорте, а вы этого, товарищи, не учитываете. А если вы здесь не захотите шить трусики, и другие не захотят, и никто не захочет, – так кто же будет шить трусики? И везде так. Вы спрашивали каменщиков, когда они строили для вас дом? Вы ничего не спрашивали. А может, вы спрашивали кровельщиков или плотников? А кто вам печет хлеб, так вы тоже не спрашивали, приятно им или, может, неприятно. А вы сидите и считаете: вот мы колония Первого мая, так мы такие хорошие, лучше всех, мы не желаем шить трусики и не желаем делать масленок и театральную мебель, а мы желаем шить какие-нибудь фраки и делать швейные машины и какую-нибудь мебель рококо или Людовика Семнадцатого. За обедом вы едите мясо, а это мясо ходило на четырех ногах, с хвостом и ело траву, и такие самые мальчики и девочки за ним смотрят и вовсе не называются колонистами-первомайцами, а называются просто пастухами. Так все довольны, а только вы недовольны: у вас паркет, цветы, школа, музыка, кино, четыре таких цеха, а вам все мало, вам подавай заграничное оборудование по последнему слову техники, и вы будете делать паровозы и аэропланы, а может, блюминги, которые вам не дают покоя. Пускай из вас кто встанет и скажет, что я говорю неправильно. Я хотел бы посмотреть, как он это скажет.
Сохраняя на лице задорную, расплывшуюся чуть не до самого затылка улыбку, Соломон Давидович сошел с помоста и уселся на диване, где пацаны ревниво сохраняли для него место. Но, усевшись и сложив на большом животе руки, он еще раз обвел взглядом собрание и увидел улыбки колонистов, то недоверчивые, то смущенные, то задорно-убежденные. И Соломон Давидович сказал Захарову, сидящему неподалеку от него на том же диване:
– Что ты скажешь? Они все-таки по-своему думают.
Захаров загадочно улыбнулся и показал глазами на очередного оратора.
К помосту вышел Санчо Зорин и еще не начал говорить, а уже занес кулак.
– Соломон Давидович! До чего хитрый! Каждый день девчата делают тысячу трусиков, прибыли тридцать рублей в день. А в месяц девятьсот рублей, а в год десять тысяч. Так это ничего. А как девчата захотели кройке поучиться, так он сейчас и каменщиков вспомнил, и пастухов, и паровозы. А мы что? Разве мы говорим? Мы очень благодарны каменщикам. А что касается пастухов, так при социалистическом хозяйстве много пастухов не нужно, а будет стойловое кормление. А если вы хотите знать, так я и сам был пастухом, что ж, тоже работа, только у кулака, конечно. А теперь я столяр и хочу быть ученым и буду – вот увидите. Так что? При Советской власти – каждый может! И паровозы может строить, и блюминги. Теперь нет такого, что вот ты пастух, так и издохнешь возле коров. Попас, попас немного, а потом и в вуз. Видите, как? И поэтому я предлагаю: если девочки хотят – взять им инструктора, чтобы кройку показывал. А может, им пригодится? А только меня удивляет, почему это девчата все за швейную мастерскую держатся. И очень одобряю, хвалю прямо: новенькая к нам приехала, Ванда Стадницкая. Она в сборочном цехе. Молодец, прямо молодец, она и комсомольцам покажет, как нужно работать, даром что еще не умеют.
Ванда спряталась в гуще пятой бригады и лицо пристроила за чьим-то плечом, чтобы общее собрание не увидело ее румянца.
С другой стороны зала Чернявин и Руслан на диване, а впереди них на стуле веселым героем уселся Рыжиков; слушает – не слушает, а разглядывает всех нахальными глазами, даром что никого еще не знает. Чуть-чуть вкось на том же диване Миша Гонтарь.
Руслан сказал тихо:
– А про тебя, кажется, забыли, Рыжиков, – везет!
– Один черт!
Гонтарь повернул к ним голову, сказал поучительно:
– Ничего, голубчики, не забыли. Все знают.
– Наплевать, – сказал Рыжиков.
– Ты не очень плюй. Вот попаришься на середине.
– А я выйду?
– Не выйдешь? А потом что будет?
– А что будет?
– Дорогой! Мне тебя загодя жалко. Лучше выйди!
– Испугал!
– Друг! Лучше испугайся сейчас.
Игорь даже рукой по колену хлопнул:
– Интересно! Ты не выходи, Рыжиков, покажи им.
Гонтарь печально улыбнулся:
– Эх, люди, люди! Я и сам таким был… дураком.
Проголосовали вопрос об инструкторе кройки, и Виктор Торский спросил:
– Клава, что в рапортах?
– Рыжиков, Игорь, Руслан вытянули шеи. Гонтарь прошептал с торжеством кудесника, предсказание которого начинает сбываться:
– Пожалуйте бриться!
Клава ответила:
– В рапортах все благополучно. Только в первой бригаде плохо: Рыжиков не подчинился дневальной Лене Ивановой и оскорбил ее.
Клава передала Торскому бумажку. Он молча пробежал ее, кивнул головой:
– Угу… Рыжиков!
В зале стало тихо. Рыжиков ответил с бодрым, склонным к остроумию оживлением:
– А что такое?
Все лица неслышно повернулись к Рыжикову. Торский показал глазами:
– Выходи на середину.
Рыжиков неловко, но достаточно бодро повозился на стуле:
– Никуда я не пойду.
Те же лица, только что смотревшие на него с благодушным интересом, вдруг заострились, легкий шум пробежал в зале и затих. Торский удивленно спросил:
– Как это не пойдешь?
Рыжиков в подавляющей оглушительной тишине отвалился назад и руку развесил на спинке стула:
– Не пойду, и все!
В зале как будто взорвалось. Кричали в разных местах, пацана на помосте звенели дискантами, чего-то требовали. Рыжиков заставил себя посмотреть туда – к нему были обращены горячие, гневные лица. Вырывались возгласы:
– Ха! Он не пойдет!
– Пойдешь, милый!
– Встань, чего ты развалился?
– Какой такой Рыжиков?
– Ух ты! Герой какой!
– Герой, на копейку трос!
Зырянский, в алом гневе, поднялся с места, сделал шаг вперед. Торский приказал резко:
– Зырянский! На место!
Зырянский мгновенно опустился на диван, но все в нем по-прежнему стремилось вперед. Общий крик загремел на несколько тонов выше:
– Смотреть на него!?
– Да я его сам!
– Ломается!
– Выходи!
Игорь не успевал оборачиваться… Рыжиков хотел что-то сказать, лицо уже приготовил нахальное, нечаянно приподнялся. Гонтарь сразу одной рукой принял его стул, другой подтолкнул к середине.
Очутившись на свободном, блестящем пространстве, Рыжиков не сразу понял то, что произошло. Но он чувствовал, что силы его исчезают. Недовольно пожав одним плечом, он проворчал что-то, вероятно, ругательство, засунул руки в карманы, но, глянув перед собой, нечаянно увидел Зырянского. Тот, сидя на диване, весь поднялся вперед и, встретившись взглядом с Рыжиковым, гневно и угрожающе стукнул себя кулаком по колену. В зале захохотали. Рыжиков испуганно вздрогнул, не понимая причины хохота, и, совсем растерявшись, машинально подвинулся к чистой, холодной, как пустыня, середине зала. Но руки у него оставались в карманах, ноги приняли какую-то нелепо-балетную позицию. Как будто подчиняясь дирижерской палочке, прогремел общий весвело-требовательный крик:
– Стань смирно!
У Рыжикова уже не было сил сопротивляться. Он приставил ногу, выпрямился, но одна рука еще в кармане. И тогда в тишине раздался негромкий, повелительно-нежный голос председателя:
– Вынь руку из кармана.
Рыжиков для приличия повел недовольным взглядом поверх голов сидящих и руку из кармана вынул. Игорь не удержался:
– Синьоры! Он готов!
– Чернявин! К порядку!
Но Рыжиков, действительно, готов и поэтому старается не смотреть на колонистов. У колонистов два выражения: у одних еще остывает гнев, у других улыбка – выражение победы. Торский поставил деловой вопрос:
– Ты первой бригады?
Рыжиков прохрипел, по-прежнему глядя поверх голов:
– Первой.
– Дай объяснение, почему не подчинился дневальной и оскорбил ее.
– Никого я не оскорблял. Она сама меня двинула[192].
Быстрый, легкий смех пробежал в «тихом» клубе.
– Никого не оскорблял? Ты провел рукой по лицу.
– Ничего подобного. А кто видел?
Смех повторился, но уже более долгий. Улыбнулся и Торский. Смеялся, поддерживая сложенными руками живот, Соломон Давидович; Захаров поправил пенсне. Торский пояснил:
– Какой ты чудак! Нам не нужны свидетели.
Рыжиков сообразил, что колонисты уже устроили из него потеху. Но он слишком хорошо знал жизнь и знал, какое важное значение имеют свидетели:
– Вы мне не верите, а ей верите.
И как всегда в минуту юридической правоты, у него нашлось обиженное выражение лица и небольшое дрожание в голосе. Было только странно, что и этот ход, считавшийся у понимающих людей абсолютно неуязвимым, был встречен уже не смехом, а хохотом, раздольным и жизнерадостным. Рыжиков обозлился и закричал:
– Чего вы смеетесь? А я вам говорю: кто видел?
Очевидно, это было настолько завлекательно, что ребята и смеяться не могли, боясь расплескать полную чашу наслаждения. Они увлеченно смотрели на Рыжикова и ждали. Торский снова охотно пояснил:
– А если никто не видел? Можно оскорблять человека, если никто не видит?
Это была очень странная мысль, с такими мыслями Рыжиков никогда еще не встречался. Он помолчал, потом поднял глаза на председателя и сказал убедительно и просто:
– Так она врет. Никто же не видел!
Игорь Чернявин поднялся на своем месте. Торский и другие вопросительно на него посмотрели. Еле удерживая смех, Игорь сказал:
– Рыжиков несколько ошибается. Я, например, имел удовольствие видеть, как он мазнул ее по лицу.
Рыжиков быстро оглянулся:
– Ты?
– Я.
– Ты видел?
– Видел, синьор!
Теперь смех получился недоброжелательный, осуждающий. Эстетическое наслаждение кончено: в последнем счете неприятно смотреть на человека, который обиженным голосом требовал свидетеля, а свидетель сидел с ним рядом.
Зырянский протянул руку:
– Дай слово.
– Говори.
– Что тут разбирать? Откуда такой взялся? Рыжиков! Как ты смеешь не подчиняться нашим законам? Как ты смеешь возить лапой по лицу девочки? С какой стати? Говори, с какой стати?
Зырянский шагнул к Рыжикову. Рыжиков отвернулся.
– Выгнать. Немедленно выгнать! Открыть дверь и… иди! А он еще свидетелей ищет. Мое предложение, взять и…
– Выгнать, – подсказал кто-то.
Зырянский улыбнулся на голос:
– Вы, конечно, не выгоните, у вас добрые души, а только напрасно.
Зырянский жестом пригласил говорить Воленко, своего постоянного оппонента. Воленко не отказался.
– Рыжиков в моей бригаде. Человек, прямо скажу, тайный какой-то, и все с Русланом вместе.
– А я причем? – крикнул Руслан.
– О тебе тоже когда-нибудь поговорим. А все-таки я думаю, что из Рыжикова толк будет. Он не то, что какой-нибудь барчук. Конечно, прошлым мы не интересуемся, а все-таки пусть он скажет, где его отец.
Торский спросил:
– Рыжиков, ответь… Можешь сказать?
– Могу. Мой отец купцом был.
– Умер?
– Нет.
– А где он?
– Не знаю.
– Совсем не знаешь?
– Убежал куда-то.
Воленко продолжал:
– Выгонять не нужно. Наказать следует, а в колонии нужно оставить. Посмотрим, может, из него еще советский человек выйдет.
Встал Захаров:
– Я думаю, что и наказывать не нужно. Человек еще малокультурный.
Рыжиков недовольно отозвался:
– Чего я там малокультурный?
– Малокультурный. Ты еще не понимаешь такого пустяка – плюешь. За тобой же прибирать нужно: мыть. А ведь в этом вопросе совсем нетрудно сообразить. Надо, чтобы первая бригада научила Рыжикова необходимой культуре. Хватаешь девочку за лицо. Так делают только самые дикие люди, а ведь ты совсем не такой дикий, учился, окончил три группы. Предлагаю оставить без наказания, а Лене выразить сочувствие от имени общего собрания.
Собрание закончилось быстро. Зырянский снял свое предложение. Торский сказал Рыжикову:
– Можешь идти. Да смотри за собой.
Рыжиков тронулся с места.
– Подожди. Салют общему собранию.
Рыжиков улыбнулся снисходительно и поднял руку.
– Лена, общее собрание выражает тебе сочувствие и просит тебя забыть об этом деле.
На лестнице, по дороге к спальням, Рыжиков приостановился и сверху вниз глянул на Игоря:
– Ты что же, Чернявин, легавишь?
– А когда я легавил?
– Когда легавил? Ты видел! Свидетель! Какое тебе дело?
Игорь хлопнул себя по бокам:
– Ах ты, черт! Действительно. А то разве ты стоял на середине? Я смотрю, стоит какой-то рыжий. Думал, кто другой. Значит, ты вышел на середину?
Руслан раскатился смехом на всю лестницу. Рыжиков презрительно смотрел на Игоря до тех пор, пока их не догнал снизу Владимир Колос. Он хлопнул Рыжикова по плечу:
– Поздравляю. Это, брат, важно: первый раз на середине. Теперь дело пойдет. А все-таки перед собранием стоять нужно смирно.
Рыжиков улыбнулся, польщенный.
10 Поцелуй
Раз в неделю в большом театральном зале колонии, в котором стояло четыреста дубовых кресел собственного завода, бывали киносеансы. На кино приходили служащие с семьями, девушки и парни с Гостиловки, знакомые из города. Киносеансы не требовали от колонистов добавочных хлопот. С утра отправлялся в город по линейке колонист из девятой бригады Петров 2-й, с младенческого возраста преданный киноидее, решивший и всю остальную жизнь посвятить этому чуду XX в. Петров 2-й прожил от рождения шестнадцать лет и был убежден, что за это время он постиг всю мудрость жизни. Она оказалась очень простой и приятной: человек должен быть киномехаником, даже если для этого нужно выдержать экзамен. Но Петрова 2-го бюрократы, конечно, не допускали к экзамену раньше восемнадцати лет, и поэтому Петров 2-й ненавидел бюрократов. Петров 2 честно старался быть последовательным, он ненавидел только книнематографических бюрократов, к которым он ездил раз в неделю, чтобы выписать и получить очередную картину. Будучи вообще человеком добродушным, вежливым и даже вяловатым, Петров 2-й, выписывая комплект жестяных круглых коробок, ухитрялся наговорить столько неприятных вещей кинематографическим бюрократам, что они постепенно дошли до остервенения. В один прекрасный день они целой толпой в составе трех человек нагрянули в колонию и констатировали, что картину «пускает» не настоящий киномеханик, обладающий всеми правами, а тот самый шестнадцатилетний Петров 2-й, который раз в неделю приходил к ним с пустым мешком и обвинял их в бюрократизме. Петров 2-й и сейчас не полез в карман за словами, но дело кончилось грустно: колония была оштрафована на пятьдесят рублей, аппарат опечатан, написан очень длинный акт, содержащий множество бюрократических требований. Общественное мнение колонии стояло, разумеется, на стороне Петрова 2-го, так как для всех было ясно, что шестнадцатилетний возраст не мешает человеку быть гением в той или иной области.
Общественное мнение, однако, кое в чем обвиняло и самого Петрова 2-го. Зырянский Алеша в своей речи на общем собрании выразил это так:
– Петрова 2-го следует тоже взгреть. Разве с бюрократами можно бороться в одиночку? Нужно было привезти их на общее собрание и тут поговорить.
Теперь, после поражения политики Петрова 2-го, главная беда состояла в том, что под выходной день нечего было показать публике, а публика уже привыкла приходить в колонию под выходной день. Выход из положения был найден, конечно, Петром Васильевичем Маленьким.
Петр Васильевич предложил поставить пьесу. Драмкружок в колонии и зимой работал плохо, а летом и совсем рассыпался: ни у кого не было охоты тратить летние вечера на репетиции. Да и зимой даже самые активные члены драмкружка в глубине души предпочитали кино. Но сейчас кино было исключено из жизни бюрократическим актом и не могло возобновиться, пока вся кинобудка с ног до головы не оденется асбестом, пока не появится в будке совершеннолетний киномеханик.
Петр Васильевич кликнул клич. Охотников нашлось не так много, поэтому были привлечены к драматической затее и новички. Чернявин должен был играть третьего партизана, нашлись роли и для Вани Гальченко, и Володи Бегунка. Репетиции прошли успешно и быстро, декорации леса и барской усадьбы сделаны были в естественном стиле: лес – из сосновых веток, а усадьба – из фанеры.
В день спектакля, когда уже костюмы были привезены и публика начала собираться, Игорь заглянул в парк и на первой же скамье увидел одинокую Оксану. Он очень ей обрадовался. Его настроение было повышенно в предчувствии сценического успеха. Оксана же сегодня была красивее всех девушек мира: на ней была замечательно отглаженная розовая кофточка, а в руках васильки.
– Оксана! Какая ты сегодня красивая!
Девушка испуганно отодвинулась от него, а когда Игорь сделал к ней движение, она вскочила и попятилась от него по дорожке.
– А еще колонист! Разве так можно?
– Оксана! У тебя такие глаза!
Оксана поднесла руку к глазам, в руке были васильки.
– Уходи! Я тебе говорю, уходи от меня!
Но Игорь не ушел. Он сделал к ней широкий шаг и одним движением обнял ее шею, руки и васильки. Он никогда потом не мог вспомнить, поцеловал он ее или не поцеловал: она пронзительно вскрикнула, отстраняя его, – цветы попали ему в глаз, и стало больно…
– Чернявин! – сказал кто-то гневно.
Он оглянулся: серые ясные глаза Клавы Кашириной смотрели на него неудержимо гневно, ее нежное лицо покраснело пятнами.
– Ты можешь так обижать девушку?
Больше от смущения, чем от наглости, Игорь прошептал:
– Наоборот…[193]
Клава в крайнем и безудержном гневе притопнула ногой:
– Вон отсюда! Ступай, сейчас же найди дежурного бригадира Воленко и расскажи ему все. Понял?
Игорь ничего не понял и бросился по дорожке к зданиям. Но, как быстро он ни покинул место происшествия, он успел услышать глухие звуки рыданий. Оглянуться он побоялся.
11 Веселая собака
Игорь прибежал в театральную уборную не помня себя. Во-первых, стало совершенно очевидно, что он, Игорь Чернявин, влюблен в Оксану, просто втрескался, как идиот. Такого несчастья с ним еще не случалось, а сейчас оно наступило… Все признаки налицо: только влюбленные могут так набрасываться с поцелуями. Во-вторых, он предвидел страшный вопрос на общем собрании.
– Чернявин, дай объяснение…
Он бежал через парк, страдал и краснел, и все вспоминались ему и брови, и глаза, и васильки, черт бы их побрал; рядом с ними вспоминался и Воленко. Ни за какие тысячи Игорь ничего ему не расскажет. Общее собрание, Игорь стоит посередине, все заливаются хохотом… пацаны, пацаны с голыми коленями!
Стремительно открыв дверь в театр, специальный вход для актеров, Игорь налетел на Вооленко. Воленко глянул на него строго – впрочем, он всегда смотрел строго, – Игорь посторонился и разом вспотел.
– Где ты пропадаешь, Чернявин? Иди скорее.
В актерской уборной происходило столпотворение. Захаров, Маленький и Виктор Торский гримировали актеров. Некоторые занимались примериванием костюмов: партизаны, командиры, офицеры, женщины. Виктор Торский, в рясе и в поповском парике, сказал Игорю:
– Чернявин, скорее одевайся. Третий партизан?
– Третий. Черт его знает, милорды, понимаете, никогда партизаном не был…
– Чепуха! Чего там уметь! Будешь партизан, и все. А у тебя и морда подходящая, кто это тебя смазал?
Игорь давно уже чувствовал, что у него напухает правый глаз.
– Да… Зацепился…
– Бывает… за чужой кулак зацепишься. А выйдет, как будто в бою. Веревкой, веревкой подвяжись. Онучи вот, а вот лапти.
Игорь уселся на скамью надевать лапти.
– Как их… никогда лаптей не носил…
Поручик – Зорин туго стягивает поверх старенькой хаковой гимнастерки парадный офицерский пояс:
– А думаешь, я когда-нибудь погоны носил? А теперь приходится.
Игорь склонился над сложной обувью, задумался над двумя длинными веревками, привязанными к лаптю. Первый партизан – Яновский, невыносимо рыжебородый, но с бровями ярко-черными, задирает ногу:
– Видишь, как? Видишь?
Собственно говоря, Игорь не видит, потому что в дверях уборной стоит Клава Каширина и смотрит на Игоря. Игорь наморщил лоб и занялся веревкой. Клава посмотрела на него и ушла.
Петр Васильевич Маленький, в длинном генеральском сюртуке с красным воротником, показал на свободный стул:
– Садись, Чернявин. Кого играешь?
– Третий партизан.
– Третий? Угу. Мы тебя сделаем такого… вот эта бороденка. Совсем бедный мужик, даже борода не растет. Намазывайся.
Игорь начал намазываться желтоватой смесью. Петр Васильевич натянул на его стриженую голову взлохмаченный грязный парик, и на Игоря сразу глянуло из зеркала смешное большеротое лицо.
По этому странному лицу Петр Васильевич заходил карандашом.
– Витька, а где мои ордена? – спросил он у Торского.
– Сейчас Рогов принесет. Там еще звезды не высохли, а лента вон висит.
Он показал на голубую широкую ситцевую ленту, висящую на гвоздике.
Захаров тоже посмотрел на ленту:
– Лента лишняя. Это же гражданская война. И звезды… не нужно.
Виктор изумленно глянул на Захарова:
– Какой же генерал, если без звезды? И лента… насилу у девчат выпросил.
– Голубая лента, выходит, андреевская[194], такие ленты только важные сановники носили.
Маленький снял с гвоздика ленту, перекинул через собственное плечо:
– Ничего, Алексей Степанович, публике понравится. Только вы, ребята, когда хватать будете, полегче. А то с прошлой репетиции домой пришел… просто избитый.
Яновский улыбнулся:
– Ну а как же с генералом? Цацкаться?
Хлопнула дверь, в уборную вбежали Ваня и Бегунок. Бегунок закричал:
– Хорошо? Алексей Степанович, хорошо?
И на нем и на Ване надеты вывороченные полушубки. Володя опустился на четвереньки, натянул на голову собачью остромордую маску и залаял, прыгая к сапогам Захарова и захлебываясь от злости. Ваня проделал то же, уборная наполнилась невыносимым собачьим лаем и хохотом зрителей. У Вани выходило лучше, он умел выделывать особенные нетерпеливо-обиженные взвизгивания, а потом снова заливался высоким испуганным тявканьем.
Виктор закричал:
– Да хватит! Вот эти пацаны! Когда еще спектакль, а они уже три дня бегают по колонии, на всех набрасываются.
Алексей Степанович улыбнулся:
– По шерсти если считать, больше похожи на медвежат. Но, я думаю, сойдет. Раз генерал в андреевской ленте, собаки должны быть страшные.
И Володя, и Ваня, довольные репетицией, на четырех ногах убежали на сцену.
Через полчаса начался спектакль. Уже надев поповскую бороду, Виктор усадил «собак» за кулисами и сказал:
– Только вы так: полайте, а потом промежуток сделайте. Чтобы и другие могли слово сказать. Поняли?
– Есть! – ответили «собаки» и с угрожающим видом притаились в дебрях помещичьего сада.
На сцене все готово. Генералы и вообще буржуазия сходятся в дом. Окно открыто, дом освещен, за окном они усаживаются на совещание. Поп поместился прямо против окна, крикнул:
– Готово.
Занавес пошел вправо и влево. В зале кто-то не выдержал:
– Смотри: Витя Торский!
На него шикнули, стало тихо; против открытого окна, рядом с худющим генералом, сидит не Витя Торский, а отец Евтихий, что немедленно и выяснилось из разговоров буржуазии и генералитета.
На сцену из-за деревьев пробираются партизаны. Между ними и Игорь Чернявин. Партизаны крадутся к окну, а часть должна пробраться в дом. Двое располагаются у самого окна, поднимают винтовки вверх, готовясь выстрелить. И вот они выстрелили: наступила самая увлекательная минута. За окном, в доме, выстрелы и свалка, крики, визг, женский плач. Из-за кулис выскочили две собаки, очень похожие на медвежат, с злобным лаем набросились на партизан. В зале все знали, что это Володя и Ванька, но борьба на сцене так захватывала, всем так хотелось, чтобы партизаны победили, что и собаки стали собаками и даже вызывали к себе враждебное чувство.
Игорь Чернявин, третий партизан, с головой всклокоченной и с жидкой кущеватой бородкой, возится с попом и кричит:
– Попался, пузатый черт!
Непривычная глубина зрительного зала, заполненная сотнями человеческих глаз, мелькание золотых эполет, орденских звезд и голубой ленты, огромный крест, сделанный из картона, за который все хватали его руки, захлебывающийся собачий лай под ногами, шипение Вити Торского: «Не хватай за крест», – все это так оглушило Игоря, что он вдруг забыл вторую свою реплику. Суфлер в будке разрывался на части и что-то подавал свистящим, злым шепотом, но Игорь так и не мог вспомнить эту фразу и кричал все одно и то же:
– Попался, пузатый черт!
Эта реплика вдруг перестала работать – попа повели в плен. Третий партизан должен падать раненным от выстрела худенького поручика. Самый выстрел давно прогремел за сценой, поручик давно тыкал пугачом в живот Игоря, а Игорь растерялся и снова начал:
– Попался, пу…
Он вдруг услышал из зала взрыв[195] смеха и подумал, что это смех по поводу его возгласа. А может быть, имела значение и веревка на лапте. С самого начала боя она начала развязываться, потом Игорь почувствовал, что на нее наступают, наконец, его нога выпрыгнула из лаптя. Игорь дрыгнул босой ногой и тут только вспомнил, что ему давно полагается падать, тем более что и Зорин зашипел на него:
– Да падай же, Чернявин!
Собаки продолжали бешено лаять, но с одной из собак тоже происходило что-то странное: она добросовестно выполняла свои обязанности, бросалась на упавшего третьего партизана и даже одной рукой дернула за его лапоть, но между собачьими звуками у нее стали проскакивать звуки настоящего мальчишеского смеха. Видно было, что собака старается прекратить это явление, но смех все более и более, все победоноснее вторгался в ее игру, и, наконец, собака расхохоталась самым неудержимым звонким способом, каким всегда смеются мальчики в веселые минуты. С таким хохотом собака и убежала за кулисы, но собачью честь сохранила – убежала все-таки на четырех ногах.
Игорь лежал раненый и никак не мог разобрать, что такое происходит. Он слышал высокий, звонкий смех рядом с собой, слышал смех в зале, ему казалось, что это смеются над ним, над его босой ногой и слишком поздним падением.
Когда закрылся занавес, Игорь вскочил и выбежал за кулисы. За первым же деревом он натолкнулся на Клаву и Захарова. Они стояли вдвоем и о чем-то серьезно беседовали. Игорь похолодел и кинулся[196]в сторону. Мысль о том, что нужно бежать из колонии, молнией пронеслась у него, но в этот момент налетел Витя Торский.
– Что же ты бросил, – сказал он, протягивая лапоть, – надевай скорей!
Игорь вспомнил, что его актерский путь далеко не закончен, что предстоит еще три акта сложных партизанских действий. Он поспешил в уборную и там встретил общий радостный хохот. Ваня Гальченко, совершенно обескураженный, сидел в углу, может быть, он даже плакал перед этим, его щеки вымазаны были в саже. Рядом с ним Володя Бегунок катался по скамье и не мог остановить смеха:
– Ты пойми, ты пойми, Ванька! Собака смеется человеческим голосом. Вот это так собака!
Петр Васильевич Маленький сдирал с себя орденские знаки. Один он успокаивал Ваню:
– Ничего, Гальченко, ты не грусти. Хорошая собака всегда умеет смеяться, только, конечно, не так громко.
12 Таинственное происшествие
Володя Бегунок хохотал до тех пор, пока в уборную не пришел Захаров. Он подошел к Ване, теплой, мягкой рукой поднял за подбородок его голову:
– Гальченко, ты плакал, что ли?
– Он смеялся, – сказал Володя, – это такая собака, она сначала смеется, потом плачет.
Ване было чрезмерно грустно в этот момент. Он с таким счастливым азартом готовился к спектаклю, он так хорошо научился лаять – гораздо лучше Володьки, а теперь он опозорен на всю жизнь, он не представляет себе, с какими глазами он покажется в бригаде, в колонии. И все из-за этого Игоря, который выскочил из своего лаптя и который ни за что не хотел падать. Санчо Зорин только что ругал Игоря за это:
– Что это такое: я в тебя стреляю, а ты стоишь, как баран, и еще кричишь. Надо же иметь соображение.
Петр Васильевич на это добродушно отозвался:
– Ты, Санчо, не придирайся. Соображение иметь – это очень трудная штука.
– Ничего не трудная.
– Трудная. Ты сам сейчас не имеешь соображения: «стоишь, как баран»! Почему ты думаешь, что если в барана стрелять, так он не будет падать? Ты ошибаешься, баран у нас не считается самым упрямым животным. Ты, наверное, хотел сказать: осел.
Под добродушным взглядом голубых глаз Петра Васильевича Зорин смутился и машинально подтвердил:
– Ну да, как осел.
Все засмеялись тому, как остроумно Петр Васильевич «купил» Зорина. А Петр Васильевич так же добродушно положил руку на его плечо:
– Дорогой мой, осел тоже свалится.
Санчо рассердился:
– Да ну вас…
Все эти разговоры и шутки уменьшили было Ванино горе, но сейчас под ласковой рукой Алексея Степановича оно снова закипело, и снова Ванина черная рука потянулась к щеке. Алексей Степанович сказал строго:
– Гальченко, это мне не нравится. За то, что ты хохотал в собачьей должности, на тебя никто не обижается. Бывают такие положения, когда никакая собака не выдержит, даже самая злая. А вот за то, что ты слезы проливаешь, я, честное слово, дам тебе два наряда. Володька, сейчас же ступайте мыться. Молодец, Ваня! Ты замечательно играл собаку.
Сбросив с себя не только собачью одежду, но и человеческую, в одних трусиках они побежали через парк. Никакого горя не оставалось в Ваниной душе, напротив, было весело и радостно, а если бы Алексей Степанович дал ему два наряда, то, наверное, было бы еще веселее. Володя бежал рядом с ним, вглядывался в темную дорожку и успевал вспоминать:
– Ты не думай. Я в прошлом году наступил на свой аэроплан. Три недели делал, а потом наступил. И так было жалко, понимаешь. Я лег на подушку и давай реветь. А тут он в спальню. Ну, так что это с тобой! Это пустяк. А на меня он как закричит! Как закричит: «К черту с такими колонистами! Не колонист, а банка с водой! Два наряда!» Ой-ой-ой! И пошел, сердитый такой. Да еще и дежурный бригадир Зырянский попался: «Вымоешь вестибюль». Я мыл, мыл, а он пришел, Зырянский, и говорит: «Не помыл, а напачкал; сначала мой, не принимаю работы». Так я три часа мыл. Вот как было.
– А ты потом ревел[197]? После этого хоть раз?
– После наряда?
– Ну да…
– Да что ты! А если он узнает, так что? Он тогда… ого… он тогда со света прямо сживет и на общее собрание. Теперь рюмзить… если даже захотел, так как же ты будешь без слез плакать? Я вон заиграл в прошлом лете сигнал «вставать» в четыре утра, так такое было… ой, ты себе представить не можешь. Разбудил всех, а дежурство еще раньше. Чего мне такое показалось на часах, я и сам не знаю. И все встали, и уборку сделали, а потом дежурный как посмотрел на часы… И то не плакал.
Володя вдруг остановился:
– Смотри!
Слева вспыхивал огонек, ярко освещал кирпичную стену, лица каких-то людей. Потом потухал и снова вспыхивал.
– Кладовка, – шепнул Володя.
– Какая кладовка?
– Кладовка. Производственная кладовка. Пойдем.
Мальчики пригнулись и, ступая на пальцы, побежали к кладовке. Здесь парк не был расчищен, было много кустов, их ноги тонули в мягкой, прохладной травке. У последних кустов они остановились: производственный двор Соломона Давидовича был освещен одним фонарем, кирпичный сарай-кладовка стоял в тени стадиона. Снова огонек. Было ясно видно – кто-то зажигал спички.
Ваня прошептал в испуге:
– Рыжиков!
– Верно, Рыжиков. А другой кто? Стой, стой! Руслан! Это Руслан! Это они добираются! Тише!
Слышно было, как Руслан сказал напряженным шепотом:
– Да брось свои спички! Увидят!
Голос Рыжикова ответил:
– Кто там увидит? Все в театре.
Они завозились возле замка, слабый металлический звук долетел оттуда.
Володя шепнул:
– Отмычка. Честное слово, они обкрадут и убегут.
С замком, видимо, что-то не ладилось. Рыжиков чертыхался и оглядывался. Володя сказал, наклонившись к самому уху Вани:
– Давай закричим. Хорошо?
– Хорошо. А как?
– Знаешь, как? Я буду кричать: держите Рыжикова. Потом ты… нет… Давай вместе, только басом…
– А потом бежать.
– А потом… потом они нас все равно не поймают.
Ваня хотел даже громко засмеяться, так ему понравилось это предложение:
– Ой, ой, Володя, Володя! Давай будем кричать, знаешь как? Только тихо, только тихо. Будем так говорить: Рыжиков, выходи на середину!
– Давай, давай, только разом.
Володя поднял палец. Они сказали басом, пугающим, игровым голосом:
– Рыжиков, выходи на середину.
Их слова замечательно явственно легли на всей площадке производственного двора, мягко, отчетливо ударились в стены и отскочили от них в разные стороны. Там, у кладовки, очевидно, даже не разобрали, откуда они идут, эти страшные слова. Рыжиков и Руслан бросились бежать как раз к тем кустам, за которыми стояли мальчики. Володя и Ваня еле-еле успели отскочить в сторону.
Руслан глухо прошептал:
– Стой!
Рыжиков остановился, в его руках еще звенели отмычки. Руслан сказал тем же дрожащим шепотом:
– Какая эта сволочь кричала?
– Идем в театр, а то узнают.
– Все твои спички. Говорил, не нужно…
Они быстро направились к главному зданию.
Володя запрыгал:
– Здорово! Вот потеха!
– Теперь нужно сказать Алеше, – сказал Ваня.
– Не надо. Алешка сейчас же хай поднимет и на общее собрание. Сейчас же скажет: выгнать.
– И пускай! И пускай!
– Да, чудак! Их все равно не выгонят. Они скажут, а какие доказательства? Мы гуляли. И все равно не выгонят. Давай лучше за ними смотреть. Вот интересно! Они про нас не знают, а мы про них знаем.
13 Вам письмо
На другой день утром Игорь Чернявин проснулся в плохом настроении. Лежал и думал о том, что из колонии необходимо бежать, что нельзя с таким делом стать на середине. Дежурила Клава Каширина. Одно ее появление на поверке заставило Игоря лишний раз вспомнить вчерашний ужасный вечер. Но Клава с веселой, девичьей строгостью сказала: «Здравствуйте, товарищи», снисходительно пожурила Гонтаря за плохо вычищенные ботинки, Гонтарь дружески-смущенно улыбнулся ей, улыбнулась и вся бригада, в том числе и Игорь Чернявин. Трудно было не улыбаться: на сверкающем полу горели солнечные квадраты, дежурство в парадных костюмах тоже сияло, голос у Клавы был, наверное, с серебром, как и корнеты[198] оркестра. И Игорь снова поверил в жизнь – не может Клава ябедничать, должна она понимать, как человек может влюбиться. Игорь весело отправился завтракать. Многие колонисты, даже из чужих бригад, встретили его приветливо, вспоминали и неумирающего третьего партизана, и веселую собаку, Нестеренко за столом тоже сиял добродушно-медлительной радостью: собственно говоря, вчерашний спектакль, о котором сегодня так много говорят, был сделан силами восьмой бригады, даже новенький – Игорь Чернявин – и тот играл.
К столу быстро подошел Володя Бегунок, вытянулся, салютнул:
– Товарищ Чернявин!
Игорь оглянулся:
– А что?
– Вам письмо!
В руке Володиной у пояса вздрагивает аккуратный, основательный белый конверт.
– Каррамба! Откуда может быть письмо? Это, может, не мне?
– Вот написано: «Товарищу Игорю Чернявину».
– Местное, что ли?
Володя сдержанно улыбнулся:
– Местное.
– От кого?
– Там, наверное, тоже написано.
– Что такое?
Игорь вскрыл конверт. И его стол и соседние столы были заинтересованы. Володя стоял по-прежнему в положении «смирно», но его глаза, щеки, губы, даже голые колени улыбались.
Игорь прочитал скупые, короткие строчки на большом белом листе:
«Товарищ Чернявин.
Прошу тебя сегодня вечером, после сигнала «спать», прийти ко мне поговорить.
А. Захаров»Игорь прочитал второй раз, третий, наконец, покраснел, что-то холодное пробежало сквозь сердце.
Санчо Зорин привстал, заглянул в письмо, положил руку на плечо Игоря:
– Ну, Чернявин, я к тебе в долю не иду.
У Игоря еще больше похолодело в груди, Нестеренко, не выпуская стакана с чаем из одной руки, другую молча протянул к Игорю, взял письмо, прочитал:
– Д-да. А за что это, не знаешь?
Володя перестал улыбаться:
– Все понятно?
Нестеренко на него глянул свирепо:
– Володька! Убирайся!
– Есть, убираться!
Убираясь, Володька все-таки бросил на Игоря и на всю восьмую бригаду намекающе-кокетливый взгляд.
– За что, не знаешь? – повторил вопрос Нестеренко.
Игорь почувствовал вдруг слабость в ногах, опустился на стул, с опаской глянул на Гонтаря:
– Да… наверное, девчонка эта…
– Ага! Девчонка? Послушаем![199]
Тихонько, чтобы не слышали другие столы, заикаясь, не находя слов, краснея и бледнея, Игорь рассказал о вчерашнем несчастном случае в парке. И закончил:
– И больше ничего не было.
Нестеренко недолго размышлял:
– Влетит. Алексей за такие дела… ой-ой-ой!
Гонтарь с самого начала рассказа смотрел на Игоря прищуренными, презрительными глазами, а сейчас наклонился ближе, чтобы не слышали другие столы, и сказал Игорю в лицо:
– Видишь, какой ты гад! А ты этой девчонки, понимаешь, и мизинчика не стоишь. Жалко, что тебя Алексей вызывает, а то я подержал бы тебя в руках…
Нестеренко и Зорин ничего на это не сказали, наверное, были согласны с тем, что Чернявин – гад. И с тем, что его стоит подержать в руках.
Игорь склонился к тарелке.
– Убегу. Ну, его к черту! Уйду[200].
Нестеренко откинулся на спинку стула, задумчиво закатал под пальцем крошку хлеба:
– Нет, не уйдешь[201]. Алексей знает: если бы ты мог уйти[202], он бы тебе письма не писал, а затребовал бы с дежурным бригадиром.
Гонтарь сказал с прежним презрением:
– Да и кто тебе даст убежать? Думаешь, бригада? Ты об этом забудь.
После завтрака Игорь в тоске бродил по парку, по двору, наконец, по коридору. Он рассчитывал, что Захаров будет проходить мимо, и он с ним поговорит. Но Захаров не выходил из кабинета, а к нему все проходили и проходили люди: то Соломон Давидович, то бухгалтер, то Маленький, то какие-то из города, то Клава. Клава не замечала его.
По дорожкам цветника гуляет Ваня. Володя Бегунок сзади набежал на него, обхватил руками. Повозились немного, и Володя зашептал:
– А ты знаешь? Чернявина в кабинет… Алексей… вечером в кабинет. Ой, и попадет же. Он эту… Оксана там такая… поцеловал.
– Поцеловал?
– Три раза, в саду!
– Прямо так поцеловал? И все?
– А тебе мало? Это, знаешь, очень строго запрещается. Один раз поцеловать и то попадет. А по три раза!
– И что же ему будет?
– Алла! Я к нему в долю не иду!
Мимо них проходил Рыжиков. Угрюмо-подозрительно посмотрел, толкнул:
– Чего стали на дороге?
Володя закричал на него:
– Эй ты, новенький! Ты не очень толкайся!
Рыжиков профессиональным движением повернул к нему плечо:
– А то что?
– Страшно сказать!
Володя вчерашним вечерним басом прогудел:
– Рыжиков, выходи на середину.
Рыжиков внимательно заморгал, потом с угрозой надвинулся на него. Володя стал перед ним, заложив руки за спину:
– Ударишь? Пожалуйста! Ну, что же ты? Ты не бойся, мальчик!
Ваня громко засмеялся. Рыжиков перевел на Ваню уничтожающий взгляд:
– Легавые, сволочи…
Рыжиков ушел с деланной развалкой, с руками в карманах.
В коридоре главного здания Игорь таки дождался Захарова. Алексей Степанович проходил не спеша, очевидно, отдыхал. Он приветливо ответил на салют Игоря:
– Здравствуй, Чернявин.
Но не остановился, ничем не показал, что он состоит некоторым образом в переписке с Игорем.
– Алексей Степанович, я получил записку. Нельзя ли сейчас.
Лицо у Захарова, как у ребенка:
– Нет, почему же… Я просил вечером…
– Для меня, видите ли… удобнее сейчас.
Захаров улыбнулся открыто, почти по-детски:
– А для меня удобнее вечером.
И снова Игорь бродит по парку, по двору, по «тихому» клубу. Бежать ему не хочется. Бежать будет неблагородно: получить такое вежливое письмо и бежать. Успокоительные мысли приходят в голову: что с ним сделает Захаров? Под арест посадить не посадит, под арестом сидят только колонисты. Наряды? Пожалуйста, хоть десять нарядов. Чепуха! Успокоительные мысли приходили охотно и были убедительны, но почему-то не успокаивали. До сигнала «спать» оставался еще обед, потом работа в сборочном цехе, потом ужин, потом два часа свободных, потом рапорты бригадиров, потом уже сигнал «спать». Это сигнал, спокойный, умиротворенно-красивый, сейчас предчувствовался, как нечто ужасное. И слова сигнала, которые колонисты часто напевали, услышав трубу:
Спать пора, спать пора, ко-ло-нис-ты, День закончен, день закончен трудовой…эти слова не подходили к тому, что ожидало Игоря после сигнала.
За обедом колонисты не говорили с Игорем, и он даже был благодарен им за это[203]; яснее становилось положение, у него уже не было охоты оправдываться и защищаться. Хотелось только, чтобы скорее все окончилось.
Но после работы в спальне в обсуждении положения приняла участие вся бригада. Самое длинное слово сказал Рогов. Его слово в особенности звучало веско, потому что к своим словам он ничего не прибавил мимического, в нем не было ни злобы, ни презрения:
– Попадет тебе здорово. Это и правильно. Оксана – батрачка, надо это понимать, а ты сидишь здесь на всем готовом, да еще и целоваться лезешь… конечно, свинья!
Вечером, когда уже забылся ужин, когда уже возвратился Нестеренко с рапортов и Бегунок прогуливался во дворе со своей трубой, отношение к Игорю стало душевнее и мягче. Наконец пропел сигнал.
Зорин подошел к Игорю:
– Ну, Чернявин, собирайся.
Нестеренко сказал медленно, похлопывая по столу ладонью:
– Я так надеюсь, что ты все обдумал как следует.
Игорь грустно молчал. Зорин взял его за пояс:
– Ты, дружок, духом не падай. Алексей – он такой человек, после него, как после бани.
– Мы, Санчо, его проводим, ладно? – сказал Нестеренко.
Они спустились вниз. В вестибюле сидел Ваня Гальченко. Он улыбнулся. Посмотрел, как они направились по коридору в кабинет, и побежал за ними. В комнате совета бригадиров никого не было. Из кабинета открылась дверь, вышли Блюм и Володя Бегунок.
Володя сказал:
– Никого нет, иди сейчас, Чернявин.
Игорь двинулся к дверям:
– Бегунок, он очень злой?
– О! Такой, честное слово, из носа огонь, из ушей дым идет!
Володя сделал страшное лицо, топнул на Игоря ногой. И Блюм и Зорин рассмеялись, Ваня, напротив, готов был принять это сообщение с полной серьезностью. Нестеренко поднял руку:
– Иди, сын мой. Давай я тебя благословлю.
Игорь рванулся к дверям.[204]
Захаров сидел за столом. Увидев Игоря, кивнул на стул:
– Садись.
Игорь сел и перестал дышать. Захаров оставил бумаги, потер одной рукой лоб:
– Я тебе должен что-нибудь говорить, или ты сам все понимаешь?
Игорь вскочил, положил руку на сердце, но ему стало стыдно этого движения, бросил руку вниз:
– Алексей Степанович, все понимаю… Простите!
Захаров посмотрел Игорю в глаза, посмотрел внимательно, спокойно. И сказал медленно, немного сурово:
– Все понимаешь? Это хорошо. Я так и думал, что ты человек с честью. Значит, завтра ты сделаешь все, что нужно?
Игорь ответил тихо:
– Сделаю.
– Как же ты сделаешь?
– Как. Я… не знаю. Я буду говорить, просить, чтобы простила… Оксана.
– Так… Ну, что же… правильно. До свидания. Можешь идти.
Игорь, легкий от радости, с какой-то сладкой слезой в душе, улыбнулся, салютнул, пошел к дверям, но у дверей остановился:
– Вам потом… доложить, Алексей Степанович?
– Нет, зачем же… Я и так знаю, что ты это сделаешь. Зачем же докладывать.
Игорь забросил руку на затылок и скинул ее вниз уже тогда, когда очутился в комнате совета бригадиров. Все смотрели на него выжидательно, а он как будто никого и не видел.
Ваня крикнул:
– Ну что? Ну что?
Нестеренко присмотрелся к Игорю:
– Перевернул?
Игорь тряхнул головой:
– Ну и человек! Ну его к черту!
Он остановился, удивленный, посреди комнаты:
– Понимаете, он мне ничего не говорил!
– А ты сам все говорил?
– А я сам все говорил.
– Хорошо, если ты умное говорил.
– Представьте, я говорил довольно умное.
Зорин сверкнул глазами:
– Это он правильно! Почему это так, товарищи? Я и сам замечал: живешь так… обыкновенно, а попадаешь в кабинет, как будто сразу поумнеешь. Стены, что ли, такие?
– Наверное, стены – согласился Нестеренко добродушно-лукаво.
14 Филька
Пришел август: прозрачные вечера и яблоки на третье по выходным дням. Колонисты перебрались в новые спальни, стали говорить, что скоро начнут прибывать новенькие – в новых спальнях места больше. В новой спальне кровать Вани стоит рядом с кроватью Фильки Шария, нового Ваниного друга. Сдружились они на работе в литейном цехе, но характеры у них разные.
Филька Шарий очень боевой человек, знающий себе цену, уверенный, что со временем он будет киноактером. В сущности, он был очень проказлив. Он был убежден в том, что суть жизни состоит в приключениях, сложных и смелых. Но Филька целых пять лет, с восьмилетнего возраста, жил в колонии, был одним из немногих старожилов и шел одиннадцатым номером по списку старых колонистов. Только сам Захаров был старше Фильки по колонистскому стажу. Это обстоятельство, бывшее для Фильки постоянным источником гордости, одновременно мешало Фильке отдаваться своим естественным склонностям и проказам. Он не мог представить себе, что он стоит «на середине» и отдувается перед какими-то новичками, которые, в сущности, ничего и не видели в жизни: не видели и пустого поля на месте нынешней колонии, не жили в деревянном бараке, не работали на картошке и не присутствовали при организации оркестра, в котором Филька играет на первом корнете.
По всем этим причинам Филька проказить-то проказил, но очень хорошо ощущал ту границу, где оканчивались проказы допустимые и начинались, так сказать, «серединные». Филька боялся только «середины», Захарова он не очень боялся. Любил поговорить с ним, всегда вступал в спор, оправдывался до последнего изнеможения и сдавался только тогда, когда Захаров говорил:
– Что же? Значит, ты со мной не согласен? Перенесем вопрос на общее собрание.
Алексей Степанович насквозь видел Фильку, но и Филька насквозь видит Алексея Степановича. Филька прекрасно понимает, что прав он, Филька, а не Захаров, но Захаров – заведующий и может перенести вопрос на общее собрание. Филька смотрит на Захарова исподлобья, решительно отказывается отвечать на его улыбку и наконец говорит низким альтом:
– Как что, так сейчас же общее собрание. Вы имеете право наказать, и все.
Захаров, конечно, ломается:
– Ты старый колонист. Как я могу тебя наказывать, если ты считаешь себя правым? Перенесем вопрос на собрание.
Тогда Филька отворачивается, размышляет. Но что может дать размышление, если общее собрание все равно должно стать на сторону Захарова? И Филька сдается окончательно:
– Разве я говорю, что я прав?
– Да, мне показалось.
– Я совсем не говорю, что я прав. Я, конечно, виноват.
– Ты полчаса спорил.
– Никаких там полчаса… может, пять минут.
– Хорошо. Получи один час ареста за то, что обливал водой в коридоре, и один час ареста за то, что споришь, когда на самом деле считаешь себя виноватым.
Филька хмурит брови: второй час ареста неправильно, хотя и первый час тоже неправильно. Но сила солому ломит, и Филька, не поднимая бровей, поднимает руку:
– Есть час ареста, и есть еще час ареста.
В этой сложной формуле Захаров улавливает осуждение своих действий, но улыбается по-прежнему:
– Можешь идти.
Филька, не спеша, разочарованно поворачивается и очень медленно бредет к дверям. Захаров еще раз может видеть, что Филька не признает его справедливости.
В выходной день или в свободный вечер Филька вручает свой узенький черный пояс дежурному бригадиру и останавливается перед столом Захарова:
– Под арест прибыл.
У Фильки брови нахмурены, губы чуть-чуть вздрагивают, но в глазах улыбка. Захаров говорит:
– Пожалуйста.
Филька усаживается на диване и берет в руки очередной номер «Огонька». Он очень жалеет, что нет близко кинооператора и никто не снимет замечательный кадр: «Филька под арестом». Но это сожаление чисто артистическое, а на самом деле Филька очень любит старую колонистскую традицию, по которой считается неприличным после того, как наложено наказание и сказано в ответ «есть», заводить какие-нибудь споры или выпрашивать прощение. Захаров тоже почитает эту традицию и никогда не предложит Фильке свободу на час раньше. Он не хочет, чтобы Фильку обвиняли товарищи в том, что он «выпросился».
Таким образом, Филька и заведующий в момент выполнения приговора находятся в единодушном настроении. Они могут в полном согласии провести вместе два часа. Их мирным отношениям вполне соответствует правило, запрещающее арестованному разговаривать с кем-нибудь, кроме заведующего. Они и разговаривают между собой о том, о сем – о литейном цехе, о Соломоне Давидовиче, о новом здании, о бригадных делах, а также и о международном положении. Сидя на диване, положив ногу на ногу, перелистывая журнал, Филька высказывает свои мнения по всем этим вопросам; правда, острых вопросов, касающихся его лично, он не подымает. А такие вопросы есть, в них не всегда Филькино мнение сходится с мнением Захарова. Например, драматический кружок. Откуда-то набираются актеры, разные Чернявины и Зорины, которые играют партизан и поручиков, а Фильке иногда предлагают роль пионера, а большею частью и ничего не предлагают, а просто говорят: подрасти. Он должен подрастать, он, Филька Шарий, который еще два года назад ездил в Москву без разрешения к директору кинофабрики. Правда, директор тоже сказал «подрасти»! Кроме того, по возвращении Фильке пришлось стоять на середине, и Алеша Зырянский решительно возражал против его принятия в колонию. Но все-таки… все-таки Филька действительно играет, а не просто ходит по сцене и вякает за суфлером.
С Ваней Филька сдружился и потому, что учил Ваню шишельному делу, и потому, что Ваня – новенький и без фокусов признает Филькин авторитет – и колонистский и артистический. Филька снисходительно простил ему выступление в роли собаки; для новенького… что ж… и эта роль хороша. Попробовали бы предложить эту роль Фильке.
В литейном цехе продолжается борьба с дымом. Соломон Давидович, как ни вертелся, довел-таки это дело до скандала. На совете бригадиров, собравшемся экстренно в обед, Зырянский сказал:
– Постановить: раз нет вентиляции – пацанов в литейной с работы снять. И больше ничего!
Соломон Давидович закричал:
– Как снять? Как снять? Что вы говорите? А кто будет делать шишки?
– Все равно снять. Пускай там Нестеренко, и Синицын, и Крусков страдают, а пацанов снять.
И как ни убеждал, как ни обещал, как ни обижался Соломон Давидович, а совет бригадиров постановил: малышей из литейного цеха снять немедленно. Соломон Давидович прибежал в кабинет Захарова, терпеливо переждал, пока разойдутся посетители, и, оставшись наедине, спросил с укором:
– Как же вы так молчите? Вот они взяли и постановили. Ну, а теперь что?
– Я и сейчас молчу, Соломон Давидович.
– Ну и что?
– Ну и ничего.
– Конечно, слово – серебро, а молчание – золото, но нельзя же молчать, если какие-то мальчишки разрушают целое большое дело.
Вошел Витя Торский с листом бумаги:
– Приказ о снятии шишельников.
Захаров молча подписал. Витя подмигнул Соломону Давидовичу и вышел. Соломон Давидович закричал:
– Вы подписали?
– Подписал.
– Снятие шишельников?
Он не дождался ответа – выбежал. Быстро, задыхаясь, пробежал мимо часового, по дорожке цветников, мимо «стадиона» и кузницы, хлопнул окованной дверью механического цеха и вторгся в деревянную конторку Волончука:
– Товарищ Волончук, где же труба?
– Какая труба?
– Как, какая? Вентиляция, черт бы ее побрал!
– Так железа же нет!
– Железа нет? Я должен принести вам железо?
– Я и сам принесу! Так его нету!
Соломон Давидович запрыгал перед Волончуком, разгневался:
– Нету? Нету? Идем! Идем, я покажу вам железо.
Волончук удивленно поднял скучные глаза.
– Идем! – кричал на него Соломон Давидович.
Соломон Давидович со скоростью ветра пролетел через двор. Волончук делал за ним двухметровые шаги и не успевал. На углу машинного цеха отвалился нижний конец водосточной трубы. Соломон Давидович на ходу оборотился к Волончуку, показал пальцем:
– Это вам железо?
Пока медлительный Волончук посмотрел на железо, пока собрался посмотреть на Соломона Давидовича, тот был уже далеко. Волончук снова начать делать шаги длиною в два метра.
У крыши старого сарая давно отвернуло бурей лист железа. И на этот лист показал пальцем Соломон Давидович и закричал гневно:
– Это вам железо?
И на это железо так же медленно посмотрел Волончук и ничего не возразил, потому что это действительно было железо.
Наконец Соломон Давидович подлетел к куче всякого хлама. На верху кучи лежала прогоревшая, проржавевшая, выброшенная печка-буржуйка.
И в сторону буржуйки ткнул пальцем Соломон Давидович и сказал саркастически:
– Может, вы скажете, что это не железо?
Волончук поднял глаза на буржуйку да так и остался стоять. Разгневанный Соломон Давидович давно скрылся в недрах стадиона, а Волончук все стоял и смотрел. Потом он глянул в ту сторону, куда убежал начальник, злобно плюнул и опять вперил взгляд в буржуйку. В таком положении и застал его Виктор Торский, проходивший мимо, и спросил:
– Товарищ Волончук, чего вы здесь стоите?
Не оборачиваясь, Волончук мотнул головой и ухмыльнулся пессимистически:
– Это, говорит, вам железо.
Витя Торский засмеялся и пошел дальше.
Соломон Давидович пролетел сборный цех, потом машинный цех, потом швейный цех, потом другие цехи, везде отдавал нужные распоряжения, спорил, огрызался, доказывал, но был весел, остроумен и напорист. Такой же жизнерадостный, сделав полный круг, он влетел в комнату совета бригадиров, потный и задыхающийся, упал на диван, положил руки на живот и сказал Вите Торскому:
– Можете ваш приказ отменить. Что у нас за люди, объясните мне, пожалуйста? Вдруг сегодня такие разговоры: для вентиляции нету железа. Так я им сейчас показал столько железа, что его хватит на сто вентиляций.
Витя Торский поднял одну бровь, но Соломон Давидович уже улетел.
К вечеру у него было хорошее настроение. Он деятельно занимался в своей конторке: перебирал ордера, наряды, что-то подсчитывал. Вошел мастер литейного цеха Баньковский, стал у дверей. Соломон Давидович спросил энергично:
– Сколько сегодня отливка?
– Четыреста масленок.
– Почему так мало?
– Завтра совсем не будет.
– Как это не будет?
– Шишельники сегодня ушли. Говорят – приказ. И завтра, сказали, не придут.
– Какие шишельники? Вот эти самые – Гальченки разные, Мальченки! Так они же пацаны. Что вы, не можете с ними поговорить?
– Да, с ними поговоришь. А на завтра ни одной шишки.
– А вы не можете сами сделать?
– Все сам да сам. Я и начальник цеха, и мастер, и литейщик… и шишельник. Спасибо вам. И барабан мой.
– Барабану вы можете спокойно сказать: ауфвидерзейн.
– Как это так?
– А так: завтра оценю барабан как представляющий по качеству лом. И заплачу вам пятнадцать процентов.
– Соломон Давидович!
– Отоприте литейную! Сейчас придут шишельники.
Соломон Давидович знал, куда нужно обращаться: он отправился прямо в четвертую бригаду. Там в спальне он нашел Фильку и сказал ему:
– Ты же понимаешь, это ваши деньги и ваше производство. Это не мое производство. Может, ты воображаешь, что ты какой-нибудь там паршивый шишельник? Так это неверно. Вы сегодня ушли, завтра не будет отливки, и будут стоять литейщики, токари, никелировщики и упаковщики. И мы не выпустим тысячу масленок, легко сказать: тысяча машин без масленок, а мы теряем пятьсот рублей чистой прибыли. Разве ты не понимаешь?
– Я понимаю.
– Ну вот: ты – хороший мальчик. Возьми этого Петьку, Кирюшку, Ваньку, Семена и так далее и приходите в литейную.
– Так… приказ.
– Что такое приказ?.. Сейчас же лить нет, дыма нет, никого нет. До сигнала «спать» успеете сделать тысячу шишек.
– Все равно… приказ.
– Ах, какой ты…
И уговорил Соломон Давидович Фильку. Через полчаса открылась дверь в пустую литейную и в нее вошли: Соломон Давидович, Филька, Ваня Гальченко, Петька Кравчук и Кирюша Новак. Остальных Филька не нашел. В литейной Соломон Давидович тихо спросил:
– Вас никто не видел?
– Нет, никто, – так же шепотом ответил Филька.
Шишельники немедленно приступили к работе. Глухо застучали по песку деревянные молотки, больше никаких звуков не было, никто не разговаривал и не делился впечатлениями. Но через час дверь в литейную распахнулась и голоногий румяный Володька вытянулся на пороге:
– Товарищи колонисты! Распоряжение заведующего колонией!
Блюм скривил лицо, замахал на Володю руками:
– Какие там еще распоряжения? Потом скажешь. Видишь, люди работают!
Володя завертел головой:
– Эге. Это дело серьезное. Всем товарищам: Шарию, Гальченко, Кравчуку и Новаку немедленно отправиться под арест в обычном порядке!
Филька замер на месте[205]:
– Ох, ты черт! На сколько часов?
– Не на сколько часов, а до общего собрания.
Все четверо застыли. Кто-то выронил молоток. Филька косо посмотрел на Соломона Давидовича:
– Я говорил!
Володя Бегунок, уступая дорогу, сказал серьезно:
– Пожалуйте, товарищи.
Четверо молча гуськом вышли. Бегунок на пороге прищурился на Соломона Давидовича и тоже убежал. Соломон Давидович сказал:
– Какой испорченный мальчик!
15 Четыре тысячи оборотов
Это было дело серьезное: четверо обвиняемых стояли на середине без поясов – они считались арестованными.
Перед этим они два тяжелых часа просидели в кабинете Захарова. Дежурный бригадир Нестеренко входил и выходил, что-то негромко сообщал Алексею Степановичу, на арестованных даже не глянул.
Обычно в эти часы от ужина до рапортов – самые людные часы и в кабинете, и в комнате совета бригадиров. А сейчас, как сговорились: никто в кабинет не заходит, а если и заходит, то строго по делу. И сам Алексей Степанович сегодня «не такой»: он что-то там записывает, перелистывает, считает, на входящих еле-еле поднимает глаза и говорит сквозь зубы:
– Хорошо!
– Все! Можешь идти!
Арестованным за все это время он не сказал ни слова. Володе он сказал:
– Блюма! Срочно!
И Володя как-то особенно отвечает «есть» шепотом.
Блюм пришел подавленный, краснолицый, на арестованных не посмотрел, сел и сразу вытащил из кармана огромный платок – пот его одолевал. Захаров заговорил с ним сухо:
– Товарищ Блюм. Литейную я закрываю на неделю. Заказ на десять тысяч масленок литья из нашего сырья и по нашим моделям я уже передал Кустпромсоюзу.
Соломон Давидович хрипло спросил:
– Боже мой! По какой же цене?
– Цена с нашей доставкой два рубля.
– Боже мой! Боже мой! – Соломон Давидович встал и подошел к столу: – Какой же убыток! Нам обходится в шестьдесят копеек!
– Я дал распоряжение кладовщику сейчас начать отправку в город моделей и сырья.
– Но вентиляцию можно поставить за два дня! А вы закрыли на неделю!
– Я так и считаю: первые три дня вентиляцию будете ставить вы: я уверен, что она будет сделана плохо, я ее не приму. После этого четыре дня вентиляцию будет ставить инженер, которого я приглашу из города.
– В таком случае, Алексей Степанович, я ухожу.
– Куда уходите?
– Совсем ухожу.
– Я всегда этого боялся, но теперь перестал бояться.
Соломон Давидович перестал вытирать пот, и рука его с огромным платком застыла над лысиной. И вдруг он оскорбился, забегал по кабинету, захрипел:
– Ага! Вы хотите сказать, что Блюм может убираться к черту и тогда все будет хорошо? По вашему мнению, Блюм уже не может управлять таким паршивым производством. А если у Блюма на текущем счету триста тысяч, так это, по-вашему, не стоит ломаного гроша. Вы пригласите инженера, который все спустит на разные вентиляции и фигели-мигели. Я не против вентиляции, хотя сколько людей работали без вентиляции, пока ваш Колька не придумал литейную лихорадку. Очень бы я хотел посмотреть, кого здесь в колонии лихорадило, кроме этого Кольки-доктора. А теперь будем ставить вентиляцию, а через год все равно эту литейную развалим.
Он еще говорил долго. Захаров слушал, склонив голову к бумагам, слушал до тех пор, пока Соломон Давидович не уморился. А после этого он сказал:
– Соломон Давидович, я знаю, вы преданы интересам колонии, и вы хороший человек. А поэтому извольте принять мои распоряжения к исполнению. Все!
Соломон Давидович развел короткими руками:
– Это, конечно, все, но нельзя сказать, чтобы это было мало для такого старика, как я.
– Это советская норма, – сказал Захаров и кивнул головой.
– Хорошенькая норма! – Блюм за неимением других свидетелей обернулся к дивану.
На диване, вытянувшись, сидели четверо арестованных. Из них только Филька взирал на Захарова с выражением пристального осуждения. Остальные тоже смотрели на Захарова, но смотрели просто потому, что были загипнотизированы всем случившимся и с грустной покорностью ожидали дальнейших событий. У Петька спиральный чубик на лбу стоял сейчас дыбом. У Кирюши Новака кругло глазастое лицо блестело в слезном горе. Все они были в спецовках, в том костюме, в каком застала их катастрофа. Блюм ушел печальный. Уходя, сказал:
– Я надеюсь, я могу не быть на этом… общем собрании.
– Можете не быть.
В дверь заглянул Нестеренко:
– Даю на рапорта, Алексей Степанович!
– Давай!
Через полминуты за окнами прозвучат короткий, из трех звуков, сигнал. Одиннадцать бригадиров и ДЧСК собрались еще через минуту. Все выстроились в шеренгу против стола Захарова. Филька потянул за рукав Ваню, арестованные тоже встали. Один за другим подходили бригадиры к Захарову, говорили, салютуя:
– В первой бригаде все благополучно!
– Во второй бригаде все благополучно!
Но этого не мог сказать Алеша Зырянский. В шеренге он стоял расстроенный и суровый, такой же подошел и к Захарову:
– В четвертой бригаде серьезное нарушение дисциплины: колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко не подчинились приказу по колонии и вечером вышли работать в литейный цех. Вашим распоряжением передаются общему собранию.
Захаров выслушал его рапорт так же спокойно, как и рапорты других, так же поднял руку, так же тихо сказал:
– Есть.
Рапорт Зырянского дословно повторил дежурный бригадир Нестеренко.
Приняв рапорты, Захаров сказал:
– Давайте собрание!
Володя Бегунок со своей трубой выбежал из кабинета. Бригадиры вышли вслед за ним.
Сигнал на общее собрание всегда игрался три раза: у главного здания, на производственном дворе и в парке. После трех раз Бегунок возвращался снова к главному зданию и здесь играл уже не целый сигнал, а только его последнюю фразу. Во время этой фразы Витя Торский обыкновенно открывал собрание. Поэтому в колонии было принято на общее собрание собираться бегом, чтобы не остаться за дверью в коридоре.
Большинство колонистов приходили в «тихий» клуб до сигнала.
Ваня Гальченко и его товарищи, сидя на диване в кабинете, горестно вслушивались в привычное чередование звуков: слышали шум шагов в коридоре, молчаливыми, грустными глазами проводили Алексея Степановича, который тоже ушел на собрание. Они не имели права сейчас войти в «тихий» клуб занять место среди товарищей – их должен привести дежурный бригадир. Как тяжело, как тягостно у них на душе!
Стало тихо. Очевидно, Витя открыл собрание. Петька вздохнул:
– Влопались!
Ему никто не ответил. Кирюша быстро вытащил платок, высморкался и посмотрел на потолок.
Еще прошло пять минут. Из «тихого» клуба донесся взрыв смеха. Филька метнул взгляд в сторону «тихого» клуба: в этом смехе таилась какая-то надежда. Только через десять минут в дверь заглянул Нестеренко:
– Прошу вас…
Филька взглянул на его лицо: ничего, вежливый, официальный камень.
Гуськом вошли в «тихий» клуб. Нестеренко повел их прямо на середину. В общей тишине сказал кто-то один:
– Рабочий народ! В спецовках!
Смех пробежал быстрый, легкий. В нем не столько шума, сколько дыхания. И снова стало тихо, и Филька понял, что придется плохо.
Витя Торский начал мучительно спокойно:
– Колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко, дайте объяснение, почему вы не подчинились приказу и пошли работать в цех. Только нечего рассказывать, как Соломон Давидович уговорил и как вы уши развесили. Это мы знаем. А вот по главному вопросу: как вы посмели не подчиниться приказу колонии? Приказ, как у нас полагается, вы слушали стоя. Ты, Филя, старый колонист, одиннадцатый по списку, давай объяснения первым.
Но раньше, чем Филя открыл рот, попросил слова Владимир Колос.
– Товарищи, я считаю, тут кое-что нужно выяснить. Невыполнение приказа через час после объявления, да не в одиночку, а целой группой – большое дело, и это все понимают. Самое меньшее, что им грозит, это лишение звание колониста, перевод в воспитанники. А раньше за такие дела мы из колонии выставляли. Так?
Большинство из собрания ответило:
– Так…
– Правильно…
– А как же?
– Верно!
Колос продолжал:
– Только вопрос: кто должен отвечать? Здесь стоит воспитанник Ваня Гальченко, который в колонии всего два месяца. Он отвечать не может. Его нужно немедленно отпустить и не считать его вины никак. С ним было три колониста, из них Филька самый старый. Но нужно еще вызвать на середину бригадира четвертой Алексея Зырянского, моего друга, между прочим.
Владимир Колос сел на место. Его речь произвела впечатление ошеломляющее. Стало так тихо в зале, что слышно было, как дышат пацаны на середине. Зырянский сидел у самой трибуны на ступеньках, низко опустив голову. Председатель не знал[206], как поступить с предложением Колоса. Он оглядел зал, бросил тревожный взгляд на Захарова и, очевидно, оттягивая время, сказал:
– Насчет Вани Гальченко вопрос поставлен правильно. Его нужно немедленно отпустить. Есть возражения?
Никто не сказал ни слова: Ваня Гальченко сейчас никого не волновал: что там – новенький малыш!
– Товарищ Нестеренко! Ваня Гальченко может уходить. Иди, Ваня!
Ваня понял, что с него обвинение снято, но странно было, что это его не обрадовало. Уходя, он оглянулся на середину. Там оставались три его товарища, оставались в тяжелом положении, и Ване было стыдно уходить. Он вспомнил, что звание колониста получит только через два месяца. Но пока он оглядывался, Лида Таликова потянула его за руку:
– Ваня, уходи, пока цел!
Она усадила его рядом с собой. Ваня помнил ее со знаменательного дня своего приема, и он улыбнулся ей благодарно. Потом его глаза снова устремились на середину: говорил Филька, говорил громко, обиженно:
– Неправильное предложение сделал Колос. Неправильно! Алеша не может отвечать на середине. Алеша пускай отдувается в совете или с своего места, а на середину ему нельзя выходить. Я сам за себя отвечаю, и Новак, и Кравчук. А мы виноваты, только смотря как. Другое бы дело, пошли для своего интереса. А мы пошли для колонии. Потому, на завтра не было ни одной шишки. А приказ мы не разобрали, думали, это когда дым, а вечером не было дыма, думали, что ж, можно пойти…
Фильку слушали серьезно, но ни одного звука одобрения никто не произнес. Он закончил речь, нахмурился, провел взглядом вокруг и вздохнул.
Не такой народ колонисты, чтобы их можно было запутать на слове. И Филька в этом убедился немедленно. Брали слово и старшие, и помоложе, и бригадиры, и просто колонисты. Филька вдруг услышал много такого, о чем он думал только сам с собой по строгому секрету.
– Сейчас на общем собрании Филька ведет себя безобразно. Да, безобразно, нечего на меня посматривать. Самое главное – врет, вы понимаете, врет общему собранию: он живет в колонии пять лет, а тут не разобрал приказа. У него голова самая разумная. А почему тайно пошли работать? Почему об этом не сказали дежурному бригадиру? Когда у нас такое было, чтобы малыши работали по вечерам?
– Филька – единоличник. Давно это знаем. А только он умеет: туда, сюда, хвостом вильнет, смотришь, обошел всех. И Алексей Степанович к нему имеет слабость: под арестом час держит, а на общее собрание вот за два года первый раз.
– На Фильку посмотреть внимательно: киноартист, как же! А собаку играть – куда тебе, такая знаменитость будет собаку играть. Ему давай большевика самого главного. А какой он большевик? Он приказа не понял. И пускай Жан Гриф скажет, как он в оркестре. Пускай скажет.
И Жан Гриф говорил. Он, действительно, похож на француза, хотя в колонии все знают, что раньше его звали Иван Грибов, только доказательств никаких нет, – Жан Гриф, и все. Он смуглый, тонкий, изящный – будущий дирижер.
– Филя дисциплину в оркестре не нарушает, но бывает так: что такое наблюдается – не слышно первых корнетов? А это, видите ли, Филя обиделся, не дали ему соло, а Фомину дали. Извольте догадаться. А он сидит, держит корнет и даже, представьте, щеки надувает. А бывают и такие эпизоды. Приходим играть концерт в медицинском институте. Филя заявляет: у меня болит в груди, вы понимаете, в груди; грудь у него такая больная сделалась, играть не могу! А заменить его некем: у него одна фраза, помните, такая – в «Веснянке» Лысенко[207]. Болит в груди. Доктора, что ли, звать? Хорошо, что я догадался, пересадил его на другой стул. Спрашиваю: будешь играть? Ничего, говорит, как-нибудь потерплю, – и даже лицо сделал такое жалобное. А на самом деле просто место ему не понравилось, не видно из публики, какой он красивый.
Филя смотрел куда-то в глубь паркета, шевелил пальцами опущенных рук, немного щурился: не ожидал он от Жана Грифа такой речи – очень нужна ему, Филе, какая-то публика!
Поднялся Марк Грингауз – секретарь комсомольской ячейки:
– Я не думаю, что можно поставить Зырянского под люстрой. Зырянский хороший бригадир и колонист. Если в бригаде бывают случаи, он может раньше ответить перед советом бригадиров или перед комсомольской организацией, а нельзя бригадира по всякому случаю вытаскивать на середину. Это Владимир загнул, и такого у нас никогда не бывало. Выходили и бригадиры, но только за личную вину.
Витя спросил:
– По вопросу о Зырянском больше никто не скажет? Я голосую. – Только две руки поднялось за выход Зырянского. Филя вздохнул громко – самая большая опасность прошла.
А потом заговорил Захаров. Он встал на своем месте, положил руки на спинку стула, на котором сидел Бегунок. В его словах была убедительная теплота, даже когда он произносил суровые слова. Филя повернул к нему лицо и смотрел, не отрываясь, до самого конца его речи: сегодня был не такой вечер, чтобы можно было не соглашаться со словами Захарова. И некоторые места этой речи Филе, безусловно, понравились. Например, такие:
– …Колония Первого мая заканчивает седьмой год. Я горжусь нашей колонией, и вы гордитесь. В нашем коллективе есть большая сила и большой хороший разум. Впереди у нас радостно и светло. Сейчас у нас на текущем счету триста тысяч рублей. Государство нам поможет, потому что мы заслужили помощь: мы любим наше государство и честно делаем то, что нашей стране нужно, – учимся правильно, по-советски жить. Скоро мы начнем строить новый завод.
…Я всегда горжусь тем, что мы с вами гордо пережили тяжелые времена, когда у нас не хватало хлеба, когда у нас бывали вши, когда мы не умели правильно жить. Пережили с честью потому, что верили друг другу, и потому, что у нас была дисциплина… Среди нас есть люди, которые считают: дисциплина – это хорошо, это приятная вещь. Но так только до тех пор, пока все приятно и благополучно. Чушь! Не бывает такой дисциплины! Приятное дело может делать всякий болван. Надо уметь делать неприятные вещи, тяжелые, трудные. Сколько у вас таких найдется, настоящих людей?
Захаров остановился, требуя ответа. И кто-то не выдержал, ответил горячо:
– Много таких найдется, Алексей Степанович!
Захаров не удержался в суровом напряжении, улыбнулся детской своей улыбкой, посмотрел на голос:
– Ну, конечно, это правильно: у нас много таких найдется. А… вот, – он обратился к середине, – вот стоят. Как о них сказать? Хорошие они люди или плохие? Кирюша, Кравчук и Шарий. Здесь их чересчур сильно ругали, даже называли единоличниками. Это не так. Филя не единоличник, справедливый человек, трудящийся, колонии нашей предан, а в чем беда? Беда в том, что колонисты начали шутить с дисциплиной. Дисциплина, они думают, это такая веселая игра: хочу играю, хочу не играю – выслушали приказ, наплевали и пошли в цех. Скажите, пожалуйста, товарищи колонисты, можно ли шутить с токарным станком?
– Кто-то крикнул:
– Ого!
– Нельзя шутить! Нельзя вместо детали нос или руку подложить под резец. Значит, нельзя. А пускай из машинного скажут: можно шутить с ленточной пилой или циркуляркой? Или с шипорезным, на котором работает Руслан Горохов? Руслан, как по-твоему?
Прыщеватое лицо Руслана покраснело, он застеснялся, но был доволен вопросом:
– Хорошие шутки: четыре тысячи оборотов шпинделя!
– Нельзя! А с дисциплиной, значит, можно? Ошибка! Дисциплина у нас должна быть железная, серьезная… Согласны с этим?
Колонисты вдруг зааплодировали, улыбались, смотрели на Захарова воодушевленными глазами – для них не было сомнений в том, какая у них была дисциплина.
Захаров продолжал:
– Дисциплина нужна нашей стране потому, что у нас мировая героическая работа, потому, что мы окружены врагами, нам придется драться, обязательно придется. Вы должны выйти из колонии закаленными людьми, которые знают, как нужно дорожить своей дисциплиной… А Филька? Я очень хорошо отношусь к Фильке, хотя он все норовит со мной поспорить. Ну, так это я, у меня все-таки нет четырех тысяч оборотов в минуту.
Снова кто-то сказал вполголоса:
– Ого!
Зал вдруг закатисто рассмеялся. Даже те, которые стояли на середине, не смогли удержаться от улыбки. Захаров поправил пенсне:
– Общее собрание – это серьезное дело. Шутить нельзя, товарищ Шарий, и товарищ Кравчук, и товарищ Новак. Это вы должны хорошо запомнить.
Виктор Торский приступил к голосованию:
– У нас есть только одно предложение: снять с них звание колониста. Только на какое время? Я предлагаю на три месяца. Тебе последнее слово, товарищ Шарий.
Филька сказал:
– Алексей Степанович правильно говорил: с дисциплиной так нельзя обращаться. И я так больше никогда не буду, вот увидите. Как там ни будет: хоть накажете, хоть не накажете – все равно. А мое такое мнение, что можно и без наказания. Я не какой-нибудь новенький. Тут не в том дело, на сколько месяцев значок снимете. А что ж? Я пять лет колонистом. Мое такое мнение.
– А ты как думаешь, товарищ Новак?
– И мое такое мнение.
Петька Кравчук все собрание стоял, опустив глаза, вздрагивая ресницами, изредка поглядывая на председателя и незаметно вздыхая. У него было выражение разумной философской покорности: душой он целиком на стороне собрания, но обстоятельства поставили его на середину, и он до конца готов мужественно нести испытание. Петька сказал:
– Как постановите, так и будет.
– Значит, есть только одно предложение.
– Есть второе предложение.
– Пожалуйста.
Встал Илья Руднев, бригадир десятой, самый молодой бригадир в колонии:
– Для такого старого колониста, как Филя, снять значок – очень тяжелая вещь. Его проступок большой, но позорного он ничего не сделал. Однако оставить без наказания нельзя. И для Фильки опасно, и для других всех пацанов. Пацаны, они… так… любят, когда им гайку подкручивают. Я и сам недавно был таким. И кроме того, это не пустяк – невыполнение приказа. Я живу в колонии три года, и такого случая ни разу не было. И виноваты не только Филька, а и Кирюшка, и Петро, чего там, не маленькие, по тринадцать лет, и все – колонисты. Всех нужно взгреть как следует, Я предлагаю: выговор перед строем.
Руднев говорил немного краснея, он еще не привык к своему бригадирскому авторитету. Говорил тихо, очень культурно, смягчая улыбкой самые решительные свои слова. Его речь была поддержана возгласами одобрения.
Витя поставил на голосование первым такой вопрос: наказывать или не наказывать? Единодушно все подняли руки за наказание. Второй вопрос: наказывать одинаково или по-разному? Единогласно постановили: одинаково. Потом голосовали за предложение о снятии звании колониста, оно собрало только 65 голосов. И, наконец, за предложение Руднева подняли руки 122 человека, в том числе и Захаров.
Расходились с собрания серьезные, чуть-чуть взволнованные. Ваня Гальченко догнал Петьку в коридоре, Петька был расстроен.
– Петя, это же ничего, правда?
– Что «ничего»?
– А вот это: выговор перед строем?
– Ого! Хорошо «ничего»! Это… ты знаешь… это такая штука! Здорово взгрели… я думал, будет легче.
В спальне четвертой бригады было печально, все сошлись, ожидая Зырянского. Но он пришел, как всегда, веселый, бодрый, деловой:
– Подкачала наша бригада! Но… никакой паники! Наша бригада все-таки хорошая. А это вам урок! Теперь держись!
А еще через час все перестали вспоминать о тягостных событиях вечера. Были и другие новости – уже веселые. Ремонт кинобудки был закончен, и завтра пойдет картина. Петров 2-й говорил, что будет «Потомок Чингис-хана». Эту картину давно ожидали, давно слышали о ней хорошие отзывы знатоков.
И действительно, на другой день Петров 2-й привез из города «Потомка Чингис-хана». Правда, Петров 2-й уже теперь не киномеханик, а только помощник киномеханика, но это даже к лучшему.
– Даже лучше, – говорил Петров 2-й, – я теперь под руководством Мишки еще скорее экзамен выдержу.
Таким образом, как ни поворачивали разные бюрократы судьбу Петрова 2-го, она все же благоволила не к ним, а к Петрову 2-му.
Четвертая бригада залезла[208] в зал задолго до начала сеанса, еще и распорядители в голубых повязках не стояли у дверей. Уселись все в один ряд, и Зырянский кое-что вспомнил о Чингис-хане. Потом сошлась вся колония, прошел между рядами Захаров с дежурным бригадиром и сказал:
– Начинайте, я буду в кабинете.
Свет потух, застрекотало сзади, в аппаратной заструился над головами широкий туманный луч, на экране родились события[209]. И все члены четвертой бригады совершенно забыли о неприятных историях, о четырех тысячах оборотов шпинделя. Они жили там, в далеких степях, они переживали борьбу, которая там шла и которая им предстоит в жизни…
После перерыва пошла вторая часть, потом третья, самая захватывающая. И как раз в середине третьей части, в тишине и сумраке зала раздался голос дежурного бригадира Похожая:
– Четвертая бригада в полном составе с бригадиром срочно к заведующему в кабинет!
Зырянский шепнул:
– Спокойно! Быстренько!
Они прошмыгнули в проходе, на них оглянулись, кто-то спросил у Похожая:
– Что случилось?
– Ничего особенного! Смотрите дальше!
В кабинет они вбежали, как набегает теплая вода на берег. Захаров взял в руки фуражку:
– Четвертая? Все здесь?
– Все!
– Горит стружка за сборным цехом. Я думаю – управимся без пожарной. Ведра взять на кухне. Без паники и шума! Я тоже туда иду.
Зырянский поднял руку:
– Кравчук, бери вот этих четырех – и за ведрами, остальные – за мной.
Они бегом выскочили из здания в прохладу вечера. Повернули за угол и увидели маленькое зарево: на поверхности слежавшейся стружки расползался приземистый, тихонький, коварный огонь. Было тихо. Четвертая бригада с Захаровым во главе долго поливала огонь из ведер, копошилась в глубинах стружки лопатами и вилами. Когда все было кончено, Захаров сказал:
– Спасибо, товарищи!
Все радостные, побежали в зал. Шла последняя часть. Четвертая бригада шепотом рассказывала, как она потушила пожар, и ей все завидовали.
16 Отдых
Соломон Давидович стоически перенес остановку литейного цеха на три дня. Правда, он немного похудел за эти дни. По колонии ходили даже слухи, что Соломон Давидович болен, хотя этим слухам и не сильно верили. Но слухи имели основание. Однажды Соломон Давидович, набегавшись по своим цехам и накружившись вокруг молчаливого литейного цеха, забежал в больничку к Кольке-доктору. Этот визит, конечно, доказывал, что Соломон Давидович болен: хотя он как будто и не обладал способностью ненавидеть, но его чувства в отношении к Кольке-доктору скорее всего напоминали ненависть, так как именно Колька-доктор придумал литейную лихорадку. Из больнички Соломон Давидович вышел с душой умиротворенной, но со здоровьем еще более расстроенным. Он говорил старшим колонистам в комнате совета бригадиров:
– Николай Флорович сказал: сердце! И не волноваться – в противном случае у вас будут чреватые последствия.
Несмотря на все это, через три дня на крыше литейного стояла высокая труба, сделанная из нового железа. Колонисты посматривали на трубу с сомнением. Санчо Зорин говорил:
– Она все равно упадет. Будет первая буря, и она упадет.
Соломон Давидович презрительно выпячивал в сторону Зорина нижнюю губу:
– Скажите, пожалуйста! Упадет! От бури упадет! Подумаешь, какой Атлантический океан!
Но в этот же день Волончук укрепил трубу четырьмя длинными проволоками, и после этого колонисты ничего уже не говорили, а Соломон Давидович нарочно пришел в комнату совета бригадиров посмеяться над колонистами:
– Где же ваши штормы? Почему они замолчали? Теперь уже ваш барометр не предсказывает бурю?
Ванда Стадницкая, проходя по двору, тоже поглядывала на трубу и слабо улыбалась: в пятой бригаде девочки умели пошутить, вспоминая Соломона Давидовича и его вентиляцию. И в жизни Ванды вопрос о литейной лихорадке уже приобрел некоторое значение: на общем собрании Ванда чуть не плакала, увидев на середине Ваню Гальченко, а потом было так радостно, когда Ваню отпустили. На другой день Ванда застала Ваню одного в спальне четвертой бригады и застенчиво и ласково обняла его голову, заглянула в его глаза:
– Ванюша! Замучили тебя вчера?
Ваня благодарно поднял к ней глаза, но удивился:
– Нет, почему замучили? Помучили немножко, а только иначе нельзя: вопрос серьезный!
Когда Ванда пришла первый раз на работу на стадион, мальчики встретили ее очень приветливо, уступили ей лучший верстак у окна, наперебой показывали, как нужно держать рашпиль, как убирать станок, выписывать наряд, как обращаться с контролем.
Сначала Ванда зачищала верхние планки для спинок, а потом Штевель обратил внимание на ее аккуратную работу и поручил ей более ответственное дело. В готовых комплектах перед самой полировкой обнаруживались трещинки, занозинки, впадинки. Из клея и мелких дубовых опилок Ванда составляла тугую смесь и деревянной тоненькой лопаточкой накладывала ее на дефектные места, а потом протирала шлифером. После полировки эти места совершенно сравнивались с остальной поверхностью. Работа эта не давала никакой квалификации, но о ней Ванда никогда и не думала. Было очень приятно сдавать приемщику совершенно готовый к полировке комплект и знать, что это она сделала его таким.
К колонистам Ванда относилась ласково, сдержанно, была молчалива. Она еще не успела хорошо рассмотреть[210], что такое колония, и не вполне еще поверила, что колония вошла в ее жизнь. Ванда хорошо видела, что колония совсем не похожа на то, что было у нее раньше, но что было раньше, крепко помнилось и снилось каждую ночь. Иногда даже Ванде казалось, что ночью идет настоящая жизнь, а с утра начинается какой-то милый сон. Это не тревожило ее, раздумывать над этим было просто лень. Она и не раздумывала, с несмелой радостью отдаваясь этому сну. Она любила утро в колонии – дружное, быстрое, наполненное движением, шумом, звонкими сигналами, встревоженной торопливостью уборки, шуткой и смехом. И Ванда в этом утреннем вихре[211]любила что-нибудь делать, помочь дежурному по бригаде, исполнить поручение бригадира. И еще больше любила вдруг наступавшую в колонии тишину, всегда ошеломляющий и неожиданный блеск дежурства и строгой бодростью украшенный привет:
– Здравствуйте, товарищи!
Любила Ванда и белоснежную чистоту столовой, и цветы на столах, и цветы во дворе, и короткий перерыв под солнцем у крыльца, перед самым сигналом на работу. А вечером любила тишину в спальне, парк, короткий, захватывающий интерес общих собраний.
Но людей Ванда еще не научилась любить. Мальчики были деликатны, внимательны, но Ванда подозрительно ожидала, что эта деликатность вдруг с них спадет и все они окажутся теми самыми молодыми людьми, которые преследовали ее на «воле». Да и сейчас в толпе этих мальчиков нет-нет – и промелькнет лицо Рыжикова. Одним из самых опасных казался ей в первые дни Гонтарь, низколобый, с губами немного влажными. Но, когда она узнала, что Гонтарь влюблен в Оксану, она сразу увидела, что, напротив, у Гонтаря очень доброе и хорошее лицо.
И девчонки были подозрительны. Это были не просто девочки, а у каждой было свое лицо, свои глазки, бровки, губки, и каждая казалась Ванде чистюлькой, себе на уме, кокеткой по секрету, в каждой она чуяла женщину – и никому из них не доверяла. У девчонок в шкафах было кое-какое добро: материя, белье, коробочки с катушками, ленточки, туфельки. А у Ванды ничего не было, и на кровати лежала только одна подушка, в то время когда у других девочек было почему-то по две-три подушки. Все это вызывало и зависть, и подозрение, и очень хотелось найти у девчонок побольше недостатков.
По своему характеру Ванда не имела склонности к ссорам, и поэтому ее подозрительность выражалась только в молчаливости и в одиноких улыбках. Но она могла и взорваться, и сама с тревогой ожидала какого-нибудь взрыва и не хотела его.
Однажды Захаров спросил у Клавы:
– Как Ванда?
– Ванда? Она все отделяется… Послушная… так… но все думает одна.
– Подружилась с кем-нибудь?
– Ни с кем не подружилась. Очень медленно привыкает.
– Это хорошо, – сказал Захаров. – Быстрее и не нужно. Вы ей не мешайте и не торопите. Пускай отдохнет.
– Я знаю.
– Умница.
И незаметно для себя Ванда действительно отдохнула. Реже стала вспоминать бури своей жизни, а сниться ей начали то сборочный цех, то общее собрание, а то вдруг взяла и приснилась Оксана.
Ванда иногда встречала Оксану в парке или в кино, но стеснялась подойти к ней и познакомиться, да и Оксана держалась в сторонке, тоже, вероятно, из застенчивости. Ванда знала, что Оксана – «батрачка», прислуга, что в нее влюблен Гонтарь и что Игорь Чернявин поцеловал ее в парке, а потом ходил просить прощения. При встрече Ванда всматривалась в лицо Оксаны. В этом лице, в смуглом румянце, в несмелых карих глазах, в осторожном взгляде, который она успевала поймать, Ванда умела видеть отражение настоящих человеческих страданий: Оксана была батрачка.
17 Свежий воздух
Игорь Чернявин часто начал поглядывать на себя в зеркало. Он получил уже парадный костюм, хотя еще и без вензеля. Обнаружилось, что у него стройные ноги и тонкая талия. Ему казалось, что он смотрит на себя в зеркало для того, чтобы посмеяться: какой благонравный колонист работает себе в сборочном цехе, зачищает проножки, поцеловал девушку – попало! Извинился, как полагается джентльмену. Через неделю он, безусловно, выдержит экзамен в восьмой класс, а еще через месяц должен получить звание колониста. Похвальное поведение, – никогда не мог подумать. И вот что странно: от этого было даже приятно.
С каждым днем начинал Игорь ощущать в себе какую-то новую силу. Друзей у него еще не было, да, пожалуй, они не особенно были ему нужны. Зато со всеми у него приятельские отношения, со всеми он может пошутить, и все отвечают ему ласковыми улыбками. Он уже приобрел славу знаменитого читателя. Когда он приходит в библиотеку, Шура Мятникова встречает его как почтенного заказчика, аппетитно поглядывает на полки, чертовски красивым движением взлетает на лестницу и говорит оттуда:
– Я тебе предложу Шекспира. Как ты думаешь?
Она смотрит на него сверху лукаво и завлекающе. Очень уж ей хочется улучшить библиотечный паспорт Шекспира, до сего времени сравнительно бедный. И Игорь радуется, может быть, ему импонирует Шекспир, а может быть, и оттого, что Шура Мятникова на верхней ступеньке лестнички кажется ему простой милой сестрой – разве такая сестра плохой подарок судьбы?
Игорь уносит под мышкой огромный том Шекспира, на него по дороге с уважением смотрят пацаны – им ни за что не дадут такую большую, красивую книгу, – а Владимир Колос, повстречавшись с ним, говорит:
– Покажи! Шекспира читаешь? Хвалю. Молодец, Чернявин. Довольно, понимаешь, тащиться шагом…
Владимир Колос – высокая марка, он создал колонию, и он будет потом учиться в Московском авиационном институте. Игорь с настоящим увлечением открывает в спальне Шексапира, и оказывается – совсем неплохо. Он читает «Отелло» и хохочет. Отелло страшно напоминает Гонтаря.
– Михайло! Про тебя написано.
– Как это про меня?
– А вот тут описан один такой ревнивец.
– Рассказывай, описан!
– Точь-в-точь – ты!
– Ты напрасно воображаешь, Чернявин, что я ревнивец. Ты ничего не понимаешь. Тебе только целоваться нужно.
Гонтарь хитрый. Он уверен, что Игорю нужно только целоваться. А что нужно самому Гонтарю – неизвестно. Однако в восьмой бригаде хорошо знают, куда метит Миша Гонтарь: зимою он поступит на шоферские курсы, получит где-нибудь машину и будет ездить. Захаров обещал устроить для него квартиру, и тогда Миша женится на Оксане. Об этом адском плане знала вся колония, даже пацаны четвертой бригады, но Гонтарь таинственно улыбался – пускай себе болтают. Гонтарь делал такой вид, будто его планы гораздо величественнее. Ребята с ним не спорили. Миша – хороший человек. Планы Гонтаря были известны всей колонии, до некоторой степени были известны, конечно, и самому Гонтарю… но планы Оксаны никому не были известны и, кажется, не были известны и самому Гонтарю. У колонистов были острые глаза, гораздо острее, чем у Миши. Оксана приходила на киносеансы; днем она появлялась с корзинкой – за щепками. Перед вечером, когда на пруду наступал «женский час», приходила купаться, – достаточно для того, чтобы опытный глаз мог увидеть: собирается она быть женой шофера Гонтаря или не собирается.
Все хорошо знали, что Оксана – батрачка, что ее эксплуатирует какой-то адвокат, которого ни разу в колонии не видели, все сочувствовали Оксане, но в то же время заметили и многое другое: особенную, спокойную бодрость Оксаны, молчаливое достоинство, неторопливую кроткую улыбку и умный взгляд. От нее никогда не слышали ни одной жалобы. А самое главное: никогда не видели ее вдвоем с Мишей на прогулке, имеющей, так сказать, любовную окраску: ведь всегда сразу видно, любовная это прогулка или так. Что-то такое было у этой девушки свое, никому еще не известное, о чем Гонтарь не имел никакого представления.
В конце августа, в выходной день, под вечер, в спальне, по случайному совпадению, Игорь и Гонтарь одновременно занялись туалетом. Миша долго причесывал свои волосы. Игорь начистил ботинки. Миша поглядывал подозрительно на сверкающие ботинки Игоря, на новую складку на брюках, но молчал. Игорь же, как более разговорчивый, спросил:
– Куда это ты собираешься, любопытно знать?
– А ты за мной проследи, если такой любопытный.
– И прослежу.
Помолчали.
Потом Игорь снова:
– Парадную гимнастерку ты не имеешь права надевать.
– А может, я иду в город. Сейчас подойду к дежурному бригадиру, так и так, имею отпуск.
– Ах, ты в город? Хорошо!
– А на парадную я только посмотрел, может, измялась.
– Как будто нет…
– Как будто нет.
Снова помолчали. Но Гонтарь хорошо разобрал, как старательно Игорь расправил носовой платок в грудном кармане. Не утерпел и тоже спросил:
– А ты куда собираешься?
– Я? Так… пройтись. Люблю, понимаешь, свежий воздух.
– Скажите, пожалуйста, свежий воздух! В колонии везде свежий воздух.
– Не скажите, милорд. Все-таки эта самая литейная… такой, знаешь, отвратительный дым…
Игорь пренебрежительно махал рукой возле носа. Это аристократическое движение возмутило Гонтаря:
– Напрасно задаешься! Сегодня выходной день, и литейная не работает.
– Сэр! У меня такое тонкое обоняние, что и вчерашний дым… не могу выносить.
Таким образом, Гонтарь убедился, что Игорь настойчиво хочет как можно дальше уйти[212] от литейной. И убедившись, Гонтарь оставил шутливо-подозрительный тон и сказал значительно:
– Знаешь что, Чернявин! Я все-таки тебе не советую!
– Ты, Миша, не волнуйся.
Из спальни вышли вместе. Вместе прошли парк и подошли к плотине. Гонтарь спросил:
– Куда ты все-таки идешь?
– Я гуляю по колонии. Имею право?
– Имеешь.
Гонтарь был человек справедливый. Поэтому он молчал до тех пор, пока они не перешли плотину. А когда перешли, Гонтарь уже ни о чем не спрашивал, а выразился категорически:
– Ты дальше не пойдешь!
– Почему?
– Потому. Ты куда направляешься?
– Гулять.
– По колонии?
– Нет, около колонии. Имею право?
– Имеешь, а только…
– Что?
– Чернявин! Я тебе морду набью!
– Милорд, какие могут быть разговоры о морде в такой прекрасный майский вечер!
– Чернявин! Не трепись про майский вечер. Теперь нет никакого мая, и ты думаешь, я ничего не понимаю. Дальше ты все равно не пойдешь.
– Миша, я знаю японский удар! Страшно действует!
– Японский. А русский, ты думаешь, хуже?
Миша Гонтарь решительно стал на дороге, и пальцы его правой руки, действительно, стали складываться угрожающе по-русски.
– Миша, неловко как-то без секундантов.
– На чертей мне твои секунданты! Я тебе говорю: не ходи!
– Ты – настоящий Отелло. Я все равно пойду. Но первый я не нанесу удара. Я не имею никакой охоты стоять на середине да еще по такому делу: самозащита от кровожадного Отелло.
Упоминание о середине взволновало Гонтаря. Он оглянулся и… увидел Оксану в сопровождении довольно пожилого гражданина в широких домашних брючках и в длинной косоворотке. На голове у гражданина ничего не было, даже и волос, лицо было бритое, сухое и довольно симпатичное. Игорь и Гонтарь поняли, что это и есть эксплуататор, поэтому его лицо сразу перестало казаться симпатичным. Оксана шла рядом с ним. На ее ногах были сегодня белые тапочки, а в косе белая лента. Не могло быть сомнений, что сегодня она прелестней, чем когда-либо. Колонисты пропустили их к плотине. Гонтарь сумрачно поднял руку для приветствия, отсалютовал и Игорь. Оксана опустила глаза. Лысый, очевидно, решил, что почести относятся к нему, и тоже поднял руку, потом спросил:
– Товарищи колонисты! Скажите, Захаров у себя?
Гонтарь ответил с достоинством:
– Алексей Степанович всегда у себя.
Оксана прошла впереди на плотину. Мужчины двинулись вслед за ней. Лысый гражданин сказал:
– Хорошо вы живете в колонии! Такая досада, что мне не пятнадцать лет. Эх!
Он, действительно, с досадой махнул рукой.
Гонтарь недоверчиво повел на него хитрым глазом: здорово представляется эксплуататор.
До самых дверей главного здания они так и шли втроем за Оксаной и разговаривали о колонии. Гонтарь держался как человек, которого не проведешь, отвечал вежливо, с дипломатической улыбкой, но вообще не увлекался, старался не выдать ни одного секрета и скрыл даже, сколько масленок делают в день, – сказал:
– Это бухгалтерия знает.
А за спиной гражданина подмигнул Игорю.
Впрочем, Гонтарь охотно вызвал дежурного бригадира:
– Вот они – к заведующему.
Целых полчаса Игорь и Гонтарь мирно гуляли в пустом коридоре. Гонтарь не выдержал:
– Интересно, чего это они пришли?
Володя Бегунок куда-то помчался стремглав и возвратился с Клавой Кашириной. Потом лысый гражданин прошел мимо них и вежливо поклонился:
– До свиданья, товарищи.
Игорь и Гонтарь переглянулись, но никто не высказал никакого мнения.
Наконец из кабинета вышли Клава и Оксана. Оксана шла впереди и немного испуганно глянула на юношей. Но Клава сияла радостью. Она с шутливой манерностью поклонилась и сказала своим замечательным серебряным голосом:
– Познакомьтесь: новая колонистка Оксана Литовченко.
Клава, лукаво быстро глянув на растерявшихся колонистов, сказала:
– Идем, идем, Оксана!
Они еще долго смотрели вслед девушкам, а потом глянули друга на друга.
Игорь сказал:
– Милорд, могу я теперь пойти подышать свежим воздухом?
Но теперь и Гонтарь был в ударе:
– Чудак, я же тебе русским языком говорил, что по всей колонии воздух хороший!
Они захохотали на весь коридор. Часовой посмотрел на них строго, а они смеялись до самой спальни, и только в спальне Гонтарь заявил серьезно:
– Ты, конечно, понимаешь, Чернявин, что теперь всякие романы кончены.
– Я-то понимаю, милорд, а вот понимаете ли вы?
Но Гонтарь посмотрел на него высокомерно:
– Дорогой товарищ! Я по списку колонистов четвертый!
18 Вот это – да!
В спальне пятой бригады сидит на стуле Оксана, до самой шеи закутанная простыней. Вокруг нее ходит Ванда с ножницами, стоят девочки и улыбаются. У Оксаны хорошие волонистые волосы с ясным каштановым отливом:
– Я тебе сделаю две косы. У тебя хорошие будут косы, ты знаешь, какие замечательные будут косы! Вы ничего, девочки, не понимаете: разве можно стричь такие косы? Надо только… подрезать, тогда будут расти.
Глаза у Ванды горят отвагой. Она закусывает нижнюю губу и осторожно подрезывает кончики распущенных волос. Оксана сидит тихонько, только краснеет густо.
Ванда квалифицрованным жестом парикмахера сдергивает с нее простыню. Оксана несмело подымается со стула:
– Спасибо.
Ванда бросила простыню на пол, вдруг обняла Оксану, затормошила ее.
– Ах ты, моя миленькая! Ты, моя родненькая! Ты, моя батрачечка!
Девочки взволнованно засмеялись, Оксана подняла на них карие глаза, улыбнулась немного лукаво. Клава сказала:
– Довольно вам нежничать! Идем к Алексею.
Ванда спросила задорно:
– Чего к Алексею?
– Поговорить ему нужно.
– И я пойду.
– Идем.
Были часы «пик», когда у Торского и у Захарова народу собиралось множество. Только у Торского можно сидеть сколько угодно на бесконечном диване, сколько угодно говорить и как угодно смеяться, а в кабинете Захарова можно все это проделывать вполголоса, чтобы не мешать ему работать. Впрочем, бывали и здесь отступления от этого правила в ту или другую сторону: то сам Захаров заговорится с ребятами, смеется и шутит, а то вдруг скажет сурово:
– Прошу очистить территорию на пятьдесят процентов!
Он никогда не позволял себе просто выдворить гостей.
Девочки вошли в комнату совета бригадиров. Их встретило общее изумление. Оксана в колонистском костюме! Какая новость! Только Володю Бегунка никогда нельзя было изумить. Он открыл дверь кабинета и вытянулся с жестом милиционера, регулирующего движение:
– Пожалуйте!
Захаров встал за столом, гости его тоже притихли, пораженные,
– Ну что же… хорошая колонистка. Ты училась в школе?
– Училась в седьмом классе.
– Хорошо училась?
– Хорошо.
Игорь Чернявин, сидящий на диване, сказал весело:
– Только ты, Оксана, посмелее будь. А то ты какая… деревенская.
Ванда оглянулась на него оскорбленно:
– Смотри ты, городской какой!
Захаров поправил пенсне:
– Хорошо училась? Если умножить двенадцать на двенадцать, сколько будет, Чернявин?
– А?
– Двенадцать на двенадцать умножить, сколько?
Игорь поднял глаза и быстро сообразил:
– Сто четыре!
– Это по городскому счету или по деревенскому?
За Игорем следило много возбужденных глаз. Головы гостей склонились друг к другу, уста их шептали не вполне уверенные предположения, но Игорь еще раз посмотрел на потолок и отважно подтвердил:
– Сто четыре!
Захаров печально вздохнул:
– Видишь, Оксана, милая? Так и живем. Приедет к нам такой молодой человек из города и гордится перед нами, говорит: сто четыре. А того и не знает, что недавно один американский ученый сделал такое открытие: двенадцать на двенадцать будет не сто четыре.
Девушки смотрели на Игоря с насмешкой, ребята заливались на диване, но Игорь еще раз проверил и, наконец, догадался, что Захаров просто «покупает» его. И в присутствии Оксаны Игорь захотел показать настойчивость души, которую нельзя так легко сбить разными «покупками». Правда, Ваня Гальченко, сидящий рядом, толкал его в бок, и этот толчок имел явный математический характер, но Игорь не хотел замечать этого:
– Американцы тоже могут ошибаться, Алексей Степанович. Бывает так, что русские сто очков вперед американцам дают.
– Оксана, видишь? Самый худший пример искажения национальной гордости. Игорь дает американцам сто четыре очка.
Оксана не выдержала и рассмеялась. И тут обнаружилось, что она вовсе не стесняется, что она умеет смеяться свободно, не закрываясь и не жеманясь. Потом губы ее насмешливо вздрогнули, и она обратилась к Игорю с простым вопросом:
– А как ты считаешь?
Игорь почувствовал, что почва под ним как будто колеблется, но он не сдавался.
– Да как считаю: десять на десять сто, дважды два – четыре, сто четыре.
Оксана изумленно посмотрела на Захарова. Захаров развел руками:
– Ничего не скажешь! Правильно! Сто да четыре будет сто четыре. Признаем себя побежденными, правда, Оксана?
Но Захарова перебил общий возбужденный крик. Колонисты покинули теплые места на диване, воздевали руки и кричали разными голосами:
– Да он неправильно сказал! Неправильно! Алексей Степанович! Тоже считает! Кто же так считает, Чернявин? Сто четыре!
Старшие мудро ухмылялись. Захаров расхохотался:
– Что такое, Игорь? И русские против тебя? Хорошо! Это вы там на свободе разберете. Клава, кто будет шефом у Оксаны?
– Я хотела назначить Марусю, но вот Ванда… а Ванда еще не колонистка.
Ванда выступила вперед, стала рядом с Оксаной, сказала серьезно:
– Алексей Степанович! Я не колонистка! Но только… Теперь это моя сестра! Моя сестра – Оксана!
Захаров внимательно посмотрел в ее глаза. Гости притихли и вытянули шеи.
– Так… Это очень важно! Значит, ты хочешь быть ее шефом?
– Да! Я буду ее шефом. Потому что ей хуже жилось, чем мне. Она – батрачка.
Наступило общее молчание. Ванда оглянулась на всех, встряхнула головой:
– И пускай все знают: я ее защищаю.
Захаров встал, протянул Ванде руку:
– Спасибо, Ванда, хороший ты человек.
Ванда грациозно встряхнула рукой, улыбнулась со свойственным ей очарованием:
– И вы тоже!
Теперь только ребята дали волю своим чувствам. Они бросились к Оксане, окружили ее, кто-то протянул звонко-звонко:
– Вот это – да!
Поздно вечером, когда уже все спали, Захаров устало прибрал на столе, взял в руки фуражку и спросил у Вити Торского:
– Да, Витя, откуда ребята взяли, что Оксана батрачка?
– Все колонисты так говорят.
– Почему?
– Говорят – батрачка, у адвоката прислуга. Только такая прислуга, на огороде. А разве нет?
– Оксана Литовченко – дочь рабочего-коммуниста. Он умер этой зимой, а мать еще раньше умерла. Оксану и взял к себе товарищ Черный, не адвокат вовсе, а профессор советского права; они вместе с отцом Оксаны были на фронте.
– А почему она в огороде работала?
– А что же тут такого, работать в огороде? Она сама и огород завела, значит, любит работать. Разве только батраки работают?
Торский хлопнул себя по бокам:
– Ну что ты скажешь! А у нас такого наговорили: эксплуататор.
– Наши могут… фантазеры!
– Надо на собрании разъяснить.
Захаров надел фуражку, улыбнулся:
– Нет, пока не надо. Никому не говори. Само разъяснится.
– Есть, никому не говорить!
Захаров вышел в коридор. В вестибюле горела дежурная лампочка. Часовой поднялся со стула и стал «смирно».
– До свиданья, Юрий!
– До свиданья, Алексей Степанович!
Захаров направился по дорожке мимо литеры Б. Во всех окнах было уже темно, только в одном склонилась голова девушки. Голос Ванды сказал оттуда:
– Спокойной ночи, Алексей Степанович!
– Почему ты не спишь, Ванда?
– Не хочется.
– А что ты делаешь?
– А так… смотрю.
– Немедленно спать, слышишь!
– А если не хочется?
– Как это не хочется, если я тебе приказываю?
– Ванда ответила, смеясь:
– Есть, немедленно спать!
Из-за ее плеча голова Клавы:
– С кем ты разговариваешь, Ванда? Алексей Степанович, вы скажите ей, чтобы она не мечтала по ночам. Сидит и мечтает. С какой стати!
– Я не мечтаю вовсе. Я просто смотрю. А только я больше не буду, Алексей Степанович.
– Клава, тащи ее в постель!
Девушки завозились, пискнули, скрылись. И это окно стало таким же, как и все остальные.
19 Счастливый месяц август
Было сделано по секрету: вдруг Зырянский приказал четвертой бригаде после ужина надеть парадные костюмы. Удивительно было, что никто в бригаде не спросил, почему. О чем-то перешептывались и пересмеивались, и Ваня по этой причине шепотом спросил у Фильки:
– А зачем? Скажи, зачем?
И Филька ему шепотом ответил:
– Одно дело будет… Стр-рашно интересно!
А когда проиграли сигнал на общее собрание, Алеша Зырянский построил всех в одну шеренгу и гуськом повел в зал. В вестибюле их ожидал Володя Бегунок со своей трубой и тоже занял место в шеренге впереди всех, рядом с Зырянским. В «тихом» клубе их встретили улыбками, даже зааплодировали. И четвертая бригада не расселась на диване, а построилась перед бюстом Сталина, лицом к собранию. Потом пришли вдвоем и весело о чем-то между собою разговаривали, лукаво посмотрели на четвертую бригаду Захаров и Витя Торский. Витя открыл собрание и сказал:
– Слово предоставляется бригадиру четвертой бригады товарищу Зырянскому.
Зырянский встал впереди своей шеренги и громко скомандовал:
– Четвертая бригада, смирно!
И сказал такую речь:
– Товарищи колонисты, собрание колонистов четвертой бригады в составе четырнадцати человек единогласно постановило просить общее собрание дать нашему воспитаннику Ивану Гальченко звание колониста. Иван Гальченко – хороший товарищ, честный работник и веселый человек. Подробно о нем скажет его шеф – колонист Владимир Бегунок. Гальченко, пять шагов вперед!
Ваня, смущенный и краснеющий, встал рядом с бригадиром. Володя тоже вышел вперед и очень сдержанно, официальным голосом рассказал кое-что о Ване. Ваня живет в бригаде только три месяца, но за это время можно все увидеть. Ваня ни с кем никогда не ссорится, никогда нигде не опоздал, всякую работу делает хорошо, быстро и всегда веселый. Он ни к кому не подлизывается, ни к бригадиру, ни к дежурному бригадиру, ни к старшим колонистам. Теперь в один рабочий день он делает восемьдесят шишек, и все довольны. Каждый день читает «Пионерскую правду», знает про Октябрьскую революцию, про Ленина и также хорошо знает, как побили Деникина, Юденича и Колчака. Еще знает про Днепрострой, про коллективизацию, про кулаков. Это он все хорошо знает. Он говорит, когда выйдет из коммуны, так сделается летчиком в Красном Армии; только он не хочет быть бомбардировщиком, а хочет быть истребителем. Это он так говорит, а, конечно, это еще будет видно. Колонию Ваня очень любит. Знает все правила и законы в колонии, уже выучил строй и хочет играть в оркестре. Вот он… какой! И я был его шефом, а только мне было совсем не трудно.
Потом взял слово Марк Грингауз и сказал, что комсомольская организация поддерживает просьбу четвертой бригады. Ваня за три месяца доказал, что он заслужил первомайский вензель. И очень стыдно тем бригадам, где есть воспитанники старше, чем[213] по четыре месяца.
Сказали короткие слова и другие колонисты. Все подтвердили, что Ваня Гальченко заслужил почетное звание. Клава Каширина прибавила:
– Хороший колонист! Ваня всегда в исправности, очень вежливый, все у него в порядке, и, безусловно, наш человек, трудящийся.
И Алексей Степанович поднялся, улыбаясь, подумал и развел руками:
– Моя обязанность, вы знаете, и привычка тоже – придираться все. А вот к Ване… не могу придраться. Только боюсь, четвертая бригада, вы там его не перехвалите, не забалуйте. И ты, Ваня, если тебя хвалят, старайся не очень верить… все-таки… больше от себя самого требуй. Знаешь, нет хуже захваленного человека. Понял?
Ваня был как в тумане, но ясно видел, чего хочет Захаров, и кивнул задумчиво.
Когда высказались все ораторы, Витя Торский сказал:
– Голосуют только колонисты! Кто за то, чтобы Ване Гальченко дать звание колониста, прошу поднять руки!
Целый лес рук поднялся вверх. Ваня стоял рядом с бригадиром и радовался, и удивлялся.
– Принято единогласно! Прошу встать!
Еще более удивленный, Ваня увидел, как все встали, в дальнем углу дивана отделился и через блестящий паркет направился к четвертой бригаде Владимир Колос, первый колонист по списку.
Владимир Колос держал в руках бархатный ромбик, на котором нашиты золотом и серебром буквы вензеля.
– Ваня Гальченко! Вот тебе значок колониста. Теперь ты будешь полноправным членом нашего коллектива. Интересы колонии и всего Советского государства ты будешь ставить впереди своих личных интересов. А если тебе потом придется стать на защиту нашего государства от врагов, ты будешь смелым, разумным и терпеливым бойцом. Поздравляю тебя!
Он пожал Ване руку и вручил ему значок. Весь зал зааплодировал, Алеша Зырянский взял Ваню за плечи. В это время Торский закрыл общее собрание, и все окружили нового колониста, пожимали ему руки и поздравляли. И Алексей Степанович тоже пожал руку и сказал:
– Ну, Ваня, теперь держись! Покажи значок! Лида, я по глазам вижу, ты ему пришить хочешь…
– Очень хочу!
Золотая голова Лиды склонилась к Ване.
– Идем к нам!
В первый раз зашел Ваня в спальню одиннадцатой бригады. Девочки окружили его, усадили на диван, угощали шоколадом, расспрашивали, смеялись, потом он снял блузу, и Лида Таликова собственноручно пришила значок на левый рукав.
Когда он снова нарядился, девочки завертели его перед зеркалом. Шура Мятникова наклонилась из-за плеча к зеркалу и засмеялась: зубы у нее белые, большие и ровные.
– Смотри, какие мы красивые!
А когда прощались, все кричали:
– Ваня, приходи в гости, приходи!
Шура Мятникова растолкала всех:
– Честное слово, я его в библиотечный кружок запишу! Мне такой нужен деловой человек. Пойдешь ко мне в кружок, пойдешь?
Ваня поднял глаза. Он не был смущен, он не был задавлен гордостью, нет, он был просто испуган и очарован счастьем, которое свалилось на него в этот вечер, а он был все же очень слабо подготовлен к этому и не знал еще, какой величины счастье может выдержать человек. У этих девочек были замечательные лица, они казались недоступно прелестными, в их оживлении, в их чудесных голосах, в чистоте и аромате их комнаты, даже в шоколаде, которым они угостили Ваню, было что-то такое трогательное, высокое, чего никакой человеческий ум понять не может. Ваня ничего и не понимал. Он дал обещание работать в библиотечном кружке.
А ведь это был только один из вечеров этого счастливого месяца августа. Сколько же было еще таких дней и вечеров!
Вдруг стало известно, что Колька-доктор остался очень недоволен сделанной вентиляцией и потребовал немедленного перевода всех малышей-шишельников в другой цех. В кабинете Захарова Соломон Давидович произнес речь, в которой обращал внимание Кольки-доктора на свое старое сердце:
– Вы как доктор хорошо понимаете: если мне будут ежедневные неприятности с этой самой трубой, то даже самое здоровое сердце не может выдержать…
Колька-доктор сердито поморгал глазами на Соломона Давидовича:
– Ерунда! Сердце здесь ни при чем!
Вся эта лечебно-литейная история кончилась тем, что совет бригадиров поставил на эту работу[214] старших колонистов, в том числе и Рыжикова, а малышей перевел в токарный цех. Столь необыкновенное и непредвиденное благоволение судьбы так потрясло четвертую бригаду, что она вся целиком охрипла на несколько дней.
Токарь! В каких сказках, в каких легендах рассказано о токаре? Пожалуйста: и баба-яга костяная нога, и золотое блюдечко, и наливное яблочко, и гостеприимный разговорчивый колобок, и добрые зайцы, и доброжелательные лисички, и Мойдодыр, и Айболит – вся эта компания предлагает свои услуги. Хорошим вечером можно широко открыть глаза и унестись воображением в глубину сказочного леса, в переплеты нехоженых дорожек, в просторы тридесятых стран. Это можно, это допустимо, это никому не жалко, и взрослые люди всегда очень довольны и щедры на рассказы. А попробуйте попросить у них обыкновенный токарный станок, не будем уже говорить, коломенский или московский, а самый обыкновенный – самарский! И сразу увидите, что это еще более невозможная радость, чем шапка-невидимка. Куда тебе: токарный станок! Шишки – пожалуйста, шлифовка планок в сборочном цехе – тоже можно, а токарный станок по металлу – нет, никогда никто не предложит.
И вдруг: Филька – токарь, Кирюшка – токарь, Петька Кравчук – токарь и Ваня Гальченко, еще так недавно знавший только технологию черного гуталина, – тоже токарь! Токарь по металлу! Слова и звуки, говорящие об этом, чарующей музыкой расходятся по телу, и становится мужественным голос, и походка делается спокойнее, и в голове родятся и немедленно тут же разрешаются важнейшие вопросы жизни. И глаза по-новому видят, и мозги по-новому работают. Швейный цех – тоже цех, скажите, пожалуйста! Или сборный стадион! Только теперь стало понятным, как жалки и несчастны люди, работающие на стадионе и называющиеся «деревообделочниками».
Впрочем, были и такие слова, которых новые токари старались и не слышать. Например, когда привезли самарские станки, Остапчин Александр, помощник бригадира восьмой, сказал при всех:
– Где вы этих одров насобирали, Соломон Давидович? Это станки эпохи первого Лжедмитрия.
Соломон Давидович, как и раньше бывало, презрительно выпятил губы:
– Какие все стали образованные, прямо ужас: теперь всем подавай эпоху модерн! Пускай себе и Димитрия, и Ефима, а мы на этих станках еще хорошо заработаем.
И слова Соломона Давидовича были понятны пацанам, а слова Остапчина проходили просто мимо и терялись.
Наступил полный славы и торжества день, когда четвертая бригада расположилась у токарных станков и впервые правые руки новых токарей расположились у токарных станков и впервые правые руки новых токарей взялись за ручки суппортов. Ноги чуть задрожали от волнения, глаза вонзились в масленки, зажатые в патронах. Соломон Давидович стоял рядом, и сердце его, старое, больное сердце, было утешено:
– Хэ! Чем плохие токари! А тот зазнается народ! Давай им эрликоны[215], давай калиброванную работу. А это по-ихнему – обдирка!
Кто там зазнается, что такое эрликоны, какой смысл в калиброванной работе, – ни Филька, ни Кирюша, ни Ваня не интересовались. По их воле работали или останавливались настоящие, роскошные, чудесные токарные станки, из-под резца курчавилась медная стружка, стопки настоящих масленок ожидали механической обработки, тех масленок, которых с таким нетерпением ждут все советские заводы.
В том же самом августе произошли и другие события, не менее замечательные. Начала работать школа. Ваня Гальченко сел на первой парте в пятом классе. В этом классе размещалась почти вся четвертая бригада, она же токарный цех. Но в том же классе на последней парте сел и Миша Гонтарь. Еще в начале августа он выражал пренебрежение к школе:
– На чертей мне этот пятый класс, когда я все равно поступаю на шоферские курсы!
Рядом с Мишей Гонтарем сидел Петров 2-й. И для него пятый класс был не нужен – что в пятом классе могут сказать о киноаппарате или, допустим, об умформере[216]. Но Алексей Степанович сказал на общем собрании:
– Предупреждаю – чтобы я не слышал таких разговоров: «Зачем мне школа, я и так ученый». Кто не хочет учиться добровольно, того, так и знайте, буду выводить на середину. Если же кто мечтает о курсах шоферов или киномехаников, все равно, с двойками ни на какие курсы не пущу, забудьте об этом и думать… А вообще имейте в виду: кто не хочет учиться, значит плохой советский гражданин, с такими нам не по дороге.
Миша Гонтарь, хмурый, сидит на последней парте и морщит лоб. Кожа на лбу все собирается и собирается в горизонтальные складки, и они дружно подымаются до самой прически. Но когда входит учитель и начинается урок, складки на Мишином лбу делаются вертикальными. Когда пятый класс единогласно выбрал Мишу старостой, он вышел перед классом и сказал:
– Предупреждаю: раз выбрали, чтоб потом не плакали! Так и знайте – за малейшее буду выводить на середину. Кто не хочет учиться добровольно, того будем заставлять. Как постоит голубчик смирно да похлопает глазами, он тогда узнает, за что учителя жалованье получают. Имейте это в виду, я не такой человек, который будет шутить.
В пятом классе хорошо знали биографию Миши Гонтаря, в особенности были известны его прошлые неудачи в школе. Но сейчас перед классом стоял уже не Миша Гонтарь, а староста. Поэтому ни у кого не возникало сомнения в его правоте, да и физиономия у Миши выражала совершенно искреннее и при этом неподкупное негодование.
В восьмом классе Игорь Чернявин. Хочется ему учиться или не хочется, он еще хорошо не знает, но впереди него сидят рядом Ванда и Оксана, и потому классная комната делается уютной и лицо молодого учителя симпатичней.
Ванда слушала-слушала учителя и не вытерпела:
– Ой, Оксаночка, до чего учиться не хочется!
Оксана крепко прижалась лицом к подруге.
– Учиться! Ванда, это ведь такое счастье!
– Ну, хорошо… Я тоже… Я буду для тебя, хорошо?
– Вот спасибо…
Учитель сказал:
– Девочки, не нужно разговаривать.
Ванда улыбнулась учителю:
– А если очень важное?
20 Крейцер
Сентябрь начался блестяще. В юношеский день – первое сентября – Ваня первый раз стал в строй колонистов. В парадных костюмах, сверкая вензелями, белыми воротниками и тюбетейками, выстроились колонисты в одну линию, а справа поместился оркестр. Ваня знал, что по строю он считается в шестом взводе, в котором были все малыши. Взводный командир шестого взвода, белокурый, тоненький Семен Касаткин, которого Ваня иногда видел на поверке в повязке ДЧСК и привык считать обыкновенным колонистом, оказался вдруг совсем необыкновенным. Когда проиграли сигнал, называвшийся «по взводам», и когда все сбежались к широкой площадке против цветника, у этого Семена Касаткина откуда-то взялись и строгий взгляд, и громкий голос, и боевая осанка. Он стал лицом к своему взводу и сказал с уверенной силой:
– Довольно языками болтать! Гайдовский!
И стало тихо, и все смотрели на командира внимательными глазами, смотрел и Гайдовский.
– Равняйтесь!
Ваня уже знал, что после сигнала «по взводам» только власть дежурного бригадира остается в силе, все остальное исчезает, нет ни бригадиров, ни совета бригадиров, а есть строй, т. е. шесть взводов и седьмой музвзвод, а во главе их командиры, которых никто не выбирает, а назначает Захаров. И с этими командирами разговоры коротки – нужно слушать команду, и все.
Ваня стоял третьим с правого фланга, таким он пришелся по своему росту в шестом взводе. Равняясь и посматривая на строго командира, Ваня видел, как вышел Захаров в такой же колонистской форме, с вензелем, только не в тюбетейке, а в фуражке. Он стал, прямой и строгий, перед фронтом, медленно провел глазами от оркестра до последнего пацана на левом фланге шестого взвода, и фронт замер в ожидании. Голосом непривычно резким, повелительным Захаров подал команду:
– Отряд!.. Под знамя… Смирно!
Он обернулся спиной к фронту, замер впереди него с поднятой рукой. И все колонисты вдруг выпрямились и взбросили вверх руки. В оркестре взорвалось что-то новое, торжественное и очень знакомое. Ваня не успел сообразить, что это такое играют. Он тоже держал руку у лба и смотрел туда, куда смотрели все. Из главных дверей, маршируя в такт музыке, вышла группа. Впереди с поднятой в салюте рукой дежурный бригадир Лида Таликова, за нею в ряд трое: Владимир Колос, первый колонист, несет знамя, а по сторонам два колониста с винтовками на ремнях. Знамя колонии им. Первого мая Ваня видел первый раз, но кое-что о нем знал. Знаменщик Колос и его два ассистента не входили ни в одну из бригад колонии, а составляли особую «знаменную бригаду», которая жила в отдельной комнате. Это была единственная комната в колонии, которая всегда запиралась на ключ, если из нее все уходили. В этой комнате знамя стояло на маленьком посте у затянутой бархатом стены, а над ним был сделан такой же бархатный балдахин.
Колос нес знамя с изумительной легкостью, как будто оно ничего не весило. Золотая верхушка знамени почти не вздрагивала над головой знаменщика, тяжелая, нарядная, украшенная золотом волна алого бархата падала прямо на плечо Колоса.
Знаменная бригада прошла по всему торжественному, застывшему в салюте фронту и замерла на правом фланге. В наступившей тишине Захаров сказал:
– Колонисты Шарий, Кравчук, Новак, – пять шагов вперед!
Вот когда наступил момент возмездия за сверхурочную работу на шишках! Серьезный Виктор Торский вышел вперед с листом бумаги и прочитал, что такому и такому за нарушение дисциплины колонии объявляется выговор. Филька стоял как раз впереди Вани, и Ваня видел, как пламенели его уши. Церемония кончилась, Захаров приказал провинившимся идти на места, Филька стал в строй и устремил глаза куда-то далеко-далеко, вероятно, в те места, где находилась в его воображении справедливость.
Но Захаров уже подал какую-то новую очень сложную команду, и вдруг ударил марш, и что-то произошло с фронтом. В нескольких местах фронт переломился, Ваня опомнился только тогда, когда колонна по восьми в ряд уже маршировала по дороге. Ваня сообразил, что он идет в первом ряду своего взвода. Перед ним одинокий командир Семен Касаткин, а дальше – море золотых тюбетеек и далеко-далеко – золотая верхушка знамени. Касаткин, не изменяя шага, оглянулся и сказал сердито:
– Гальченко, ногу!
Пока дошли до первых домиков Хорошиловки, Ваня совершенно освоился в строю. Он очень легко управлялся с «ногой» и еще легче держал равнение в длинном ряду. Все это было не только легко, но и увлекательно. На тротуарах Хорошиловки собирались люди и любовались колонистами. А когда вышли на главную улицу города, оркестр зазвучал громче и веселее. Колонна проходила между густыми толпами публики, и теперь только Ваня понял, до чего красив строй первомайцев. А потом они вошли в нарядную линию демонстрации, встретили полк Красной Армии и отсалютовали ему, прошли мимо девушек в голубых костюмах, мимо физкультурников с голыми руками, мимо большой колонны разноцветных, оживленных школьников. На колонистов все смотрели с радостью, приветствовали их, улыбались, удивлялись богатому оркестру, а женщинам больше всего нравился шестой взвод, самый молодой и самый серьезный.
Возвратились из города к вечеру, голодные, уставшие, счастливые. И за поздним обедом, и вечером в клубе, и в спальнях долго вспоминали и спорили о подробностях.
Вечером на общее собрание приехал Крейцер. Он редко приезжал в колонию. У него широкое бритое лицо, улыбающиеся глаза и рассыпающаяся на лбу прическа. Крейцера колонисты любили. То, что он председатель облисполкома, имело большое значение, но имело значение и то, что Крейцер ничуть не задавался, разговаривал простым голосом и смеялся всегда охотно, если было действительно смешно. И сегодня он пришел на собрание, когда его никто не ожидал. Колонисты только на одну секунду, пока отдавали салют, посерьезнели, а потом заулыбались, заулыбался и Крейцер:
– У вас весело, товарищи!
– А что ж… Весело!
Он широкими шагами направился к трибуне, но не дошел, хитро прищурился, остановился на той самой середине, которая многим уже причинила столько неприятностей:
– А вы, знаете, что? Я приехал вас похвалить. У вас дела пошли, говорят.
Ему ответили с разных концов «тихого» клуба:
– Дела идут!.. А вы подробно скажите!
– Могу и подробнее. Вас со сметы сняли. Вы знаете, что это значит? Это значит, что вы живете теперь не на казенный счет, а на свой собственный – сами на себя зарабатываете. По-моему, это здорово.
Колонисты ответили аплодисментами.
– Поздравляю вас, поздравляю. Только этого мало!
– Мало!
– Мало! Надо идти дальше! Правда?
– Правда!
– Производство у вас плохое, сараи.
Одинокий голос подтвердил:
– Стадион!
– Вот именно, стадион, – радостно согласился Крейцер и сейчас же нашел глазами Соломона Давидовича, – слышите, слышите, Соломон Давидович?
– Я уже давно слышу.
– Вот… и станки…
– Не станки, а козы!
– Козы! Правильно!
Он уселся между пацанами на ступеньках помоста и вдруг посмотрел на собрание серьезно:
– А знаете что? Давайте мы настоящий завод сделаем. А?
– Как же это? – спросил Торский.
Крейцер надул губы:
– Смотри ты, не понимает, как же! Построим, станки купим!
– А пети-мети?
– А у вас есть пети-мети – триста тысяч! Есть?
– Мало!
– Мало! Нужно… нужно… миллион нужно! Маловато… это верно.
Филька крикнул:
– А вы нам одолжите…
– Вам? Одолжить? Невыгодно, понимаете, вам нужно одолжить семьсот тысяч, а у вас своих только триста! А знаете что? Ребята! Стойте.
Он по-молодому вскочил на ноги:
– Дело есть! Факт! Есть дело! Слушайте! Я вам дам четыреста тысяч, а вы сами заработайте триста. Соломон Давидович, сколько нужно времени, чтобы у вас еще триста тысяч прибавилось?
Соломон Давидович выдвинулся вперед, пошевелил пальцами, пожевал губами:
– С такими колонистами, как у нас, – очень хорошие люди, я вам прямо скажу, – нужно не так много – один год!
– Всего?
– Один год, а может, и меньше.
Крейцер глянул на сдержанно улыбающегося Захарова:
– Алексей Степанович, давайте!
Захаров откровенно зачесал в затылке:
– Давно об этом думаем. Только за год не заработаем: оборудование у нас, нечего скрывать, дохлое, еле держится.
Соломон Давидович, кряхтя, поднялся со стула:
– Оно, разумеется, держится на ладане, как говорится, но, я думаю, как-нибудь протянем.
– Вот я скажу, вот я скажу.
Это вытягивал вперед руку Санчо Зорин.
– Вот я скажу: что мы заработаем триста тысяч за год, это, считайте, как дома. И все ребята скажут так.
– Заработаем, – подтвердили с дивана.
– А если вы нам поможете, – будет новый завод. Только какой завод, вот вопрос. Но это отдельно. А только я предлагаю так: если мы так заработаем, да еще вы нам поможете, так это через год будет, а потом еще строиться целый год, значит, два года пройдет, – жалко. Теперь смотрите, везде пятилетку делают за три года, а то и за два с половиной, а нам чего ж? Правда? А я предлагаю: давайте прямо сейчас начинать, сколько там у нас есть денег, начинать же можно, а чего они будут лежать. А вы тоже… знаете… как бы это сказать…
– Тоже сейчас дать?
– Ну не сейчас… а вообще!
Санчо так умильно посмотрел на Крейцера, что никто не мог уже удержаться от смеха, да и другие смотрели на Крейцера умильно, и он закричал Захарову, показывая пальцем:
– Смотрят, смотрят как! Ах, чтоб вас!.. Есть! Есть, пацаны! Сегодня даю четыреста тысяч!
Захаров вскочил, размахнулся рукой, что-то крикнул. Крейцер принял его рукопожатие с таким же молодым восторгом, кругом кричали, смеялись, все сорвались с дивана. Торский закричал:
– К порядку, товарищи!
Но Крейцер безнадежно махнул рукой:
– Какой там порядок. Завод строим, Витька!
Но Витька и сам понимал, что сегодня можно и не заботиться о слишком образцовом порядке.
21 Механические слезы
Новый завод, о котором пока мало можно было сказать, разумеется, вскружил голову всей колонии. Но удивительно было то, что даже этот подарок не исчерпал богатых карманов судьбы.
Во время обеда в столовую влетел Виктор Торский.
Секретарь совета бригадиров, член бюро комсомольской организации, он обладал очень солидным характером, но тут он вбежал, взлохмаченный, возбужденный, и заорал, воздевая руки:
– Ребята! Такая новость! И сказать не могу!
Он действительно задыхался, и было видно, что говорить ему трудно.
Все вскочили с мест, все поняли: произошло что-то совершенно особенное – сам Витя Торский кричит, себя не помня.
– Что такое? Да говори! Витька!
– Крейцер… подарил нам… полуторку… новую полуторку! Автомобиль!
– Врешь!
– Да уже пришла! Во дворе! И шофер есть!
Витя Торский еще раз махнул рукой и выбежал. Все бросились в дверь, на столах остались тарелки с супом, по ступеням загремели ноги; те, кто не успел к двери, кинулись в радостной панике к окнам.
На хозяйственном дворе, действительно, стояла новая полуторка. Колонисты облепили ее со всех сторон, часть четвертой бригады полезла в ящик. Гонтарь, человек богатырского здоровья, и тот держался за сердце. У кабинки стоял черномазый тоненький человек и застенчиво смотрел темным глазом на колонистов. Зырянский закричал на него:
– Ты механик?
– Шофер.
– Фамилия?
– Воробьев.
– Имя?
– Имя? Петр.
– Ребята! Шофера Петра Воробьева… кача-ать!!!
Это было замечательно придумано. На Воробьева прыгнули и сверху, из ящика, и снизу, с земли. Заверещали что-то, похожее на ура. Воробьев успел испуганно трепыхнуться, успел побледнеть, но не успел даже рта открыть. Через мгновение его худые ноги в широких сапогах замелькали над толпой. Когда поставили его на землю, он даже не поправил костюм, а оглянулся удивленно и спросил:
– Что вы за народ?
Гонтарь ответил ему с наивысшей экспрессией, приседая почему-то и рассекая ладонью воздух:
– Мы, понимаешь, ты, товарищ Воробьев, народ советский, настоящий народ… наш… и ты будь покоен!
Члены четвертой бригады и вместе с ними Ваня Гальченко не придавали большого значения переговорам и выражениям чувств. Осмотрев ящик, они полезли к мотору, установили систему, марку, чуть поспорили о других системах, но единогласно заключили, что машина новая, что в сравнении с ней все станковое богатство Соломона Давидовича, в том числе и токарные самарские станки, никуда не годится.
Идеальный новый завод и реальная новая полуторка сильно понизил их уважение к токарным станкам. Недавний их восторг по поводу приобщения к великой работе металлистов повернулся по-новому. Даже Ваня Гальченко, человек весьма сдержанный и далеко не капризный, недавно пришел в кабинет Захарова в рабочее время. Он старался говорить по-деловому, удерживать слезы – и все-таки плакал.
– Смотрите, Алексей Степанович! Что же это такое?.. Шкив испорчен… Я говорил, говорил…
– Чего ты волнуешься? Шкив нужно исправить.
– Не исправляют. А он говорит: работай! Так нельзя работать.
– Идем.
Переполненный горем, Ваня прошел через двор за Захаровым. Ваня уже не плакал, но, утирая слезы, он вымазал все свое личико. Войдя в механический цех, он обогнал Алексея Степановича и подбежал к своему станку.
– Вот, смотрите.
Ваня вскочил на подставку и пустил свой токарный станок. Потом отвел вправо приводную ручку шкива – деревянную палку, свисающую с потолка. Станок остановился.
– Я смотрю, но ничего не вижу.
Вдруг станок завертелся, зашипел, застонал, как все станки в механическом цехе. Захаров поднял голову: палка уже опустилась, передвинулась влево – шкив включен.
Захаров засмеялся, глядя на Ваню:
– Да, брат…
– Как же я могу работать? Остановишь, станешь вставлять масленку в патрон, а он взял и пошел. Руку может оторвать…
За спиной Захарова уже стоял Соломон Давидович. Захаров сказал:
– Соломон Давидович! Это уже… выше меры…
– Ну, что такое? Я же сделал тебе приспособление!
Ваня полез под станок и достал оттуда кусок ржавой проволоки:
– Разве это такое приспособление!
На концах проволоки две петли. Ваня одну надел на приводную палку, а другую зацепил за угол станины. Станок остановился. Ваня снял петлю со станины, станок снова завертелся, но петля висела перед самыми глазами. Сзади голос Поршнева сказал:
– Последнее слово техники!
Соломон Давидович оглянулся агрессивно на голос, но Поршнев добродушно улыбается, его красивые глаза под густыми черными бровями смотрят на Соломона Давидовича с теплой лаской, и он говорит:
– Это, честное слово, не годится, Соломон Давидович.
– Почему не годится? Это не последнее слово техники, но работать можно.
– Работать? Ему станок нужно останавливать раз пять в минуту, когда же ему привязывать, отвязывать… А тут петля болтается, лезет в суппорт.
Соломон Давидович мог сказать только одно:
– Конечно! Если поставить английские станки…
Откуда-то крикнули:
– А это какие?
С другого конца ответили:
– Это не станки. Это называется коза!
Захаров грустно покачал головой:
– Все-таки… Соломон Давидович! Это производит впечатление… отвратительное.
– Да что за вопрос! Сделаем капитальный ремонт!
Захаров круто повернулся и вышел. Соломон Давидович посмотрел на Ваню с укоризной:
– Тебе нужно ходить жаловаться. Как будто Волончук не может сделать ремонт.
Но из-под руки Соломона Давидовича уже показалась смуглая физиономия Фильки:
– Когда же будет капитальный ремонт?
– Нельзя же всем капитальный ремонт! По-вашему, капитальный ремонт – это пустяк какой-нибудь? Капитальный ремонт – это капитальный ремонт.
– А если нужно!
– Тебе нужно точить масленку. Что же ты пристал с капитальным ремонтом? Волончук возьмет гаечку и навинтит.
– Как, гаечку? Здесь все шатается, суппорт испорчен!
– Ты не один в цехе. Волончук поставит гаечку, и он будет работать.
Действительно, через пять минут Волончук приведен был в действие. Он приблизился к Фильке с деревянным ящиком в руках, а в этом ящике всегда много чудесных лекарств для всех станков. Филька удовлетворенно вздохнул. Но Соломон Давидович недолго наслаждался благополучием. Уже через минуту он налетел на Бориса Яновского:
– Стоишь?
Борис Яновский не отвечает, обиженно отворачивается. Есть такие вещи, которые могут вывести из терпения даже Соломона Давидовича. Он гневно кричит Волончуку:
– Это безобразие, товарищ Волончук! Чего вы там возитесь с какой-то гайкой? Разве вы не видите, что у Яновского шкив не работает? По-вашему, шкив будет стоять, Яновский будет стоять, а я вам буду платить жалованье?
Продолжая рыться в своем чудесном ящике, Волончук отвечает хмуро:
– Этот шкив давно нужно выбросить.
– Как это выбросить! Выбросить такой шкив? Какие вы богатые все, черт бы вас побрал! Этот шкив будет работать еще десять лет, к вашему сведению! Полезьте сейчас же и поставьте шпоночку!
– Да он все равно болтает.
– Это вы болтаете! Сию же минуту поставьте шпоночку!
Волончук задирает голову, чешет за ухом, не спеша приставляет лестницу и лезет к шкиву:
– Вчера уже ставили…
– То было вчера, а то сегодня. Вы вчера получали ваше жалованье и сегодня получаете.
Соломон Давидович тоже задирает голову. Но его дергает за рукав Филька:
– Так как же?
– Я же сказал: тебе поставят гаечку.
– Так он туда полез…
– Подождешь…
И вдруг из самого дальнего угла отчаянный крик Садовничего:
– Опять пас лопнул! Черт его знает, не могут пригласить мастера!
И Соломон Давидович, по-прежнему мудрый и знающий, по-прежнему энергичный, уже стоит возле Садовничего.
– Был же шорник. Я говорил – исправить все пасы. Где вы тогда были?
– Он зашивал, а сегодня в другом месте порвалось. Надо иметь постоянного шорника!
– Очень нужно! Шорники вам нужны, а на завтра вам смазчик понадобится, а потом подавай убиральницу.
Садовничий швыряет на подоконник ключ и отходит.
– Куда же ты пошел?
– А что мне делать? Буду ждать шорника.
– Это такое трудное дело сшить пас? Ты сам не можешь?
Все-таки развеселил Соломон Давидович механический цех. И Садовничий смеялся:
– Соломон Давидович! Это же пас. Это же не ботинок!
Садовничий имел право так сказать, потому что он когда-то работал у сапожника.
22 Слово
Какой будет завод, не знал даже Захаров. Но все знали, что нужно за год заработать триста тысяч «чистеньких». А это было не так легко сделать, потому что колонию «сняли со сметы», приходилось все расходы покрывать из заработков производства Соломона Давидовича. Неожиданно для себя самого Соломон Давидович сделался единственным источником, который мог дать деньги. Раньше других пострадал от этого Колька-доктор, которому так и не удалось приобрести синий свет. Потом девочки пятой и одиннадцатой бригад, давно запроектировавшие новые шерстяные юбки, вдруг поняли, что шерстяных юбок не будет. В библиотеке сотни книг связали в пачки, приготовив для переплета, а потом взяли и эти пачки развязали. Петр Васильевич Маленький просил на гребной автомобиль сто рублей, Захаров сказал:
– Подождем с гребным автомобилем.
На общем собрании Захаров объяснил коротко:
– Товарищи! Надо подтянуть животы, приготовьтесь.
Все были согласны подтянуть животы, и ни у кого это не вызывало возражений. Даже в спальнях о подтягивании животов говорили мало. В четвертой бригаде преимущественное внимание уделяли делам механического цеха. Теперь нужно было зарабатывать триста тысяч, а станки плохие – вот основная тема, которую деятельно разбирали в четвертой бригаде. И в других бригадах страшно беспокоились: на чем, собственно говоря, можно заработать триста тысяч? Выходило так, что не на чем заработать, а между тем оказалось, что уже на другой день после приезда Крейцера выпуск масленок увеличился в полтора раза. Как это произошло, не понял и Соломон Давидович. Он несколько раз проверил цифры, выходило правильно: в полтора раза. Даже Захарову он не сообщил о своем открытии, подождал еще день, выпуск все подымался и подымался. Но подымался и крик в цехе против всяких неполадок, а потом еще не стало вдруг хватать литья. Ясно было, что нужно увеличить число опок. На общем собрании об этом говорили несколько раз во все более повышенных тонах; наконец разразился и скандал. Зырянский начал как будто спокойно:
– А теперь с опоками. Опоки старые, дырявые, и не хватает их. Тысячу раз, тысячу раз обещал Соломон Давидович: завтра, через неделю, через две недели. А посмотрите, что утром делается? Токари не успели кончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки, а кто придет позже, тому ничего не остается, жди утренней отливки, жди, пока остынет. Какая это техника?
И вот еще новость: Зорин, вовсе и не металлист, а деревообделочник, тоже взял слово:
– Соломону Давидовичу жалко истратить на опоки тысячу рублей.
– А если план трещит, так что?
Соломон Давидович потерял терпение:
– Дай же слово! Что это такое, в самом деле! С опоками этими, что я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро. Сделаем.
С места крикнули:
– Когда? Срок.
– Через две недели.
Зырянский хитро прищурился:
– Значит, будут к пятнадцатому октября?
– Я говорю: через две недели, значит, будут к первому октября.
– Значит, к пятнадцатому октябрю обязательно?
– Да, к первому октября обязательно.
В зале начали улыбаться. Тогда Соломон Давидович стал в позу, протянул вперед руку:
– К первому октября, ручаюсь моим словом!
В зале вдруг прокатился смех, даже Захаров улыбнулся.
Соломон Давидович покраснел, надулся, он уже стоит на середине зала:
– Вы меня оскорбляете! Вы имеет право оскорблять меня, старика? Вы! Мальчишки!
Стало тихо, неловко. Что будет дальше? Но Зырянский тоже придвинулся к середине и, повернув к Соломону Давидовичу ласковое серьезное лицо, сдвинул брови:
– Никто вас не хочет оскорблять, Соломон Давидович. Вы утверждаете, что опоки будут готовы к первому октября. А я утверждаю, что они не будут готовы и к пятнадцатому октября.
Он остановился перед Блюмом, не опуская глаз. Соломон Давидович покрасневшими глазами оглядел собрание, вдруг повернулся и вышел из зала. В наступившей тишине Марк Грингауз возмущенно сказал:
– Нельзя, Алексей! Разве так можно с человеком? Он ручается словом.
Теперь покраснели глаза и у Зырянского. Он резко взмахнул кулаком:
– И я ручаюсь словом! Если я окажусь не прав, выгоните меня из колонии.
– А все-таки ты не прав, – неожиданно прозвучал голос Воленко.
– Это еще будет видно.
– А я тебе говорю: ты все равно не прав. И нечего тут спорить, мы все хорошо знаем – опоки не будут готовы к первому октября.
– Вот видишь!
– И ничего не вижу. А сейчас Соломон Давидович верит, понимаешь, верит, что они будут готовы. И он старается: это не то, что он врет. А ты, Алеша, сейчас же… на тебе! Взял и обидел! Такого старика.
– Я не обидел, а я с ним спорю.
– Спорить – одно дело, а обижать – другое дело. И я не допускаю мысли, чтобы ты нарочно…
– Да брось ты, Воленко. У нас идет вопрос обо опоках, о деле, а ты все со своей добротой. У тебя всегда все хорошие, и никого нельзя обижать. А по-моему иначе: нужны опоки – давай опоки, говори дело: когда будут готовы, а зачем морочить голову всей колонии? Зачем?
Собрание с большим интересом следило за этим разговором. По выражениям лиц трудно было разобрать, на чьей стороне колонисты. Выходило как будто так, что и Зырянский прав, и обижать нельзя, в самом деле. Игорь Чернявин сидел на диване между Нестеренко и Зориным, и ему хотелось тоже взять слово и высказать свою точку зрения. Но он еще не привык говорить на собраниях, а, кроме того, ему не вполне было ясно, какая у него точка зрения. Ему всегда было жалко Соломона Давидовича, на которого все нападали, у которого все требовали и который с самого[217] утра до сигнала «спать» «парился» в колонии, но, с другой стороны, Игорь до конца понимал[218] постоянную, придирчивую воркотню колонистов по адресу «производства» Соломона Давидовича. В самом деле, даже взять сборочный цех: сейчас, допустим, весь двор завален лесом, но какой это лес? Где-то достал Соломон Борисович по дешевке, конечно, несколько грузовиков дубовых обрезков. Это безусловно последний сорт: дуб сучковатый, с прослоями, и на каждой проножке трещинка. Эти трещинки и дырочки от сучков нужно просто обходить еще в машинном отделении, но Руслан Горохов ругался и рассказывал, что, наоборот, Соломон Давидович требовал, чтобы никаких обрезков не было. А на кого надежда в таком случае? На Ванду. Ванда все замажет своим чудесным составом, но нельзя же, в самом деле, чтобы все кресло состояло из Вандиной смеси. Игорь Чернявин вдруг решился и протянул руку. Торский дал ему слово, удивленные глаза со всех сторон воззрились на Игоря: он еще воспитанник, а уже просит слова!
Игорь храбро поднялся, но как только открыл рот, так и почувствовал, какое это трудное дело – говорить на общем собрании!
– Товарищи! Разве это правильно, скажите пожалуйста, берет Ванда Стадницкая просто опилки, будьте добры… не угодно ли вам получить театральное кресло? Попробуйте взять в руки, например, проножку, посмотрите, пожалуйста…
– Говори по вопросу, – остановил Торский.
– А?
– Что ты нам о проножках, ты говори по вопросу о выступлении Зырянского.
– Ну да! Я же и говорю. Надо войти все-таки в положение. Войдите в положение, будьте добры.
– В чье положение? – спросил с места Зорин.
Игорь мельком поймал его вредный взгляд и храбро взмахнул рукой. Черт его знает, жест вышел такой неуклюжий, какой бывал у Миши Гонтаря: рука прошлась, правда, очень энергично, но как будто не в ту сторону, куда следует, а потом остановилась где-то против живота и с самым дурацким видом торчала в неудобном, деревянном положении. Игорь даже посмотрел на нее, но тут же, хоть и мельком, увидел чью-то коварную девичью улыбку. Во всяком случае, нельзя же просто молчать! В этот момент почему-то вспотел его лоб, Игорь вытер его рукавом и неожиданно для себя довольно громко вздохнул. Легкий-легкий, еле слышный смех быстро прошумел и улетел куда-то за стены «тихого» клуба. Бывает так иногда в саду, когда вечер ошалел от тишины, когда все молчит и слушает тишину, и вдруг чему-то улыбнулся мир, что-то веселое пробежало в листве. Подымешь глаза, нет, все по-прежнему тихо. Так и Игорь поднял глаза, прислушался, еще раз вздохнул и… сел на место.
Теперь все рассмеялись громко, Игорь рассердился. Он снова вскочил и закричал:
– Да чего тут смеяться! Пристали к человеку: опоки, опоки! Думаете, ему легко, Соломону Борисовичу? Сами говорите – триста тысяч заработать за год, а без Соломона Давидовича черта с два заработаете! Вы еще чай пьете…
– А вы? – крикнул кто-то.
– Да и я, что ж? Мы еще чай пьем, а он уже в город бежит, а прибежит обратно, так на него со всех сторон… скажите, будьте добры, разве это жизнь? А я уважаю Соломона Давидовича, честное слово, уважаю!
И, удивительное дело, вдруг колонисты захлопали. В первый момент Игорь даже не поверил своим ушам: ворвались в его речь непривычные посторонние звуки, оглянулся: аплодируют, аплодируют ему, Игорю Чернявину, хотя лица улыбаются по-прежнему иронически. Игор залился краской, махнул рукой, захотелось куда-нибудь спрятаться от смущения, но тяжелая рука Нестеренко легла на колено:
– Молодец, Игорь, молодец, ты хороший человек!
Игорь посмотрел бригадиру в лицо: полные румяные губы, серые, медлительные глаза показались сейчас родными, и, может быть, это действительно был не бригадир, а старший брат, которого никогда у Игоря не было.
Игорь услышал голос Захарова. Захаров сразу начал с его фамилии.
– Чернявин сказал то, что все мы думаем. Опоки – важная вещь, Зырянский прав. А человек еще важнее, друзья! Воленко, я уважаю тебя за то, что ты выступил на защиту старика. Я думаю, что пришла пора поговорить о Соломоне Давидовиче как следует. Только то, что я скажу, прошу держать в секрете. Вы это можете?
Захаров, улыбаясь, оглядел собрание: все лица утверждали одно: разумеется, они могут, эти двести колонистов, они способны что угодно сохранить в секрете. Кто-то подозрительно посмотрел на девочек, но кто-то из девочек ответил решительным протестом:
– Ты чего смотришь? Я вот за твой язык не ручаюсь…
– Мой язык? Ого!
Захаров понял, что в секрете он может быть уверен.
– Я вижу: вы не расскажете Соломону Давидовичу, это очень хорошо. Так вот – давайте договоримся. Мы должны требовать от него порядка, мы должны добиваться и капитального ремонта, и хорошего качества продукции, и новых опок. Это мы должны. Но давайте договоримся. Мы все это будем делать в дружеском тоне, во всяком случае, совершенно вежливо. Имейте в виду: вежливость – для некоторых трудная вещь, нужно учиться быть вежливым. Не нужно так думать: если человек вежливый, значит – он шляпа. Ничего подобного. Вот, например, можно закричать, замахать руками, засверкать глазами: «Убирайся вон, такой, сякой, подлец!» – а можно очень вежливо сказать: «Будьте добры, уходите отсюда».
Последнюю фразу Захаров сказал действительно с чрезвычайной вежливостью, даже поклонился чуть-чуть, но непреклонный нажим этой просьбы был так убедителен и так уверен, что общее собрание не выдержало: зашумело, засмеялось, кто-то сказал:
– Так это, если свои!
– Совершенно верно. Я про своих и говорю. А если чужие – тоже дело не в ругательстве, а в силе. Винтовка лучше всякой ругани. Но ведь Соломон Давидович человек свой, это мы хорошо знаем, и Чернявин хорошо сказал. Наше производство старенькое, кустарное, и работать на нем трудно, и управлять им тоже нелегко. Все понятно, ребята?
Собственно говоря, все было понятно. Только Зырянский уходил из «тихого» клуба с недовольным лицом и все повторял:
– Вот посмотрим, как он к первому октября сделает!
Зато Чернявин взлетел по лестнице радостный: он сказал довольно хорошую речь, первую речь в колонии, и Захаров с ним согласился. А то они, в самом деле, думают, что Чернявин обыкновенный новенький. Пожалуйста, воспитанник Чернявин? Давно уже было не по себе Чернявину. Ваня Гальченко хороший пацан, но он пришел в колонию через месяц после Игоря, а ему уже дали значок. В восьмой же бригаде никто не подымал вопроса о Чернявине. К нему относились хорошо, признавали его начитанность, признавали справедливость его суждений по многим вопросам жизни, но ни одна душа не заикнулась о том, чтобы Чернявина представить на общее собрание и сказать: так и так, ничего себе человек: живет, работает, учится. Неужели все помнили несчастный поцелуй в парке перед спектаклем? Или отказ от работы в первые дни?
И – удивительное дело – не успел Чернявин об этом подумать, как Нестеренко сказал:
– Я так полагаю, хлопцы, что довольно Чернявину ходить воспитанником. Может, конечно, у него и есть разные фантазии, но я так думаю, что это само пройдет. А чего в нашей бригаде воспитанники будут торчать? Какое твое мнение, Санчо?
А Санчо, тоже хитрая тварь, закричал удивленным голосом:
– Да я давно так думаю! Чего, в самом деле!
23 В жизни все бывает
Крейцер приехал вместе с толстым человеком, водил его по колонии, все показывал, а больше всего показывал пацанов и говорил:
– А вот этот… Вы такого видели? Кирюшка, а ну иди сюда… как живешь?
Кирюшка мог бы кое-что рассказать о своей жизни, но посмотрел на толстяка, и охота у него пропала. У толстяка было бритое, выразительное лицо, только в данный момент оно ничего не выражало, кроме брезгливости, да и то сдержанной.
– Вы еще, дорогой, ничего не понимаете, – сказал Крейцер.
Толстяк ответил стариковским басом:
– Я – инженер, Михаил Осипович, и не обязан понимать всякую романтику.
– Хэ, – коротко засмеялся Крейцер, – ты, Кирюша, оказывается, существо романтическое.
Кирюша моргнул в знак согласия и убежал. Володя трубил «совет бригадиров», а потом спросил у Кирилла:
– Чего он тебе говорил, старый?
– Непонятное что-то! Говорит – я инженер!
В комнате совета бригадиров еле-еле поместились. Каким-то ветром разнеслось по колонии, что приехавший инженер будет говорить о новом заводе. И Ваня Гальченко одним из первых занял место на диване. Было много и взрослых: пришли учителя, мастера, даже Волончук залез в угол и оттуда поглядывал скучно и недоверчиво.
Крейцер прищуренным глазом оглядел колонистов, перемигнулся с Захаровым и сказал:
– Так вот, ребята. Дело у нас начинается. Познакомьтесь – это инженер Петр Петрович Воргунов. Насчет нового завода у нас с ним есть план, интересный план, очень интересный, у нас, тами, в городе, этот план понравился, будем делать такой завод – завод электроинструмента. Петр Петрович, пожалуйста.
Инженер Воргунов занял весь стол Вити Торского. Он не посмотрел на колонистов, не ответил взглядом Крейцеру; вид у него был тяжеловато-хмурый. Большая голова с редкими серыми волосами поворачивалась медленно. Он открыл небольшой чемоданчик и достал из него хитрую блестящую машинку, похожую на большой револьвер.
С некоторым трудом он взвесил ее на руках и начал говорить голосом негромким, отчужденным, видно, что по обязанности.
– Это – электросверлилка, значит, работает электричеством. Вот шнур, включается в обыкновенный штепсель…
Он включил, сверлилка в его руках вдруг зажужжала, но движение вследствие быстроты не было видно и лишь угадывалось.
– Как видите, она работает прямо в руках, и это очень удобно, можно сверлить дырки в любом направлении. Чрезвычайно важный инструмент, в особенности при постройке аэропланов, в саперных работах, в кораблестроении. Но она может работать и как стационар, на штативе, штатива я с собой не привез. Если вы немного понимаете в электричестве, вы догадаетесь, что внутри нее должен быть электроякорь, я потом его покажу. Бывают и другие электроинструменты, которые тоже нужно делать на будущем заводе… э… в этой колонии: электрошлифовалки, электропилы, электрорубанки. До сих пор электроинструмент у нас в Союзе не делался, приходилось покупать в Австрии или в Америке. У меня в руках австрийская.
Потом Воргунов очень легко, как будто даже без усилий, разобрал электросверлилку и показал отдельные ее части, коротко перечислил станки, на которых эти части нужно делать, и названия станков были все новые, среди них упоминались и токарные. Закончил так:
– Цехи будут: литейный, механический, сборочный и инструментальный. Если что-нибудь непонятно, задавайте вопросы.
Он опустил сверлилку на стол, на сверлилку опустил глаза и терпеливо ждал вопросов. Сделанное им сообщение было слишком ошеломительным, слишком захватило дух у присутствующих, трудно было задавать еще какие-либо вопросы. Однако Воленко спросил:
– Наша литейная не годится?
Вопрос этот имел характер совершенно неприличный, все присутствующие укоризненно посмотрели на Воленко. Воргунов, не подымая глаз, ответил:
– Нет!
Зырянского это не смутило:
– Вот вы сказали… точность… точность при обработке. Какая точность?
– Одна сотая миллиметра.
Зырянский сел на место и приложил руку к щеке:
– Ой-ой-ой!
Все засмеялись, даже Захаров, даже Волончук, не засмеялся только один Воргунов, он начал укладывать сверлилку в чемоданчик. Его холодность настолько возбуждала опасения, что кто-то спросил несмело:
– А мы… сможем… это сделать?
Воргунов сжал губы, посмотрел куда-то через головы и ответил сухо:
– Не знаю.
Глаза у колонистов как-то странно закосили, неловко было смотреть друг на друга. Но встал Захаров, сделал шаг вперед – и тоже опустил глаза: видно было, что он зол.
– А я знаю! И товарищ Крейцер знает! И вы знаете, колонисты. Эти сверлилки нужны нашей стране, нашей Красной Армии, нашему Воздушному Флоту. Товарищ Воргунов, какой выпуск запроектирован?
– Норма – пятьдесят штук в день.
– Значит, мы будем делать сто штук в день. И будем делать лучше австрийцев.
Он с вызывающим лицом повернулся к инженеру, но инженер по-прежнему холодно смотрел на свой чемоданчик. Чей-то звонкий голос раздался из самой гущи, расположенной у дверей:
– Будем делать!
Крейцер по-детски сделал вызывающее лицо:
– Будем! А как же?
Михаил Гонтарь сделал лицо добродетельное, серьезное, какое бывает у мудро поживших стариков:
– Я читал недавно в одной книжке: люди такое придумали – по телеграфной проволоке будут портреты посылать. А сверлилку, наверное, легче все-таки сделать. Или, скажем, комбайн и то делают, я сам видел в Ростове. И я так думаю: если хорошо взяться, так почему не сделать? Конечно, чтобы литейная была хорошая.
На Воргунове все эти правильные мысли никак не отразились. Витя Торский, удивленно разглядывая его, закрыл совет.
Через несколько минут Воргунов стояли посреди кабинета Захарова, наклонив голову, точно бодаться собирался:
– Я не понимаю этих нежностей. Я не ангел и не институтка, и никакие дети меня не умиляют, раз дело идет о производстве. Нет, не умиляют. Я говорю прямо: стройте завод – дело хорошее, а только рабочих придется искать.
Крейцер удивленно округлил глаза:
– Да постойте, Петр Петрович. А эти… ребята… по-вашему…
Воргунов пожал плечами:
– Михаил Осипович! Портачей и без них довольно.
Соломон Давидович протянул возмущенные руки:
– Вы их еще не знаете! Они работают… как звери, работают!
– Ну, вот видите: как звери! Мне нужны не звери, а знающие люди.
Он надел на голову шапку, взял в руки чемодан:
– Так я воспользуюсь вашей машиной, Михаил Осипович. До свиданья. – И вышел.
Все смотрели ему вслед. Крейцер сказал с увлечением.
– Вы видите? Это же прелесть! Замечательный человек!
Но Соломон Давидович Блюм, кажется, не заметил этого восхищения:
– Как вам это нравится? Он зверей не любит. Вы видели что-нибудь подобное?
Захаров смеялся громко, как мальчик.
А в это время в спальне четвертой бригады большинство ребят уже спали. Только Зырянский читал в постели книгу да Володя и Ваня на соседних кроватях посматривали еще друг на друга. Ваня вдруг приподнялся на локте:
– Одна сотая миллиметра! Володька! Это не может быть, правда?
Володя ответил задумчиво:
– В жизни все бывает.
Зырянский повернул к ним лицо:
– Пацаны, спать!
Пацаны, балуясь, заснули.
24 Вспомним старину…
Воргунов увез с собой австрийскую сверлилку, но ее увлекательный образ остался в памяти всех. Жужжание сверлилки наполняло воображение, и тем, кто сам не видел сверлилки, а только слышал рассказы о ней, она представлялась еще ярче и чудеснее.
По правде сказать, колонисты не умели разговаривать на подобные темы. Спорили о том, останется ли швейная мастерская или не останется, пригодится ли для нового завода самарские токарные или не пригодятся, нужно ли разваливать стадион или не нужно. Несколько девочек обратились в совет бригадиров с просьбой перевести их в механический цех. В совете бригадиров горячо приветствовали это начинание, но в четвертой бригаде отнеслись к нему с завистливым недоверием. Петька Кравчук воинственно поводил своим чубиком и говорил:
– Ой, и хитрые же девчата! Конечно, потом скажут: вот девчата такая редкость, скажите, пожалуйста, работали на токарных станках, давайте их поставим на самые лучшие станки, а про нас скажут: эти еще маленькие, пускай себе шишки делают. Особенно если дыма не будет.
В четвертой бригаде с Петькой соглашались: казалось, что вторжение взрослых девочек в механический цех сильно может понизить токарные заслуги пацанов. Но это беспокоило только до тех пор, пока у токарных станков рядом с пацанами не стали девочки. Насмешливые взгляды, в которых было так много мужественной токарной квалификации, быстро изменились после первой помощи, оказанной соседке, после первых слов, открывающих сложную мудрость производственной политики Соломона Давидовича, насмешливость в этих взглядах исчезла, осталась только квалификация.
Перешли работать в механический цех и Ванда с Оксаной. На совете бригадиров Соломон Давидович заикнулся было, что в важной роли составителя чудесной опилочной смеси в сборочном цехе Ванда незаменима. Ванда заявила, что она хочет работать вместе с Оксаной. Подобный аргумент, высказанный всяким другим, вызвал бы только смех, но, так как речь шла об Оксане и Ванде, никто не смеялся, и, наоборот, именно этот аргумент решил дело.
Дружба Оксаны и Ванды была замечена всей колонией, и все молчаливо признали, что в этой дружбе есть что-то особенное. Толком никто не знал, в чем состоит это особенное, да и секреты их дружбы нигде не были оглашены. Подруг привыкли видеть всегда вместе: в столовой, в школе, а теперь и на производстве. И часы отдыха они посвящали друг другу. В парке, в театре, на площадке они всегда показывались рядом, создавая чрезвычайное неудобство для всех желающих оказать особое внимание одной из них. И Михаил Гонтарь, и Игорь Чернявин, каждый в отдельности и каждый про себя, весьма осуждали такую дружбу и оправдывали ее только в те моменты, когда замечали расстроенную физиономию соперника. Что было особенно возмутительно, так это то, что Ванда и Оксана на глазах у других почти никогда даже не разговаривали друг с другом. Было видно, что простая, молчаливая и немного серьезная близость совершенно их удовлетворяет, но было видно и другое: в другой, таинственной обстановке – может быть, в спальне, может быть, в глухом уголке парка – эти девочки находили о чем поговорить, и все вопросы у них разрешены, и все для них ясно. Поэтому они могут с горделивым спокойствием в присутствии посторонних помалкивать. У Оксаны лицо было оживленнее и внимательнее к окружающему, чем у Ванды. Сохраняя свою дружескую преданность, она умела оглянуться по сторонам, посмотреть лукаво или внимательно, прислушаться к тому, что происходит рядом. Ванда, напротив, не интересовалась окружающим: в ее душе всегда проходила какая-то своя занятная жизнь, и только к ней она присматривалась, чуть-чуть напрягая брови.
Колония все больше и больше нравилась Ванде. Все понятнее и красивее становились в ее глазах люди, но приближаться к ним в простом и искреннем порыве она еще не привыкла. Все секреты колонии постепенно раскрывались перед ней. Одним из первых раскрылось, почему у девочек много подушек. Этот секрет оказался очень простым и даже веселым. Знали о нем почему-то только девочки, мальчики всегда склонны были становиться в тупик перед этим замечательным явлением и даже подозревать хозяйственную часть в несправедливости. Секрет заключался в следующем: один раз в шестидневку происходила перемена постельного белья, при этом мальчики, снимая наволочку, совершенно не обращали внимания на несколько пушинок, приставших к наволочке. пушинки летали в комнате, падали на пол и выметались дежурным в коридор. Дежурные по коридорам должны были вымести дальше. Но им никогда не приходилось это делать. Рано утром, еще до первого сигнала, девочки собирали эти пушинки. Вот по этой причине подушки у девочек все полнели и полнели, и наступал момент, когда нарождалась новая подушка. У мальчиков, наоборот, подушки все худели и худели, и наступал момент, когда завхоз с недовольным видом констатировал это необъяснимое явление и приходил к заключению, что нужно снова покупать перо для набивки подушек. А так как мальчиков было гораздо больше, чем девочек, то этот процесс имел довольно бурный характер. Скоро и у Ванды образовался небольшой запас перьев и пушинок, который она бережно хранила в носовом платке в своей тумбочке. Это было обыкновенное житейское дело, и если можно было кого презирать, то исключительно мальчишеский народ, не способный справиться с таким пустяком, как подушка.
В тумбочке Ванды тоже начало кое-что заводиться. Как и все колонисты, она получала на заводе зарплату. Ее заработок в месяц к концу октября достигал сто двадцати рублей. Большая часть этих денег оставалась в колонии на восстановление расходов на пищу, десять процентов передавалось в фонд совета бригадиров, который имел специальное назначение – помощь выпускаемым и бывшим колонистам. На руки приходилось получать рублей двадцать – двадцать пять – огромная сумма, которую трудно было истратить, пока у Ванды мало было желаний. Но с приходом Оксаны и для этих денег нашлись пути. Захотелось вдруг сладкого, потом привлекательными показались шелковые чулки, затем – так радостно было сделать Оксане подарок. И в тумбочке Ванды тоже появились отрезок батиста, коробочка с разной мелочью, а впереди замаячили ручные часики, такие, как были у Клавы Кашириной. Часики, впрочем, отодвигались все дальше и дальше, ибо находились расходы более неотложные и посильные, а в вестибюле все равно висели большие часы, по которым всегда можно было узнать время, если нет терпения ожидать трубного сигнала.
В конце октября, в выходной день, Ванда получила отпуск: Оксана в это время уже увлеклась биологическим кружком и все толковала о каком-то африканском циклозоне[219]. В биологическом кружке работал и Игорь Чернявин. Собственно говоря, африканский циклозон мало его интересовал, еще меньше занимали его морские свинки и многочисленные птичьи клетки, но в этом кружке почему-то симпатично и весело и было много оснований для остроумного слова и много простой «черной» работы, которую Игорь производил с особенной радостью, если его работу наблюдала Оксана. Во всяком случае, биологический кружок имел то преимущество, что никакого прямого отношения он не имел к устройству автомобиля и к правилам уличного движения, – появление Миши Гонтаря в этом кружке было абсолютно невозможно.
Оксана осталась работать в кружке, а Ванда одна отправилась в город. Пройдя по лесной просеке, она села в трамвай и доехала до главной улицы. На дворе стоял ясный октябрьский день. В форменном черном пальто, со значком на берете, Ванда гордо пошла по улице: люди посматривали на нее с уважением – эта красивая белокурая девушка была членом славной Первомайской колонии! Главная улица начиналась бульваром, на нем происходило неспешное прадничное движение. Ванда со строгой точностью обходила длинные ряды прогуливающихся, и ей было приятно видеть, как в этих рядах вспыхивали любопытно-завистливые взгляды, как молодые люди старались уступить ей дорогу. Иногда, обойдя ряд, она слушала произнесенное шепотом слово:
– А все-таки… молодцы эти первомайцы: и походка у них особенная.
Здесь, на праздничной улице, было даже приятней, чем в колонии.
Здесь не одна душа ничего не знала о Ванде Стадницкой, здесь никто не имел права что-то там такое думать. Она несла на своих плечах, на белокурых вьющихся волосах всю чистоту и гордость своей молодости, всю чистоту и гордость своей колонии, и поэтому она легко и четко ставила черную туфельку на асфальт тротуара, было приятно ощущать, как свободно и ловко ступает сильная нога, как в таком же сильном покое дышит грудь, как уверенно смотрят глаза.
– Наше вам…
Это сказали сзади, как будто нагло, коварно и сильно ударили палкой по голове. Она ощутила, как что-то бесформенное и безобразно-отвратительно проснулось во всем ее теле.
Перед ней стоял колонист: такая же черная шинель, и значок в петлице, и даже выправка чем-то напоминает колонию, но эти немигающие зеленые глаза…
– Ты куда? – спросил Рыжиков.
Ванда с трудом проглотила воздух, застрявший в горле, на короткий срок проснулась в ней прежняя неукротимая злоба, глаза блеснули… но она вспомнила, что вокруг них движется улица, что она такая же колонистка, как он:
– Я? Купить кое-что… для себя и для Оксаны. А ты?
– А я так… погулять…
Он пошел рядом с ней, и вид у него сегодня, честное слово… приличный: шинель застегнута на все пуговицы, черная кепка сидит с уверенной строгостью.
– Теперь ты… в токарном работаешь?
– В токарном.
– Не бабское дело.
– А какое бабское?
– У вас свое дело… все равно… ничего не выйдет… – Он передернул губами, и колонист куда-то слетел с него, как будто Рыжиков мгновенно переоделся на ее глазах.
Ванда все-таки помнила, что она на улице, и поэтому сказала шепотом, не меняя ничего в лице:
– Уходи от меня… уходи!
– Да ты не сердись. Чего ты? Уже и пошутить нельзя. А знаешь что?
– Ну?
– Зайдем в ресторан.
Она ничего не ответила, ее ноги с разгону несли ее в одном направлении с ним.
Он сделал молча несколько шагов, потом опустил глаза и сказал тихо:
– Выпьем…
Она спросила с нескрываемой силой презрения:
– А… потом что?
Он засмеялся беззвучно, передернул плечами – старым блатным манером:
– А потом… А потом видно будет. Может, вспомним старину… А?
Они долго молчали, идя рядом. На перекрестке он показал глазами на вход в подвальный ресторан и прошептал просительно:
– Зайдем, вспомним старину…
Ванда оглянулась и, чуть-чуть склонившись к нему, прошептала с силой, глядя прямо в его глаза:
– Дурак! Заткнись со своей стариной.[220] Идиот! Сволочь!
Ее губы извивались в гневе, но голосом она владела и видела краем глаза, что близко нет никого постороннего. Рыжиков ничего не видел. Он отскочил в сторону и изогнулся в привычно нахальной позе:
– Чего ты? Чего ты задаешься? А то смотри: узнают в колонии!
Кто-то неподалеку оглянулся на его крик. Ванда густо покраснела и быстро ушла в переулок; Рыжиков замер у входа в ресторан, провожая ее неудержимо ненавидящим взором.
25 Ничего плохого
Рыжиков чувствовал себя в колонии, в общем, прекрасно. Большей частью был весел, разговорчив, всегда встревал в беседы бригадного актива о колонистских делах и высказывался довольно умно. В литейном цехе он завоевал одно из самых первых мест и в последнее время работал на формовке. Мастер Баньковский высоко ценил его способности и энергию. Небольшое столкновение было у Рыжикова с Нестеренко, который в самой категорической форме потребовал, чтобы Рыжиков не употреблял матерных выражений. Авторитета Нестеренко Рыжиков не признал и ответил ему:
– Много вас тут ходит… еще ты будешь меня учить.
– Хорошо. Поговоришь об этом с бригадиром.
– И поговорю; подумаешь, испугал!
Вечером Воленко, действительно, спросил у него:
– Рыжиков, Нестеренко рассказывал…
Рыжиков страдательно скривился:
– Воленко! Ничего там такого не было. Конечно, когда опок не хватает, конечно, зло берет, понимаешь, ну я и сказал…
– У нас этого нельзя, Рыжиков, я тебе несколько раз говорил.
– Я понимаю. Думаешь, я не понимаю? Привычка такая у меня, привык…
– Так отвыкай. Разве трудно отвыкнуть?
– А ты думаешь, легко? Если бы на свободном времени, а когда зло берет, с этими опоками: сколько раз говорил, углы испорчены, проволокой связаны, как же не того… не выругаться?
– Вот ты дай мне обещание, что будешь сдерживаться.
– Воленко, я тебе даю обещание, а иногда, понимаешь, зло такое берет.
Воленко нажимал на Рыжикова, но понимал, что тому трудно отвыкнуть от старых привычек. Вообще[221] Рыжиков дисциплину держал хорошо, а самое главное – считался одним из передовых ударников литейного цеха. Он уже и зарабатывал хорошо: в последнюю получку у него чистых осталось на руках до пятидесяти рублей. Он показал эти деньги Воленко и спросил у него:
– Как ты думаешь, что купить на эти деньги?
– Зачем тебе покупать? У тебя все есть. А ты лучше положи в сберкассу. Будешь выходить из колонии – пригодятся.
Только в школе у Рыжикова дела шли плохо. Он сидел в четвертой группе, на уроках спал, домашних заданий не выполнял и с учителем только потому не ссорился, что побаивался старосты, сурового, непреклонного Харитона Савченко.
Прибавилось у Рыжикова и приятелей. Правда, Руслан Горохов делал такой вид, что ему некогда погулять и поговорить о том, о сем, а кроме того, Руслан учился в шестом классе, к нему приходили другие шестиклассники делать уроки. Рыжиков готов был с подозрением отнестись к разным урокам, но не мог не признать, что шестой класс нечто весьма почетное и, может быть, там действительно нужно учить уроки. С Русланом Гороховым спешить было нечего, это был человек свой. Находились и другие. Левитин Севка, например, был даже удобнее для дружбы, чем Горохов, так как был моложе Рыжикова года на два и признавал его авторитет с некоторым даже любовным подобострастием. Левитин отличался грамотностью, очень много читал и любил рассказывать разные истории, вычитанные в книгах. Иногда он из города приносил какие-то особенные книги о приключениях, прятал их в тумбочке и показывал только Рыжикову. Главной отличительной особенностью Севки была его ненависть к колонии. Даже Рыжиков не мог понять, за что Севка так злобится на колонию, но любил выслушивать его жалобы и намеки. У Севки полное лицо и толстые губы, и когда он говорит, лицо и губы становятся влажными, от этого его слова кажутся еще более злобными.
Севка презирал все колонистские порядки, дисциплину, форму колонистов, чистоту в колонии, работу на производстве. Он был уверен, что Блюм украл десятки тысяч рублей и теперь хочет украсть еще больше на постройке завода. А Захаров старается потому, что хочет получить орден, и, конечно, получит, раз на него работает больше двухсот колонистов. Севка знал, какие учительницы с какими учителями «гуляют», и рассказывал самые жуткие подробности об этих делах. Один раз Рыжиков не утерпел и возразил Севке:
– Все-таки… наверное, ты врешь… Этот… Захаров, чего там, просто воображает. А красть в колонии – не думай, что так легко. Бухгалтерия есть, и проверки бывают разные.
Но Левитин только рукой отмахнулся с презрением. Он побывал во многих детских домах, так в одном доме все открылось и заведующий под суд пошел. А в другом доме все крали. А его, Левитина, отец до сих пор в тюрьме сидит, кассиром был, и тоже все считали: вот честный человек, а потом как засыпался – тридцать тясяч тю-тю! Напрасно Рыжиков воображает, что дураков на свете много. Если можно украсть, так каждый украдет, а только стараются вид такой делать, что они честные.
Рыжиков не мог вполне согласиться с Севкой. Он лучше знал жизнь и лучше понимал людей. Конечно, украсть каждый может и каждому приятно ни за что, даром, заиметь деньги или барахло. А только разная шпана все равно так и жизнь проживет в бедности, а красть не пойдет, потому что боится. Они думают так: лучше черный хлеб есть, а не попасть в тюрьму. А крадут только самые смелые люди, которые ничего не боятся и которым на тюрьму наплевать. И Рыжиков как умел гордился своей исключительностью и бесстрашием. С легким презрением он думал, что и Левитин – шпана и украсть не способен, а только разговаривает. Тем не менее с ним поговорить было почему-то приятно.
Однажды Рыжиков и Севка остались в спальне вдвоем. Севка сказал по обыкновению обиженным голосом:
– Это справедливо? Ванда здесь живет два месяца, так ей уже станок дали. А я в столярной! Справедливо это?
Рыжиков ухмыльнулся:
– Мало что Ванда! Значит, умеет понравиться!
– А почему я не могу понравиться?
Рыжиков расхохотался:
– Ты, куда тебе? Ты знаешь, чем Ванда занималась до колонии?
– Ну?
Хоть и никого не было в спальне, кроме них, Рыжиков наклонился к Севкиному уху и зашептал.
– Врешь!
– Честное слово! Я ж ее знаю!
– Вот так история! Ха!
Севка очень обрадовался секрету, но Рыжиков невыразительно и скучно пожал плечами:
– Только что ж тут такого? Тут ничего такого нет. Мало ли что…
– А смотри… прикинулась… Никто и не думает!
– Ничего плохого нет, – повторил Рыжиков.
26 Технология гнева
В начале ноября в колонии шла напряженная подготовка к празднику. А готовиться было и некогда, рабочие дни загружены были до отказа. Каждый дорожил минутой, и каждая минута имела значение. Но в один из вечеров Люба Ротштейн из одиннадцатой бригады нашла записку. Эта записка лежала в книге, которую Люба только что принесла из библиотеки. Люба быстро прочла записку и вскрикнула:
– Ой, девочки! Ой, какая гадость! Лида!
Лида Таликова взяла из ее рук листок бумаги. Написано было аккуратным курсивом:
«Надо спросить Ванду Стадницкую, чем она занималась до колонии и как зарабатывала деньги».
В это время в нижнем коридоре возвращался из библиотеки Семен Гайдовский. Название книги, которую он только что получил, было настолько завлекательно, что хотя он и наметил основательно книгу эту читать во время праздников, но уже сейчас он медленно бредет по коридору и рассматривает картинки. Из книги выпала бумажка, Гайдовский не заметил этого и побрел дальше. Записку поднял Олег Рогов и прочитал:
«Хлопцы! За дешевую цену можете поухаживать за Вандой Стадницкой, опытная барышня!»
– Где ты взял это?
– Чего?
– Записку эту?
– Я не знаю… какую записку?
– Обронил… ты обронил.
– Может, из книги?
– А книга откуда?
– Это я сейчас взял в библиотеке. А что там написано?
Рогов не ответил и бросился в комнату совета бригадиров.
– Смотри, что у нас делается!
Виктор Торский сидел за столом, и перед ним лежало несколько таких же записок.
– Я уже полчаса смотрю. Это четвертая записка.
Через некоторое время Торский поставил у дверей Володю Бегунка и засел с Зырянским и Марком Грингаузом. Зырянский, впрочем, недолго заседал. Он быстро пробежал все записки и сказал уверенно:
– Это Левитин писал.
Марк спросил:
– Ты хорошо знаешь?
– Это Левитин. Он со мной на одной парте. Его почерк. И помнишь, он на Марусю в уборной написал? Помнишь?
– Да как же он подложил?
– А как же? Очень просто: член библиотечного кружка.
Виктор ничего не сказал, послал Володю позвать Левитина. Севка пришел, скользнул взглядом по запискам, разложенным на столе, ловко не заметил внимательных суровых глаз Торского, спросил с умеренной почтительностью:
– Ты меня звал?
– Твоя работа? – Торский кивнул на стол.
– А что такое?
– Ты не видишь?
– А что такое?
Левитин наклонился над столом. Зырянский круто повернул его за плечо:
– Читать еще будешь?
– Вы говорите – моя работа, так я должен прочитать?
– Должен! Ты и писать должен, ты и читать должен? На одного много работы!
– Не писал я это.
– Не ты?
– Нет.
Зырянский горячо ненавидяще взглянул через стол, словно выстрелил в Левитина. Тот с трудом отвел глаза; было видно, как дрожали у него ресницы от напряжения. Зырянский прошептал что-то уничтожающее и резко обернулся к Виктору:
– Давай совет, Виктор!
– Сейчас будет и совет.
Прошло не больше трех минут, пока Витя побывал у Захарова. В течение этих трех минут никто ни слова не сказал в комнате совета бригадиров. Марк Грингауз отвернулся к окну, Зырянский опустил глаза, чтобы не давать своей ненависти простора. Левитин прямо стоял против стола, немного побледнел и смотрел в угол. Захаров вошел серьезный, молча пробежал одну записку за другой, последнюю оставил в руке и холодно-внимательно присмотрелся к Левитину.
– Хорошо, – сказал он очень тихо и ушел к себе. Левитин побледнел еще сильнее.
Витя крикнул к дверям:
– Бегунок!
– Есть!
– Сбор командиров!
– Есть!
В спальне пятой бригады Ванда Стадницкая рыдала, уткнувшись в подушку. Рядом сидит Оксана и молча гладит ее голову. Девочки собрались и перешептывались растерянно. В спальню вбежала Клава Каширина. Ни лица ее, ни голоса нельзя было узнать:
– «Совет» играют! Я его удавлю! Своими руками! Если его не выгонят… Идем, Ванда!
Ванда подняла голову:
– Я не пойду!
– Что! Сдаваться Левитину? Как ты смеешь? А что твоя подшефная скажет?
Ванда села на кровати, быстро вытерла слезы, нахмурила брови:
– Оксана, ты скажи: идти разве?
Оксана вдруг улыбнулась, улыбнулась просто и весело, как улыбаются девушки, когда у них на душе хорошо:
– Пойдем. А почему не пойти! Посмотрим, какой там гадик. Пойдем.
Правая бровь Ванды удивленно изогнулась. Кто-то из девочек взял ее за плечи, сказал:
– Умойся только. Пусть не воображает, что ты плакала.
В совете бригадиров было сегодня необычно. Во-первых, Торский безжалостно выставил всех пацанов и они большой кучей стояли в коридоре и по выражению входящих старались понять, что такое происходит в совете. Володя Бегунок стоял у дверей и никого не впускал, кроме бригадиров. Только перед Вандой и Оксаной он отступил, и пацаны поняли, что Бегунок кое-что знает. Но когда дверь окончательно закрылась и они спросили Володю о причинах тревоги, Володя серьезно ответил:
– Нельзя говорить.
Через несколько минут выглянул Виктор и приказал:
– Бегунок, Рыжикова!
Володя поставил у дверей Ваню Гальченко, а сам побежал за Рыжиковым. Рыжиков прошел в дверь быстро, не глядя на пацанов.
В это время в совете гудело общее возмущение. Многие даже не могли сидеть на диване, а стояли у председательского стола тесной кучкой. Слова никто не брал, и Виктор не следил за порядком прений. Зырянский держал руку на собственном горле, он почти задыхался:
– Не могу! Видеть не могу! Ты еще запираешься! Какое это имеет значение? Выгоним, все равно выгоним! И признаешься – выгоним, и не признаешься – выгоним!
Левитин стоял не на середине, а в углу, и никто не требовал, чтобы он стал «смирно». Ноги у Левитина сделались слабыми, одной рукой он неудобно держался за спинку дивана. Смотрел вбок, в стену. Зырянский не находил слов, только в глазах мобилизовалась вся его ненавидящая душа.
Воленко спросил Левитина:
– А откуда ты знал? Кто тебе сказал?
Левитин сначала пошевелил толстыми губами, но слов никаких не вышло. Тогда он широко открыл рот, зевнул, как рыба, выброшенная на берег, и с трудом, неясно произнес:
– Я ничего не знал, и я ничего… не писал.
Ванда сидела между девочками в противоположном углу. Она покраснела, сказала хрипло:
– Витя, дай слово!
Все обернулись к ней, подошли ближе. Она сделала несколько шагов вперед, не отрываясь взглядом от Левитина, и остановилась прямо против него, заложив руки за спину. Левитину было неудобно, он крепче оперся на диван, еще больше отвернулся к стене. Ванда сказала тихо, с трудом выбирая слова, с трудом преодолевая гнев:
– Ты! Слышишь? Моя жизнь… была… как ты написал! Ты написал… ну и что же? Все равно, пускай знают! Здесь товарищи! Пускай знают! А только в другом… дело. Кто меня довел до такой жизни?! Такие люди… отвратительные, понимаешь… такие, как ты! Такие, как ты… такие, как ты…
Последние слова Ванда произносила в забытье, уже оглядываясь по сторонам, с трудом подавляя рыдания. Потом она в смятении бросилась к дверям, но Нестеренко сильной рукой перехватил ее по дороге, и она, не разбирая, заплакала на его плече. Ее слезы никого не испугали и не удивили.
Нестеренко спокойно сказал Левитину:
– Слыхал, паскуда? Ванда замечательно сказала. Ты написал, а мы Ванду теперь еще больше уважаем. Она наша сестра, понимаешь ты, гад? А тебя мы выгоним. Будь покоен, выгоним и через полчаса забудем, как тебя звали.
Зырянский перебил его:
– Сейчас! После совета! Я сам тебя выведу на дорогу. Ты со мной еще глаз на глаз поговоришь!
Лида Таликова стояла рядом с Зырянским, говорила задумчиво, как будто про себя:
– Никогда так не голосовала, а сейчас буду голосовать: выгнать! Ты в нашу жизнь… у нас такая красивая жизнь! А ты… Тебя нужно раздавить… башмаком.
Зырянский не мог больше выносить прений. Он подошел вплотную к Левитину:
– Довольно! Противно! Ты не писал? Скажи еще раз!
Левитин молчал. И молчали все бригадиры. Хорошенький Илья Руднев беспомощно оглянулся на Захарова – нужно было что-то делать. Но неожиданно раздался голос Рыжикова:
– Я скажу… Торский…
– Да, да, я для того тебя и позвал.
– Я скажу: конечно, Левитина нужно выгнать. Конечно: сидит и пишет. Ему нужно чужую жизнь заедать!
Левитин с силой повернулся в углу:
– Да ты же мне и сказал!
– Ага! – крикнул кто-то один, но все лица поддержали этот возглас. Рыжикова он не смутил, Рыжиков знал жизнь и умел разговаривать с людьми. Только выражение лица Игоря Чернявина немного смущало его, но Игорь Чернявин потом. Рыжиков даже добродетельно улыбнулся.
– Я тебе сказал как товарищу. И я тебе сказал, что тут ничего плохого нет. Говорил?
– Да… ты это говорил.
– Я тебе как товарищу… А ты… нагадить тебе нужно! Я тебе сам говорил, ничего плохого нет! Два раза говорил…
Рыжиков разошелся. Рыжиков благородно вскрывал событие. Но откуда-то вдруг появилось против его лица перекошенное лицо Игоря:
– Брось! Помнишь, я тебе сказал: утоплю. Забыл? Забыл?
Рыжиков отступил, испуганный, Чернявин шел на него. Кто-то взял Игоря за локоть, но он нетерпеливо сбросил чужую руку:
– Здесь совет, тебя не судят! А только я тебе этого не прощу! Никогда! Я тебя, все равно… ты свое получишь. – Игорь в знак еще большего подтверждения кивнул головой и вышел из комнаты.
Рыжиков посмотрел на всех, но все смотрели на него отчужденно. Он сел на диван. Торский сказал:
– Тебе здесь нечего рассиживаться, убирайся!
Рыжиков спешно прошел к двери, Ванда брезгливо посторонилась. Когда дверь закрылась за ним, Нестеренко протянул:
– Да-а! Все понятно!
Торский поставил вопрос:
– Так что будем делать с этим… с Левитиным?
Зырянский бросил на Левитина небрежный взгляд, махнул рукой:
– Да ну его к черту! Стоит о нем говорить! Я предлагаю наказание: оставить без обеда завтра. Он и то будет плакать и клянчить: дайте пообедать!
В совете рассмеялись. Захаров сказал серьезно:
– Нельзя так издеваться над человеком! Я решительно протестую. Выгнать – это другое дело! А что вы в самом деле: оставить без обеда. У Левитина есть тоже свое достоинство. Иногда наказать человека значит выразить уважение к нему.
Сумрачный бригадир третьей Брацан не понял Захарова[222]:
– Не бойтесь, Алексей Степанович! Никто его без обеда не оставит.
Ты не волнуйся, Левитин: будешь обедать. И выгонять его не следует: пускай живет, и кормить его, конечно, нужно. А только я об одном прошу: Левитин, сделай для меня одолжение: когда будем идти на демонстрацию седьмого ноября, не становись с нами в строй, посиди дома. И для тебя спокойнее, и нам будет как-то… приятнее. Потому… мы идем под знаменем, а тебе… какое тебе дело до нашего знамени?
Поршнев сказал, как всегда, добродушно и тепло:
– Я дежурю седьмого. Куда-нибудь… я его… пристрою. Дежурным по кухне, хочешь, Левитин?
Это был последний удар презрения, который свалил Левитина на диван. Он забился в мягкий его угол и заплакал негромко, заплакал для себя, не обращая внимания на то, что происходит в совете. На его склоненную фигуру посмотрели с секунду, и Виктор Торский объявил:
– Все! Можно расходиться. Объявляю заседание совета бригадиров закрытым.
Все двинулись к дверям, но Левитин вскочил с дивана и, протягивая руки, обливаясь слезами, заорал:
– Товарищи! Накажите как-нибудь. Товарищи, нельзя же так! Товарищи! Алексей Степанович! Накажите как-нибудь!
Никто на него не посмотрел. Только пацаны из коридора вторглись в комнату и, удивленные, окружили Левитина. Он снова упал на диван и зарыдал отчаянно громко, приговаривая что-то.
Захаров прикрикнул на пацанов:
– Марш отсюда! До чего народ любопытный!
Они исчезли мгновенно. Захаров положил руку на плечо Левитина:
– Идем! Не нужно так убиваться! Иди сюда, я тебе назначу наказание.
Левитин перестал рыдать и, всхлипывая, побрел за Захаровым в кабинет.
27 Кто что любит
На второй день праздника Захаров в тишине работал в кабинете. Пришли в кабинет Володя Бегунок и Ваня Гальченко и сели тихонько на диване. Захаров посмотрел на них, ничего не сказал, что-то подсчитывал на большом листе.
Володя наклонился к уху приятеля:
– Все равно не скажешь…
– Нет, скажу.
– Слабо тебе сказать.
– Нет, не слабо.
– А чего ж ты сидишь и не говоришь?
– А я еще скажу.
– Посидишь и уйдешь.
Ваня быстро поднялся, подошел к столу Захарову. Захаров не обратил на него внимания. Ваня подошел ближе, коснулся стола животом и положил руки на его край. Потом вкось посмотрел на Володю, покраснел. Захаров, не прекращая работы, спросил:
– Ну?
– Алексей Степанович! Тот… сегодня ж восьмое ноября?
– Восьмое.
– А новых опок еще не сделали.
Захаров улыбнулся, посмотрел на Ваню:
– Не сделали.
– Значит, Алеша правду говорил?
– Выходит, так…
Ваня что-то еще хотел сказать, но… не выдержал, бросился к двери. Володя снялся с якоря на диване, но в дверях Ваня обернулся:
– Значит, Соломон Давидович не сдержал слова?
Захаров покачал головой. Мальчики захлопнули дверь.
Авторитетное подтверждение Захарова было необходимо ввиду крайне противоречивых толкований, распостраненных в четвертой бригаде. Находились такие, вроде Кирюшки Новака, которые утверждали, что вопрос о слове, данном Соломоном Давидовичем в свое время, снят с очереди. Этому оппортунистическому течению в четвертой бригаде способствовало то обстоятельство, что на производстве почему-то стало очень мирно. Станки по-прежнему хрипели и останавливались, пасы и шкивы по-прежнему выходили из строя по нескольку раз в день, но колонисты заявляли об этом Соломону Давидовичу вежливо, терпеливо выслушивая его обещания. Нужно, впрочем, сказать, что Соломон Давидович теперь не столько обещал, сколько разводил руками и говорил нежно:
– Вы же понимаете, дорогие товарищи!
Намечались и другие линии примирения между колонистами и Соломоном Давидовичем. В конце декабря предстоял годовой праздник – день открытия колонии. Теперь, после годовщины Октября, началась развернутая подготовка к этому празднику. Петр Васильевич Маленький напомнил как-то на общем собрании, что по старой колонистской традиции все к этому празднику должно быть сделано руками колонистов. Выходило так, что без Соломона Даивдовича обойтись будет трудно. Работала уже праздничная комиссия, составленная из представителей всех бригад. От восьмой бригады в эту комиссию вошел Игорь Чернявин, от четвертой бригады – Ваня Гальченко, от пятой – Оксана. Ваня в это время играл уже в оркестре, правда, только во втором, учебном составе. Ему был поручен второй корнет. Но не было никаких надежд, что к празднику он успеет пройти всю учебную программу второго корнета. Поэтому Ваня значительную часть души мог отдать подготовке к празднику.
На первом же заседании комиссии выяснилось, что без помощи Соломона Давидовича вечер самодеятельности устроить будет трудно. И комиссия постановила: выделить для переговоров наиболее искушенных в дипломатии товарищей. Таковыми оказались, по общему признанию, Игорь Чернявин и Шура Мятникова, которая даже в библиотеке умела каждому выбрать книгу по вкусу.
У Соломона Давидовича Игорь начал:
– У нас будет вечер самодеятельности…
Соломон Давидович перебил его:
– Вам нужно сделать декорации? Я уже согласен. Так, чтобы не испортить доски, пожалуйста! А когда будет вечер?
– Через полтора месяца.
– Это очень хорошее дело. Очень хорошее начинание. Я сам с удовольствием принял бы участие.
– Соломон Давидович! Давайте! Давайте, и все!
– Я и декламировать могу. И танцевать. Давайте я вам такой гопак станцую, пальчики оближете, хе-хе! Я вам покажу молодость, черт возьми!
– С Оксаной?
– А что же вы думаете: если Оксана, так я испугался?
– По рукам!
– По рукам!
Соломон Давидович рассмеялся весело, а Игорь побежал порадовать комиссию. Маленький очень одобрил результаты его посольства:
– Во-первых, это будет оригинально: Соломон Давидович тоже участвует, а во-вторых – мы получим и доски, и фанеру, и бязь, и бумагу, и лампочки, и всякие сценические эффекты.
Еще через неделю Игорь предложил в комиссии более подробный план участия Соломона Давидовича. Его проект был встречен взрывами хохота. Маленький с горящими глазами слушал подробности:
– Шикарно! Только… догадается.
– Ни за что на свете!
Ваня сказал:
– Убиться можно!
Оксана была смущена смелостью проекта:
– Игорь, не нужно так делать.
– Оксана! Это будет замечательно. Замечательно! И Соломон Давидович доволен будет. Очень будет доволен.
Маленький подтвердил:
– Будет доволен! Эт-то… шикарно!
Когда Игорь отправился к Соломону Давидовичу, Ваня увязался с ним, только Игорь предупредил его:
– Глаза! Глаза у тебя – прямо невозможно! Спрячь глаза.
Ваня спрятал глаза, как умел, т. е. в разговоре с Соломоном Давидовичем прикрывал их рукой. Другого способа спрятать глаза Ваня еще не знал. Предложению Игоря Соломон Давидович обрадовался:
– Монолог Бориса Годунова?
– Пушкина!
– Нет, вы говорите ясно: Бориса Годунова или Пушкина? Нельзя же смешивать!
– «Борис Годунов» – сочинение Пушкина.
– Так и нужно говорить во избежание недоразумений. Так это я должен объявить: «Борис Годунов» – сочинение Пушкина?
– Нет, вы не беспокойтесь, это конферансье объявит.
– Тем лучше. Борис Годунов – это такой полководец?
– Царь.
– Допустим, не царь, а бывший царь. Я что-то такое помню. Его кто-то зарезал такой.
– Нет, это он зарезал… царевича Димитрия.
– Ну, я же знаю. Какие-то у него были там неприятности… Хорошо, я прочитаю.
– И гопак.
– С Оксаной?
– Только… нужно ходить на репетицию. Разве у меня есть время ходить?
– Не нужно, Соломон Давидович, на репетиции. Мы хотим, чтобы это было для всех сюрпризом, понимаете, для всех… Мы так… потихоньку… прорепетируем.
– Будьте покойны!
– Так вот мы вам принесли.
– Что это такое?
– А это слова!
– Ага, слова! Так чистенько написано. Кто это такой так хорошо пишет?
– А это Ваня Гальченко.
– Это ты так хорошо написал? А почему ты все улыбаешься? У тебя такой веселый характер?
– У него всегда такой характер, Соломон Давидович, – сказал Игорь и ущипнул Ваню за ногу. – Ваня несколько изменил характер.
– Будьте покойны, – сказал Соломон Давидович на прощание. – Я не подведу. А то вы думаете: Соломон Давидович – это давай сырье, давай станки, давай опоки, давай ремонт, все давай, давай! Вот вы увидите.
Подготовка к празднику пошла полным ходом. На полном ходу пошли и другие дела. В один из выходных дней состоялась закладка нового завода. На краю площадки, против цветников, уже несколько дней копали котлованы. Колхозные подводы свозили кирпич и складывали его аккуратными розовыми стопками. На закладку приехал Крейцер, а с ним еще много людей, между ними был и толстый инженер Воргунов. Крейцер всем показывал колонию, только Воргунов ничего не захотел смотреть, сидел в кабинете Захарова и говорил:
– Закладка – это еще не дело. Это марафет. Наши вообще не могут без марафета. – Кто это «наши», Петр Петрович?
– Наши – русские!
– Вы не любите русских?
– Я люблю борщ с чесноком, а с русскими я предпочел бы работать как следует.
– Вот и хорошо: поработаем вместе.
– Посмотрим. Только… товарищ Захаров, неужели и вы серьезно думаете, что ваши… мальчики способны будут справиться с таким заводом?
– Совершенно серьезно.
– Так. Ну, хорошо, пока нужно торжествовать…
Колонисты в парадных костюмах выстроились на площадке и вынесли знамя с обычным торжеством. Воргунов стоял возле котлована и ухмылялся[223]. Крейцер спросил у него:
– Понравилось все-таки?
– Да, понравилось. Это их дело, хорошо! Музыка, стройно, красиво. А только при чем здесь завод электроинструмента? Нельзя смешивать!
– Смешаем, Петр Петрович. Музыку с заводом, и вас еще прибавим полную порцию!
Воргунов снова надул губы:
– Нет, уж увольте: я стар для таких забав, Михаил Осипович!
На дне котлована, на кирпичном ложе, уложили большую грамоту, в которой было написано, когда и кем закладывается новый завод. Укладывали эту грамоту, придавили ее кирпичом и закрыли известкой два человека: самый старый и самый молодой представители Советской власти в колонии: Крейцер и Ваня Гальченко.
В этот день Ваня Гальченко был дневальным от десяти до двенадцати вечера. Он стал на пост в момент сигнала «спать». Еще через полчаса затихло движение на лестнице. Ваня потушил свет в коридорах, крепче стянул пояс на шинели и заходил по вестибюлю, переставляя винтовку, широким шагом. В половине двенадцатого Захаров окончил работу. Проходя мимо Вани, он спросил:
– Спать не очень хочешь?
– Хоть до утра стоять, – ответил Ваня.
– Ну молодец! Спокойной ночи! Ты кому сдаешь дневальство?
– Володе Бегунку.
– А сигналы кто завтра?
– Сигналы Петька будет.
– Хорошо…
Захаров ушел. Когда до смены оставалось десять минут, тихо открылась дверь и рыжая голова просунулась в щель, зеленые глаза смотрели на Ваню подозрительно.
– А я… из города. Погулял… немного.
Зацепив за дверь, Рыжиков пролез в вестибюль, пошатнулся перед Ваней, бессильно взмахнул рукой:
– Отметь… пожалуйста… в рапорте. Отметь! Все равно, так и отметь: Рыжиков опоздал на три часа. Опоздал, ну так что же!
Он полез по лестнице, именно полез, потому что часто спотыкался и хватался рукой за ступени. Ваня испуганно смотрел ему вслед.
Когда прибежал сверху Володя в шинели, туго стянутой в талии, Ваня зашептал страстно:
– Рыжиков… пьяный пришел, понимаешь!
– Рыжиков! Да ну!
– Пьяный, совсем пьяный, так шатается и падает все.
– Попадет! Его все равно выгонят…
– А если он скажет: кто видел?
– Ты завтра должен сдать рапорт дежурному бригадиру[224].
– А если он скажет: вранье![225]
– Против рапорта не поспорит!
28 План-плакат
В конце ноября выпал снег. Малыши долго отмечали это событие радостными кликами и воздеваниями рук. В парке перебрасывались снежками и строили крепость, но потом оказалось, что строительного материала для крепости еще очень мало: это был первый слабенький снежок, он мало подходил для постройки крепости. Поэтому малыши перенесли свое внимание на пруд: он должен замерзнуть, и тогда в колонии будет каток. Миша Гонтарь в эту эпоху приобрел большое значение для пацанов: он прекрасно делал пластинки для коньков. Другие слесари тоже умели делать такие пластинки, но они были завалены заказами из других бригад, а Миша Гонтарь в качестве старосты пятого класса специализировался на пацанах из четвертой бригады. Коньки были выданы по три пары на бригаду, но четвертой бригаде повезло: все маленькие номера перешли к ней, другие бригады все были большеногие. Кроме этих общественных коньков были еще и собственные у отдельных старожилов, а у Фильки даже две пары. Алеша Зырянский предложил все коньки обратить в бригадные, указывал на то обстоятельство, что ноги у пацанов растут быстро и прошлогодние коньки все равно не подходят. Таким образом, в четвертой бригаде оказалось около десятка пар коньков – такое количество с избытком покрывало потребность. Но, к сожалению, пруд не замерзал. Берега пруда покрыты снегом, а поверхность пруда дышит свободной водой и по-летнему отражает в себе облака. Знатоки уверяли, что раньше льда должно появиться «масло», но сколько пацаны ни смотрели, «масла» никакого не появлялось.
День в колонии сделался «вечерним»: вставали, завтракали, начинали работу при электричестве, только обедали при солнце, а потом снова[226] зажигались фонари и лампочки. Утром стало труднее просыпаться, появились охотники спать до «без пяти минут поверка». Особенно страдали старшие, которым до завтрака нужно было еще и побриться. Гладко выбритые и пахнущие одеколоном, они приходили в столовую с виноватым видом и старались не смотреть в глаза дежурному бригадиру. Все это были ветераны колонии, и дежурные бригадиры ограничивались нахмуренными бровями. Конечно, в дежурство Алеши Зырянского приходилось бриться до поверки, но Алеша дежурил два раза в месяц, и казалось, что при таких условиях жить вообще можно. Конец такой сносной жизни наступил неожиданно, в дежурство Илюши Руднева. Не теряя своего постоянно милого, расположенно-внимательного выражения, Руднев во время поверки произвел демонстративную атаку: приказал ДЧСК отметить в рапорте всех небритых. Это мероприятие, исключительное по своей новизне, произвело очень сильное впечатление, и, как только окончилась поверка, очень многие забегали по коридорам с мыльницами в руках. Игорь Чернявин с того дня, как получил звание колониста, также считал для себя обязательным уничтожение бороды и усов. Очень возможно, что с этим делом можно было и подождать, но, во-первых, бритва – это солидно; во-вторых, в детской колонии как-то неудобно было показывать щетину; в-третьих, щетина у Игоря была рыжеватая, а после первого бритья она приобрела совершенно несимпатичный вид. Напуганный действиями Руднева, Игорь тоже захватил бритву, полотенце и мыльницу и полтеле в умывальную. Внизу играли сигнал на завтрак. В литере Б, в умывальниках и в спальнях раздавался бритвенный скрип и обильно текла молодая кровь – результат неопытности и быстроты темпов. Руднев – самый молодой бригадир, и опоздать на завтра в его дежурство, хотя бы и на пятнадцать минут, до сих пор не считалось предприятием невыполнимым. Но сегодня он показал крепкие зубы на поверке, трудно было предсказать, какие зубы он покажет во время завтрака. Успокаивало одно: не решится этот пацан оставить без завтрака около трех десятков стариков. Действительность оказалась и печальнее, и хитрее. Руднев, правда, не решился на прямое нападение, но о чем-то быстро переговорил в кабинете Захарова. Во всяком случае, Захарову пришло в голову изучить плакат-план первого квартала, висящий в вестибюле, при самом входе в столовую. Изучение этого плаката Захаров начал ровно через пять минут после сигнала на завтрак. Он стоял перед плакатом, заложив руки за спину, и внимательно читал его цифры, которые даже пацаны четвертой бригады давно знали на память. Минут через десять по ступеням лестницы зашумели быстрые шаги ветеранов колонии, успевших к этому моменту уничтожить не только щетину, но и следы крови на лицах. Ни одной секунды замешательства или растерянности они в себе не позволили. Ловкие ноги направили их не в столовую, а в выходную дверь, ловкие руки подскочили в салюте[227]:
– Здравствуйте, Алексей Степанович!
– Здравствуйте, Алексей Степанович!
– Здравствуйте, Алексей Степанович!
Захаров поневоле должен был отвернуться от плаката, чтобы отвечать на приветствия. Игорь Чернявин с верхней площадки еще видел, как поток колонистов уносился в выходную дверь, но, когда он сам поравнялся с Захаровым, сказал слово приветствия, ни один мускул не потянул его к столовой: было совершенно очевидно, что путь имеется только на выход и дальше – в цех. Во дворе он влетел в веселую толпу товарищей, которым теперь оставалось единственное наслаждение: встречать последних опаздывающих, наблюдать сложную игру на их лицах и хохотать вместе с ними. Потом вышел на крыльцо Захаров и сказал:
– Хороший будет день… теплый… Где это ты обрезался, Михаил?
Миша Гонтарь стрельнул глазами на толпу колонистов и ответил с достоинством:
– Бриться приходиться, Алексей Степанович.
– А ты безопасную заведи. И удобнее, и скорее.
На крыльцо выходили и закончившие завтрак. Вышел и Нестеренко, Захарова не заметил:
– Мишка, а почему ты не… Здравствуйте, Алексей Степанович. А почему ты не… не того… не подождал меня?
Миша Гонтарь не умел так быстро отвечать на некоторые вопросы. Захаров поправил пенсне и ушел в здание.
Игорь Чернявин тоже стоял в толпе колонистов и сочувствовал Нестеренко, который чуть-чуть не влип со своим вопросом. Но Нестеренко уже освоился с положением:
– Вот какое дело!! Постойте, и я буду дежурить, я тоже такое… придумаю вам, панычи.
А когда на крыльцо вышел дежурный бригадир Илья Руднев, у него было такое выражение, как будто он в этом деле никакого участия не принимал. Удивленным голосом он спрашивал:
– Не завтракали? А почему?
В следующие дни даже самые почтенные «старики» спешили на завтрак вместе с пацанами и, проходя мимо плаката-плана, поневоле оглядывались на его цифры. Цифры были такие:
План был очень трудный, и колонисты восторгались:
– Вот это план так план!
Старики однако знали, что восторгаться можно только до первого января, а потом придется плохо. Но четвертая бригада была уверена, что и после первого января будет интересно. В комсомольской ячейке заседали по вечерам и приставали к Соломона Давидовичу с разными вопросами. Но теперь Соломон Давидович не «парился», а старался подробнее рассказать, как обеспечено выполнение плана. Это была эпоха мирных отношений. Недавно на общем собрании Соломон Давидович сказал:
– Ваше желание, товарищи первомайцы, выполнено: сегодня сданы новые опоки.
Одинокий голос спросил:
– А какое сегодня число?
И другие голоса охотно ответили:
– Третья декабря.
– Какое это имеет значение? – сказал Соломон Давидович. – Важно, что у вас есть опоки, а всякие формальности не имеют значения.
Колонисты смеялись и шумно аплодировали Соломону Давидовичу. Многие хохотали, спрятавшись за спины товарищей. Глаза четвертой бригады тревожно устремились на Алешу Зырянского: может быть, он что-нибудь скажет на тему о справедливости и святости данного слова? Но Алеша Зырянский тоже аплодировал и смеялся. Соломон Давидович был растроган аплодисментами. Он высоко поднял руку и произнес звонко:
– Видите: что можно сделать для производства, я всегда сделаю.
Эти слова вызвали новый взрыв оваций и уже совершенно откровенный общий хохот. Смеялся и Захаров, смеялся и сам Соломон Давидович. Даже Рыжиков смеялся и аплодировал. Рыжиков был доволен, что все так мирно кончается, а, кроме того, он был формовщик, и опоки для него имели большое значение. Правда, в прошлом месяце было много неприятностей у Рыжикова – после случая с Левитиным даже Руслан Горохов однажды зарычал на него с глазу на глаз:
– Ты от меня отстань, слышишь? Отстань! Я и без тебя проживу.
А потом пришлось похлопотать глазами на совете бригадиров после рапорта дневального Вани Гальченко. Но и это прошло. Было неприятно, что бригадиры как-то неохотно высказывались о Рыжикове, и Зырянский выразил, вероятно, общую мысль:
– Темный человек и плохой – Рыжиков. Однако подождем. И не из такого дерьма людей делали. А у нас впереди завод, триста тысяч, у нас впереди большая жизнь, а он в городе водку пьет и пьяный приходит в колонию. Какой это человек? Только и того, что говорить умеет! Так и попугая можно выучить. Только попугай водки пить не будет. Посмотрим. Но… Рыжиков, имей в виду: настанет момент – костей не соберешь!
Рыжиков вертелся на середине, прикладывая руки к груди, обещал и каялся, старался делать серьезное и убедительное лицо. И Воленко снова выступил в его защиту:
– Надо все-таки понимать: Рыжиков привык к такой жизни, сразу отвыкнуть не может. Надо подождать, товарищи. Наказывать его нет смысла, он еще ничего в наказании не понимает. А вот вы увидите, вот увидите!
В общем, совет бригадиров ничего не постановил, а так и отпустили Рыжикова со словами: «Посмотрим».
Рыжиков после этого ходил скучным шагом, ни с кем не заговаривал, но в литейном работал «как зверь». Соломон Давидович очень хвалил Рыжикова:
– Если бы все работали так, как Рыжиков, у нас было бы не триста тысяч накоплений, а по меньшей мере полмиллиона. Золотые руки!
29 Борис Годунов
Праздник прошел великолепно. Было много гостей, был устроен великолепный ужин, в колонии было тепло, приветливо и счастливо. До трамвайной остановки, через всю просеку, прошла линия костров, которыми заведовал Данила Горовой. Между кострами гости проезжали на машинах и проходили пешком. В дверях их встречали дежурные, вручали билет в театр и приглашение к столу от имени какой-либо бригады.
Колонисты показывали гостям свои спальни, клубы, классы, показывали и объясняли плакат-план первого квартала, но цехов не показывали. А гвоздем вечера был сложный и веселый дивертисмент. Выступали и певцы, и чтецы, и акробаты. Малыши показали свою постановку, которая называлась: «Путешествие первомайцев по Европе».
В этой постановке участвовал и Ваня Гальченко, но главная роль принадлежала Фильке Шарию. Филька изображал Макдональда[228]. Это было чрезвычайно интересное представление. И гости и колонисты много аплодировали, когда малыши выстроились один за один гуськом, свет на сцене потух, а в руках у актеров[229] зажглись электрические фонарики. Оркестр заиграл «Поезд». Под звуки этой музыки малыши-первомайцы уехали в свое путешествие. Они в пути имели любопытные встречи с Пилсудским[230], с Муссолини, с Макдональдом и другими «деятелями». Каждый хвастал перед ними своими делами, но первомайцев обмануть трудно: они прекрасно умели рассмотреть, что делается в Западной Европе.
Большое впечатление произвело выступление Соломона Давидовича. Он вышел на сцену в новом корчневом костюме. Конферасье Санчо Зорин объявил:
– Соломон Давидович прочитает отрывок из «Бориса Годунова» Пушкина, под редакцией Игоря Чернявина.
Крейцер, сидящий в первом ряду, наклонился к уху Захарова:
– Как это Пушкин под редакцией Чернявина?
– Каверза, конечно.
Соломон Давидович нахмурил брови и произнес выразительно:
Достиг я высшей власти, Шестой уж месяц царствую спокойно.Крейцер произнес сквозь зубы:
– Подлецы!
Соломон Давидович читал:
Мне счастья нет. Я думал, свой народ В цехах на производстве успокоить…Многие колонисты встали. На их лицах еще молчаливый, но нескрываемый восторг. Сидевшая рядом с Захаровым учительница Надежда Васильевна улыбалась мечтательно. Захаров опустил веки и внимательно слушал. У Крейцера блестели глаза, он даже шею вытянул, наблюдая, что происходит на сцене. Соломон Давидович с большой трагической экспрессией очень громко читал:
Я им навез станков, я им сыскал работу. Они ж меня, беснуясь, проклинали!Колонисты не выдержали: редко кто остался на месте, они приветствовали чтеца оглушительными аплодисментами, их лица выражали настоящий эстетический пафос.
Соломон Давидович не мог не улыбнуться, и его улыбка еще более усилила восхищение слушателей. С нарастающим чувством он продолжал, и зал затих в предвидении новых эстетических наслаждений:
Кто ни умрет, я всех убийца тайный: Ускорил я трансмиссии кончину, Я отравил литейщиков смиренных!Трудно стало что-нибудь разобрать[231] в наступившей овации: громкий смех потонул в бешеных аплодисментах, что-то кричали отдельные колонисты. Крейцер хохотал больше всех, но сказал Захарову:
– Надо этих редакторов взгреть все-таки! Разве так можно?
Соломон Давидович, сияя покрасневшим лицом, радостной лысиной и новым костюмом, протянул руку к залу:
– Дайте же кончить!
Колонисты закусили губы. Соломон Давидович сделал шаг вперед, положил руку на сердце, закрыл глаза:
И все тошнит, и голова кружится, И мальчики нахальные в глазах. И рад бежать, да некуда. Ужасно! Да, жалок тот, у кого денег нет!Он кончил и скромно опустил глаза. Но такую сдержанную, хотя и актерскую, позу недолго можно было выдержать. В ответ на бурный восторг публики Соломон Давидович тоже расцвел улыбкой, потом гордо выпрямился, поднял вверх палец и только после этого начал кланяться, ибо публика все продолжала кричать и аплодировать. Наконец закрылся занавес.
В антракте Соломон Давидович пробрался к первому ряду, гордо отвечал на приветствия колонистов, улыбаясь снисходительно, пожал руку Крейцеру:
– Ну, как? Какие овации!
– Слушайте, Соломон Давидович! Вас надули эти подлецы!
– Как надули!
– Они вам подсунули другие слова.
– Другие слова! Не может быть. Вот же у меня слова.
– Ай, ай, ай! Вот… прохвосты. Смотрите, этот самый Борис Годунов говорит исключительно о производственных делах колонии им. Первого мая.
– В самом деле?
– А как же: «Я им навез станков, я отравил литейщиков». Это не Борис Годунов, это вы, Соломон Давидович! И нахальные мальчики…
– А Пушкин, значит, не так написал?
– Я думаю: у Пушкина мальчики кровавые, а здесь нахальные.
– А вы знаете: они-таки, действительно, нахальные! А как у Пушкина про литейщиков?
– Про ваших литейщиков? Какое ему дело? Он же умер сто лет назад.
Соломон Давидович искренне возмутился:
– Ах, какое нахальство! Я сейчас пойду! Я им скажу!
Соломон Давидович бросился за кулисы. Кое-кто попытался убежать от него, но он поймал Игоря Чернявина, главного редактора.
– Как же вам не стыдно, товарищ Чернявин?
– А что такое?
– Пушкин совсем не так написал.
– Мало ли чего? А вы знаете, что Мейерхольд[232] делает?
– Какой Мейерхольд?
– Московский.
– У него тоже производство?
– И еще какое! У нас хоть немного похоже на Пушкина, а у него так совсем не похоже. Такая мода!
– Мода, конечно, это неплохо, но причем здесь литейщики?
– А как же! Вы думаете, при Борисе Годунове литейщиков не было? А кто ружья делал, как вы думаете?
– Они ружья могли делать, но, может быть, у них такого дыма не было?
– Какой там не было! Разве они знали, что такое вентиляция?
– Они могли и не знать.
– Хорошо получилось, Соломон Давидович! Вы смотрите, как всем понравилось. Скоро вам танцевать.
– Я боюсь теперь танцевать. Написано гопак, а может, это тоже, как Мейерхольд.
– Честное слово, гопак!
Соломон Давидович рассмеялся, взмахнул кулаком:
– А, черт его дери! Давайте гопак.
Соломон Давидович возвратился к Крейцеру и успокоил его:
– Я их поругал, но они говорят: теперь все так делают. Мейерхольд какой-то из Москвы, так он тоже так делает. Такая мода как будто.
Крейцер обнял Соломона Давидовича, усадил рядом с собой:
– Верно! А в общем хорошо!
Через четверть часа Соломон Давидович в украинском казачьем костюме, в широченных штанах и в сивой шапке по-настоящему «садил» гопака на сцене. Легкая, тоненькая Оксана еле успевала удирать от его подкованных сапог. Теперь колонисты аплодировали без всякой каверзы: не могло быть сомнений, что Соломон Давидович классный танцор. В его стариковской удали, в размашистой, смелой присядке было много вполне уместного юмора и любви к жизни. Колька-доктор после танца прыгнул на сцену и сказал громко:
– Видели? Пусть теперь ко мне не ходит с сердцем!
Соломон Давидович засмеялся грустно:
– Он не хочет понимать разницу: запорожцы эти самые умели танцевать гопак до самой смерти, и у них ничего не делалось с сердцем. А вы назначьте их заведовать производством, и вы увидите, сколько у вас прибавится пациентов!
30 Кража
Через день после праздника Игоря Чернявин утром сбежал вниз в раздевалку, чтобы взять свое пальто. Колышек № 205 встретил его неожиданной пустотой: пальто не было. Рядом натягивал свое пальто Миша Гонтарь.
– Миша, моего пальто нет.
– Как это «нет»?
– Вот мой номер пустой.
– Перепутал кто-нибудь. Ты поищи.
Игорь в обеденный перерыв пересмотрел все пальто: не изнанке воротника в каждом пальто был вышит номер, но двести пятого не было. Он сказал об этом дежурному бригадиру Брацану. Дежурный посмотрел на него с досадой:
– Что же, по-твоему, украли или как?
– Я обыскал всю вешалку.
– Надо еще раз посмотреть. Куда оно может деться?
Брацан отвернулся от него недовольный. Но после работы он сам нашел Игоря и спросил его сумрачно:
– Нет пальто?
– Нет.
– У Новака тоже нет из четвертой бригады.
– Украли?
Брацан ничего не сказал, видно было, что это слово ему не нравилось.
Вечером Игорь пошел на рапорты бригадиров. Брацан рапортовал:
– Товарищ заведующий! Прошлой ночью с вешалки украдено два пальто – Чернявина и Новака.
Захаров не изменился в лице, не вздрогнул, как всегда, спокойно поднял руку, ответил: «Есть!» И все присутствующие салютовали рапорту дежурного бригадира «в обычном порядке». Но что-то такое было особенное в сегодняшней процедуре рапортов: в лицах не было веселой бодрости, чувствовалось, что последний рапорт не восстановит дружеской непритязательности отношений, колония не перейдет к обычному вечернему настроению, никто не улыбнется и не будет острить. Действительно, приняв последний рапорт, Захаров быстро опустился на стул, выдернул из папки какую-то бумажку, подперев голову рукой, стал читать, читать внимательно, как будто бы один остался в кабинете. А в кабинете стояли три десятка колонистов и, не шевелясь, молча смотрели на него. Наконец Нестеренко шепотом спросил Брацана:
– Какие у тебя подозрения?
К вопросу Нестеренко прислушались, но все знали, что пальто исчезли и похититель следов не оставил. Брацан, однако, был дежурным, он обязан был отвечать за свой день и, следовательно, обязан ответить на вопрос Нестеренко.
Брацан это понимал, и он ответил громко:
– От двенадцати до восьми дневалило четыре человека, все колонисты, конечно, из них подозревать никого нельзя. Лобойко, Грачев, Соловьев и Толенко – все из моей бригады. Я за них ручаюсь: не уйдет, не заснет никто. А теперь другое: из раздевалки нельзя пройти иначе, как мимо дневального. Значит, в окно, в форточку. А как? Форточки там очень маленькие, пальто трудно продвинуть, очень трудно, я сегодня пробовал. Специалист делал.
– Как ночевали сегодня? – спросил Захаров, не подымая глаз от бумаги.
– Проверял. Ночевали в порядке. И дневальные говорят: никто ночью не выходил из здания, а последний пришел из города Зырянский, в одиннадцать часов, был в командировке, по вашему распоряжению. Такое дело… если бы пропало одно пальто, сказали бы… обязательно сказали: забыл где-нибудь. А то два пальто, из разных бригад, Чернявин Новака мало знает.
– Торский! Секретный совет, сейчас, здесь, у меня.
– Есть.
В кабинете остались только бригадиры. Когда ушел последний колонист, Захаров откинулся на спинку кресла:
– Так… Говорите, что думаете.
Торский первый развел руками, сидя на диване в гуще других:
– Говорить трудно. И подозревать опасно, никаких оснований. Я составил сегодня список, за кого нельзя еще ручаться. Что ж… выходит девятнадцать человек… не стоит и объявлять: два пальто того не стоят. Один вор, а восемнадцать на всю жизнь обидеть можно. Просто беда… ни одного вопроса никому нельзя задать. Например, спросить, не выходил ли куда-нибудь ночью…
– Нельзя никого спрашивать, – подтвердил Захаров недовольно.
– Нельзя, я и говорю.
– Вот я скажу, – Зырянский придвинулся на край дивана. – Вот я скажу. Первое: пальто украдены не ночью, а утром, когда все одевались. Это человек нахальный сделал. Просто взял и надел чужое пальто, при всех, может, и Чернявин его встретил, когда в раздевалку входил. А если бы попался, отговорка легкая: по ошибке надел, ничего такого.
– Так не одно пальто, а два.
– Два. Только моего Новака пальто три дня висело, он его не надевал, в цех без пальто перебегал, мои пацаны любят так делать. Значит, Новака раньше, может, еще позавчера украли, а никто и не знал.
– Ты отчасти прав, – начал Нестеренко, но Зырянский сурово на него оглянулся:
– Постой, я не кончил. Второе: пальто это и сейчас в колонии, у кого-нибудь на квартире или в деревне, только я думаю, что не в деревне, а здесь, у служащих, а может, из строительных кто-нибудь за Каина работает. Это не иначе. В город пальто не понесешь: и видно будет, и время требуется; в рабочий день нельзя, а в выходной день наших много бывает на дороге в город. Оба пальто здесь и сейчас, на нашей территории.
Все молчали. Зырянский был, пожалуй, совершенно прав. Только Нестеренко выразил маленькое сомнение:
– Ты отчасти прав, Алексей, а только у Чернявина пальто с правого фланга, а у Новака, наоборот, с левого. Ты говоришь: надел и вышел, это может быть: надел и вышел, а возвратился без пальто, у нас много без пальто бегают, тут не разберешь. А только… как же с размерами? Одно дело Чернявина надеть пальто, а другое дело – Новака. Выходит так, что работало двое.
– Двое не может быть, – сказал тихо Воленко.
– Почему не может быть?
– Не может быть. У нас таких компаний нет. Одиночек можно подозревать, а таких компаний, чтобы вдвоем крали, у нас нет.
– Воленко правильно говорит, – согласился Торский. – Это один. А как он вынес, черт его знает, а только безусловно, вроде как Зырянский говорит. Воленко, как ты думаешь насчет твоего Рыжикова?
Была названа первая фамилия. У бригадиров лица стали внимательнее. Воленко на минуту задумался:
– Из моей бригады можно кого-нибудь другого подозревать, Горохова, к примеру, или Левитина. Только Левитин в последнее время другим занят; Алексей Степанович наложил на него наказание за те записки, помните, в течение месяца расчищать дорожки в саду. Он этим делом очень увлекается, хочет, чтобы его простили, старается здорово, он красть не пойдет. Горохов как будто больше всего думает о своем шипорезном, а теперь план новый повесили, так у него в голове только и стоит: косой шип, прямой шип, да еще какое-то приспособление делает, чтобы сразу больше концов запускать в машину. Скажите, разве в таком положении человек может украсть? Не может.
– Горохов не украдет, – сказал просто Торский.
– А Рыжиков? Рыжиков – пожалуйста, у Рыжикова совести, как у воробья. Но зато Рыжикову не нужно. Он сейчас зарабатывает больше всех в колонии. Он положил в сберкассу пятьдесят, а книжку мне отдал, чтобы не растратить. Он только об одном и думает, как бы заработать больше… Для чего ему красть? Да Рыжиков еще и новый, никого не знает, а без Каина обойтись невозможно.
– Будь покоен, – сказал Брацан. – Это ты не знаешь, а Рыжиков знает, что ему нужно.
– Да нет, рано ему знать, – протянул Нестеренко.
– Хорошо, это по первой бригаде. А у тебя, Левка?
Бригадир второй, Поршнев, счастливый был человек, может быть, самый счастливый в колонии. У него всегда добродушно-красивое настроение, всегда он доволен жизнью, никогда еще «не парился», и за какое дело ни возьмется, дело у него в руках тоже начинает улыбаться. И сейчас он только плечами пошевелил:
– Да… откуда ж у меня? У меня все народ… верный.
– За всех ручаешься?
– Да… чего за них ручаться? Они сами… поручиться за кого угодно… могут. Вы же знаете.
Поршнева все любили в колонии особой, добродушной, спокойной любовью. Приятно было на него смотреть и следить за ленивой волной радости, которая всегда играла в его неторопливом взгляде, в движении черных, тенистых бровей, в улыбчивом подрагивании полных, хорошо напряженных губ. А глядя на Поршнева, вспоминали и вторую бригаду: семнадцать мальчиков, как будто нарочно собравшихся в бригаде. Им всем по шестнадцать лет, все они одного роста, все более или менее хороши собой и постоянно заняты делом и делом этим оживлены.
Почти вся вторая бригада работала в машинном цехе на фуговальных, рейсмусных и других станках. Правда и производство у них говорливое, задорное, и в то же время по-настоящему деловому.
– Да, – сказал Нестеренко. – Во второй бригаде некому.
По остальным бригадам были кандидаты на подозрение; но всего лишь кандидаты: тот чтением увлекается, у того первый корнет занимает половину души, у третьего – модельный кружок, у четвертого – дружба с Маленьким, у пятого – дружба с Колькой-доктором, у шестого – пятерки по географии. Пятая же и одиннадцатая бригады даже не позволили вспоминать о них по такому оскорбительному поводу.
И когда кончили просмотр последней, десятой бригады, просмотр очень короткий, потому что Руднев согласился подозревать только себя и помощника бригадира, в совете стало тепло и радушно, а Захаров сказал:
– Черт возьми! Какие люди у нас хорошие, просто прелесть, а не люди!
Бригадиры обрадовались, засмеялись, теснее уселись на диване, как будто до утра собирались просидеть здесь в кабинете. Нестеренко потирал руки от удовольствия:
– У нас люди, Алексей Степанович, мировые.
Захаров встал за столом, швырнул на окно какую-то бумажку, придавил ее рукой и задумался:
– Значит, так: один человек… завелся! Один. Я думаю, не нужно его искать. Две шинели – это пустяк. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, это его последняя кража. Прошу вас об этой краже не говорить в бригадах. Сделайте такой вид, будто кражи никакой не было. Согласны?
– Согласны, Алексей Степанович.
– Просто привык человек, – Захаров снисходительно улыбнулся. – Витька, распорядись, чтобы завтра же были выданы шинели Чернявину и Новаку.
В бригадах не спал ни один человек, все ожидали возвращения бригадиров. Воленко пришел в спальню серьезный.
– Ну как, нашли? – спросил Садовничий.
– Мы… о других делах… больше.
– Не нашли?
– Да как же ты найдешь? Кто-то один…
– Один… черт бы его побрал. Ой, поймать бы!
Рыжиков стоял посреди спальни, заложил руки в карманы, весело пыхнул улыбкой:
– Это все зарплата виновата.
– Почему? – заинтересовался Садовничий.
– Я вот много зарабатываю, а другому завидно.
Руслан Горохов внимательно посмотрел на Рыжикова:
– А кто… тебе завидует?
– Да есть такие, что и на столовую не зарабатывают: Горленко, Толенко, Васильев и эти самые Гальченки, Бегунки…
Горохов прищурился:
– Ты на Бегунка думаешь?
Рыжиков не любил таких пристальных взглядов:
– Да нет, я не думаю.
Он не спеша отправился к своей постели. Руслан перевернулся на месте, провожая его взглядом.
– Чего смотришь? – вдруг оглянулся Рыжиков.
– Очень… ты мне… нравишься! – побурчал Руслан. – Хороший ты человек!
Воленко опустил глаза, поднял, посмотрел внимательно на Рыжикова, на Руслана, что-то тревожное дрогнуло у него в губах.
31 «Дюбек»
Эти два пальто еще очень долго неприятной тенью стояли над колонией и больше всего беспокоили четвертую бригаду. В четвертой бригаде были души впечатлительные и непреклонные: они не могли допустить, чтобы два пальто остались неотомщенными, они не могли согласиться на такую несправедливость. Совет бригадиров постановил не раздувать это дело. Хорошо. Совету бригадиров, может быть, и виднее, четвертая бригада подчинилась постановлению совета. Но у четвертой бригады есть глаза, уши, ноги и руки, и все это находилось в полном распоряжении четвертой бригады и могло действовать, не мешая совету бригадиров.
Никто в колонии не знал, какие совещания состоялись в недрах четвертой бригады, никто не заметил ее операций, кроме… Захарова, дежурные бригадиры, может быть, и заметили, но исключительно с точки зрения своих дежурных (державных) интересов. Раньше члены этой славной «непобедимой» бригады щеголяли[233] двумя особенностями. С одной стороны, их глотки отличались самой неумеренной склонностью к forte. Даже секретные разговоры они проводили так оглушительно, что трудно было разобрать, о чем говорит каждый. Иногда они напрягали глаза до самой таинственной конспиративной выразительности, но глотки их все равно удержать было невозможно. Люди постарше, если им нужно было кого-нибудь позвать, обыкновенно сначала оглядываются, имеется ли поблизости нужное лицо. Пацаны были против такой безрассудной траты дорогой зрительной энергии и не менее дорогого времени, тем более что в их распоряжении всегда находится этот оглушительно-универсальный инструмент – глотка. И поэтому приглашение нужного лица совершалось очень просто: нужно выйти на площадку лестницы или на центральную дорожку парка и благим матом заорать, прищуривая глаза и даже приседая от напряжения:
– Володька-а-а!!!
Потом прислушаться и, если никто не отвечает, снова закричать еще более противно и оглушительно:
– Воло-о-одька!
Вблизи этот призыв воспринимался довольно ясно: зовут какого-то Володьку. Но как раз вблизи звуки призыва не имели практической цели, данный Володька должен находиться где-то далеко, в таких местностях, куда призыв доносился в самой неопределенной форме:
– О-о-а-а!
И тем не менее эти почти условные звуки производили всегда самое полезное действие. В колонии было десять или пятнадцать Володек, но узнавал свое имя только один, тот самый, которого в эту минуту звали. Остальные, находившиеся в данный момент на территории колонии, только морщились. Дежурные бригадиры очень преследовали подобную форму связи, особенно если она употреблялась в коридорах или на площадках лестницы.
Это – с одной стороны. С другой стороны, пацаны всегда были склонны[234] к некоторому сепаратизму. Дежурные бригадиры также имели основания относиться к этому явлению подозрительно. Излишний сепаратизм всегда грозил окончиться либо разбитым окном в оранжерее, либо изорванным костюмом, либо другой какой-либо каверзой. А между тем для дежурного было ясно, что в основании сепаратных действий лежит всегда сущий пустяк: муравьиная куча, соловьиное гнездо, старое колесо, брошенное кучером где-нибудь на заднем дворе, обнаруженная свалка консервных коробок. Подобные причины вызывали бешеную деятельность пацанов, крики в разных концах двора… Возбужденные глаза, настороженные уши, открытые рты, предельные скорости, визгливые протесты и долгие восторженные крики где-нибудь за углом – все это не могло не тревожить дежурных бригадиров. Вся колония помнит, как в начале прошлой весны бригадир седьмой Вася Клюшнев отсидел пять часов под арестом за невнимательное дежурство. У Захарова в кабинете Вася не отрицал, что среди пацанов еще с утра наблюдался какой-то ажиотаж, после обеда они много кричали и переносились от одного дома к другому и вокруг домов с такой быстротой, что невозможно было разобраться, кто, собственно, участвует в этой тревоге. Но Вася подумал, что это обычный пустяк, вроде муравьиной кучи, а потом оказалось, что дело было гораздо серьезнее: вся операция была крикливой до тех пор, пока протекала ее земная стадия. А когда все ее участники полезли на крышу, их неугомонные глотки каким-то чудом были приведены к молчанию. В полной тишине, почти не делясь впечатлениями, пацаны сбросили с крыши жилого дома для служащих, с высоты трех этажей, кошку конторщика Семенова, кошку дорогую – сибирскую. Этот акт не был вызван ни жестокостью, ни мстительностью, ни пустым любопытством – в основе его лежала научная экспертиза: из салфетки был сделан довольно добротный парашют, кошка поместилась в двух уютных петлях, из них она, конечно, не могла выпасть. Вечером все участники этого опыта стояли перед Захаровым с виноватыми лицами[235], но в глубине души не разделяли его возмущения. Захаров смотрел на них сердитыми глазами. Он сказал:
– Я решительно не могу допустить такого дежурства. Это безобразие, это раззявство, это полная неспособность держать в руках день! Товарищ Клюшнев, я не ожидал от тебя такой беспомощности! Получи пять часов ареста!
На глазах у «парашютистов» бледный и расстроенный Вася Клюшнев принял пять часов ареста, поднял руку и сказал «есть». Тогда Семен Гайдовский сделал слабую попытку осветить событие. Он произнес отчаянным дискантом:
– Алексей Степанович! Так салфетка нашлась! Она уже нашлась! И мы выстираем!
Захаров, однако, нисколько не обрадовался тому, что салфетка нашлась. Он как будто даже забыл, что салфетка была тайно взята на кухне – обстоятельство, считавшееся самым опасным во время проектирования операции. Нет, Захаров на салфетку не обратил внимания:
– Что это такое? Целый десяток колонистов прется на крышу трехэтажного дома! Для чего? Какая цель? Сбросить оттуда эту несчастную кошку!
У пацанов радостно загорелись глаза: Алексей Степанович преувеличивает несчастье! Какое несчастье?! Семен Гайдовский закричал на весь кабинет:
– Да Алексей Степанович! Алексей Степанович! Вы не знаете! Она ничего! Она благополучно приземлилась!
И все пацаны закричали:
– Приземлилась!!! Она даже не мявчала! Разве она падала? Она ничуть не падала! Она же на парашюте!! Она приземлилась на четыре ноги… и тот… побежала… взяла и побежала!
Все предполагали, что лицо Захарова просияет при этом радостном известии, все смотрели с ожиданием на его лицо, но… оно не просияло. Этот человек не способен был упиваться достижениями парашютизма. Он поправил пенсне и спросил в упор:
– У кошки был парашют. А у вас был? Кто из вас был с парашютом? Кто?
Только в этот момент пацаны поняли, какое преступление они совершили: полезли на крышу, не вооружившись парашютами. Оказывается, Захаров кое-что понимает в парашютизме. К сожалению, он не принял во внимание, что для человека требуется парашют очень большой, салфетка для этого дела не подходит.
Конечно, после этого случая никто больше не влезал на крышу, но всегда подвертывались другие случаи. Дежурные бригадиры именно к этим случаям и относились подозрительно и поэтому терпеть не могли сепаратных начинаний четвертой бригады.
В последние дни в колонии вдруг стало тихо, никто не звал оглушительным дискантом Володьку, нигде не собирались стайки пацанов и никуда с тревожным щебетанием не перелетали. И каток успел замерзнуть, на катке сияли электрические фонари. Колонисты скользили на коньках то по стремительной прямой, то по кругу, то взявшись за руки, то в одиночку. Девочки щеголяли белыми свитерами и белыми шапочками. Даже дежурные бригадиры иногда становились на коньки, их красные повязки далеко были видны и по-прежнему внушали уважение.
А четвертой бригаде было некогда. Володя Бегунок при всяком удобном случае вылетал из кабинета и обязательно встречал недалеко кого-нибудь из четвертой бригады. говорили они при встрече или не говорили, может быть, только, как муравьи, шевелили невидимыми усиками, этого никто не знал, но после встречи расходились в разные стороны с задумчивыми глазами, расходились не спеша, чуть-чуть шевеля бровями. Со стороны казалось, что ничто в жизни их особенно не интересует, что они живут самоуглубленной жизнью. Но на всех путях колонии они торчали по двое, по трое, тихонько совещались и еще тише присматривались к чему-то. На вешалке, особенно по утрам, всегда чьи-нибудь глаза рыскали между одевающимися. Давно забыто было обыкновение перебегать[236] в цех без пальто. Напротив, четвертая бригада усвоила привычку без конца одеваться и раздеваться, и дневальные, кто постарше, недовольно говорили:
– И чего вы шныряете взад и вперед? Оделся – и гуляй себе.
Захаров, может быть, заметил нечто таинственное в четвертой бригаде, а может быть, и не заметил, а иначе как-нибудь узнал, но и у него откуда-то появилась привычка прогуливаться по двору, по коридорам, заходить в раздевалку, и почти каждый раз приходилось ему встречаться с тем или другим представителем четвертой бригады. Он отвечал на салют сдержанным движением руки и проходил дальше. Его провожали серьезные, внимательные взгляды. Ваня Гальченко и Филька вечером не пошли на каток, а прохаживались по главной дорожке парка и поглядывали в сторону колонии, как будто поджидали кого-нибудь. Мимо них пробегали колонистки и колонисты с коньками, легкомысленный народ, жадный на развлечения. Не спеша проходили старшие. Лида Таликова по-приятельски положила руку на плечо Вани и спросила:
– Чего ты такой скучный, Ваня?
Трудно было не улыбнуться Лиде, но и улыбка вышла у Вани деловая:
– Ничего не скучный. Это мы гуляем.
Оживились глаза и у Фильки, и у Вани, когда из-за угла литеры Б показался Рыжиков. Он даже похорошел, этот Рыжиков: есть особый шик в том, как он идет в новом белом свитере, без шапки. Его ноги ступают широко[237], и он весь немного покачивается; это походка человека, довольного жизнью. Рыжие волосы подстрижены коротко, от этого голова Рыжикова кажется более элегантной, и лицо у него теперь стало чистое. Рыжиков не спешит, он закуривает папиросу. Филька и Ванька без всякой торопливости направились на боковую дорожку, Рыжиков их не заметил. Он прошел вниз и небрежно швырнул в сугробик большую белую коробку.
Когда он скрылся за деревьями, Филька поднял коробку, Ваня тоже устремил на нее глаза:
– Это папиросы. Написано как?
– «Дюбек».
– Хорошая какая коробка.
Через полчаса в клубе они нашли Маленького. Филька, играя коробкой в руках, спросил небрежно:
– А сколько стоит такая коробка?
– О, это очень дорогие папиросы! Эта коробка стоит пять рублей!
Ваня не мог выдержать, закричал на весь клуб:
– Пять рублей! За одну коробку?
Филька был человек бывалый, он не закричал:
– А что ж ты думаешь? «Дюбек» – это, ты думаешь, пустяк?
– Ой-ой-ой!
Маленький ушел в библиотеку. Ваня сказал:
– Он! Это он, и все!
– Украл?
– Украл и продал.
– А если он больше всех зарабатывает?
– Больше всех? А сколько он получает? Тридцать рублей? Да? Тридцать рублей?
– Тридцать, а может, и сорок.
– Так все равно, а папиросы одни стоят пять.
Ваня не обладал сценическими талантами Фильки, но в этом вопросе Филька, пожалуй, и уступал ему. Ваня предложил:
– А вот давай узнаем. Давай узнаем: он в первой бригаде?
– В первой.
– А ты спроси, ты всех знаешь: ты спроси, какие папиросы курит Рыжиков?
– А зачем?
– А если никто не знает, значит Рыжиков прячет и никому не говорит. Он так… потихоньку… курит и не хвастается. А ты спроси.
Филька в тот же вечер выяснил: никто в первой бригаде не знает, какие папиросы курит Рыжиков. Филька, как хороший актер, спрашивал умеючи. Просто ему интересно было выяснить, какие папиросы любят[238] в первой бригаде. После ужина Ваня выслушал рассказ Фильки и зашептал громко:
– Видал?[239] И никто не знает. А хочешь, я покажу тебе представление?
– Представление? Где?
– А где-нибудь.
Они долго ходили по колонии, и Ваня никак не мог показать представление. Коробка лежала у него в кармане так же терпеливо, как терпеливо Филька ожидал представления.
Перед общим собранием в «тихом» клубе начал собираться народ. Рыжиков пришел один и сел на диван, вытянув ноги. Ваня толкнул локтем Фильку. Друзья раза два прошли мимо Рыжикова, он не обратил на них внимания, рассматривал свои ноги и чуть-чуть насвистывал. Филька и Ваня сели рядом с ним. Рыжиков глянул на них косо и подогнул ноги под диван: в руках Вани была коробка с надписью «Дюбек». Ваня повертел ее в руках и прищурил глаза. Потом открыл и выжидающе замер над ней, внутри коробки крупно синим карандашом написано:
«А МЫ ЗНАЕМ».
Рыжиков сверкнул зелеными глазам, встал, крепко надавил рукой на Ванино плечо, толкнул его к спинке и ушел в дверь, заложив руки в карманы. Ваня ухватился за плечо и скривился:
– Больно… черт!
Филькино лицо загорелось:
– Это он! Ваня, ты знаешь, это он! Идем! Идем к Алексею…
Они побежали в кабинет. Но в кабинете было много людей, бригадиры собирались к рапортам. Филька и Ваня залезли в угол дивана и ожидали. Захаров был весел, шутил, сказал Торскому:
– Ты сегодня не волынь с общим собранием. Вечер хороший.
А на общем собрании Торский прочитал приказ:
«Объявляется благодарность воспитаннику Рыжикову за образцовую ударную работу в литейном цехе».
И Филька, и Ваня расстроились, покраснели. Они смотрели на Рыжикова и не узнавали его: он сиял гордостью и смущением, улыбался с достоинством, и не было в нем ничего нахального, это был товарищ, заслуживший благодарность в приказе.
Часть третья
1 Боевая сводка
Зима прошла, как сон, согретый лаской завтрашнего дня. Каждый день начинался щедро, и казалось, лучше этого дня еще не бывало дней. А потом выходило, что день этот – обыкновенный, но это было вовсе не хуже, потому что и обыкновенное было прекрасно.
Зима уже тем хороша, что впереди стоит весна, а ничто так не украшает человеческую жизнь, как перспектива впереди. А у колонистов впереди была не только весна. Как это трудно посчитать, что стоит впереди у колонистов! Они и не считали, но видели и дали, и горизонты, и уходящие к горизонтам пути, украшенные радостью. И каждый день, как будто из леса, к ним выбегали надоедливые мелочи и неприятности, привередливые, цепкие пустяки. Толпа всей этой бребедни до самого вечера суматошилась перед глазами колонистов, лезла в глаза, набивалась в уши, кричала и вопила о своем сегодняшнем важном значении. Лопались пасы, останавливались и «болтали» трансмиссии, желтым дымом задыхалась литейная, плохой бракованный лес раздражающими занозами и сучками становился поперек горла в машинном отделении, лишней копейкой, которую нельзя было истратить, просачивалась во все дневные щели нужда.
Это была нужда особенная, трудная. В комсомольском бюро и в совете бригадиров до полуночи засиживались и думали… Марк Грингауз, у которого обыкновенно печально смотрели большие глаза, говорил речь и улыбался:
– Вы представляете себе: мы делаем сверлилки! Вы видели, какие сверлилки? Сверху у них полированный алюминий, а в середине у них точность до одной сотой миллиметра. И притом это же импорт! Вы понимаете, импорт! Это разве легко сказать – выпрашивать у австрийцев сверлилки для наших авиазаводов, для наших саперных и инженерных частей! Вы представляете, как это получается, если саперам нужно делать переправу, а у них нет электрической сверлилки. Или, допустим, нужно строить танк, а у нас в руках черт знает что вместо сверлилки! А теперь возьмите – аэропланы. Я видел аэроплан, так я знаю, сколько там нужно провертеть дырок, и неужели нужно вертеть австрийской сверлилкой, когда можно вертеть нашей, первомайской! Надо войти в положение наших рабочих! Надо понимать – вот это и называется нуждой, о которой без слез и говорить невозможно. До чего обидно покупать сверлилки у австрийцев, да еще за такую неприятность платить настоящим золотом. Вот это – нужда, это и я понимаю, и вы понимаете!
Разумеется, это все понимали. И поэтому в словах Воленко, сказанных на бюро, были слова всех одиннадцати бригад:
– Мы не должны беспокоиться, что колонисты не поймут. У нас семьдесят девять комсомольцев и сто девяносто, имеющих значок колониста! Как же они могут не понять? У нас два ужина – в пять часов и в восемь часов. Давно уже все недовольны: с какой стати два ужина, прямо времени не хватает ужинать. Допустим, первый ужин похож на простой чай. Все равно, а сколько хлеба съедают за этим чаем? И все колонисты очень недовольны. Нужно уничтожить первый ужин и не отнимать времени у колонистов. Потом мясо. Это давно уже доказано, что мясо вредно для здоровья, если его много есть, от этого бывает подагра, и Колька так говорит. И я считаю – достаточно три раза в неделю мяса, а в другие дни – вредно. И не нужно к маю шить новые парадные. Самое главное – у нас хороший строй, красивый, и старые парадные надеть, все равно всем понравится. Износились белые парадные воротники, новые сшить – нужно сто пятьдесят рублей. Ну что же? Давайте без белых воротников, форма и так останется, главное – вензель. И ботинки новые не нужно покупать, а можно купить всем «спортсменки» – гораздо дешевле и куда легче.
И еще много таких нашлось предметов в колонистской смете, уничтожение которых было и для красоты хорошо и для здоровья. Кто запротестовал, – учителя: физический кабинет, химическая лаборатория, вытяжной шкаф, а одному из них еще и педологический кабинет не давал покоя. Комсомольцы над этими статьями долго потели, заносили карандаши с угрозой и бессильно опускали их не на листы сметных ведомостей, а на собственную взволнованную грудь. Захаров и секретарь партийной организации, носатый, молчаливый Дегтярь, – мастер машинного цеха, – в полглаза переглянулись, и Дегтярь сказал:
– Какой? Педологический? Чиркай!
– Хай подымет Решетников!
– Пускай подымает. Чиркай моей рукой!
Марк еще посмотрел на Захарова и черкнул – двадцать тысяч слетело.
– А физический? – с аппетитом спросил Марк Грингауз.
Дегтярь снова глянул боком на Захарова. У Захарова такое выражение, какое бывает у мальчиков перед сложной каверзой: попадет, но и каверза захватывающая. И Дегтярь протянул руку к карандашу:
– А дай-ка я попробую.
Марк уступил ему карандаш. Дегтярь придвинулся ближе, засновал карандашом над цифрой:
– Двадцать пять тысяч? Оставим пять, – оно на первое время будет ничего! Как ты думаешь, Алексей Степанович?
– Я думаю, что ничего.
Учителя потом обижались: на физический кабинет – пять тысяч! А Решетников прямо подал заявление об увольнении. Подал и гордо начал ожидать результатов такого убийственного хода. Но результатов особенных не было: Решетников исчез, и в годовой смете еще сэкономили три тысячи шестьсот рублей. А с учителями Захаров помирился где-то по секрету, никто даже не знал, как это произошло.
Захаров утвердил все сокращения расходов, предложенные комсомольцами. Колонисты были глубоко уверены в том, что к концу года они соберут не триста тысяч, а гораздо больше.
В вестибюле, при входе в столовую, половина стены была еще с середины зимы занята огромной диаграммой, изготовленной Маленьким и художественным кружком. Возле диаграммы целый день толпился народ, потому что она забирала за живое.
На диаграмме был изображен фронт, настоящий боевой фронт. Наступление шло снизу. Там красная узкая лента изображала могучие силы колонистских цехов, разделенные на три армии: центр – металлисты, левый фланг – деревообделочники и правый фланг – девочки в швейном цехе. Каждая армия занимала по фронту больший или меньший участок в полном соответствии с величиной годового плана.
Центр – металлисты, конечно, составляли главные силы: годовой план производства масленок выражался очень солидной цифрой – миллион штук – миллион рублей. На левом фланге участок был меньше – деревообделочники должны были выпустить продукции на 750 тысяч рублей, а швейный цех[240], значительно обессиленный отливом людей к токарным станкам, имел план только в 300 тысяч. Таким образом, правый фланг занимал сравнительно небольшой участок фронта.
Наступление на диаграмме направлялось кверху. Вверху во всю неизмеримую ширину ватманского листа нарисован был чудесный город: вздымались к небу трубы и башни, и чтобы уже больше никаких сомнений не было, по верхнему края листа протянулась надпись:
Первый завод электроинструмента
Трудовой колонии им. Первого мая
Узкая красная лента проходила довольно низко, а чудесный город стоял высоко, добраться к нему было нелегко: нужно было пройти огромные пространства ватмана, а по ним справа налево, как ступени трудного года, расположились[241] прямые горизонтали дней. Ох, как много этих дней в году и как медленно нужно преодолевать их бесконечную череду! И каждый день имел свое название, названия были красивой славянской вязью выписаны слева и справа, подымаясь узкими колонками. На уровне чудесного города было написано:
31 ДЕКАБРЯ!!!
Да, так было написано – с тремя восклицательными знаками. Легко сказать: 31 декабря, когда сейчас только конец марта и между мартом и декабрем каких только нет месяцев!
Когда эта замечательная диаграмма, украшенная рамкой из золота и кармина, первый раз появилась в вестибюле, колонисты были поражены ее сложностью и годовым размахом. В общем понимали, что нужно добраться до чудесного города и кто первый доберется, тот и поставит флаг на одной из башен города. Другие подробности были не вполне понятны. Через несколько дней с диаграммой освоились как следует и научились переживать дневные изменения в ней. Фронт, изображенный узкой красной лентой, медленно подвигался кверху. Каждый день рядом с ватманом появлялся на кнопках небольшой листок бумаги, в нем содержалась боевая сводка на сегодняшнее число.
Продвигался на диаграмме не только боевой фронт коммунаров. Синим шнурком изображен был и враждебный фронт: все хорошо знали, что главный враг колонистов – это медленное течение времени. Положили бы на сутки сто рабочих часов, вот тогда было бы дело! А кроме того, находились и другие враги: плохой материал, плохие станки, плохой инструмент, мало ли чего?
25 марта боевая сводка гласила:
«Вчера наблюдалось затишье. Центр выпустил продукции на 3300 рублей и вышел на линию 29 марта, находясь впереди черты сегодняшнего дня на четыре перехода. Левый фланг – столяры – по-прежнему стоит на линии 15 марта, с этого дня они не выпустили продукции ни на одну копейку. Зато правый фланг продолжает преследование разбитого противника: девочки ведут упорные бои на позициях 18 апреля, обходя синих с фланга. На этом участке синие в беспорядке отступают, захвачено на один день 1800 настоящих рублей…
Наши постоянные успехи на правом фланге, несмотря на отставание столяров, вынудили противника по всему фронту отвести свои войска на линию 26 марта – это значит, что вся колония по выполнению плана идет на один день впереди».
Ваня Гальченко и другие металлисты четвертой бригады любили по вечерам постоять перед диаграммой и полюбоваться успехами центра. Видно было, что синим плохо приходится под ударами литейщиков и токарей. Правда, у девчат было нестерпимо завидное положение: на правом фланге красная лента далеко вылезла вперед, в самом деле – на линию 18 апреля, когда сегодня только 25 марта! Девочки не останавливались перед диаграммой, а поглядывали на нее быстренько, пробегая мимо, – они стеснялись[242] любоваться своими головокружительными достижениями. Пацаны оглядывались на девочек с деланным равнодушием. Лена Иванова и Люба Ротштейн остановились только для того, чтобы посмотреть, как мучаются от зависти металлисты. Ваня сказал:
– Девчонкам хорошо – что там… трусики!
Лена подняла перчатку:
– Как ты смеешь говорить: «девчонки»!
– Я ничего не говорю, я только… вообще трусики!
– Скажите, пожалуйста: «вообще»! А ты умеешь шить трусики?
Ваня Гальченко оглянулся на товарищей: в присутствии мужчин ему задают такой оскорбительный вопрос.
– Ха! Я буду шить трусики!
Ваня покраснел, потому что, действительно, разговаривать с ними трудно: с одной стороны, они все-таки девчонки и шьют трусики, с другой стороны, даже эти тринадцатилетние Лена и Люба стоят себе и посмеиваются, а в прическах у них ленточки, нарочно привязали, чтобы быть красивее. И черные чулки, и черные туфельки, и глаза, блестящие и хитрые, все у них такое, и все у них задается. Ваня пробурчал дополнительно:
– Трусики шить это… ваше дело.
– Скажите, пожалуйста: наше дело! Просто ты не умеешь. А Ванда и Оксана все равно на токарном станке умеют, видишь?
Ваня отвернулся от диаграммы, захотелось выбежать во двор и там поискать менее волнующие впечатления. Ванда и Оксана делали за четыре часа по сто двадцать масленок, так почему? Соломон Давидович дал им самые лучшие станки, и ремонт у них делают всегда в первую очередь, и резцы у них лучше, и другие несправедливости. А только разговаривать о них не стоит, уже один раз разговаривали, и потом пришлось стоять перед Захаровым и молча помаргивать глазами, когда он говорил:
– Удивительное дело, откуда берется такое хамство? Чем вы можете гордиться перед девочками? Носы вытираете рукавом? Или еще чем? Сплетнями занимаетесь? Пересудами? Как сороки – соберетесь и языки в ход: у девочек станки лучше, у девочек резцы лучше… Раньше говорили: женщины занимаются сплетнями, а теперь выходит – мужчины!
Тогда незаметно вздыхали и соглашались с Захаровым. А потом все равно: как просил Петька Кравчук исправить патрон, разве исправили? А как поплакала Ванда над смятым своим ключом, так ей через час Волончук новый ключ нашел. И Ваня с расстроенным видом направляется к выходу, но навстречу ему громкий спор старших: Чернявин и Поршнев.
– Масленка! Ну, что такое масленка, синьор? Кусок плохой меди, у которого вы обдираете бока.
Поршнев улыбается ласково:
– Ты читал сводку? Три тысячи триста таких кусков! План! А у вас что? Стоите на линии пятнадцатого марта! Ужас! На линии пятнадцатого марта!
– Стоим! Чертежный стол, ты имеешь какое-нибудь понятие о чертежном столе? Это масленка? Масленку вставил в патрон – она сама делается, через минуту взял, выбросил готовую, – вообще дрянь! А стол нужно делать неделю, да не одному человеку, а пятерым, шестерым. Вот выпустим партию, что вы запоете?
И Ваня снова стоит перед диаграммой. Ваня не может выслушивать подобную чепуху: сама делается! И Ваня поет перед диаграммой:
– Не выпустили продукции ни на одну копейку…
Игорь слышит это пение. Ванька Гальченко – его друг закадычный – и тот допекает!
Игорь говорит:
– Хочешь пари, Поршнев, что через неделю мы будем впереди вас?
– Нет, – спокойно говорит Поршнев, – не будете.
– Хочешь пари?
– Пари нельзя: будете волноваться, спешить, браку наделаете!
Ваня громко хохочет: сильный удар нанес Поршнев, очень сильный. В прошлом месяце целую партию аудиторных столов забраковала контрольная комиссия, тогда сам Штевель отдувался на общем собрании, а Чернявин сидел и помалкивал. И поэтому сейчас Игорь смущенно поводит плечами и говорит неуверенно:
– Конечно, это не масленка!
2 Отказать
Март подходил к концу, но снегу было много, и каток работал по вечерам, как и в январе. А по выходным дням колонисты становились на лыжи, бродили далеко в лесу. Полюбил лыжи и Рыжиков. Его дела здорово поправились в колонии, только со стороны четвертой бригады он встречал упорное недоверие. После истории с «Дюбеком» Рыжиков стал присматриваться к пацанам и везде встречал их настороженные взгляды. Ваня Гальченко и Бегунок, безусловно, были главарями этой группы. Сначала Рыжиков думал, что все это дело затевается Чернявиным, но Чернявин делал такой вид, как будто он Рыжиковым совершенно не интересуется. За зиму только два раза Рыжиков имел с ним маленькие столкновения, но в них ничего нового не было: Игорь, по своей привычке, показал себя защитником обиженных.
Еще в начале зимы Игорь катался[243] на лыжах с Ваней. В лесу их догнал Рыжков и поехал рядом с Игорем. Ваня убежал вперед. Игорь сказал с каким-то намеком:
– Тебе опять благодарность в приказе?
Рыжиков ответил:
– Нужна мне благодарность, подумаешь!
Рыжиков не хотел разговаривать с Игорем. Что такое Игорь Чернявин, в самом деле? Рыжиков побежал вперед, обгоняя Ваню, он ловко зацепил его лыжей и опрокинул в снег. Ваня забарахтался в сугробе, Рыжиков стоит над ним и смеется. Ваня как будто даже не обиделся, сказал тихо:
– Ты меня не цепляй, тут дорог много.
Но Игорь налетел разгневанный, ни слова не сказал, а вцепился в горло, Рыжиков вверх ногами полетел в снег и в полете слышал:
– Я тебя, кажется, предупредил? В следующий раз я на тебе живого места не оставлю!
Рыжиков был так ошеломлен, что даже не поднялся из снежного праха, а боком лежал и злыми глазами смотрел на Игоря. Игорь поклонился.
– Извините, сэр, я, кажется, вас побеспокоил?
Он побежал дальше, Ваня устремился за ним, потом приостановился.
– Ты, Рыжиков, будь покоен. Я за это не сержусь. Пожалуйста! Есть другие дела.
– Какие там дела? – спросил Рыжиков с угрозой.
Игорь ожидал, оглянувшись, и Ваня никого не боялся:
– Такие дела!
– Какие… такие?
– А потом увидишь!
Рыжиков повернулся и укатил в глубь леса. Никаких дел… таких… и никакого права у них нет. Рыжиков в последнее время царем сделался в литейном цехе, Баньковский, отлучаясь куда-нибудь, доверял ему барабан. Нестеренко ушел в механический цех, а формовочную машинку передали Рыжикову. Воленко часто похлопывал Рыжикова по плечу и хвалил:
– Хорошо, Рыжиков, хорошо! Мастер из тебя выйдет замечательный, человеком будешь! А вот только в школе…
– Да поздно уже мне, Воленко, учиться.
И Воленко, и вся первая бригада уверяли Рыжикова, что учиться не поздно. И Рыжков тоже начал было сидеть над уроками по вечерам, симпатии первой бригады он не хотел терять. В первой бригаде были собраны заслуженные колонисты: Радченко Спиридон – могучий, большой, разумный помощник мастера машинного цеха, Садовничий – худощавый, высокий, начитанный и образованный, Бломберг Моисей – лучший ученик десятого класса, Колесников Иван – правая комсомольская рука Марка Грингауза, редактор стенгазеты и художник – все это были виднейшие комсомольцы в колонии. Были в первой бригаде и подростки, только что вышедшие из бурного пацаньего века, начинающие уже солидную колонистскую карьеру, с серьезными выражениями лиц, с прекрасными прическами: Касаткин, Хроменко, Гроссман, Иванов 5-й, Петров 1-й. Даже Самуил Ножик начинал выходить в ряды актива и уже очень важную роль играл в литературном и в модельном кружках. В колонии не было обычая давать прозвища товарищам, но Ножика все-таки чаще называли по прозвищу, а не по имени. Давно уже, года два назад, Ножик пришел в колонию и с первого дня всех поразил добродушно-веселой формой протеста. Он ничего и никого не боялся и после того, как отказался дежурить по бригаде, ответил на письменную просьбу Захарова широкой, размашистой, косой резолюцией: «Отказать». Захаров хохотал на весь кабинет, читая эту резолюцию, потом позвал Ножика и еще хохотал, сжимая руками его плечи:
– Какая ты все-таки прелесть, товарищ Ножик!
Ножик был действительно прелесть: хорошенький, всегда улыбающийся, свободный.
– Ну хорошо, – сказал Захаров, отсмеявшись. – Ты, конечно, прелесть, а только два наряда получи за такую резолюцию.
И Ножик ласково-хитро улыбнулся[244] и сказал «есть».
И после того много еще у Ножика бывало[245] всяких остроумных проказ, они сильно портили настроение у бригадиров первой, но не вызывали неприязни к Ножику. А потом и Ножик привык к колонии, сдружился с ребятами и остроумие свое обычно рассыпал в каком-нибудь общем деле. Все-таки прозвище «Отказать» осталось за ним надолго.
В первые дни своего пребывания в колонии Рыжиков пытался подружиться с Ножиком, но встретил какое-то увертливо-ласковое сопротивление.
– Ты что, за колонию все стоишь, да? – спрашивал Рыжиков.
Ножик заложил руку между колен, поеживался плечами:
– Я ни за кого не стою, я за себя стою.
– Так чего же ты?
– Что «я»?
– Чего ты стараешься?
– А мне понравилось…
– И Захаров понравился?
– О! Захаров очень понравился!
– За что же он тебе так понравился?
– А за то… за одно дело.
– За какое дело?
Хитрые большие глаза Ножика обратились в щелочки, когда он рассказывал, чуть-чуть поматывая круглой головой:
– Одно такое было дело, прямо чудо, а не дело. Он мне тогда и понравился. У нас свет потух, во всей колонии потух, во всем городе даже, там что-то такое на станции случилось. А мы пришли в кабинет и сидим – много пацанов, на всех диванах и на полу сидели. И все рассказывали про войну. Захаров рассказывал, и еще был тот… Маленький, тоже рассказывал. А потом Алексей Степанович и говорит:
– До чего это надоело! Работать нужно, а тут света нет! Что это за такое безобразие!
А потом посидел, посидел и говорит:
– Мне нужен свет, черт побери!
А мы смеемся. А он взял и сказал, громко так:
– Сейчас будет свет! Ну! Раз, два, три!
И как только сказал «три», так сразу свет! Кругом засветилось! Ой, мы тогда и смеялись, и хлопали, и Захаров смеялся, и говорит:
– Это нужно уметь, а вы, пацаны, не умеете!
Ножик это рассказал с хитрым выражением, а потом прибавил, открыв глаза во всю ширь:
– Видишь?
– Что ж тут видеть? – спросил пренебрежительно Рыжиков. – Что ж, по-твоему, он может светом командовать?
– Нет, – протянул весело Ножик. – Зачем командовать? Это просто так сошлось. А только… другой бы так не сделал.
– И другой бы так сделал.
– Нет, не сделал. Другой бы побоялся. Он так подумал бы: я скажу раз, два, три, а света не будет. Что тогда? И пацаны будут смеяться. А, видишь, он сказал. И еще… как тебе сказать: он везучий! Ему повезло, и свет сразу. А я люблю, если человеку везет.
Рыжиков с удивлением прислушивался к этому хитрому лепетанию и не мог разобрать, шутит Ножик или серьезно говорит. И Рыжиков остался недоволен этой беседой:
– Подумаешь, везет! А тебе какое дело?
– А мне такое дело: ему везет, и мне с ним тоже везет. Хорошо! Это я люблю.
Последние слова Ножик произнес даже с некоторым причмоком.
Теперь и Ножик сделался видной фигурой в колонии, и Ножик вместе с другими членами первой бригады относился к Рыжикову хорошо. Только один Левитин избегал разговаривать с Рыжиковым и смотрел на него недружелюбно. Ну и пускай себе, что такое из себя представляет Левитин? Левитин такая же шпана[246], как и Ваня Гальченко. А Чернявин… Чернявин, еще посмотрим.
Зимой же, только позднее, Рыжикову еще раз пришлось поговорить с Чернявиным. Это произошло на дороге в город, куда Рыжиков отправился погулять. В конце просеки он догнал Игоря с Ваней Гальченко, и в тот же момент всем троим пришлось посторониться: из города шла полуторка. Рядом с шофером в кабинке сидела Ванда. Она высунулась из окна, весело кивнула головой. Ваня крикнул:
– Ванда, откуда это ты?
– Мы за досками ездили, – ответила Ванда.
Из-за ее плеча выглядывало смуглое остроносое лицо шофера Воробьева. Они проехали в колонию. Рыжиков проводил их взглядом:
– Напрасно это дозволяют! Чего она с ним ездит?
И Ваня спросил:
– А чего, нельзя?
– А хорошо это девочке с шофером путаться!
– Она не путается, – сказал Ваня с обидой. – Она ничуть не путается.
– Много ты понимаешь!
– Он больше тебя понимает, – сказал Игорь строго, и Рыжиков предпочел отодвинуться от Игоря подальше.
– Какой ты все-таки смердючий, – продолжал Игорь, – я тебе советую уходить из колонии.
Рыжиков тогда ничего не сказал, поспешил в город. Но сейчас, к концу зимы, Игорь, пожалуй, не скажет, что Рыжиков смердючий. Симпатии Ванды к шоферу были замечены всей колонией. Шофер Петр Воробьев пользовался общей любовью. Он был молчалив, много читал. Вся кабинка у Петра Воробьева наполнена книжками. Они лежат и на сиденье, и вверху, в карманах на потолке и в карманах боковых. Воробьев читал и в кабинке, и в свободное время где-нибудь на стуле, даже Игоря Чернявина перегнал в читательской славе. И этот самый Петр Воробьев, такой читатель, такой серьезный, такой худой и черномазый человек, безусловно, влюбился в Ванду. Они часто сидели в «тихом» клубе, Ванда в свободное время ездила[247] в кабине полуторки, а потом Петр Воробьев вздумал даже на коньках кататься, хотя во время катанья все равно нельзя читать книжку. И он не читал ничего и катался рядом с Вандой и по обыкновению помалкивал. Рыжиков мог торжествовать: все колонистское общество забеспокоилось по поводу этой любви, неожиданно свалившейся на колонию.
Михаил Гонтарь сказал однажды Игорю:
– А я говорю: Ванда влюблена в Воробьева!
– Неправда!
– Правда! Меня не обманешь! О! Я опытный человек, я сразу вижу!
И действительно: один раз Игорь, разбежавшись на коньках, поравнялся с парочкой. Они не заметили его приближения, и Игорь услышал:
– Ты его боишься, Ванда?
– Зырянского? А кто же его не боится?
Игорь понял, о чем шел разговор. Зырянский открыто говорил, что он не допустит никаких ухажеров в колонии.
Ванда имела основания бояться Зырянского. Через несколько дней Игорь катался вместе с Зырянским, и Зырянский сказал:
– Не могу я больше на это смотреть!
Он издали увидел парочку и побежал к ней. Игорь не отстал. Ванда круто повернула и улетела от своего друга, оставив его одного разговаривать с Зырянским. Воробьев, на что уже человек серьезный, и от смутился, очутившись перед гневными глазами Алеши:
– Петро! Я тебе говорю: брось!
– Да в чем дело? – растерянно сказал шофер и опустил глаза.
– Брось, говорю! Нечего девочке голову морочить! Если еще раз увижу вдвоем, вытащу на общее собрание.
Воробьев пожал плечами, быстро глянул на Алешу, снова опустил глаза:
– Я не колонист…
– Я тебе покажу, кто ты такой. Если ты работаешь в колонии, ты не имеешь права мешать нашей работе. Я тебе серьезно говорю.
– Я ничего такого не делаю…
– Мы разберем, ты не сомневайся! Ты влюблен в нее?
– Да откуда вы взяли, что я влюблен?
– А раз не влюблен, так какое ты имеешь право приставать к ней?
Петр Воробьев повозил правым коньком по льду и спросил с некоторой иронией:
– Ну хорошо… а если того… допустим, влюблен?
Зырянский даже присел от негодования:
– Ага! Допустим, влюблен! Мы тебя как захватим с твоей любовью, в зеркало себя не узнаешь!
Петр Воробьев недаром читал такую массу книг. Он комично повел удивленным пальцем справа налево и опять направо:
– Значит: влюблен – нельзя, не влюблен – тоже нельзя! А как же?
Зырянский опешил на самое короткое мгновение: надо было указать Воробьеву точное место, все равно, какие чувства и в каких размерах помещаются в его шоферской душе.
– Не подходи! Просто близко не подходи! Ванда – не твое дело!
Петр Воробьев задумался:
– Не подходить?
– Да, не подходи…
– А к кому можно подходить?
– Можешь… ко мне подходить.
Трудно угадать, как отнесся Петр Воробьев к проекту такой замены Ванды Алексеем Зырянским. Во всяком случае, он еще подумал и сказал:
– Странно у вас как-то… товарищи!
И все-таки, сколько ни смотрели потом пацаны, а не видели Ванды рядом с шофером: ни в клубе, ни в кабинке, ни на катке. Беспокоило их только одно: почему Ванда ходит такая веселая, даже поет, даже в цехе поет. И Петр Воробьев как будто повеселел, разговорчивее сделался, может быть, даже румянее.
3 Занимательная арифметика
В апреле пришло много каменщиков и стали быстро строить новый завод. Не успели ребята опомниться, как уже под второй этаж начали подбираться леса на постройке. Здание строилось очень громадное, с разными поворотами, вокруг постройки моментально образовался целый город непривычно запутанных вещей: сараев, бараков, кладовок, бочек, складов, ям и всякого строительного мусора. Старшие колонисты приходили сюда по вечерам и молча наблюдали работу, а четвертая бригада не могла так спокойно наблюдать: тянуло на леса, на стены, на переходы, нужно было поговорить с каждым каменщиком и посмотреть, как он делает свое дело. Каменщики охотно разговаривали и показывали секреты своего искусства. Но чем выше росли леса, тем меньше становилось разговоров: все темы были в известной мере исчерпаны, зато на постройке образовалось так много интереснейших уголков! И теперь каменщики были недовольны:
– И чего это вас тут носит нелегкая. Свалишься, и кончено!
– Не свалюсь.
– Свалишься и костей не соберешь.
– Соберу…
– Убьешься, плакать по тебе будут.
– Никто плакать не будет.
– Родные будут…
– О! Родные!
– Товарищи жалеть будут.
– Товарищи не будут плакать, дядя, марш похоронный сыграют, а чего плакать?
– Ну и народ же… Марш отсюда, пока я тебя лопатой не огрел!
– Лопатой, это, дяденька, брось! А я и так уйду. Думаешь, очень интересно?
Уходить нужно было не столько потому, что прогоняли, сколько по другим причинам: много дела и в других местах и нужно наведаться к диаграмме, не повесили ли новую боевую сводку?
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 15 АПРЕЛЯ
Правый фланг – девочки, выполняя ежедневно программу на 170–180 процентов, с боем прошли линию 17 мая и ведут дальнейшее наступление на отступающего в беспорядке противника. Боевой штаб фронта постановил: отметить героическую борьбу правого фланга за новый завод и поставить на этом фланге красный революционный флаг.
Центр продолжает нажимать на синих и сегодня вышел на линию 21 апреля, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов.
Только на левом фланге продолжается позорное затишье, столяры по-прежнему стоят на линии 15 марта, отставая от сегодняшнего дня на целый месяц.
Несмотря на это, под напором центра, и в особенности правого фланга, противник перевел свои силы даже и на левом фланге на линию 20 апреля: общий план колонии идет с перевыполнением на четыре дня.
Девчата впереди! Привет девчатам! Поздравляем пятую и одиннадцатую бригады!»
У диаграммы толпа, трудно пробиться к стене, приходиться подскакивать или нырять под локтями. Ваня закричал:
– Столяры! Ужас!
Бегунок поддержал в таком же стиле:
– Убиться можно!
Игорь Чернявин лучше бы не подходил – другие столяры ведь не подходят. Он подошел только потому, что состоял при боевом штабе в качестве редактора боевой сводки, и ему всегда интересно было прочитать свой собственный текст. Все-таки приходилось защищаться, хотя и старыми методами, давно уже опороченными:
– Что вы понимаете, синьоры? Тоже – токари! Ты сделай чертежный стол!
Ваня взялся руками за уши:
– Кошмар, и все! Так и написано: «отставая от сегодняшнего дня на целый месяц».
Горохов из-за спин обиженно загудел:
– Да ты посуди: ведь стол за один день не сделаешь! Чего ты пристал?
– Убиться можно! – повторил Бегунок. – Страшно смотреть на этот левый фланг! Левый фланг! А вот девчата молодцы, правда, Ванда?
– Я не девчонка. Я металлист.
Даже новенький, недавно прибывший в шестую бригаду, красноухий, веснушчатый Подвесько и тот смотрит на диаграмму и, может быть, завидует правому флангу, на котором так изящно стоит маленький красный флажок. А может быть, он и не завидует: бригадир шестой Шура Желтухин очень недоволен своим пополнением и говорил в совете:
– Ох, и чадо мне дали, Подвесько этот, придется повозиться!
Апрельский день куда больше, и сумерки до чего приятные. Вчера как будто еще была зима, и пальто висели на вешалке, и окна были закрыты, а сегодня в цветниках старый немец-садовник даже пиджак сбросил и работает в одном жилете, и в парке расчищают дорожки сводные бригады, по одному от каждой постоянной, и на подоконниках сидят целые компании и заглядывают вниз на просыхающую землю.
А все-таки и в апреле бывают неприятности. Казалось, все благополучно в колонии и можно забыть таинственно исчезнувшие пальто, как вдруг в один день: в шестой бригаде у самого бригадира украдены десять рублей, прямо с кошельком, ночью, из брючного кармана, а в театральном зале исчез большой суконный занавес, стоимость которого несколько сот рублей. Захаров ходил как ночь, угрюмый и неприветливый и, говорят, сказал кому-то:
– Честное слово, собаку вызову!
Пацаны этому поверили и с особенным вниманием осматривали каждую собаку, пробегающую через территорию колонии. Но Захаров собаку не вызвал, а поставил вопрос на общем собрании. Колонисты сидели на собрании опечаленные и молчаливые и даже слова не просили. Один Марк Грингауз говорил речь:
– Стыдно и обидно, товарищи! Стыдно в городе сказать кому-нибудь, что в колонии им. Первого мая можно безнаказанно украсть занавес со сцены. Надо обязательно выяснить этот вопрос, надо всем смотреть. А мы ушами хлопаем, у нас из-под носа скоро денежный ящик сопрут.
Зырянский не выдержал:
– Денежный ящик не сопрут, он стоит в вестибюле, и там часовой день и ночь ходит. Разве в том дело? Что же нам, бросить работу и всем стать часовыми возле каждой тряпки? Вы подумайте, какая это продажная гадина действует. Она не хочет рыскать по городу, потому что там везде все заперто и везде сторожа ходят и милиция. Она сюда прилезла, товарищем прикинулась, все ходы и выходы знает, с нами за одним столом ест, работает, спит, разве от нее убережешься? Разве можно смотреть? За кем? Что же теперь, каждого колониста подозревать, замки повесить, часовых поставить? Я не умею смотреть, не умею, но говорю: вот этими руками, вот этими самыми руками, я эту гадину когда-нибудь…
Зырянский не мог докончить, слов у него не находилось, чтобы рассказать, что он сделает «этими руками».
Потом попросил слова Рыжиков. На прошлой неделе ему дали звание колониста. Рыжиков, впрочем, не потому взял слово, что он колонист, а потому, что он кое-что знает. Он так и начал.
– Я, товарищи, кое-что заметил. Вчера возвращаюсь из города, в отпуске был, вижу: этот пацан новенький идет через лес и все оглядывается. Я его остановил: покажи, говорю, карманы. Он хэ, туда-сюда, да я его сгреб и все из карманов… как бы это сказать… вытрусил. Вот все здесь у меня, смотрите.
Рыжиков из своего кармана выгрузил много всякого добра: полплитки шоколада, карандашик-автомат, альбомчик «Крымские виды», билет в кинотеатр и два медовых пряника. Подвесько вытащили немедленно на середину. Уши Подвесько от этого отяжелели и сделались большие, но недовольное лицо оглядывалось во все стороны воинственно:
– Что? Так что? Я взял, да? Я взял?
– Ты это купил? – спросил Торский.
– Конечно, купил.
– А деньги откуда?
– А мне сестра прислала… в письме… все видели.
И тут со всех сторон подтвердили: действительно, на днях Подвесько в письме получил три рубля. Подвесько стоял на середине и показывал всем свое добродетельное лицо. Торский уже махнул рукой в знак того, что он может покинуть середину, но Захаров вмешался:
– Подвесько, а ты воду пил в городе? С сиропом?
Подвесько не успел сообразить, в чем дело, и ответил сразу:
– Пил…
– Два стакана?
– Ну два.
– Два, так, а пряников… вот этих… ты сколько съел? Четыре?
Подвесько отвернулся от Захарова и что-то прошептал.
– Что ты там шепчешь? Сколько ты съел пряников?
– И не четыре совсем.
– А сколько?
Подвесько прошептал:
– Три.
– А какая цена такому прянику?
– Двадцать копеек.
– Ты в город на трамвае ехал?
– На трамвае.
– И билет покупал?
– А как же!
– И обратно?
– И обратно.
– А сколько стоит альбомчик?
Подвесько задумался:
– Я забыл: или сорок пять или пятьдесят пять.
Несколько голосов с дивана немедленно закричали:
– Сорок пять копеек!
– А шоколад?
– Я уже забыл… кажется…
И снова несколько голосов закричали:
– Восемьдесят копеек! Такой шоколад «Тройка» – восемьдесят копеек!
И дальше Захаров обратился уже к дивану:
– Карандашик?
– Сорок копеек! Такой карандашик сорок копеек!
– Так. А на билете в кино написано: тридцать пять копеек. Правильно, Подвесько?
Подвесько без особого оживления сказал:
– Правильно!
– Выходит, что ты истратил три рубля тридцать пять копеек. Правильно?
– Правильно.
– У тебя было три рубля, где же ты еще взял тридцать пять копеек?
– Я нигде не брал тридцать пять копеек. Я истратил три рубля, которые сестра принесла.
– А тридцать пять копеек?
– Я этих не тратил.
– А сколько ты купил конфет?
– Конфет? Каких конфет?
– А тех… в бумажках? Ты купил четыреста грамм?
Подвесько снова отвернулся и зашептал. Руднев подскочил к середине, наставив ухо к шепчущим устам Подвесько.
– Он говорит: двести грамм.
– Что-то у тебя денег много получается, – улыбнулся Захаров.
Подвесько энергично потянул носом, провел рукавом губам и засмотрелся на потолок. Руднев, стоя рядом, стал ласково его уговаривать:
– Ты прямо скажи, голубок, где ты набрал столько денег? А?
– Я нигде не набирал. Было три рубля.
– Так покупок у тебя больше выходит. Больше, понимаешь?
Подвесько этого не хотел понимать. У него было три рубля, все видели, как он получил их в конверте, Подвесько не хотелось покидать эту крепкую позицию.
– Может, ты меньше покупал?
Подвесько кивнул с готовностью. В самом деле, он мог сделать меньше покупок, ровно на три рубля, это его в совершенстве устраивало.
– Может, ты не покупал целого шоколада? Может, ты половинку купил? Там же половинка осталась?
– Угу.
– Половинку купил?
Подвесько снова кивнул.
Общее собрание рассмеялось, этот человек не представлял никаких загадок. И таким же ласковым голосом Руднев спросил:
– Ты прямо ночью полез в карман, взял кошелек, правда?
И теперь Подвесько с готовностью кивнул, потому что ему, собственно говоря, очень понравилась намечающая ясность положения.
Торский почесал за ухом, посмотрел, улыбаясь, на Захарова.
– Иди на место, Подвесько! Ты еще, наверное, красть будешь.
Подвесько вдруг заострил глаза. В словах Торского ему почудился какой-то обидный намек. Торский повторил:
– Красть еще будешь, правда?
Подвесько вдруг просиял улыбкой:
– Честное слово, нет. Это последний раз.
– Почему же последний?
– Не хочется.
– Угу. Ну, добре. Будем наказывать, товарищи?
Подвесько затоптался на середине – очень уж весело смотрели на него колонисты. Воленко поднялся на своем месте:
– Да бросьте возиться с этим… чудаком! Это хорошо Рыжиков сделал, что проверил у него карманы, а то на других думали бы. Подвесько обязательно еще раза два сопрет что-нибудь, за ним смотреть нужно…
Подвесько приложил кулачок к груди и вытянул шею к Воленко:
– Товарищ Воленко! Честное слово, больше никогда не буду!
– Посмотрим, а только отпусти его, Виктор, чего он середину протирает. Десять рублей – на занавес. Да и Подвесько, что такое, – лежало плохо десять рублей, не заперто, он и стащил. Он думает, если замка нет, значит, возьми и купи себе шоколадку. А занавес – другое дело! Когда мы теперь соберем на занавес? Вот Первого мая праздник, а у нас сцену закрыть нечем. Тут не Подвесько орудовал. Тут, понимаете, настоящий враг, да и не один. Такой занавес на руках в город не отнесешь, да и продать нелегко. В этом случае серьезный человек работал, большая сволочь! Вот кого найти нужно.
Прения по этому вопросу затянулись. Никто не высказывал никаких подозрений, но сходились в общем гневном утверждении: нужно найти врага и уничтожить. Все чувствовали, что враг этот и сейчас, вероятно, сидит на диване и слушает, при нем приходится решать вопрос о том, что нужно предпринимать. И поэтому всем показалось приятным предположение, высказанное Брацаном: не может быть, чтобы колонист пошел на такое дело, а у нас теперь живет в колонии двести человек строительных рабочих, и какой там народ, никто хорошо не знает. Они ходят в кино, они видели занавес, наверное, у них есть такая шпана. Залезли хоть бы и через окно и стащили. Им и продать легче, а может быть, просто поделили, костюмы сошьют.
На собрании сидел и строительный техник Дем, очень похожий на кота, усы у него торчком и все шевелятся. Дем попросил слова и сказал:
– Очень может быть, товарищи колонисты, очень может быть. Народ со всех сторон пришел. Я всех еще хорошо не знаю. Каменщики, конечно, не возьмут, за них я, можно сказать, ручаюсь. А вот чернорабочие, кто его знает, можно сказать, не могу ручаться.
Все это так было похоже на правду, что даже Захаров задумался и с надеждой посмотрел на Дема. Для Захарова было бы очень приятно, если бы занавес украл кто-нибудь из чернорабочих[248].
4 Первое мая
Все шло в колонии прежним строгим порядком. В шесть часов утра играл Володя Бегунок побудку:
Ночь прошла, вставайте, братья, Наступает новый день, Бросьте лень, За мотор, За верстак и за топор! Нам Встать пора к трудам!И уже при весеннем утреннем солнце просыпается колония, шумит в спальнях и коридорах, затихает на поверку, наводняет вдруг столовую и потом разбегается по цехам и классам; чуть-чуть звенит рабочая тишина дня. В обед снова заливает колонистами цветники и дорожки, снова слышится смех, снова жизнь кажется искристой и шумной. И так до вечера, когда в классах собираются кружки, в парке отдыхающие, пацаны носятся в быстром беге, долетают звуки оркестра – сыгровка. И деловые, и дружеские, и серьезные, и зубоскальные движения как будто тонкими ниточками соединяются в руках строго, подтянутого дежурства, которое все знает, все видит, всему дает направление и размах. И, может быть, в душе дежурного бригадира всегда отражается и та глубоко спрятанная молчаливая тревога, которая у каждого возникает, когда он вспоминает ограбленный театр колонии. Может быть, поэтому о занавесе не говорят и не вспоминают, как не говорит о нем и дежурный, проверяя уборку в театре каждое утро.
Счастливым, душевным, ясным торжеством пролетели дни Первго мая. В городе колония прошла мимо трибуны вслед за войсками, прошла прекрасной взводной колонной с общим салютом, и оркестр играл «Военный марш» Шуберта. На трибуне радовались привету первомайцев, каждому взводу сказали отдельное приветствие, и видно было по выражению лица Крейцера, что он гордится своей колонией.
Ваня играл уже в оркестре. Второй корнет, на котором все приходится выделывать «эс-та-та», его, конечно, не удовлетворял, было завидно, что другие играют на первых корнетах и кларнетах, у них интересные, сложные «фразы», а у Вани никаких фраз, только «эс-та-та». Но такова уж судьба всех музыкантов: сначала они играют на вторых корнетах, а потом на первых.
Второго мая в колонию приехала целая группа военных – все командиры, и один даже с ромбом. Они осматривали колонию, ужинали с колонистами, а вечером были на спектакле. Перед спектаклем было общее собрание, бюст Сталина стоял на сцене, украшенный цветами. Когда оркестр проиграл на балконе три марша, Захаров подал команду, и знаменная бригада внесла знамя. Пока шло торжественное общее собрание, знамя стояло рядом с бюстом Сталина и возле знамени – два часовых с винтовками. Ваня ходил стоять к знамени вместе с Бегунком, стоять было и сладко и страшновато: а вдруг у Вани что-нибудь не так выходит.
Главный командир сделал доклад о международном положении, а в конце доклада сказал:
– Мы приветствуем вашу колонию еще и потому, что она поднимает на свои молодые плечи замечательное дело: завод электроинструмента. Красная Армия с гордостью примет вашу продукцию: она будет гордиться тем, что вашими руками сделаны эти машинки, которые мы сейчас импортируем из-за границы, конечно, в недостаточном числе, и платим за них золотом. Это прекрасно, что ваши молодые руки будут производить эти машинки, которые так нужны для обороны страны и которые избавят нас от импорта! А потом ваши руки возьмут винтовки, вы тоже будете в Красной Армии, будете стоять на защите нашей великой страны. И прямо вам скажу, думаю, что со мной согласны и все мои товарищи, присутствующие здесь: нам нравится, как вы живете, у вас счастливая дисциплина, красивая дисциплина, у вас замечательный почет красному нашему знамени, у вас все делается вовремя, с полным сознанием. Это правильно, и мы вас за это благодарим.
Ване приятно было слушать эти слова, и он воображал, как придет и его время, и он тоже будет в Красной Армии, и у него будет в руках винтовка – пусть попробует кто-нибудь подумать, что Ваня не сумеет защищать свою страну.
Он так заслушался командира, что забыл даже пораньше пройти в уборную. Дежурный бригадир шепнул ему:
– Тебя Маленький ищет.
Ваня побежал в уборную, моментально оделся, Маленький его намазал, привязал к плечам крылышки и дал в руки пальмовую ветку. Пьеса была написана Захаровым и называлась «Рэд Арми», что значит по-английски – Красная Армия. Ваня играл роль Мира. У него была трудная роль. Еще труднее была роль у Фильки Шария, который доказал-таки, что никто лучше него не сможет сыграть японского генерала.
На сцене было много всяких буржуйских генералов, они увешаны были оружием с ног до головы и все ссорились, то из-за угля, то из-за денег, а бедный Мир ходил между ними и просил:
– Дядя, дайте копеечку.
Генералы издевались над Миром и морили его голодом, а только во время драк прятались за него и кричали:
– Мы за мир!
Потом Мир окончательно изнемог и решил, что нужно как-нибудь заработать себе на хлеб. У него появляются ящик для чистки обуви и щетки. Публика в зале сильно хохотала, когда Ваня начинал чистить сапоги разным генералам и спрашивал их предварительно: «Вам черной?» Ваня эту фразу вставил по собственному почину, и Захарову она очень понравилась. Все-таки работа по чистке генеральской обуви не поправила жизни Мира. А я в это время за пограничным столбом росла и росла сила Красной Армии, все прибавлялось и прибавлялось страха у фашистов. И тогда Мир, радостный, перебрался через границу. Наступила для Мира хорошая жизнь, его приодели в новую рубашку и научили стрелять из пулемета. И только тогда стало тихо на сцене, и фашисты притихли и скалили зубы на красноармейцев.
Ваня очень удачно изображал Мир. Он умел и громко плакать, и хорошо чистить ботинки, и с радостным оживлением защищать себя рядом с Красной Армией. После спектакля его познакомили со старшим командиром, тот поставил его между колен и сказал:
– Ваня Гальченко! Молодец! Это вы правильно показали: только Красная Армия защищает мир, это правильно. А эти все вояки только и думают, как бы пограбить. Знаете что? А нельзя ли так устроить, чтобы вы к нам приехали, показали вашу пьесу! А?
Ваня даже сомлел на секунду от этих слов, побежал за кулисы и рассказал всем, какое предложение сделал ему командир. А потом и Захаров пришел за кулисы, и командиры. Было решено, что в ближайший выходной день драмкружок поставит свою пьесу в Доме Красной Армии.
И действительно, через неделю приехали автобусы и повезли оркестр и драмкружок в Дом Красной Армии. Всем зрителям очень понравилась пьеса. Оркестр играл вторую рапсодию Листа и «Фауста», и «Кармен», и «Кавказские этюды»[249], и «Гопак» Мусоргского, и еще одну вещь, которая всех развеселила – «Забастовка музыкантов». Она состояла в следующем.
Виктор Денисович, дирижер, подымает палочку, а музыканты начинают галдеть: не желаем играть, уморились, до каких пор играть! Так как действительно сыграли уже много, публика поверила искренности протеста, многие, конечно, и смутились таким поведением музыкантов, но раздались и отдельные возгласы:
– Отпустите детей, надо же им отдохнуть! В самом деле замучили!
В первом ряду сидел тот самый командир с ромбом и улыбался. Виктор Денисович сказал публике:
– Вы не обращайте внимания! У них, действительно, плохая дисциплина, но я их хорошо держу в руках. Пожалуйста: я буду дирижировать стоя к ним спиной, а они будут играть как тепленькие и ни одной ошибки не сделают.
Публика притихла перед таким оригинальным состязанием дирижера и оркестра. Но один голос все-таки крикнул:
– Отпустите ребят, не нужно их мучить!
– Они привыкли, – сказал Виктор Денисович.
Командир с ромбом громко захохотал. Виктор Денисович обратился к волнующемуся оркестру и сказал свирепым голосом:
– Марш «Походный»!
Музыканты, подавленные такой строгостью, заворчали, но подняли трубы. В публике даже привстали, чтобы лучше рассмотреть, как дирижер усмиряет своих музыкантов. Виктор Денисович повернулся к оркестру спиной и поднял палочку. И действительно, все замерло и в зале и на сцене. Дирижер взмахнул палочкой – и загремел веселый «Походный марш». Палочка бодро ходила над плечом дирижера, а его лицо гордо смотрело на публику. Но Филька Шарий первый встал со стула, махнул рукой, дескать, не буду больше играть, и ушел за кулисы. За ним с таким же протестующим жестом ушел Жан Гриф, потом Данило Горовой со своим басом. Музыканты уходили один за другим, но марш продолжался, и Виктор Денисович делал умильное лицо, наслаждаясь музыкой. Такое же лицо было у него и тогда, когда на сцене осталось трое: Ваня, выделывавший «эс-та-та», завывающий тромбон и большой барабан. Публика до слез хохотала над дирижером и совсем изнемогла, когда ему пришлось дирижировать одним барабаном. Только теперь все поняли, в чем состоял секрет номера. Виктор Денисович оглянулся в панике и тоже бросился удирать.
Собственно говоря, этот номер не имел музыкального значения, но именно он окончательно сроднил публику с колонистами. Все смеялись, вызывали музыкантов, а потом со смехом повели их и актеров ужинать. Только позднее ночью были поданы автобусы, и, тепло провожаемые хозяевами, колонисты уехали домой. В эту ночь пришлось мало спать: рабочий день все равно начинался в шесть часов.
5 Штыковой бой
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 10 МАЯ
Наш краснознаменный правый фланг преследует разбитого противника. Сегодня девочки вышли на линию 30 июня, закончив план второго квартала.
В центре продолжается нажим металлистов. Выполняя и перевыполняя программу, металлисты вышли на линию 25 мая, идя впереди сегодняшнего дня на 15 переходов.
Левый фланг стоит на месте – на линии 15 марта. Но получены сведения из самых авторитетных источников (от Соломона Давидовича), что на левом фланге готовится решительная актака».
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 12 МАЯ
Правый фланг, выполняя программу третьего квартала, вышел на линию 3 июля. Центр продолжает давление на синих, сегодня бои идут на семнадцать переходов впереди сегодняшнего дня на линии 29 мая.
На левом фланге сегодня не прекращается пушечная пальба – столяры полируют партию мебели».
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 14 МАЯ
После кровопролитного штыкового боя наш славный левый фланг наголову разгромил синих, прорвал их фронт и бешено преследует. Взято в плен: 700 штук аудиторных столов, 500 чертежных столов, 870 стульев. Все пленные отполированы и сданы заказчику. Синие бегут, славные наши столяры сегодня вышли на линию 20 мая, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов. Этот исторический бой имеет важнейшее значение: деморализованный противник по всему фронту находится очень далеко, наши части не могут его догнать! Колонисты, поздравляем вас с победой!»
Какие изменения произошли на диаграмме! Далеко-далеко отошла синия [250] линия врагов. У девочек она уже приближается к чудесному городу. Ваня Гальченко сегодня не может гордиться только своим «центром». Его захватывают общий успех колонии и красота кровопролитного штыкового боя у столяров. Ваня мечтательно всматривается в линию фронта, и его глаза ясно видят, как под синим[251] шнурком прячутся японские и другие генералы, как оттуда смотрят их злые глаза. Ваня громко смеется:
– Ага! Вот здорово мы их разбили![252]
Сегодня у диаграммы много[253] столяров. Правда, их фланг еще отстает от других, но какой бой! На стадионе давно не помещается мебель, огромная площадь вокруг стадиона заставлена столами и стульями. Пока они не были собраны, легко было разместить их на стадионе. А когда собрали, они распухли и вылезли из стадиона.
Первый раз остановился перед диаграммой и Соломон Давидович. До сих пор он несколько презирал эту забаву мальчишек и высказывался презрительно так:
– Что там они… пускай себе играются. Какой-нибудь Борис Годунов!
Но сейчас и он стоит перед ватманом и внимательно слушает объяснения Игоря Чернявина. Потом спрашивает:
– Если я правильно понимаю, здесь имеются какие-то враги. Чего им здесь нужно, в колонии?
– Они мешают нам работать, Соломон Давидович, прямо под руки лезут.
– Что вы скажете! Кто же такие нахалы? Это, наверное, новенькие!
– Есть и старые, есть и новые. Кто спер занавес, неизвестно, но я думаю, что это из старых.
– А какое отношение имеет занавес к производственной части?
– А плохой лес? Если бы у нас был хороший лес, мы вышли бы по меньшей мере на линию 10 июня, видите?
Соломон Давидович подумал:
– Если бы у вас был хороший лес… с хорошим лесом каждый дурак выйдет на какую угодно линию и будет кричать, как болван. Но, во-первых, кто вам даст хороший лес, если вы состоите на плановом снабжении, а, во-вторых, потребителю все равно, из какого леса кресло, лишь бы оно было хорошее кресло и имело вид приличный. Какие же еще у вас враги?
– Станки плохие…
– Тоже называется – враг!
– А как же! На хорошем станке…
– Что вы мне рассказываете: на хорошем станке! А кто будет работать на плохих станках? По-вашему, их нужно выбросить?
– Выбросить.
– Если такие станки выбрасывать, вам амортизация обойдется в копеечку, к вашему сведению. А что это за зверь?
– Это, я вам скажу, зверь, который лопает деньги. Это тоже враг!
Появление на арене спора нового зверя, конечно, смутило Игоря, тем более, что он никакого понятия не имел о его характере. Но Соломона Давидовича уже окружили комсомольцы. Владимир Колос не испугался амортизации:
– Это еще неизвестно, кто больше лопает, амортизация или плохое оборудование. Я считаю, что за две смены мы теряем ежедневно из восьми рабочих часов три часа на разные неполадки.
– Правильно, – подтвердил Садовничий.
– Больше теряем, – сказал Рогов.
– Плохое оборудование – это выжимание соков, – с демонстративным видом заявил Санчо Зорин.
Соломон Давидович вертелся между юношами и не успевал в каждого говорящего стрельнуть возмущенным взглядом.
– Как они все хорошо понимают! Какие соки? Причем здесь соки? Из вас кто-нибудь выжал сок? Где этот сок, покажите мне, я хочу тоже посмотреть, может, этот сок для чего-нибудь пригодится!
– Щели замазывать!
Санчо Зорин смеялся в глаза, но у него не было неприязни к Соломону Давидовичу. Он даже ласково завертел в руках пуговицу старого пиджака Соломона Давидовича и сказал:
– Не из меня сок, а вообще. Вот я вам объясню, вот я вам объясню, вот послушайте.
– Ну хорошо, послушаю.
– Вы знаете генеральную линию партии?
– Любопытно было бы посмотреть, как я не знаю генеральной линии партии…
– Что партия говорит? Что? Из кожи вылезти, а создать металлургию, понимаете, металлургию, тяжелую промышленность! Средства производства! А не то, как разные там оппортунисты говорят: потухающая кривая и разные такие глупости. Из кожи вылезти, а давайте средства производства – металл, станки, машины. Вот!
– При чем здесь соки?
– Вы лучше нас знаете, Соломон Давидович. Старая Россия не имела средств производства, а работали разве мало? Мало, да?
– Порядочно-таки работали!
– А жили как нищие, правда? А почему? Были плохие средства производства. Соки выжимали, а штанов не было. А когда будут хорошие машины, так куда легче. Хорошо будет жить! А на что это похоже: вы работаете от шести утра до двенадцати ночи. Видите? Не мои соки, а ваши…
Соломон Давидович задумался, даже губу выпятил на Зорина. Потом вздохнул, улыбнулся грустно:
– Это, конечно, вы правильно говорите, товарищ Зорин, но только я уже не дождусь, когда будут хорошие средства производства. Потухающая кривая – это, конечно, гадость, как я понимаю. Я боюсь, что моей кривой не хватит до металлургии.
Санчо с размаху обнял Соломона Давидовича:
– Соломон Давидович! Хватит! Честное слово, хватит! Вы посмотрите, вы только посмотрите!
У Соломона Давидовича пробежала по морщинистой щеке слеза. Он улыбнулся и с досадой смахнул ее пальцем.
– Чертова слабость, между нами говоря!
– Ничего, а вы посмотрите на фронт. Штыковой бой, легко сказать! А вот этот… новый завод! Чепуха осталась! «И враг бежит, бежит, бежит!»[254]
– Может быть, он и бежит, а только посмотрим, куда еще мы выйдем с этим самым новым заводом. Расходы большие, ах, какие расходы! Сто каменщиков, легко сказать!
– Выйдем! Знаете, куда выйдем? Ой, я вам сейчас как скажу, так вы умрете, Соломон Давидович!
– Это уже и лишнее, товарищ Зорин!
– Нет, нет, не умрете! Мы выйдем на генеральскую линию! Во!
– Что вы говорите? Каким образом мы так далеко выйдем?
– А что мы будем делать? Что? Электроинструмент!
Комсомольцы вдруг закричали все, захлопали Зорина и Соломона Давидовича по плечам:
– Санчо молодец! Электроинструмент – это и есть средства производства!
– А трусики?
– А ковбойки?
– А стулья?
Но Соломон Давидович тоже воспрянул духом:
– Не думайте, товарищи, что я ничего не понимаю в политике! И не морочьте мне голову! Стулья! Конечно, если сидеть на стуле и объясняться в любви, так это никакого отношения не имеет к производству и даже мешает. Ну а если человек сядет на стул и будет что-нибудь шить, так это уже производство. А чертежный стол? А масленка? Мы не такие уже оппортунисты, как некоторые думают. Но только и без штанов нельзя.
– Нельзя!
– Без штанов если человек, так вы знаете, как он называется?
– Нищий.
– Нет, хуже. Он называется прогульщик!
Шумной, галдящей, веселой толпой они вышли на крыльцо. Соломон Давидович хитро погрозил пальцем:
– Вы хитрые со стариком разговаривать, а цветочки, цветочки любите.
Колонисты хохотали и обнимали Соломона Давидовича:
– Дело не в цветочках, дело в плане. Цветочкам свое место, а металлургии свое.
6 Лагери
15 мая начали строить лагери. Когда это слово «лагери» первый раз прокатилось по колонии, оно даже не произвело особенного впечатления, так мало ему поверили: легко сказать, лагери! Самые легковерные люди отмахивались руками и говорили:
– Ты что-то съел сегодня за завтраком?
Однако в совете бригадиров Захаров, как будто нечаянно, произнес:
– Да! Я и забыл, нам еще нужно поговорить по одному вопросику, мы получаем двадцать палаток, так вот…
Потом Захаров посмотрел на бригадиров и увидел, что они задохнулись от неожиданного удара. Он замолчал и позволил Нестеренко издать первый звук:
– Лаг… Черт… Да не может быть!
Шесть дней колонисты не могли опомниться, а на седьмой день привезли палатки. Шесть дней и Захаров без улыбки не проходил по колонии, и все встречали его особенно приветливым салютом и огненными взглядами.
«Старики» хорошо знали, что в такие эпохи Захаров не прощает самого маленького проступка, такой уж у него характер: смеется, шутит, зубоскалит и в то же время рассыпает налево и налево наряды и аресты. Пояс плохо надет, ботинки не начищены до полного блеска, бумажку бросил в цветнике, закурил в здании – лучше не попадайся на глаза, влепит что нужно и еще радуется:
– Попался? Я тебя давно хочу взгреть, да никак поймать не могу.
И еще удивительно, что никто на него не обижается, со смехом отвечают:
– Есть один час ареста! – и продолжают с ним разговаривать, как ни в чем не бывало.
Палатки подарил тот самый военный с ромбом, которому так понравилась игра Вани Гальченко. Палатки были старенькие, выбракованные, пришлось даже заплаты положить кое-где, но… какие все-таки красивые палатки! Некоторые знатоки из четвертой бригады утверждали, что это палатки командирские, и им с удовольствием верили, другие, тоже из четвертой бригады, пытались утверждать, что это не палатки, а «шатры», но к такому утверждению все относились с сомнением.
Было намечено за парком красивое место для лагеря. Двадцать палаток решили ставить в одну линию, а какой бригаде на каком месте строиться, как всегда в колонии, должен был решить жребий. На столе у Торского лежат одиннадцать билетов, Торский предложил бригадирам подходить по порядку номеров и тянуть свое счастье. Клава Каширина попросила слова:
– Пятая и одиннадцатая бригады просят дать им крайние места.
– Это почему такое? Каждому крайнее место приятно.
– А чем для тебя приятно?
– Раз для вас приятно, значит, и для нас приятно.
– Девочкам нужны крайние места.
– Да почему?
– Нам неудобно между мальчишками.
Раздались недовольные голоса:
– Это капризы! С какой стати: как девочка, так и всякие фокусы!
Клава серьезно нажимала:
– Мы просим крайние места.
Санчо Зорин не пропускал ни одного совета. Он и сейчас ввязался:
– Я предлагаю из принципа не давать им крайних мест.
– Из какого принципа?
– А из какого принципа вам нужны крайние места? Это значит, ты боишься: мальчишки вас покусают.
– Не покусают, а девочки любят чистоту.
Тут и другие бригадиры возмутились. С каких это пор монополия на чистоту принадлежит девочкам? Клава рассердилась:
– Вам что, неряхам? В каких трусиках в цех идете, в таких и спите.
– Как там мы не спим, а палатки вам по жребию.
– Мы тогда останемся в спальнях, – сказала Клава.
– В спальнях? – кто-то грозно подвинулся на диване. – В спальнях?
– А что же вы думаете? В спальнях и останемся. Если нам нужно переодеваться или еще что, так мы будем между мальчишкам?
– Здесь нет мальчишек, – сказал хмуро Зырянский. – Есть колонисты, и все! И нечего разные тайны заводить в колонии. По жребию.
Ничего не могли поделать девчата, пришлось тянуть жребий. Может быть, надеялись на счастливый жребий, – не повезло: вытянули третье и восьмое места.
Завхоз выдал каждой бригаде крохотную[255] порцию бракованного леса – для «ящиков». Мальчики возмущались:
– Степан Иванович, как же так без арифметики? Габариты какие? Четырнадцать метров на четырнадцать метров, а нары нужно из чего-нибудь сделать?
– Управитесь.
– Вы нас толкаете на преступление, Степан Иванович!
– Ничего, рискую! Посмотрим, какие вы сделаете преступления? У меня вы ничего не сопрете, предупреждаю.
– Хорошо, мы построим одни ящики, а спать будем прямо на земле, воспаление легких, чахотка, вам же хуже!
– Я потерплю. Думаешь, чахотке приятно иметь с тобою дело?
– Заболеем!
– Хорошо, рискую!
Совет бригадиров постановил: каждая бригада обязана сдать лагери семнадцатого. А время для работы по лагерям оставалось только вечером. Поэтому перед ужином на лагерной площадке, как на базаре: двести с лишним человек с топорами, пилами, веревками. Беспокойства, шум, заботы видимо-невидимо, но все же бросилось в глаза: девочки строятся на крайних десятом и одиннадцатом местах, и никто им не препятствует. Бригадир девятой Похожай, на что уже веселый человек, а и тот возмутился. Спрашивает:
– На каком основании вы здесь строитесь?
Девочки тоже плотничают, хохочут, дело у них с трудом ладится, но Похожаю ответили:
– Любопытный стал, товарищ Похожай. Иди себе…
– Я официально спрашиваю.
– Официально спроси у дежурного бригадира.
Похожай не поленился, нашел дежурного бригадира Руднева:
– Как это вышло? Почему девчата на крайнем месте строятся?
– А это очень просто. Они поменялись местами с четвертой и восьмой бригадами.
– Поменялись? С четвертой?
Побежал Похожай к Зырянскому:
– Почему ты поменялся с девчатами?
Зырянский поднял лицо от шершавой доски, которую прилаживал для полочки в палатке:
– По добровольному соглашению.
– А что ты говорил в совете?
– А в совете я говорил, чтобы они жребий тянули.
– А теперь ты, выходит, соглашатель.
– Нет, Шура, я настоял на том, чтобы они тянули жребий. Они и тянули. А то они вообразят такое! Подумаешь, девчата! Они девчата, давай им крайние места. Принципиально!
– Как же так, принципиально? А зачем же ты поменялся?
– А по добровольному соглашению. Хочешь, я и с тобой поменяюсь. Хочешь, у меня теперь третье место, а у тебя пятое. Могу поменяться с девочками, с мальчиками, все равно, с товарищем меняюсь, здесь ничего соглашательского нет.
Похожай махнул на Алексея рукой, но захотел еще проверить, как Нестеренко себя чувствует. Нестеренко ничего особенного в вопросе Похожая не увидел, ответил с замедленной своей обстоятельностью:
– Ага, я, конечно, поменялся, потому что они просили, да и нам с краю не хочется.
– А на совете?
– Чудак, так то же совсем другое дело! Там вопрос был, понимаешь, насчет равноправия. А поменяться? Почему ж? Вон Брацан с Поршневым тоже поменялся. Дело вкуса.
Похожай очень расстроился всеми этими разговорами, отошел даже к парку, почесал за ухом, а потом улыбнулся и сказал вслух:
– Сукины сыны! А может… может и правильно! Ну что ты скажешь!
Вечером к Захарову пришел строительный техник Дем и сказал:
– Там колонисты досточки… строительные досточки берут для лагеря, кто пять, кто десять… Так вы бы сказали, что так нехорошо делать. Досточек, правда, не жалко, а учет нужен. Колонисты, знаете, хорошие мальчики, а все-таки учет необходим.
Молодой завхоз Степан Иванович, румяный и всегда жизнерадостный, прикинулся возмущенным:
– Душа из них вон, отнимите!
Дем замурлыкал, улыбаясь одними усами:
– Да как же я отниму, обижаться будут.
– Посмотрите, Степан Иванович, – распорядился Захаров.
Степан Иванович отправился в карательную экспедицию и возвратился с победой и с пленником:
– Хоть бы кто тащил, а то Зырянский! Другие бригады взяли по пять-шесть досточек, а этот целый воз!
Захаров сказал коротко:
– Алексей – объяснение…
– Объясню: это не кража. Лагери снимем – доски возвратим. Записано, сколько взяли, можно проверить.
– А почему так много?
– Так… для четвертой бригады и для одиннадцатой.
– Угу…
– Нельзя, надо помогать беднейшему крестьянству. Вы нам дали малую пайку, Степан Иванович, так пацаны достанут, а девочки стесняются.
– Стесняются?
– Да… что ж… Они еще не догнали мужчин в этом отношении.
Захаров серьезно кивнул головой:
– Вопрос исчерпан. Запишите, товарищ Дем, я подпишу. Осенью возвратим.
Вечером семнадцатого Захаров с дежурным бригадиром принял постройку лагерей. Он не забраковал ни одной палатки. Все палатки стояли в один ряд, и на каждой трепыхался маленький флажок. Отдельно возле парка стояла палатка совета бригадиров, в которую переселился и Захаров. Михаил Гонтарь заканчивал проводку электричества. Когда проиграли сигнал «спать», никто спать не захотел, все ожидали, когда загорится свет. И Захаров ходил из палатки в палату, и везде ему нравилось. Потом вдруг все палатки осветились, колонисты закричали «ура» и бросились качать Мишу Гонтаря. Хотели качать и Захарова, но он погрозил пальцем. Тогда решили качать бригадиров. Перекачали всех, кроме Клавы и Лиды, а девочки сказали:
– Мы сами своих бригадиров, не лезьте!
Девочки долго еще хохотали, потом завесили палатку, там по секрету что-то кричали и еще хохотали и пищали невыносимо, выскочили оттуда красные. Пацаны четвертой бригады долго стояли возле этой палатки и так и не могли выяснить, качали девочки своих бригадиров или нет. Филька высказал предположение:
– Они не качали. Они не подняли их, а может, и подняли, так потом положили на землю и разбежались.
Эта гипотеза очень понравилась всей четвертой бригаде, они успокоились и пошли посмотреть, что делается в палатке Захарова. Там стоял стол, и Захаров работал, сняв гимнастерку[256]. Это было совершенно необычно. Пацаны долго смотрели на Захарова, а потом Петька сказал:
– Алексей Степанович, почему это спать не хочется?
Захаров поднял голову, прищурился на пацанов и ответил:
– Это у вас нервное. Есть такая дамская болезнь – нервы. У вас тоже.
Пацаны задумались, тихонько выбрались из палатки Захарова. Действительно, многие бригадиры уже спали. Пацаны побежали к своей палатке. Зырянский недовольным голосом спросил:
– Где вы шляетесь? Что это такое?
Они поспешно полезли под одеяла. Только Филька поднял голову с подушки и сказал:
– Это, Алеша, нервы – дамская болезнь!
– Еще чего не хватало, – возмутился Зырянский, – дамские болезни! В четвертой бригаде! Спать немедленно!
Он потушил свет. Пацаны свернулись на постелях и смотрели в дверь. Видны были звезды, слышно, как звенят далекие трамваи в городе, а на деревне собаки лаят так симпатично, так очаровательно! Ваня представил себе Захарова в галифе и в нижней рубашке, и Захаров ему страшно нравился. Ваня подумал еще, какие это нервы, но глаза закрылись, нервы перемешались с собачьими голосами, и куда-то все покатилось в сладком, замирающем, теплом счастье.
7 Сердце Игоря Чернявина
Школа заканчивала год. Колонисты научились[257], не забывая о напряженных делах производственного фронта, забывать об уставших мускулах, и каждый в свою смену с головой погружался в школьные дела.
В школе было так же щепетильно чисто, как и в спальнях, лежали дорожки, везде стояли цветы, и учителя ходили по школе торжественно и говорили тихими голосами.
Подавляющее большинство колонистов любило учиться и отдавалось этому делу с скромной серьезностью – каждый понимал, что только школа откроет для него настоящую дорогу. Колония успела сделать уже несколько выпусков, в разных городах были студенты-колонисты, а из фонда совета бригадиров студентам выплачивались дополнительные стипендии по пятидесяти рублей. Многие из бывших колонистов были в военных и летных школах.
На праздничные и на летние каникулы студенты и будущие летчики нередко приезжали в колонию. Старшие встречали их с дружеской радостью, младшие – с благоговейным удивлением. И сейчас ожидали их приезда и разговаривали о том, в какой бригаде остановится тот или другой гость. Путь этих старших был соблазнительным и завидным, и каждому колонисту хотелось подражать старшим.
Игорь Чернявин школой увлекся нечаянно. Сначала повезло по биологии, а потом открылись в нем какие-то замечательные способности литературные. Новая учительница Надежда Васильевна, очень молодая, комсомолка, может быть, красивая, может быть, нет, но с лицом и взглядом внимательным и мягким, прочитала одно сочинение Игоря и сказала при всем классе:
– Игорь Чернявин… очень интересная[258] работа, советую обратить серьезное внимание.
Игорь улыбнулся саркастически: вот еще не было заботы – обращать внимание! Но незаметно для него самого литературные тексты и свои и чужие – писательские – стали ему нравиться или не нравиться по-новому. Вдруг так получилось, что над любым заданием по литературе он просиживал до нестеренковского протеста. По другим предметам брел кое-как до тех пор, пока однажды Надежда Васильевна не подсела к нему в клубе:
– Чернявин, почему у вас так плохо стало с учебой?
– По литературе? – удивился Игорь.
– Нет, по литературе отлично. А по другим?
– А мне неинтересно… знаете, Надежда Васильевна.
Она вздернула верхнюю полную губу:
– Если по другим предметам плохо, то вам и литература не нужна.
– А вдруг я буду писателем?
– Никому такой писатель не нужен. О чем вы будете писать?
– Мало ли о чем? О жизни, например.
– О какой же это жизни…
– Понимаете, о жизни…
– О любви?
– А разве плохо о любви?
– Не плохо. Только… о чьей любви?
– Мало ли о чьей…
– Например…
– Ну… человека, любит себе человек, влюблен, понимаете?
– Кто? Кто?
– Какой-нибудь человек…
– Какого-нибудь человека нет. Каждый человек что-нибудь делает, работает где-нибудь, у него всякие радости и неприятности. Чью любовь вы будете описывать?
Игорю стыдно было говорить о любви, но, с другой стороны, вопрос поднят литературный, ничего не поделаешь…
– Я еще не знаю… Ну… мало ли, чью. например, учитель влюбился, бывает так?
– Бывает учитель… учитель какого предмета?
– Например, математики.
– Видите, математики. Как же будете описывать, если вы математики не знаете? Наконец, не только же любовь – тема. Жизнь очень сложная вещь, писатель должен очень много знать. Если вы ничего не будете знать, кроме литературы, то вы ничего и не напишите.
– А вы вот… знаете… только литературу.
– Ошибаетесь. Я знаю даже технологию волокнистых веществ, кроме того, я знаю хорошо химию, я раньше работала на заводе и училась в техникуме. Вы должны быть образованным человеком, Игорь, вы все должны знать. Вы знаете, сколько Горький знает? Он все знает лучше всякого профессора.
Незаметно для себя Игорь заслушался учительницу. Она говорила спокойно, медленно, и от этого еще привлекательнее казалась та уверенная волна культуры, которая окружала ее слова. На другой день Игорь нажал и на всех уроках активно работал. Понравилось даже, прибавилось к себе уважения, Игорь твердо решил учиться. И вот теперь, к маю, он выходил отличником по всем предметам, и только Оксана Литовченко не уступала ему в успехах. Прозевал как-то Игорь тот момент, когда переменился его характер. Иногда и теперь хотелось позлословить, показаться оригинальным, и, собственно говоря, ничего в нем как будто не изменилось, но слова выходили иные, более солидные, более умные, и юмор в них был уже не такой. И однажды он спросил у Санчо Зорина:
– Санчо, знаешь, надо мне в комсомол вступить… Давай поговорим.
– Давно пора, – ответил Зорин. – Что ж? У тебя никакой дури не осталось. Мы тебя считаем первым кандидатом. А как у тебя… вот… политическая голова работает?
– Да как будто ничего. Я к ней присматривался – ничего, разбирается.
– Газеты ты читаешь, книги читаешь. Это не то, что тебя… натягивать нужно. Пойдем поговорим с Марком.
Игорь начал ходить на комсомольские собрания. Сначала было скучно, казалось, что комсомольцы разговаривают о таких делах, в которых они ничего не понимают. В самом деле, Садовничий делает доклад о семнадцатом съезде партии! Какой может сделать доклад Садовничий, если он только и знает то, что прочитал в газетах? Садовничий, действительно, начал рябовато, Игорь отмечал для себя неоконченные предложения, смятые мысли, заикание. Но потом почему-то перестал отмечать и незаметно для себя начал слушать. Как-то так получалось, черт его знает: Игорь тоже читал газеты и знал приблизительно то же самое, что и Садовничий, но кто его знает, решился ли бы Игорь сказать те слова, которые очень решительно произносил Садовничий.
– Конечно, мы не захватили старой жизни, но зато остатки и нам пришлось расхлебать. Царская Россия была самой отсталой страной, а сейчас мы знаем, что семнадцатый съезд Коммунистической партии подвел итоги. Мы закончили пятилетку в четыре года и не с пустыми руками: Магнитогорск есть? Есть. А Кузбасс есть? Тоже есть. А Днепрогэс, а Харьковский тракторный есть? Есть. А кулак есть? А кулака нет! Наши ребята кулака хорошо знают, многие поработали на кулака, а сейчас кулак уничтожен как класс, а мы построили первое в мире социалистическое земледелие, основанное на тракторном… тракторном парке, а также и комбайны. Мы знаем, как троцкисты говорили и как говорили оппортунисты. Каждый коммунар на своей шкуре их хорошо понимает: если поступать по-ихнему, то тогда все вернется по-старому. А такие пацаны, как мы, опять будем коров пасти у разной сволочи… извините, у разной мелкой буржуазии, которая хочет иметь собственность и всякие лавки и спекуляцию. Колония им. Первого мая не пойдет на такую провокацию. Конечно, каждый колонист хочет получить образование, а все-таки мы будем делать электроинструмент и развивать металлообрабатывающую промышленность. А что пояс подтянуть придется, так это не жалко, ничего нашему поясу от этого не сделается, потому что мы граждане великой социалистической страны и знаем, что к чему. Вот я вам сейчас расскажу о постановлениях семнадцатого съезда Коммунистической партии большевиков, а вы сразу увидите, как все делается по-нашему, а не по-ихнему.
Игорь слушал и все понимал наново[259]. Еще лучше стал он понимать, когда заметил в соседнем ряду Оксану Литовченко. В том, как слушала она, было что-то трогательное: вероятно, Оксана забыла, что она хорошенькая девушка, что многим хочется полюбоваться ее лицом, она сидела чуть склонившись вперед, заложив руки между колен, отчего еще милее и уютнее[260] собирались складки темной юбки и отчего притягательнее становилась мысль, что Оксана – сестра и товарищ. Так склонившись, она неотрывно, не моргая смотрела на сцену, слушала оратора Садовничего, а Игорю стало до очевидности ясно, что Оксана лучше понимает то, что говорит Садовничий, и глубже переживает. И Игорь тихонько отвернул от нее лицо и нахмурил брови. Ему страшно захотелось, чтобы у него в груди раскалились большие чувства, чтобы он, Игорь Чернявин, всегда был настоящим человеком. Он долго, внимательно и доверчиво слушал Садовничего и наконец понял, что Садовничий комсомолец, а Игорь еще нет. И тогда, посмотрев на зал, он подумал, что с такой компанией можно идти очень далеко, идти честно и искренно, так же, как говорит Садовничий, как слушает Оксана.
Часто, оставаясь наедине, Игорь думал о том, что он, безусловно, любит Оксану. Игорю нравилось так думать. Он много прочитал книг за этот год в колонии и научился разбираться в тонкостях любви. Слово «влюблен» казалось уже ему мелким и недостойным словом для выражения его чувств. Нет, Игорь именно любит Оксану. Иногда он сожалел, что эта любовь прячется где-то в груди, и сам черт не придумает, как ее оттуда можно вытащить и показать. Ему нравилась история Ромео и Джульетты, он ее прочитал два раза. Те места, в которых высказываются слова любви, он перечитывал и думал о них. Может быть, если бы пришлось, Игорь нашел бы еще более выразительные слова, но ему не хотелось умирать вместе с Оксаной где-нибудь среди мертвецов. С этой стороны «Ромео и Джульетта» ему не нравилась. Он находил много непростительных глупостей в действиях героев трагедии, во всяком случае, было одно несомненно: эти герои были очень плохие организаторы – в самом деле, придумать такой девушке дать снотворное средство, а потом похоронить! Интересно, что такого же мнения был Санчо Зорин, которого Игорь заставил почитать «Ромео и Джульетту»:
– Чудаки какие-то… эти… Лоренцо – старый черт, а с таким пустяком не справился, кого-то послал, а того не впустили – на объективные причины сворачивает. Вот если бы он знал, что ему за это отдуваться на общем собрании, так он бы иначе действовал. И Ромео твой шляпа какая-то. Мало ли чего? Кто там в ссоре и кто там не позволяет. Раз ты влюбился, так какое кому дело – женись, и все!
Игорь смотрел на Санчо свысока. Санчо понятия не имеет, что значит влюбиться, нет, не влюбиться, а полюбить. Женись, и все! Дело совсем не в женитьбе, а жениться вовсе не обязательно, Игорю жениться не хотелось. Во-первых, потому, что нужно кончать школу, во-вторых, потому, что даже представить трудно, какой хай поднялся бы в колонии, если бы Игорь обратился в совет бригадиров… Ха!
Игорь никому не говорил о своей любви, и Оксана, может быть, ни о чем не догадывалась. Странное дело: пока Оксана жила у этого самого… адвоката, ничуть не страшно было демонстрировать свое исключительное к ней внимание. С того дня, как она стала колонисткой, Игорь боялся с нею разговаривать даже об африканском циклозоне, с которым она возилась в биологическом кружке и который, между прочим, всем надоел. Потом Оксана вступила в комсомол, и в ее лице появились новые черты – самостоятельности и покоя. От всех девочек она отличалась удивительно приятным соединением бодрости, быстроты и в то же время мягкой, внимательной тишины. Она несколько раз уже выступала на общих собраниях, и как только она получала слово, в зале все начинали выглядывать из-за соседей, чтобы лучше видеть Оксану. Произнося речь, она умела с особенной мягкой стремительностью поворачивать голову то к одному, то к другому слушателю, смотреть ему в глаза, чуть-чуть улыбаясь, убеждать, внушать ласково, просто уговаривать. И каждый такой объект неизменно заливался краской, а Оксана спешила обратиться к другому. В таком стиле она произнесла однажды речь о необходимости помочь соседнему колхозу в прополке картофеля:
– Мои товарищи! Как же вы не поможете людям, если у них еще не устроено? У них трудное время, они еще коллективно не привыкли робыть, а вы привыкли, так как же вы не поможете? Мы сильные люди, последователи Ленина, кажу вам, товарищи, пойдем и поможем, с музыкой пойдем, не в том только дело, сколько мы картошки пройдем прополкой, а в том, что и они глазами побачут, как красиво и богато можно жить при социализме. А потом они к нам придут, может, в чем помогут, а может, и так потанцуют с нами та посмеются. Вот я вам и говорю: дорогие хлопцы и девчата, не нужно так говорить, чем мы там поможем, а решайте по-хорошему.
Она красиво говорила, Оксана, в особенности мило[261] выходили у нее украинские редкие срывы и нежное «л» в таких словах, как «прополка» или «хлопци». И хотя никто и не думал возражать против помощи, но всем казалось, что это Оксана их убедила. И потом на колхозном поле все смотрели на Оксану, как на хозяйку, радовались ее оживлению, и только пацаны не могли иногда удержаться и докладывали Оксане с серьезными лицами, но с итальянским прононсом:
– Наша славная четвертая бригада уже прополола!
Они бросали на нее проказливые взгляды, но далеко не прочь были с радостью принять от Оксаны ласковую улыбку и ласковый ответ:
– От и добре, хлопци!
Игорь не обладал такой смелостью, какая была у пацанов. Он иногда разговаривал с Оксаной о классных и колонистских делах, но, если никого не было третьего, не позволял себе даже острить и больше всего боялся, как бы Оксана не заметила, что он может покраснеть. Зато, если собиралась целая группа колонистов и колонисток, Игорь острил на полный талант. Он тогда уверял слушателей, что африканского циклозона обязательно украдет Рыжиков, украдет, зажарит и слопает. Бывало, что и Рыжиков стоит тут же и слушает, а потом хохочет вместе со всеми, как и полагается хорошему товарищу. Игорь был доволен вниманием товарищей, но истинной наградой за остроумие могла быть только улыбка Оксаны. Она и улыбалась всегда, но Игорь понимал, что эта улыбка – мелочь, из приличия. Досадно было, что, улыбаясь, Оксана обращалась немедленно с каким-нибудь посторонним вопросом к соседке-подружке. И получалось как-то очень прохладно: остроумие Игоря признавалось, как одно из самых обыденных приятных явлений, вроде хорошей погоды. Только один раз Оксана пришла в настоящее восхищение и хотя смеялась недолго, но посмотрела на Игоря взглядом… буквально любовным. Это вышло после того, как все хвалили красоту прошедшего мимо дежурного бригадира Васи Клюшнева, а Игорь сказал, воспользовавшись недавними впечатлениями восьмого класса:
– Он похож на Дантеса, хотя с Пушкиным не знаком.
Вася Клюшнев был хороший бригадир, но по литературе у него были очень плохие дела.
Вообще, любовь Игоря в сложной жизненной обстановке колонии не имела возможности выразить себя, и от этого уходила на самое дно сердца, украшая жизнь и обращая ее в сплошную дорогу к таинственно-счастливому завтрашнему дню.
8 Мертвый час
Когда окончились школьные занятия, Захаров сказал на общем собрании:
– Дела наши идут хорошо. Завод строится, скоро начнут прибывать станки, план мы выполняем, а на текущем счету прибавляются деньги. И в коллективе у нас более или менее благополучно, если не считать печального события с театральным занавесом. Сейчас вы будете отдыхать от школьных работ, но полных каникул в этом году мы устроить не можем, все колонисты это понимают. Все-таки нужно подумать и о здоровье. Николай Флорович сейчас скажет об этом.
А потом на трибуну вышел Колька-доктор и такого наговорил, что колонисты только шеи вытягивали от удивления. Во-первых, нужно восстановить пятичасовой чай, во-вторых, всеобщий и самый подробный медицинский осмотр, в-третьих, какие-то особые купанья, в-четвертых, мертвый час после обеда, в-пятых, в-шестых и т. д. Еще Колька-доктор не кончил, а со всех сторон посыпались возражения: для Кольки новый завод, очевидно, не представляет никакого интереса. Колька хочет, чтобы деньги растрачивались на разные пятичасовые чаи, которые все равно пить некогда, а потом, что это такое за новость: мертвый час? Что колонисты – больные люди или какие-нибудь отдыхающие, все равно никто на этом самом мертвом часе спать не будет, лучше пускай не начинает. Сейчас оканчиваем работу в четыре часа, а то будем оканчивать в пять, а потом пить чай, а когда жить? По-Колькиному выходит: спать, чаевать, ходить к доктору, так это называется жизнь? А если партию в волейбол или еще что, так некогда, потому что Колька будет все лечить и лечить.
Колька все эти возражения слушал со злым лицом и снова взял слово:
– К-какие некультурные л-люди! Ч-черт его з-знает, ч-чепуху к-какую…
И давай доказывать. Где-то навыдирал цифр разных, выходило по-Колькиному, что уничтожение «первого ужина» не составило никакой экономии: сколько раньше проедали, столько и теперь проедают. И теперь за ужином лопают так, что повар в ужас приходит!
– Ничего подобного!
– К-как ничего подобного? А п-пускай Алексей Степанович с-скажет!
Никогда не бывало, чтобы Захаров смущался, а теперь смутился, посмотрел на Кольку сердито, махнул рукой:
– Да… Николай! Как это никакой экономии? Экономия есть все-таки… все-таки меньше идет на пищу!
Колька даже зарычал:
– Меньше? Меньше? А я скажу, ничуть не меньше. Я в-вот в б-бухгалтерии все в-взял: т-то-же с-самое! Сколько ели, столько и едят. А т-только неправильно, нужно в пять ч-часов чай.
Захаров вдруг рассмеялся, сел на место с таким видом, как будто с этим Колькой вообще разговаривать не стоит. Колонисты бросили вопрос о «первом ужине», а напали на мертвый час. Выходило так, что Колька напрасно затевал все эти фокусы.
Зырянский лучше всех сказал:
– Все знают, как мы уважаем дисциплину. А только как ты меня, Николай, можешь заставить спать? Даже и глаза закрою, откуда ты узнаешь, что я сплю? А если мне спать не хочется? Ничего не выйдет.
Но Колька изменил тон, что-то такое начал говорить медицинское, об организме, о нормах сна. И Захаров в этом деле поддержал доктора:
– Ребята! Против мертвого часа даже неприлично как-то возражать? Неужели мы с вами такие некультурные люди, ничего не понимаем?
Мертвый час нужно ввести. Это будет очень полезно. Мало ведь спите. Сигнал «спать» играем в десять, а все равно после сигнала еще час проходит, пока заснете, а некоторые читатели, например, Чернявин, так и до двенадцати ухитряются.
После таких разговоров неловко было провалить проект мертвого часа. С ворчанием с натянутыми лицами подняли руки за мертвый час и уходили с собрания недовольные. Оглядывались и спрашивали:
– Так это с какого дня? Завтра? Вот еще придумали, честное слово!
На другой день в приказе услышали: мертвый час после обеда в обязательном порядке! Колька прошел через столовую с гордым видом, тоже организатор, мертвый час организовал!
После обеда в лагерях Володька Бегунок играл сигнал «спать». Светит жаркое солнце, энергия бурлит и в каждом кусочке тела, а Володька играет сигнал «спать». И все смотрели на Володьку с осуждением. Но Захаров пошел по палаткам, и вид у него был такой серьезный, что никто не сказал ни слова.
Захаров сидел в своей палатке и прислушивался. Какой же это мертвый час, если по всему лагерю стоит говор, просто лежат в постелях и стараются тихонько разговаривать, а тихонько разговаривать не умеют, смеются же просто обыкновенно – громко. И у девочек громкий шепотом и смех, а в четвертой бригаде возня, сопенье, такое впечатление, как будто там боксом занимаются. Захаров напал на какую-то одну бригаду:
– Постановили? Чего это разошлись? Сказано: мертвый час, – значит, спи. Прекратите разговоры!
Говорил он напористо, вот-вот кому-нибудь наряд или что-нибудь подобное всыплет. Самые разговорчивые люди сомкнули уста. Захаров послушал-послушал – тишина. Он возвратился в палатку, где сидел за столом и что-то записывал дежурный бригадир Воленко.
– Через четверть часа пройдешь посмотришь, – сказал Захаров.
– Есть.
– Честное слово, придется кого-нибудь из бригадиров под арест посадить…
Воленко ничего не сказал, он тоже разделял общее мнение, что мертвый час плохо продуман. Захаров сидел в палатке и ревниво прислушивался. Тишина стояла изумительная, даже ночью такой тишины не бывало, а потом донеслись и звуки сонного дыхания из соседней палатки, а из какой-то дальней довольно могущественный храп. Захаров тоже вытянулся из постели, расправил плечи, сказал тихо:
– Чудаки! Такое добро, а они еще… топорщатся.
– Времени жалко, – так же тихо ответил Воленко.
– Ничего… А смотри, спят, – значит, нужно.
И на это Воленко ничего не ответил, вышел из палатки. Легкий шум его шагов моментально пропал в общей тишине. Возвратился Воленко скоро, присел к столу, у дежурного бригадира всегда найдется дело.
– Спят? – спросил Захаров.
– Спят.
Через несколько минут в палатку заглянул Колька-доктор, хитро подмигнул на лагери и зашептал:
– В-видите? Г-говорил… с-спят как м-миленькие!
Колька с довольным видом, на носках прошел вдоль палаток. Долго прислушивался возле некоторых, но возвратился счастливый:
– Р-раз для организма н-нужно… организм с-сам з-знает…
Он тоже присел на нары к столу, но говорить боялся: в мертвый час разговаривать не полагается. Он сидел, посматривална часы-ходики. Захаров шепнул:
– Как медленно время тянется! За работой – другое дело!
Колька кивнул в знак согласия.
За пять минут до конца мертвого часа Воленко вытащил откуда-то Бегунка. Володя пришел свежий и радостный, лукавые его глаза не могли оторваться от Кольки-доктора, но трубу свою он все-таки нашел быстро. Воленко посмотрел на часы и сказал:
– Давай, Володя!
Володя по обыкновению своему салютнул трубой и выскочил на пощадку. Высокий и раздольный сигнал побудки вдребезги разнес мертвую тишину, но с первым звуком сигнала в лагерях произошло что-то странное, Захаров испуганно вскочил с кровати: это была ни на что не похожая смесь из криков «ура», аплодисментов, торжествующих воплей, хохота и многих других совершенно невыносимых знаков восторга. Слышно было, что и девочки приняли участие в этой какофонии. Захаров выглянул из палатки: даже солидные колонисты кричали «ура» и воздевали руки, пацаны носились по лагерю как бешеные, Колька-доктор высунул наружу покрасневшее лицо:
– Вот… м-мерзавцы! Они не с-с-спали!
Возле «штабной» палатки моментально собралась толпа. А Володька с самым наивным видом ходит по линии и повторяет сигнал побудки. Захаров поправил пенсне:
– Видите, как хорошо! Отдохнули, поспали, теперь со свежими силами можно и за работу.
Колонисты смеялись откровенно, но никто не возразил против того, что, действительно, поспать после обеда очень полезно.
На другой день мертвый час начался без инцидентов. Только через десять минут Захаров поймал Ваню Гальченко и Фильку в разгаре самой увлекательной игры: выкатившись из палатки под задним ее полотнищем, они попеременно придавливали друг друга к земле и торжествовали победу. Никаких слов они в это время, конечно, не произносили, потому что был мертвый час, но дыхание их и другие какие-то звуки, не то звуки угрозы, не то выражение торжества, разносились по всему лагерю. Захаров стоял над ними и укорительно смотрел. Филька первый заметил опасность, сделал серьезное лицо и недовольно поднялся с Ваньки. У него было такое выражение, как будто ни для кого не составляло сомнений, что он ни в чем не виноват, а виноваты какие-то зловредные силы, против которых Филька ничего не мог поделать, хотя отрицал их с самого начала. Ваня испугался без всякого притворства, смотрел Захарову в глаза и в замешательстве ожидал возмездия.
Захаров обратился к Фильке:
– Здорово! Будешь оправдываться, конечно?
Этот прозрачный намек Филька пропустил мимо ушей.
– Почему же ты не споришь? – шепотом продолжал Захаров.
Филька таким же шепотом ответил:
– А чего же оправдываться, все равно я буду виноват.
– И я так думаю. Вон там стоит дневальный, ему нельзя воспользоваться мертвым часом. Пойди подежурь за него, а он пусть поспит.
Из-за угла палатки был виден Семен Гайдовский, стоявший с винтовкой под деревянным грибом. Филька посмотрел на Семена и сказал хмуро:
– Семен тоже спать не хочет.
– Откуда ты знаешь?
– Так никто не хочет.
– Но вы больше всех не хотите, я вижу. Стань на дневальство до конца мертвого часа.
– Так не один же я.
– Хорошо, разделите. Одним словом, снимите Семена с дневальства.
И Филька и Ваня одновременно подняли руки и прошептали: «Есть». Захаров ушел к себе, и снова над лагерем повисла сонная тишина. На этот раз многие колонисты действительно спали – при самом большом упрямстве не так долго можно молча пролежать в палатке с открытыми глазам.
Ваня встал на дневальство первым. В первую минуту ему показалось, что жизнью можно наслаждаться и под деревянным грибком, с винтовкой в руках. Но сонный покой лагеря был такой сочный, так единодушно объединялся с жарким солнцем, что Ване скоро стало скучно. Он поднял винтовку одной рукой и потихоньку побрел по границе лагеря. Посмотрев влево, он вдруг заметил, что из-под тыльной части третьей в ряду палатки торчат чьи-то голые ноги. Ваня остановился и продолжал смотреть. Ноги лежали неподвижно, можно было подумать, что их обладатель тоже придается мертвому часу, но по неуловимому колебанию белого полотнища палатки можно было догадаться, что человек с торчащими ногами что-то делает. Через минуту и ноги заерзали по траве и вытащили из-под палатки сначала прикрытый трусиками зад, потом голую спину, и, наконец вылезла рыжая голова. Ваня широко распростер глаза. Рыжиков был так изумлен, что даже не испугался. Он смотрел на Ваню сначала пристально, потом сонно-небрежно, потом совсем забыл о нем и стал смотреть на небо. А в это время его руки снова протянулись по земле и скрылись в палатке. Ваня подошел к нему с винтовкой:
– Чего ты здесь делаешь? – спросил он глухим шепотом.
– А тебе какое дело? – шепотом ответил и Рыжиков.
– Это палатка десятой бригады, а почему ты здесь лежишь?
Небрежным движением Рыжиков вытащил руки из-под борта и потянулся сладко:
– А так… люблю на открытом месте… поспать.
– Иди отсюда, – приказал Ваня.
Рыжиков вдруг по-настоящему проснулся. Ослепшими от сна глазами он осмотрелся:
– Смотри ты куда закатился! От… смотри ты!
Он нехотя поднялся на ноги и побрел к палатке первой бригады, что-то бормоча и оглядываясь во все стороны. Может быть, он надеялся увидеть те таинственные силы, которые незаметно перенесли его к чужой палатке. Ваня удивленно смотрел ему вслед, а когда он скрылся, Ваня быстро присел, поднял борт палатки и заглянул внутрь. Было видно, что в десятой бригаде все спали. На земле у самого борта лежали чьи-то брюки, а рядом с ними черненький с замочком кошелек.
Ваня опустил борт и озабоченно поспешил к своему посту.
9 Сердитый дед
В четвертой бригаде все прибавлялось и прибавлялось хлопот и впечатлений, не говоря уже о делах, но души не уставали все перемалывать. Уставали к вечеру только ноги, Филька, впрочем, уверял: это оттого, что босиком.
Каменщики давно закончили стены и перешли к новым делам: гараж, фундаменты для станков, какая-то сложнейшая сушилка в новой большой литейной. На стенах ходили плотники и кровельщики, а стены были высокие-высокие, в особенности в том месте, где земля начинает склонятся к берегам труда. Дем бегал по колонии расстроенный, каждому встречному жаловался:
– Дефицитное дело, кругом дефицит: плотники – дефицит, бетонщики – дефицит, чернорабочие – тоже, представьте себе, дефицит!
Даже четвертой бригаде Дем рассказал о всеобщем дефиците и еще прибавил:
– Вы понимаете, товарищи колонисты, до чего разболовался народ. У нас срочное дело, а они все на Турбинстрой! Обязательно им подавай Турбинстрой, все туда хотят, потому… конечно… там и спецовку дают…
Четвертая бригада даже не успевала зародить в своих душах сочувствие Дему: Турбинстрой – легко сказать – Турбинстрой! Что-то неопределенно торжественное и величественное возникало при этом слове, и пацаны спрашивали Дема:
– А где это?
Дем шевелил пушистыми усами, и круглые глазки страдальчески щурились на пацанов:
– Да везде: вот сейчас нужно вагранку[262]…
– Нет, где этот… Турбинстрой?
И только в этот момент Дем соображал, что он напрасно разговаривает с мальчишками. Они способны задавать ему только глупые вопросы о Турбинстрое, который для Дема имел только одно значение: он отвлекал рабочую силу. И Дем бежал дальше, а пацаны продолжали жить с еще более ошеломленными душами, ибо к Турбинстрою вдруг прибавилось вагранка. Это слово давно мелькало в мире, самое замечательное и самое металлическое слово, оно даже встречалось в стихотворениях, но его роскошь всегда казалась роскошью недоступной. А теперь Дем произнес его с невыносимой будничной миной, он сказал, что нужно… вагранку!
Каждый день прибывают станки. Их привозит Петро Воробьев на своем грузовике, они запакованы в аккуратные ящики. Соломон Давидович, пребывающий[263] обычно в каком-нибудь дальнем производственном захолустье, одним из последних узнает о прибытии грузовика. Поэтому он, испуганный, выбегает из-за угла здания и на бегу в ужасе воздевает руки и кричит:
– Что вы делаете? Что вы делаете?!
Он врывается в толпу вокруг полуторки, и некогда ему поднять руку к старому сердцу, некогда перевести дыхание:
– Немедленно слезьте с грузовика! Это вам не какая-нибудь коза, это вам «Вандерер»!
Четвертая бригада всегда прибегает к станкам первая и всегда отвечает Соломону Давидовичу:
– Мы разгрузим, Соломон Давидович, мы разгрузим!
Соломон Давидович выпячивает гордо нижнюю губу:
– Как вы можете такое говорить? Кто это вам позволит разгружать импортное оборудование? А куда это старшие подевались?
Но уже и старшее поколение спешит к полуторке: Нестеренко, Колос, Поршнев, Садовничий. И Соломон Давидович обращается к ним почти как к равным:
– Будьте добры, товарищ Нестеренко, вы же понимаете: это универсально-фрезерный «Вандерер», удалите отсюда этих мальчиков.
Нестеренко делает движение бровями, пацаны слетают с грузовика и терпеливо наблюдают[264], пока на руках старших огромный ящик с «Вандерером» мягко сползает с платформы. Широкая дверь склада с визгом раскрывается, в руках старших появляются ломы и катки, теперь для всех найдется дело. Когда пацаны бросаются к лому, Нестеренко досадливо морщится, но потом его досада принимает приемлемые формы:
– Да шо вы там сделаете вашими руками! Животами, животами! Наваливайся животами.
И четвертая бригада в полном составе дрыгает ногами, морщит лбы и носы. Сорокапудовый ящик приподнимается ровно настолько, чтобы подложить каток. Нестеренко смеется:
– Сколько на килограмм идет этого пацанья? Наверное, десяток!
Когда ящик с «Вандерером» скрывается в полутемном складе и кладовщик вкусно гремит засовами и замком, четвертая бригада спешит к новым делам и по дороге спорит:
– Это фрезерный!
– Понимаешь ты, фрезерный! Не фрезерный, а универсально-фрезерный!
– Это по-ученому универсально, а так просто фрезерный!
– Ох! Сказал! Просто! Есть вертикально-фрезерный, а есть горизонтально-фрезерный, а это универсально!
– Вот смотрите! Какой фрезеровщик! Вертикально! А ты и не понимаешь, как это вертикально!
– Вертикально! А что, нет?
– А как это вертикально? Ну скажи!
– Вертикально – это значит вот так, видишь?
Грязноватый палец торчит перед носами слушателей, потом он торчит в горизонтальном положении.
– А универсально?
– А универсально это… как-то еще…
– Вот так?
– И не так вовсе…
– А может, так?
– Чего ты, Колька, задаешься? Так, так… Я тебе говорю «универсально», а ты пальцем крутишь. Не веришь, так спроси у Соломона Давидовича.
Однако и Соломону Давидовичу некогда и четвертой бригаде некогда. Не успели поспорить о «Вандерере», как пришли еще более знаменитые[265] станки: «Цинциннати», «Марат», «Рейнекер», «Людвиг Леве» и маленькие, совсем маленькие токарные, которые Соломон Давидович называл «Лерхе и Шмидт», а четвертая бригада считала, что благозвучнее будет называть «Легкий Шмидт». Каждый станок приносил с собой не только странные имена, но и множество новых спорных положений. Вокруг шлифовальных спор разгорелся на целую неделю, и Зырянский однажды вечером закатил выговор всей[266] бригаде:
– Чего вы спорите! С утра кричите[267], говорить из-за вас нет никакой возможности!
– А чего он говорит: шлифовальный, чтоб блестело! Разве для этого шлифовальный? Это для того, чтобы точность была, а блестит совсем не от этого.
Прибывали и инженеры. Разобраться в них было труднее, чем в станках. Один Воргунов был ясен. Сразу видно, что он – главный инженер. Он тяжелой, немного угрюмой, немного злой поступью проходит мио пацанов, и кто его знает, нужно с ним здороваться или не нужно? Ни на кого он не смотрит, никому не улыбается, а если и удается послушать его беседу с кем-нибудь, так она всегда с[268] громом и молнией. Недавно он посреди двора поймал молодого пижонистого инженера Григорьева и кричал:
– К чертовой матери, понимаете? Вы сказали через три дня будут чертежи? Где чертежи?
Григорьев прижимал руки к груди и пискливым голосом оправдывался:
– Петр Петрович, не пришли еще гильдемейстеры! Не пришли, чем я виноват, спасите мою душу!
А Воргунов наклоняет тяжелую голову, дышит злобно и хрипит:
– Это невыносимо! На Кемзе восемнадцать гильдемейстеров! Сейчас же поезжайте и снимите габариты. Чтобы фундаменты были готовы через неделю!
– Петр Петрович!
– Через неделю, слышите?
Последние слова Воргунов произносил таким сердитым рыком, что не только Григорьев пугался, но и пацанам становилось страшно. Они смотрели на Воргунова сложным взглядом, составленным из опасения и неприязни, а он оглядывался на них, как на досадные мелочи, попадающиеся под ноги. Витя Торский рассказывал, что в кабинете Захарова по вечерам часто происходили стычки между Воргуновым и другими. Больше всего в этих стычках участвовал Соломон Давидович, для которого нашествие инженеров казалось затеей слишком дорогой, и он не всегда мог удержаться от укорительных вздохов:
– Каждую копеечку, каждую копеечку с каким потом, с каким трудом зарабатывали. А теперь приехали на готовое и пожалуйста: пуф-ф-ф! пуф-ф-ф! – конструкторское бюро, кондуктора, измерительные приборы, лаборатория, инженеры! Сколько инженеров! Ужас!
Воргунов выслушивал эти слова с миной ленивого презрения и отвечал вполголоса:
– Обыкновенная провинциальная философия! Копить деньги по копеечке, это мы мастера. И, наверное, вы их в чулок прятали, Соломон Давидович?
– Вы получаете наши деньги из Государственного банка, так почему вы говорите про чулок?
– Отстаньте, прошу вас, с вашими деньгами. Я строю завод не для вас, а для государства.
– Государство само собой, а колонисты само собой. Вы строите завод для колонистов, к вашему сведению. И если вам не угодно их замечать…
– Эх, да ну вас, тут с фундаментами несчастье! Да! Иван Семенович! Где вы этого идиота нашли, черный такой? Вы ему поручили наметить сталь?
Молодой инженер Иван Семенович Комаров поднял к Воргунову встревоженное лицо:
– Да, наметить серой и желтой краской!
– Ну, так он ее выкрасил с одного конца до другого!
Комаров побледнел, вскрикнул что-то и выбежал из кабинета. Воргунов усталыми глазами зарылся в широкой записной книжке, вдруг нахмурился, что-то прошептал свирепо и вышел вслед за Комаровым.
– Какой сердитый дед! – сказал Торский.
Захаров ответил, не прекращая своей работы:
– Он не сердитый, Витя, но страстный.
– К чему у него страсть?
– У него страсть… к идее!
10 Здорово кричит
Боевые сводки по-прежнему выходили ежедневно, и ежедневно Игорь Чернявин находил новые краски, чтобы изобразить в словах боевые подвиги колонистского народа. С тех дней, когда приняли его в комсомол, в боевых сводках стали встречаться и такие строки:
«Наш краснознаменный правый фланг в борьбе за индустриализацию страны и за усиление нашей обороноспособности сегодня нанес новый удар отступающему противнику…»
«Товарищи колонисты! Наши победы все закрепляются и закрепляются. Сегодня прибыли в колонию токарные „Красные пролетарии“, целых шесть штук. Наши старшие товарищи сделали эти станки, чтобы помочь нам окончательно разбить нашу техническую отсталость!»
«Товарищи бойцы! Видели вчера „Самсон Верке“ шлифовальные с магнитным столом? В нашей стране еще не умеют делать таких станков, но завтра будут уметь! Догнать и перегнать! Электроинструмент тоже сейчас не делают в Союзе, но завтра будут делать в нашей колонии. Наш враг – наша техническая отсталость – сегодня отступил под напором наших сил на линию 12 августа. Еще одно, два усилия, и мы сделаем смертельный прорыв в рядах противника – мы подорвем его капиталистическое производство, освобождая нашу страну от импорта электроинструмента!»
«Колонисты, читайте газеты! Вы узнаете, какие победы совершаются рабочим классом нашей страны. Наш фронт – только маленький участочек социалистического фронта, но и на маленьком участке очень важно продвигаться вперед. Сегодня левый фланг – столяры – продвинулись вперед на целых 28 дней. Да здравствуют столяры, славные бойцы социалистического наступления!»
Хотя «боевая сводка» выпускалась от имени штаба соревнования, но все колонисты хорошо знали, что душой этого штаба был Игорь Чернявин. И колонисты были очень довольны его работой. После особенно удачных мест «сводки» они встречали Игоря улыбкой и говорили: «Здорово!»
Иногда рядом со сводками Игорь вывешивал дополнительный лист, на котором были и портреты, и чертежи, и рисунки, и карикатуры. В комсомольском бюро косо посмотрели на это дело:
– Этот материал нужно в стенгазету давать, а не в сводку, а то стенгазета дохнет, а ты все в свою сводку. Нельзя же смотреть только со своей колокольни!
Игорь подчинился, но иногда трудно было удержаться. В девятой бригаде Жан Гриф и Петров 2-й, в седьмой бригаде Круксов и раньше страдали некоторым зазнайством, а теперь они объединились в маленькую оппозицию. Круксов был главой, поэтому колонисты все это движение прозвали круксизмом. Круксисты, правда, вполне исправно и добросовестно работали на своих местах, но в вечерних разговорах распространяли такое мнение: завод электроинструмента напрасно затеяли, такие заводы должен строить Наркомтяжпром, а у колонистов есть другие дела: у Петрова 2-го – кино, у Жана Грифа – музыка, а у Круксова – физкультура. Игорь Чернявин целую ночь просидел с Маленьким, а на утро рядом со «сводкой» появился большой лист в прекрасной рамке.
О круксистах в этом листке ничего не было сказано, но была очень хорошо нарисована заставка, на которой было изображено: стоит чудесный город с башнями, у стен города идет жестокий бой: под красным знаменем идут ряды за рядами и скрываются в дыму взрывов, в свалке штыковой атаки. Нетрудно узнать в этих рядах под красным флагом ряды колонистов, у них белые воротники и вензеля на рукавах. А сзади, между идиллическими кустиками, стоит обоз. На подводах сидят люди. Один держит в руках киноаппарат, другой большую трубу, третий футбольный мяч. Лица этих людей выписаны чрезвычайно добросовестно, нетрудно узнать и Петрова 2-го, и Жана Грифа, и Круксова.
Конечно, возле листа целый день стояла и хохотала толпа, раздавались более или менее остроумные замечания, вносились дополнительные предложения. На общем собрании вся тройка круксистов заявила решительный протест. Круксов говорил:
– С какой стати Чернявин как ему захочется, так и пишет? Когда я был в обозе? У меня перевыполнение плана по станку на тридцать процентов, а если иногда скажешь что-нибудь такое, так это слова.
– Тебе за слова и попало, – ответил на это Торский, – а за что ж тебе попало?
– За слова, конечно, – сказал Круксов, – а только нельзя ж так…
Круксов полагал, что ему попало слишком сильно. Но на самом собрании ему и другим попало еще сильнее. Зырянский дорвался по-настоящему:
– За такие слова нужно с работы снимать. Вам не нужен завод? Не нужен? А вы посчитайте, раззявы, сколько у рабочего класса до революции было кинотеатров, а сколько своих оркестров, а сколько физкультуры. Посчитайте, олухи! Вам дали в руки такое добро, а вы не понимаете, кто это вам дал. А если у нас не будет заводов, таких заводов – во, каких заводов, так от вашей музыки и физкультуры рожки одни останутся. Я предлагаю – снять с завода, направить на черную работу, пусть попробуют!
Петров 2-й испугался больше всех:
– Товарищи, товарищи! Разве я что-нибудь говорил против завода? Вот увидите, как я буду работать! Вот увидите!
И Круксов каялся и просил все слова ему простить и еще просил, чтобы перестали колонисты говорить «круксизм», разве можно так оскорблять?
После этого случая авторитет Игоря Чернявина сильно укрепился среди колонистов, да и сам Игорь теперь понял, какое важное дело он совершает, выпуская свои «боевые сводки».
Производство Соломона Давидовича доживало последние дни. «Стадион» торчал на земле черный от перенесенной зимы, и во время большого ветра его стены шатались. В механическом цехе беззастенчиво перестали говорить о капитальных и других ремонтах. Трансмиссии стали похожи на свалку железного лома, были перевязаны ржавыми хомутами, а кое-где даже веревками. Токарные «козы» на глазах рассыпались, суппорты перекашивались, патроны вихляли и били во все стороны. Но колонисты уже не приставали к Соломону Давидовичу ни с какими жалобами. Молча или со смехом кое-как связывали разлагающееся тело станка и снова пускали его в ход. К этому времени руки токарей сделались руками фокусников: даже Волончук, искушенный в разных производственных тонкостях и отвыкший вообще удивляться, и тот иногда, пораженный, столбенел перед каким-нибудь Петькой. В течение четырех часов Петька стоял перед станком, как некоторая туманность, настолько быстро мелькали его руки и ноги, настолько весь его организм вибрировал и колебался в работе. И Волончук говорил, отходя:
– Черт его знает… Шустрые пацаны!
Крейцер однажды приехал в колонию и зашел в механический цех. Он остановился в дверях, широко открыл глаза, потом открыл еще шире, вытянул губы и наконец произнес как будто про себя:
– Подлый народ! До чего дошли!
На него оглянулись несколько лиц, сверкнули мгновенными улыбками – снова завертелись в общей какофонии шума, железного визга, стука и хрипа. Крейцер прошел дальше, поднял голову. Над ним вращалась, вздрагивая трансмиссия, заплатанные, тысячу раз сшитые ремни хлопали и скрежетали на ней, потолок дрожал вместе со всей этой системой, и с потолка сыпались последние остатки штукатурки. Крейцер показал пальцем и спросил:
– А она не свалится нам на голову?
Он остановил встревоженно-удивленные глаза на Ване Гальченко. Ваня выбросил готовую масленку, вставил новую, дернул приводную палку, между делом повертел головой, – значит, нет, не свалится. Крейцер беспомощно оглянулся. К нему не спеша подходил Волончук.
– Не свалится эта штука?
Волончук не любил давать ответов необоснованных. Он тоже поднял голову и засмотрелся на трансмиссию. Смотрел, смотрел, даже чуть-чуть сбоку заглянул, скривил губы, прищурил глаза и только после этого сказал:
– По прошествии времени свалится. А сейчас ничего… может работать.
– А потолок?
– Потолок? – Волончук и на потолок направил свое неспешное исследовательское око:
– Потолок слабый, конечно, а только не видно, чтоб свалился. Это редко бывает, потолок все-таки… он может держать, если, конечно, балки в исправности.
– А вы балки давно смотрели?
– Балки? Нет. Я по механической части.
Крейцер по своей привычке влепился в Волончука влюбленным взглядом, растянул рот:
– Ну?
Пришел Соломон Давидович и объяснил Крейцеру, что можно построить еще десять новых заводов, пока наступит катастрофа, что если даже она наступит, то балка прямо не свалится на голову работающих, а сначала прогнется и даст трещину. Крейцер ничего не сказал и направился в сборочный цех. Здесь не было никакого потолка – работали во дворе. Игорь Чернявин сейчас уже не зачищает проножки, а собирает «козелки» чертежных столов – работа самая трудная и ответственная. Светлые, прямые волосы у него растрепались, щека вымазана, но рот по-прежнему выглядит иронически. Цепким движением он берет в руки нужную деталь, быстро бросает на нее критический взгляд, двумя ловкими мазками накладывает клей, моргнул, и уже в его руках не помазок, а деревянный молоточек, а тем временем шип одной части вошел в паз другой, неожиданный сильный удар молотком, и снова в руках деталь, и опять молоток замахивается с угрозой. Руки Игоря ходят точным, уверенным маршем, взгляды еле-еле прикасаются к дубовым заготовкам, но вдруг деталь летит в кучу брака, и Игорь, продолжая работу, кричит Штевелю:
– Синьор! Опять шипорезный половину шипа вырывает! Сегодня две дюжины поперечных планок выбросил. Какого они ангела там зевают?
Игорь замечает Крейцера и салютует. Крейцер отвечает спокойным движением и спрашивает:
– Как поживает левый фланг?
– Металлистов обогнали, Михаил Осипович!
– Все-таки до конца года не выдержите.
– Мы выдержим! Стадион не выдержит. И металлистам плохо. Они не выдержат. Надо скорее новый завод.
– Скорее! А триста тысяч?
– Мы сейчас на линии 19 августа. Через три месяца выполним годовой план. А по плану у нас четыреста тысяч прибыли, да еще экономия есть.
Крейцер смотрит на Игоря, как на равного себе делового человека, думает, потом грустно оглядывается, произносит с явным вздохом:
– Три месяца… Боюсь… Не протянете.
– У нас кишки хватит, а у станков не хватит…
– То-то… кишки…
А у четвертой бригады было еще одно дело.
Ваня в тот же вечер рассказал о странном прохождении мертвого часа у Рыжикова. Четвертая бригада выслушала его сообщение с остановившимся дыханием. Зырянский хмурил брови и все дергал себя за ухо. В тот вечер постановили шума не подымать, а продолжать наблюдение. Только Володя Бегунок требовал немедленных действий. Он оборачивался возмущенным загоревшим лицом к членам четвертой бригады.
– Уже наблюдали-наблюдали, и пьяным видели, и коробку папиросную показывали, и сейчас поймали, а теперь опять наблюдать. А он все будет красть и красть. А я говорю: давайте завтра на общем собрании скажем.
– Ну и что? – спрашивал Филька.
– Как что?
– А он скажет: заснул прямо на свежем воздухе, и все.
– А почему рука была под палаткой?!
– А чем ты докажешь? А он скажет: мало где рука бывает, если человек спит.
– А голова?
– А чем ты докажешь?
– А Ванька видел.
– Ничего Ванька не видел. Ноги отдельно видел, голову отдельно, а кошелек отдельно.
– А тебе нужно все вместе обязательно?
– А конечно! А как же? Надо, чтобы кошелек был вместе, в руках чтобы был.
Зырянский сказал:
– Вы, пацаны, не горячитесь. Так тоже нельзя – бац, на общем собрании: Рыжиков – вор! Мало ли что могло померещиться Ванюшке? А может, он совсем не вор. Хоть раз поймали его? Не поймали. Вот Рыжиков, так он, действительно, поймал тогда Подвесько, это и я понимаю. Поймал и привел на общее собрание со всеми доказательствами. А вы с чем придете? Скажете, коробку нашли папиросную? А над вами посмеются, скажут, охота вам по сорным кучам лазить и коробки разные собирать. А теперь Ваня увидел – спит Рыжиков, и в палатке кошелек лежит. Мало ли что лежит в палатке, так это значит, если кто проходит мимо палатки, значит вор? Да?
Трудно было возражать против этого, и Бегунок уступил.
Но в колонии снова покатилась волна краж, мелких, правда, но достаточно неприятных: то кошелек, то ножик, то новые брюки, то фотоаппарат, то еще что. Все это исчезало тихо, бесшумно, без каких бы то ни было намеков на следы. Вечером дежурный бригадир докладывал Захарову о пропаже, Захаров, не изменяясь в лице, отвечал «есть» и даже не расспрашивал об обстоятельствах дела. И бригадиры расходились без слов, и в спальнях колонисты старались не говорить о кражах. А в спальнях бывали мало, в других местах свои были заботы. Но и в спальнях и среди прочих забот не забывали колонисты о несчастье в колонии: все чаще и чаще можно было видеть остановившийся, чуть прищуренный взгляд, осторожный поворот головы к товарищу. И Захаров стал шутить реже.
В июне начали пропадать инструменты: дорогие резцы из «победита», штанген-циркули, десятки масленок, – масленки медные. Соломон Давидович без всяких предупреждений попросил слова и сказал на общем собрании:
– Я по одному маленькому делу. Удивляет меня, старика: вы такие хорошие работники и советские люди, вы на собраниях говорите о каждой пустяковинке. Интересуюсь очень, почему вы ничего не говорите о кражах? Как же это можно: боевое наступление на фронте, правый фланг теснит противника, строим новый завод, дорогие товарищи, и… вы только представьте себе, на своем заводе крадем инструменты! Вы сколько говорили о плохих резцах, а теперь у нас хорошие резцы, так их крадут. Вот товарищ Зорин сказал: плохие станки – это враги. Допустим, что враги. А тот, кто крадет инструмент, так это кто? Почему вы об этих врагах не говорите?
Соломон Давидович, протягивая руки, оглядел собрание грустными глазами:
– Может быть, вы не знаете, что значит достать «победитовые» резцы?
– Знаем, – ответил кто-то один. Остальные смотрели по направлению к Соломону Давидовичу, но смотрели на его ботинки, стариковские, истоптанные, покрытые пылью всех цехов и всех дорожек между цехами.
Соломон Давидович замолчал, еще посмотрел удивленными глазами на собрание, пожал плечами, опустился на стул. Что-то хотел сказать Захарову, но Захаров завертел головой, глядя в землю: не хочу слушать! Витя Торский тоже опустил глаза и спросил негромко:
– Товарищи, кто по этому вопросу?
Даже взглядом никто не ответил председателю, кое-кто перешептывался с соседом, девочки притихли в тесной кучке и молчали и краснели; Клава Каширина гневно подняла лицо к подруге, чтобы подруга не мешала ей слушать. Торский похлопывал по руке рапортами и ожидал. И в тот момент, когда его ожидание становилось уже тяжелым и неприличным, Игорь Чернявин быстро поднялся с места:
– Соломон Давидович совершенно правильно сказал! Почему мы молчим?
– Ты про себя скажи, почему ты молчишь?
– Я не молчу.
– Вот и хорошо, – сказал Торский. – Говори, Чернявин.
– Я не знаю, кто вор, но я прошу Рыжикова дать объяснения.
– В чем ты обвиняешь Рыжикова?
Игорь сделал шаг вперед, на одну секунду смутился, но с силой размахнулся кулаком из-за плеча:
– Все равно! Я уверен, что я прав: я обвиняю его в кражах!
Как сидели колонисты, так и остались сидеть, никто не повернул головы к Чернявину, никто не вскрикнул, не обрадовался. В полной тишине Торский спросил:
– Какие у тебя доказательства?
– Есть доказательства у четвертой бригады. Почему молчит четвертая бригада, если она знает?
Четвертая бригада, восседающая, как всегда, у бюста Сталина, взволнованно зашумела. Володя Бегунок поднял трубу:
– Вот я скажу…
– Говори!
Теперь и во всем собрании произошло движение: четвертая бригада – это не один Чернявин, четвертая бригада, наверное, кое-что знает. Володя встал, но Зырянский раньше его сказал свое слово:
– Торский! Здесь есть бригадир четвертой бригады!
– Извиняюсь… Слово Зырянскому! – И Зырянский встал против Игоря, затруднился первым словом, но потом сказал твердо:
– Товарищ Чернявин ошибается: четвертая бригада ничего не знает и ни в чем Рыжикова не обвиняет!
Игорь побледнел, но вдруг вспомнил и нашел в себе силы для насмешливого тона:
– Алексей, кажется, Володя Бегунок иначе думает.
– Володя Бегунок тоже ничего не знает и ничего иначе не думает.
– Однако… пусть он сам скажет.
Зырянский пренебрежительно махнул рукой.
– Пожалуйста, спросите.
Володя снова встал, но был так смущен, что не знал, положить ли свою трубу на ступеньку или держать ее в руке. Он что-то шептал и рассматривал пол вокруг себя.
– Говори, Бегунок, – ободрил его Торский, – что ты знаешь?
– Я… Уже… вот… Алеша сказал.
– Значит, ты ничего не знаешь?
– Ничего не знаю, – прошептал Бегунок.
– О чем же ты хотел говорить?
– Я хотел говорить… что я ничего не знаю.
Торский внимательно посмотрел на Володю, внимательно смотрели на него и остальные колонисты. Торский сказал:
– Садись.
Володя опустился на ступеньку и продолжал сгорать от стыда: такого позора он не переживал с самого первого своего дня в колонии.
Игорь продолжал еще стоять у своего места.
– Больше ничего не скажешь, Чернявин? Можешь сесть…
Игорь мельком поймал горячий, встревоженный взгляд Оксаны, сжал губы, дернул плечом:
– Все равно: я утверждаю, что Рыжиков в колонии крадет! И всегда будут говорить! А доказательства я… потом представлю!
Игорь сел на свое место, уши у него пламенели. Торский сделался серьезным, но недаром он второй год был председателем на общем собрании:
– Таки обвинения мы не можем принимать без доказательств. Ты, Рыжиков, должен считать, что тебя никто ни в чем не обвиняет. А что касается поведения Чернявина, то об этом поговорим в комсомольском бюро. Объявляю общее…
– Дай слово!
Вот теперь собрание взволнованно обернулось в одну сторону. Просил слова Рыжиков. Он стоял прямой и спокойный, и его сильно украшала явно проступающая колонистская выправка. Медленным движением он отбросил назад новую свою прическу – и начал сдержанно:
– Чернявин подозревает меня потому, что знает мои старые дела. А только он ошибается: я в колонии ничего не взял и никогда не возьму. И никаких доказательств у него нет. А если вы хотите знать, кто крадет, так посмотрите в ящике у Левитина. Сегодня у Волончука пропало два французких ключа. Я проходил через механический цех и видел, как Левитин их прятал. Вот и все.
Рыжиков спокойно опустился на диван, но этот момент был началом взрыва. Собрание затянулось надолго. Ключи были принесены, они, действительно, лежали в запертом ящике Левитина, и это были те ключи, которые пропали сегодня у Волончука. Левитин дрожал на середине, плакал горько, клялся, что ключей он не брал. Он так страдал и так убивался, что Захаров потребовал прекратить расспросы и отправил Левитина к Кольке-доктору. Он и ушел в больничку в сопровождении маленькой Лены Ивановой – ДЧСК, пронес свое громкое горе по коридору, и мимо дневального, и по дорожкам цветников.
– Здорово кричит, – сказал на собрании Данило Горовой, – а только напрасно старается.
Данило Горовой так редко высказывался и был такой молчаливый человек, что в колонии склонны были считать его природным голосом эсный бас, на котором он играл в оркестре. И поэтому сейчас короткое слово Горового показалось всем выражением общего мнения. Все улыбнулись. Может быть, стало легче оттого, что хоть один воришка обнаружен в колонии, а может быть, и оттого, что воришка так глубоко страдает: все-таки другим воришкам пример, пусть видят, как дорого человек платит за преступление. И, наконец, можно было улыбаться и еще по одной причине: кто его знает, что там было у Рыжикова в прошлом, но сейчас Рыжиков очень благородно и очень красиво поступил. Он не развел обиды, он не воспользовался случаем отыграться на ошибке Чернявина, он ответил коротко и с уважением к товарищу. И только он один уже второй раз вскрывает действительные гнойники в коллективе, делает это просто, без фасона, как настоящий товарищ.
Собрание затянулось не для того, чтобы придумывать наказание Левитину. Марк Грингауз в своем слове дал прениям более глубокое направление. Он спросил:
– Надо выяснить во что бы то ни стало, почему такие, как Левитин, которые давно живут в колонии и никогда не крали, вдруг – на тебе: начинают красть? Значит, в нашем коллективе что-то не так организованно? Почему этот самый Левитин украл два французских ключа? Что он будет делать с двумя французскими ключами? Он их будет продавать? Что он может получить за два французских ключа и где он будет их продавать? А скорее всего тут дело не только в этих двух ключах. Пускай Воленко, скажет, он бригадир одной из лучших бригад, в которой столько комсомольцев, пускай скажет, почему так запустили Левитина? Выходит, Левитин не воспитывается у нас, а портится. Пускай Воленко первый ответит на все эти вопросы.
Воленко встал опечаленный. Он не мог радоваться тому, что Рыжиков невинен. Левитин тоже в первой бригаде. И Воленко стоял с грустным лицом, которое казалось еще более грустным оттого, что это было красивое строгое лицо, которое всем нравилось в колонии. Он был так печален, что больно было смотреть на него, и пацаны четвертой бригады смотрели, страдальчески приподняв щеки.
– Ничего не могу понять, товарищи колонисты. Бригада у нас хорошая, лучшие комсомольцы в бригаде. Кто же у нас плохой? Ножик раньше все шутил, теперь Ножик правильный товарищ, и мы его ни в чем, ни в одном слове не можем обвинить. Левитин? После того случая, помните, нельзя узнать Левитина. Учебный год Левитин закончил на круглых пятерках, читает много, серьезным стал, аккуратным, в машинном цехе – пускай Горохов скажет – на ленточной пиле никто его заменить не может. Я не понимаю, не могу понять, почему Левитин начал заниматься кражами? Левитин, скажи спокойно, не волнуйся, что с тобой происходит?
Левитин уже возвратился от доктора и стоял у дверей, направив остановившийся взгляд на блестящую паркетную середину. Он не ответил Воленко и все продолжал смотреть в одну точку. Глаза четвертой бригады были переведены с Воленко на Левитина; да, тяжелые события происходят в первой бригаде!
Торский подождал ответа и сказал негромко:
– Ты, Левитин, действительно, не волнуйся. Говори оттуда, где стоишь.
Левитин вялым движением приподнял лицо, посмотрел на председателя сквозь набегающие слезы, губы его зашевелились, с большим трудом разобрали все его слова:
– Я не брал… этих ключей. И ничего не брал.
После его слов наступила долгая минута общего раздумья. Колонисты смотрели на Левитина, а он стоял у дверей и крепко думал о чем-то, снова вперив неподвижный взгляд влажных глаз в пустое пространство паркета. Может быть, вспомнил сейчас Левитин недавний день, когда в «боевой сводке» написано было:
«…на нашем левом фланге воспитанник Левитин на ленточной пиле выполнил сегодня свой станковый план на 200 процентов…»
Колонисты смотрели на Левитина с недоуменным осуждением: не жалко ключей – не пожалел человек самого себя! Игорь Чернявин крепко сдвинул брови, сдвинула брови и четвертая бригада. Воленко, опершись локтем на колено, пощипывал губу. Захаров опустил глаза на обложку книги, которую держал в руке. На Захарова бросали колонисты выжидательные взгляды, но так ничего и не дождались.
Когда колонисты разошлись спать, Захаров сидел у себя и думал, подперев голову рукой. Володя Бегунок проиграл сигнал «спать», просунул голову в дверь и сказал печально:
– Спокойной ночи, Алексей Степанович.
– Подожди, Володя… Знаешь что? Позови ко мне сейчас Левитина, но… понимаешь, так позови, чтобы никто не знал, что он идет ко мне.
И сейчас Володя не мотнул небрежно рукой, как это он всегда делал, а вытянулся, салютнул точно, как будто в строю:
– Есть, чтобы никто не знал!
Левитин пришел разбитый с красными глазами, покорно остановился перед столом.
Володя спросил:
– Мне уйти?
– Нет… Я прошу тебя остаться, Володя.
Володя плотно закрыл дверь и сел на диван. Захаров улыбнулся Левитину:
– Слушай, Всеволод! Ключей ты не брал и вообще никогда ничего и нигде не украл. Это я хорошо знаю. Я тебя очень уважаю, очень уважаю, и у меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты был сильным человеком. Тебя обвинили, это очень печально, но… вот увидишь, это потом откроется, а сейчас, что ж… потерпим. Это даже к лучшему, понимаешь?
У Левитина в глазах сверкнуло что-то, похожее на радость, но он так настрадался за сегодняшний вечер, что слезы не держались в его глазах. Они покатились тихонько, глаза смотрели на Захарова с благодарной надеждой:
– Понимаю, Алексей Степанович! Спасибо вам… только… все меня вором будут считать…
– Вот и пускай считают! Пускай считают! И ты никому не говори, ни одному человеку не говори, о чем я тебе сказал. Полный секрет. Я знаю, ты знаешь и Володька. Володька, если ты кому-нибудь ляпнешь, я из тебя котлет наделаю!
На эту угрозу Володя ответил только блеском зубов. Левитин вытер слезы, улыбнулся, салютнул и ушел. Володя собрался еще раз сказать: «Спокойной ночи!» – но неслышно открылась дверь и взлохмаченная голова Руслана Горохова прохрипела:
– Алексей Степанович, можно?
– Заходи.
Руслан полез в дверь в ночной рубашке и сразу размахнулся кулаком. Кажется, он хотел что-то сказать при этом движении, но ничего не сказал, кулак прошелся по воздуху. Он снова взмахнул, и опять ничего не вышло. Тогда он обратил прыщеватое суровое лицо к дивану:
– Пусть Володька смоется.
– Ничего… Володька свой человек.
И теперь поднятый кулак уже не напрасно прошелся сверху вниз:
– Вы понимаете, Алексей Степанович? Это… липа!
Володька громко захохотал на диване. Захаров откинулся назад, тоже смеялся, глядя на удивленного Руслана, потом протянул ему руку:
– Руку, товарищ!
Руслан схватил захаровскую руку шершавыми своими лапищами и широко оскалил зубы. Захаров поднял палец другой руки:
– Только, Руслан, молчок!
– Понимаю: молчать!
– Секрет!
– Секрет!
– Никому!
– А… Володька? Он… такой народ…
– Володька? Ты его еще не знаешь. Володька – это могила!
Могила на диване задрала от восторга ноги. Руслан еще раз взмахнул кулаком и сказал:
– Спокойной ночи, Алексей Степанович! Липа, понимаете, липа!
11 На всю жизнь
Игоря здорово проработали на комсомольском бюро. Сначала он топорщился и угрюмо настаивал на своем, но потом принужден был согласиться: он поступил неосмотрительно, в подобных случаях нельзя выступать партизаном, не поговоривши в бюро, не посоветовавшись с товарищами. Он согласился выступить на общем собрании и сделал это без судорог:
– Я погорячился и обидел товарища необоснованным подозрением. Прошу Рыжикова простить меня.
Рыжиков ответил с добродушной миной:
– Ничего. Я не обижаюсь.
Так этот случай разрешился более или менее благополучно. Кражи вдруг прекратились, и многие склонны были объяснить это тем, что Левитин поймался и теперь уже красть не будет. Колонисты продолжали свое наступление, но все понимали, что первой бригаде нанесен чувствительный удар, от которого она так скоро оправиться не может.
Игорь Чернявин быстро оправлялся от пережитых потрясений, да и жизнь помогала: колонисты уважали его даже больше, чем раньше, фронт колонистского наступления проходил уже на линиях сентября, новый завод был накрыт крышей, и начинали устанавливать станки.
А в один из выходных дней случилось… случилось счастье! Игорь сидел в парке на диване и читал «Двенадцать стульев». О, Бендер! Еще год тому назад Бендер мог привести его в восхищение. А сейчас Игорь рассматривал его опытным комсомольским взглядом и понимал, что Бендер человек несчастный. Он так увлекся чтением, что свободно мог бы не заметить, кто там уселся рядом с ним на диване, мог бы, конечно, не заметить, если бы это была не Оксана. А сейчас он густо обрадовался, бросил книжку на траву, протянул к ней руку. Оксана была в белом выходном платье, она… но разве можно словами описать Оксану? У нее смуглый румянец и загар, и краска смущения, и синевато-золотой блеск в глазах, и пушистый орел каштановых волос… Игорь задохнулся, и что-то в его душе махнуло рукой, закрыло глаза и бросилось очертя голову… нет, не в пропасть, а куда-то в глубину неба, на раскаленную сковородку солнца, все равно, куда! Игорь вдруг перестал ощущать деревья, кусты и дорожки парка, за парком здания колонии, и в парках, и в зданиях милые бригады колонистов – все перестало существовать в мире, потому что на скамье, на краю скамьи сидела в белом платье Оксана, – она – Джульетта, и ей нужно сейчас сказать, все сказать…
Оксана начало было:
– Игорь, я иду в город…
Но Игорь не расслышал ее слов. Город… это что такое город?..
– Оксана! Слушай, Оксана! Ведь я тебя люблю! Я тебя страшно люблю! Всю жизнь любить буду, всю жизнь, ты слышишь, Оксана?
Он крепко сжал пальцы одной руки, своей руки, а вовсе не руки Оксаны. Он наклонился к ней и старался заглянуть в глаза. Она не испугалась и не удивилась. Она так же сидела на краю скамьи в белом платье и неслышно дышала, чуть-чуть приоткрыв губы, в ее глаза заглянуть было невозможно. Игорь до боли выгнул пальцы своей левой руки, но боли не заметил: мир колебался вокруг него и сверкал каждой своей частичкой. Игорь так мало, так скучно сказал Оксане о своей любви, он хотел еще что-то прибавить, но Оксана вдруг поднялась со скамьи. Было видно, что она хочет бежать, но ее глаза успели еще посмотреть на Игоря. И посмотрели. Игорь теперь понял, куда он летит: он видел мгновенный взмах ресниц, открывший синевато-золотые просторы и влажное сияние зрачка, и видел благодарную ласку и набегающую слезу, и Игорь именно в этих глазах утонул и захлебнулся счастьем. Ему на миг показалось, что счастье в том, как Оксана сказала срывающимся голосом:
– Ой, Игорь, милый, не говори так, не говори так…
Оксана закрыла лицо руками, быстро повернулась и исчезла. Убежала она или просто спряталась за соседней группой кустов, – нигде не мелькало ее белое платье. Игорь стоял у скамьи и глядел на брошенную на траву книгу. Без раздумья и без ощущений он благодарил себя за высказанные слова любви и Оксану за ласковый взгляд. Потом поднял глаза и крепко сжал губы: мир восстанавливался вокруг него. Небо было синее и далекое, – на земле в летнем могуществе стоял парк, а за парком Игорь чувствовал здания колонии, и в зданиях милые бригады колонистов. Игорь улыбнулся и поднял книгу. Он сделал это уверенным сильным движением. Он понял, что сегодня началась жизнь и для жизни впереди цветущие дороги. По ним он пойдет вместе с Оксаной. Они будут идти и улыбаться друг другу, они будут идти, взявшись за руки. Ромео – это, извините, совсем не то…
Вечером, после рапортов, он встретил Оксану в коридоре и сказал просто:
– Ты убежала… А зачем ты убежала? Мне нужно поговорить с тобой.
Оксана улыбнулась так, как будто разговор шел о прочитанной книжке:
– Мне было чего-то стыдно. Я потому и убежала.
В коридоре никого не было. Оксана поставила локти на подоконник и лукаво посмотрела на Игоря:
– Ты все уже сказал, тебе больше нечего говорить.
Игорь и свои локти поставил рядом. Их плечи коснулись. Длинный рот Игоря сделался теперь по-настоящему ироническим. Он сказал с прежним своим насмешливым задором:
– Миледи, вы ошибаетесь. У меня хватит говорить вам… на всю жизнь.
В окно светил яркий фонарь. Лицо Оксаны сделалось серьезным:
– Знаешь что, Игорь, скажи… сейчас, еще раз…
– И скажу: я тебя люблю, Оксана.
– И еще дальше…
– Я тебя страшно люблю.
Оксана, подпирая голову рукой, повернула к нему внимательное лицо. У Игоря дрожала нижняя губа, но рот был по-прежнему иронический.
– Игорь, знаешь что? Это, может, тебе кажется так?
– Нет, Оксана, я же тебе сказал: на всю жизнь.
Кто-то пробежал сзади них по коридору, они молча смотрели друг на друга.
– Миледи, это несправедливо: я все говорю, а вы ничего не говорите.
– А ты хочешь, чтобы я тебе сказала?
– Ужасно хочу, ужасно, Оксана!
– Ой, какой ты смешной!
– Почему я такой смешной?
– Потому что… потому что… я тебя дюже люблю, и уже давно, давно.
Игорь зажмурил глаза и хотел дальше слушать. Но Оксана ничего больше не сказала, а когда Игорь открыл глаза, он увидел ее улыбающийся взгляд и руку, протянутую к нему на подоконнике. Он взял эту руку и спросил:
– Оксана, на всю жизнь?
Она кивнула головой. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. И, не отрывая взгляда, Оксана сказала:
– Ой, какой же ты, Игорь, тебе, наверное, целоваться хочется!
– Хочется, – прошептал Игорь.
Оксана приблизила к нему плечо и зашептала горячо:
– Нельзя, Игорь, целоваться нельзя, дорогой мой! Если будем целоваться, стыдно будет в колонии жить. Колония ж наша родная ж, наша колония, а мы с тобой, какие мы с тобой люди будем, разве ж можно, чтоб в колонии целовались?
– Один только раз…
Теперь Оксана держала его руку:
– Ой, не надо, миленький Игорь, а кто его знает, как с одного раза будет, а может, потом еще больше захочется.
– Ну, я тебе руку поцелую.
– Поцелуй вот сюда, только один раз, смотри ж, Игорь, один раз…
При фонаре было видно, как она покраснела. Помолчали, дружно глядя в окно, и Оксана опять зашептала:
– Ты сказал: на всю жизнь, так мы еще успеем, хорошо, мой милый? Хорошо? Давай учиться, давай колонии поможем, нехай будет счастливая наша колония, хорошо? А потом поедем в Москву, хорошо? В студенты, родненький мой, в студенты поедем: я на биологический, а ты на какой? Ты, мабудь, на литературный?
На каждое ее «хорошо» Игорь отвечал счастливым, глубочайшим движением души, только слов ему не хватало.
12 Разгром
Приняв дежурство по колонии в десять часов вечера, бригадир первой Воленко сменил часовых в лагере и в вестибюле, проверил сторожей на производственном дворе и у кладовых, прошел по палаткам для порядка и еще раз заглянул в главное здание, чтобы просмотреть меню на завтрашний день. В вестибюле он мельком взглянул на стенные круглые часы и удивился. Они показывали пять минут одиннадцатого.
– В чем дело? – спросил он дневального.
– Остановились. Уже приходил Петров 2-й и лазил туда, сказал – завтра утром исправит.
– А почему не сегодня?
– Он взял запаять что-то…
– А как же завтра с подъемом?
– Не знаю.
Воленко задумался, потом отправился в палатку к Захарову:
– Алексей Степанович, у нас беда – часы испортились.
– Возьми мои.
Захаров протянул карманные часы.
– Ой, серебряные!
– Подумаешь, драгоценность какая – серебро!
– А как же: серебро! Спасибо!
Утро встретило колонистов на удивление свежим солнечным сиянием. Колонисты щурились на солнце и нарочно дышали широко открытыми ртами, а потом все разъяснилось: часы испортились, и Воленко наудачу поднял колонию на полчаса раньше. Воленко был очень расстроен, на поверке приветствовал бригады с каким-то даже усилием. Нестеренко ему сказал:
– Ну что такое: на полчаса раньше. Это для здоровья совсем не вредно.
Но Воленко не улыбнулся на шутку. После сигнала на завтрак, когда колонисты, оживленные и задорные, пробегали в столовую, он стоял на крыльце и кого-то поджидал, рассматривая входящих взглядом. Зырянский пришел из лагеря одним из последних. Воленко кивнул в сторону:
– Алеша, на минутку.
Они отошли в цветник.
– Что такое?
– Часы… пропали… Алексея, серебряные.
– У Алексея?
– Он мне на ночь дал… наши стали.
– Украдены? Ну?!
– Нет нигде.
– Из кармана?
– Под подушкой были…
– А ты… все в столовой? Сейчас же обыск! Идем!
В кабинете Воленко подошел к столу, Зырянский остался у дверей.
– Алексей Степанович! У меня взяли ваши часы.
– Кто взял? Зачем?
Воленко с трудом выдавил из себя отвратительное слово:
– Украли.
Захаров нахмурил брови, помолчал, сел боком:
– Пошутил кто-нибудь?
– Да нет, какие шутки? Надо обыскать.
В кабинет вошли Зорин и Рыжиков. Рыжиков с разгону начал весело.
– Алексей Степанович, Зорин партию столов в город… Я обратно привезу медь.
Зырянский с досадой остановил его:
– Да брось ты с медью! Никто никуда не поедет.
– Почему?
Захаров встал за столом:
– Часы того не стоят. Нельзя обыск. Кого обыскивать?
Воленко ответил.
– Всех!
– Чепуха. Этого нельзя делать.
– Надо! Алексей Степанович!
Рыжиков испуганно огляделся:
– А что? Опять кража?
– У меня… часы Алексея Степановича…
Захаров повернулся к окну, задумчиво посмотрел на цветники:
– Если украдены, никто в кармане держать не будет. Зачем всех обижать?
Зорин шагнул вперед, гневно ударил взглядом в заведующего:
– Ничего! Все перевернуть нужно! Всю колонию! Надоело!
– Обыскивать глупо. Бросьте!
Рыжиков закричал, встряхивая лохмами:
– Как это глупо? А часы?
– Часы пустяшные… Пропали, что ж…
Рыжиков с гневом оглянулся на товарищей:
– Как это глупо? Как это так пропало? Э, нет, значит, он себе бери и продавай, а потом опять будут говорить, что Рыжиков взял, чуть что – сейчас же Рыжиков? До каких пор я буду терпеть?
Зырянский неслышно открыл дверь кабинета и вышел. Часовым сегодня стоял Игорь Чернявин. Зырянский приказал:
– Чернявин, стань на дверях столовой, никого не выпускать?
– Почему?
– Это другое дело – почему. Я тебе говорю.
– Ты не дежурный.
– Э, черт!
Он быстро направился к кабинету, ему навстречу вышел Воленко.
– Прикажи ему стать здесь!
– Я не хочу дежурить!
– Не валяй дурака!
– Я не буду дежурить!
– Идем к Алексею!
Воленко снова остановился перед столом Захарова, над белым воротником парадного костюма его побледневшее лицо казалось сейчас синеватым, волосы были в беспорядке, строгие, тонкие губы шевелились без слов. Наконец он произнес глухо:
– Кому сдать дежурство, Алексей Степанович?
– Слушай, Воленко…
– Не могу! Алексей Степанович, не могу!
Захаров присмотрелся к нему, потер рукой колено:
– Хорошо! Сдай Зырянскому!
Воленко отстегнул повязку, и, против всяких правил и обычаев колонии, она закраснела на грязном рукаве Алешиной спецовки. Но, по обычаю, Захаров поднялся за столом и поправил пояс. Воленко вытянулся перед заведующим и поднял руку:
– Первой бригады дежурный бригадир Воленко дежурство по колонии сдал!
Зырянский с таким же строгим салютом:
– Четвертой бригады дежурный бригадир Зырянский дежурство по колонии принял.
Но как только Захаров сказал «есть», Зырянский опрометью бросился из кабинета. Теперь уже с полной властью он еще издали закричал дневальному:
– Дневальный! Стань на дверях, никого из столовой!
Чернявин увидел повязку на рукаве Зырянского:
– Есть, товарищ дежурный бригадир!
На быстром бегу[269] Зырянский круто повернул обратно.
– Алексей Степанович, я приступаю к обыску.
– Я не позволяю.
– Ваши часы? Потому? Да? Я приступаю к обыску.
– Алеша!
– Все равно я отвечаю.
Захаров поднял кулак над столом:
– Что это такое? Товарищ Зырянский!
Но Зырянский закричал с полным правом на гнев и ответственность:
– Товарищ заведующий! Нельзя иначе! Ведь на Воленко скажут!
Захаров опешил, посмотрел на Воленко, сидящего в углу дивана, и махнул рукой.
– Хорошо!
В двери столовой уже билась толпа. Нестеренко стоял против Чернявина и свирепо спрашивал:
– Черт знает что! Почему, отвечай! Кто нас арестовал?
– Не знаю, дежурный бригадир приказал.
– Воленко?
– Не Воленко, Зырянский.
– А где Воленко?
– Не знаю.
– Арестован?
– Не знаю. Кажется, отказался дежурить.
На Зырянского набросились с подобными же вопросами, но Зырянский не такой человек, чтобы заниматься разговорами. Он вошел в столовую, как настоящий диктатор сегодняшнего дня, поднял руку:
– Колонисты! К порядку!
И в полной тишине он объяснил:
– Товарищи! У Воленко ночью украдены серебряные часы Алексея Степановича. Бегунок!
– Есть!
– Передать в цеха: начало работы откладывается на два часа.
– Есть!
В подавленном, молчаливом отчаянии колонисты смотрели на дежурного бригадира. Неужели он берется спасти колонию от этого затянувшегося оскорбления? Что он может сделать?
Зырянский стал на стул. Было видно по его лицу, что только повязка дежурного спасает Зырянского от безудержного ругательного крика, от ярости и злобы.
– Надо повальный обыск! Ваше согласие! Голосую…
Но ему ответил такой же гнев, такая же неудержимая решимость идти на все.
– Какие там голосования!
– О чем спрашивать!
– Скорее!
– Давай! Давай!
– Замолчать! – закричал Зырянский.
– Бригадиры! Сюда! Четвертая бригада, обыскать бригадиров. Остальные, отступить!
Хоть и все согласились на обыск, а краснели и бригадиры, и члены четвертой бригады, когда на глазах у всей колонии зашарили пацаньи руки в карманах, за поясами, в снятых ботинках. Но молча хмурились колонисты, молча подставляли бока; нужно отвечать всем за того, кто еще не открытый, притаившийся здесь же в столовой, возмущающийся вместе со всеми, – с какой-то черной целью – неужели из-за денег? – регулярно сбрасывал на голову колонии им. Первого мая целые обвалы горя.
Два часа продолжался позор. Зырянский со свирепой энергией разгромил спальни, кладовые, классы, библиотеку, заглянул во все щели и в зданиях и во дворе. В десять часов утра он остановился перед Захаровым, уставший от гнева и работы:
– Нигде нет. Надо в квартирах сотрудников!
– Нельзя!
– Надо!
– Не имеем права, понимаешь ты? Права не имеем!
– А кто имеет право?
– Прокурор. Да все равно, часы уже далеко.
Зырянский закусил губу, он не знал, что дальше делать.
Вечером над разгромленной колонией стояли раздумье и тишина. Говорить было не о чем, да, пожалуй, и не с кем. С кем могла говорить колония им. Первого мая? Ведь в самом теле колонии сидело ненавистное существо предателя.
Колонисты встречались друг с другом, смотрели в глаза, грустно отворачивались. Редко, редко где возникал короткий разговор и терялся в пустоте.
Рыжиков сказал Ножику:
– Это из нашей бригады.
– Из нашей, – ответил Ножик. А кто?
– А черт его знает!
И в восьмой бригаде сказал Миша Гонтарь Зорину:
– А того… Воленко обыскивали?
– Миша! Ты дурак, – ответил Зорин.
– Я не такой дурак, как ты думаешь. Никто ведь не знал, что у Воленко часы.
– Все равно, ты дурак.
Гонтарь не обиделся на Санчо. При таких делах нетрудно и поглупеть человеку.
И в палатке четвертой бригады Володя Бегунок сказал Ване:
– Это не Воленко.
– А кто?
– Это Дюбек.
– Рыжиков? Нет!
– Почему нет? Почему?
– Володя, ты понимаешь? Рыжиков, он вор, ты понимаешь? Он такой… возьмет и украдет. А это, с часами, нарочно кто-то сделал, понимаешь, нарочно!
13 Под знаменем
В июле старики, окончившие десятый класс, начали готовиться к поступлению в вузы. Поэтому и Надежда Васильевна не поехала в отпуск, а осталась работать со «студентами», как их называли колонисты, несколько предупреждая события. Настоящие студенты, поступившие в прошлые годы в разные вузы, человек около тридцати, еще в июне съехались в колонию и поставили для себя три палатки, не с того края, где девочки, а с противоположного. Настоящие студенты хотели работать на производстве, чтобы помочь колонии, но Захаров и совет бригадиров не согласились на это: у студентов была большая трудная работа зимой, а теперь им нужно отдохнуть. Захаров каждого рассмотрел, заставлял и юношей и девушек поворачиваться перед ним всеми боками, некоторым говорил:
– Никуда не годится, дохлятина какая-то, а не студент. Запиши его на усиленное питание!
Студенты возражали:
– Так никогда экономию не сделаете, Алексей Степанович.
– А вот мы тебя откормим, это и будет экономия.
Но студенты нашли для себя кое-какую работу. Иногда они дежурили по колонии, и в таких случаях находился для них и парадный костюм. Другие работали у садовника, третьи помогали Соломону Давидовичу по снабжению, а некоторые занимались с будущими студентами, потому что Надежде Васильевне было одной трудно.
Между прочими готовились в вуз и Нестеренко, и Клава Каширина. Комсомольское бюро постановило освободить Нестеренко и Клаву от обязанностей бригадиров, чтобы у них оставалось время для подготовки.
На общем собрании должны были состояться выборы новых бригадиров пятой и восьмой бригад. И вот тут оказалось, что жизнь вовсе не такая скучная особа, как некоторые думают. Восьмая бригада единогласно выставила своим кандидатом Игоря Чернявина, а пятая бригада – так же единогласно Оксану Литовченко! Игорь никогда не думал, что так близко от него стоит высокий пост бригадира. Когда в восьмой бригаде Нестеренко открыл заседание и предложил называть кандидатов в бригадиры, вся бригада, как будто сговорившись, повернула лицо к Игорю, и Санчо Зорин сказал:
– У нас давно уже решено: больше некому – Игорь Чернявин!
Когда это «давно» было решено, почему об этом Игорь ничего не знал, так и не удавалось выяснить. Игорь с жаром протестовал, протестовал очень искренне, потому что испугался: бригадиру мороки по горло, а дежурить по колонии – благодарю покорно. Воленко уже додежурился, теперь мрачный ходит по колонии, и нужно за ним смотреть. Игорь указал и на Санчо Зорина, и на Всеволода Середина, и на Яновского Бориса, и на старого колониста Михаила Гонтаря, и на Савченко Харитона, и на Данилу Горового, наконец, есть помощник бригадира Александр Остапчин, ему в особенности уместно принять управление восьмой бригадой от Василия.
Нестеренко выслушал слова Игоря спокойно и так же спокойно рассмотрел[270] предложенный им список.
– Санчо горячий очень, ему нельзя быть бригадиров восьмой, он всем нервы испортит, тай годи. Александр Остапчин хороший помощник, это верно, а если бригадиром станет, из-под ареста не вылезет, трепачом был, трепачом и остался. Данило Горовой, конечно, хороший товарищ и колонист, а только пока от него слова дождешься, там всякое дело сбежит, не поймаешь. Яновский будет добрым бригадиром, а только политической установки в нем мало, все больше о своей прическе думает. И Середин будет хорошим бригадиром со временем, пусть подождет, авторитета в колонии еще не завоевал. А что касается Миши Гонтаря, так Миша Гонтарь – шофер, оканчивает курсы завтра и сразу на машину. Его линия уже к концу приходит, и бригадирства с него как с козла молока, хотя, дай Господи, царица небесная, каждому такого хорошего товарища и такого человека хорошего. Рогов – молокосос. Нет, это правильно решила бригада – Игорь Чернявин бригадир, да и какого нам нужно рожна: и мастер хороший, и комсомолец на отлично, и общественник. Только ты, Игорь, держи бригаду спокойной рукой, любимчиков чтобы не было, на помощника особенно не полагайся. Бригадир должен быть веселый и все видеть, и не париться без толку, и не трепаться лишнее. И рука должна быть крепкая, власть – это тебе не пустяк, как там ни говори, а все равно Советская власть. Скажем, приезжал к нам Эррио – французский министр. А я дежурил по колонии. Вот ты сообрази: я – дежурный по колонии, а за моей спиной кто? Весь Союз! Наври я что-нибудь, не так сделай, никто не скажет – Нестеренко виноват, а скажут: видишь, как у них в Союзе плохо все делается. Я и то заметил – за Эррио этим целая куча ходит, так и смотрят, так и смотрят. Нет, Игорь, власть бригадира должна быть крепкая. А что касается дежурного бригадира, так и говорить нечего. Ты забудь, какой там у тебя природный характер: может, ты добрый, а может, мягкий, а может, ленивый или забывчивый. Нет, если повязку надел, забудь, какой ты там есть: ты отвечаешь за колонию; Воленко вон на что добрый человек, а в дежурстве у него не покуришь. На что я – старый друг Воленко, пришли в колонию вместе, полтора года спали на одной постели, когда бедно было, а смотри: один раз я подошел к нему и спросил насчет обеда что-то, а он это посмотрел на меня так… прямо, как собака, и голос у него такой… «Товарищ Нестеренко, не умеешь говорить с дежурным бригадиром! Приставь ногу, чего ты танцуешь!» Я сначала даже не понял, а потом и одобрил: правильно, дежурный бригадир служит целой колонии, и баста! Эх, Воленко, Воленко! Хороший какой колонист, а пропал, ни за копейку пропал! И бригада первая – уже не бригада! Видишь, виноват тут, собственно говоря, Воленко: всем верит, все у него хорошие, всех защищает, вот и посадили бригаду. Безусловно, вор в бригаде, а думать не на кого, и сам Воленко ничего не знает.
В комсомольском бюро кандидатуру Игоря поддержали так же единодушно, как и в бригаде. А когда наступило общее собрание, так только и было ответа, что аплодисменты, взял слово один Зырянский:
– Такие бригадиры, как Нестеренко, редко, конечно, встречаются, разве вот из Руднева вырастет такой же. Но и Чернявин хороший материал для бригадира. Вопрос, как его бригада выдержит: чтобы не распустился, не зазнался, не заленился, не заснул. Но восьмая бригада – старая бригада, нужно будет – поможет. А что касается Оксаны Литовченко, так это, прямо скажу – находка. Предлагаю голосовать за Оксану и Игоря!
Ни одна рука в собрании не поднялась против предложенных бригадами кандидатур. И сейчас же после этого дежурный бригадир подал команду:
– Под знамя встать, смирно! Салют!
Игорь и не видел, что возле бюста Сталина давно уже стоят шесть трубачей и четыре малых барабана. Это они развернули перед собранием торжество знаменного салюта, и Ваня Гальченко теперь уже знал, в чем настоящая его прелесть: знаменный салют – это сигнал на работу, оркестрованный старым дирижером Виктором Денисовичем.
Когда знаменная бригада выстроилась против бюста Сталина, вышел к знамени[271] Захаров и Игорь понял, что он должен делать. Рядом с ним стояла Оксана – рядом с ним! Это было счастливое предзнаменование: под нарядным, таинственно священным красным стягом они действительно рядом начинают свой прекрасный жизненный путь! И как это шикарно, как это очаровательно[272] – они начинают его с трудной и почетной службы славному коллективу первомайцев! Игорь не умел плакать, и поэтому слезы кипели у него в сердце, а у Оксаны – честное слово, у Оксаны слезы были в глазах, ах, какие все-таки эти женщины! Да что – женщины, если старый бригадир Нестеренко и тот чего-то моргает и моргает, а рапорт Захарову отдал тихо и с хрипом:
– Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии им. Первого мая Игорю Чернявину сдал в полном порядке!
О, нет! Игорь Чернявин имеет больше оснований волноваться, чем Нестеренко, но он отдаст рапорт весело и звучно, как и полагается бригадиру. И действительно, Игорь показал всем, как нужно рапортовать заведующему. Звонко-звонко, с радостным и строгим лицом, подняв руку на уровень лба, сказал Игорь Чернявин под знаменем:
– Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии им. Первого мая от колониста Василия Нестеренко принял в полном порядке!
Потом передавали пятую бригаду. Конечно, у этих девочек столько нежности в голосе, у Клавы столько серебра, у Оксаны – столько теплоты и волнения, что тягаться с ними невозможно! И все-таки у них, у девчат, это был не настоящий рапорт, а так… разговор по душам с заведующим, уместный больше наедине, в кабинете, чем в торжественном зале под бархатным знаменем перед двумястами строгих, замерших в салюте колонистов.
14 Дела серьезные
Только первая бригада продолжала молчаливо корчиться в страдании действительно невыносимом. Кто-то в колонии, может быть нарочно, придумал: часы взяли не колонисты, просто часовой прикорнул перед рассветом, а мало ли народу ходит во дворе. Но этой версии никто не верил, и первая бригада верила меньше всех. В бригаде вдруг стали жить единоличным способом. У каждого находились свое дело и свои интересы: кто в вуз готовится, у кого начинаются матчи, Левитин не выходил из библиотеки, Ножик всегда торчал в четвертой бригаде и, наконец, подал в совет бригадиров заявление о переводе к Зырянскому. Трудно было разбирать такое заявление, и Торский отнесся к делу формально: спросил у Воленко, спросил у Зырянского, получил ответы, что возражений нет, и Ножик в тот же вечер перебрался к Алеше.
Члены первой бригады приходили в палатку поздно и молча лезли под одеяла, а утром встречали дежурство с хмурой серьезностью и сурово отвечали на приветствие дежурного бригадира:
– Здравствуй!
Но так было в первой бригаде. Вся остальная колония жила полной жизнью, и для этой жизни хватало радости. На новом заводе кое-где[273]стояли уже станки на фундаментах, в новой, огромной литейной монтировали вагранку для литья чугуна, а тигель для меди давно уже поместился в кирпичной яме. Многие колонисты начали уже примериваться к новым рабочим местам, в комсомольском бюро шли закрытые заседания по вопросу о кадрах. Говорили, что Воргунов прежнюю гнет линию: «Колонисты не справятся с таким производством». За это на Воргунова злобились, Воргунов с колонистами никогда не вступал в беседу, но колонисты знали каждое его слово, даже не относящееся к заводу.
В колонии жило несколько десятков сотрудников: учителей, учетных работников, мастеров, служащих, теперь к ним прибавились инженеры и техники. Дом ИТР стоял далеко за парком, и колонисты бывали там редко, но очень хорошо знали жизнь этого дома, прекрасно изучили характер каждой семьи, были осведомлены о ее горестях, радостях, согласиях и ссорах. Молодые инженеры Комаров и Григорьев еще не сталкивались с колонистами в деле, но многие особенности их характеров и деловых качеств были уже нанесены на неписаные личные карточки. Комаров был человек серьезный, скупой на слово, большой работяга, человек с достоинством и гонором, но в то же время и душевный, без пристрастия заинтересовавшийся колонией и колонистами. Кроме того, он влюбился в учительницу – комсомолку Надежду Васильевну. Григорьев колонистам не мог нравиться. Самая его внешность почему-то вызывала сомнения, хотя, казалось бы, ничего неприятного в его внешности нельзя было найти: он носил полувоенный костюм, который мог бы очень соответствовать колонистскому стилю и все-таки не соответствовал. Колонисты на третий день прозвали его так: «Очки, значки и краги». Действительно, все это у него было, и значки отнюдь ничего позорного в себе не заключали, обыкновенные значки: осоавиахимовские, мопровские, а один из значков изображал земной шар, очевидно имеющий какое-то отношение к Григорьеву. Григорьев не любил колонистов[274], может быть, это он настраивал и Воргунова, хотя именно у Воргунова он еще ни разу не заслужил доброго слова. В старом здании школы была выделена[275] группа комнат, где[276] до поры до времени помещалось управление новым заводом. Окна в этих комнатах были открыты, и колонисты часто слышали, как попадало Григорьеву от Петра Петровича. Кроме того, Григорьев тоже был влюблен в Надежду Васильевну. Еще не было известно, в кого влюбится Надежда Васильевна, для колонистов было бы приятнее, если бы она влюбилась в Комарова. Любовь, конечно, дело далеко не простое, в самой колонии любовь и всякие поцелуи были решительно запрещены. Предание утверждало, что такое запрещение было вынесено когда-то очень давно общим собранием. С тех пор прошло так много лет, что уже ни одного участника этого общего собрания в колонии не было, но все хорошо знали, что такое постановление было, всегда свято соблюдалось, значит, и дальше его нужно так же свято соблюдать. Это историческое постановление имело не только практический смысл. В известной мере оно проливало теоретический свет на вопросы любви[277], лучи этого света невольно падали и на любовь двух инженеров. Тут получалась картина сложная, сложная еще и потому, что и Воргунов в нее впутался. Отсюда видно, что как Воргунов ни старался отделить себя от колонистов, а это ему не вполне удавалось.
К сожалению, все события в этой сфере не имели определенных форм, о них трудно рассказать, а колонист Самуил Ножик рассказывал об этом так: стоял утром в вестибюле на дневальстве, а вечером, в палатке четвертой бригады, когда все уже лежали в постелях и только бригадир Алеша заканчивал дежурство по колонии. Ножик рассказывал:
– Я стою на часах, а Надежда Васильевна пришла и давай читать книжку и все меня спрашивает, приходил Соломон Давидович или не приходил. Я говорю: не приходил еще, а скоро, наверное, придет. Она сидит и все читает и читает. А потом пришел Комаров. Здравствуйте, здравствуйте! А чего он пришел, кто его знает. А потом говорит Надежде Васильевне: мне нужно с вами поговорить. Понимаете, ему нужно! А Надежда Васильевна сказала: поговорите раньше с западным вокзалом, узнайте, когда из Москвы приходит вечерний поезд. Он звонил, звонил, а она все недовольна и недовольна. А потом он перестал звонить, сел на диван и опять начал: мне нужно с вами поговорить. Она и спрашивает: о чем? А он и отвечает: об одной вещи, ха, да, об одной вещи! И надо ж вам такое дело: тут Воргунов ка-ак войдет, ой, ой, ой! А Надежда Васильевна – о, она храбрая – сейчас же к нему: Петр Петрович, Петр Петрович, вы знаете, сегодня колонисты на культпоход идут. А он говорит: а вы знаете, сверлильные поставили черт знает где? Ох! И строгий же, черт! А Надежда Васильевна ничуть не испугалась, мне, говорит, дела никакого нет до ваших сверлильных, а он говорит, а мне никакого дела нет до ваших нежностей. О! А потом взял и давать Комарова есть: нечего вам тут разговаривать об одной вещи, так и сказал, об одной вещи, а идите и поправляйте, потому что это животное – так и сказал, животное – сверлильные сволок на фундаменты для шлифовальных! Это он про Григорьева. И он потащил Комарова, не успел тот, понимаете, об одной вещи. И только они ушли, тут на тебе: «Значки, очки и краги» пришел и так это к Надежде Васильевна: здрасьте, здрасьте, я вам билет достал, и еще так сказал: на «Федора Ивановича»[278] какого-то. Только он это с билетом, как опять Воргунов! Во! Вот была полировка, так да! Григорьев, это виль-виль, туда-сюда, да куда ж ему отвертеться? Почему опаздываете? Почему сверлильные сволокли на шлифовальные? Это вредительство! Это идиотство! Черт бы вас побрал! А Григорьев, что ему делать, при Надежде Васильевне такие слова! Он говорит: Петр Петрович, нельзя же, нельзя так ругаться при посторонних. А Петр Петрович ка-ак закричит: к чертовой матери посторонних! Вас ожидают на заводе, а вы здесь с посторонними! Так значки как дернет, только пыль столбом! Во! Прогнал! Прогнал и говорит Надежде Васильевне, только так говорит, вежливо: вы меня простите, вы меня, пожалуйста, извините, а только через вас все молодые инженеры испортились. Через вас испортились. О! А Надежда Васильевна будто и не понимает: разве испортились, да не может быть! А что ж теперь делать? А Воргунов: как что делать, вы сами должны знать, что делать! Надежда Васильевна и сказала на это: я уже догадалась, догадалась: их нужно пересыпать нафталином. Ой-й-й! (Ой-й-й! – закричала, конечно, вся четвертая бригада, ноги ее задрались высоко над одеялами.)
– А дальше? – спросил кто-то, когда овация закончилась.
– А дальше Воргунов видит, что не его берет, так он рядом сел, вытер свою лысину и так даже печально говорит: у нас, у русских, неправильно, а надо так правильно: чтобы было видно – здесь любовь, а здесь дело, говорит, чтобы было разделение, понимаете, разделение. А то, говорит, у нас любовь и тут же тебе, как это он сказал, ага: любовь и тут же тебе это… политика должна быть, политика. Это у русских, а еще говорит: дело нужно делать, а они любви намешают, намешают и на свидание бегают, а дело, говорит, дохнет. Вычитал, вычитал. Надежда Васильевна обещала: теперь не буду с инженерами о любви говорить, а только буду про фрезы, про болванки, про вагранку.
– И все?
– Нет, не все. Воргунов на это не согласился. Даже обиделся немного: не нужно про болванку, не нужно! Разговаривайте про соловьев и про воробьев, а про болванку не нужно, не ваше дело. Он был все недоволен.
– И все?
– Это все. А дальше уже неинтересно. Пришел Соломон Давидович, а Надежда Васильевна сказала ему: хотите билеты на «Федора Ивановича»? А Соломон Давидович сказал: не нужно таких билетов, я и так знаю, он зарезал царевича Дмитрия, а я не люблю такого: с какой, говорит, стати взять и зарезать мальчика, это, говорит, если человек серьезный, так он никогда такого не сделает, чтоб мальчика зарезать. Производство, говорит, – это другое дело. И он не захотел билетов.
Любовь захватывала колонию с другого края. Шофер Петька Воробьев и Ванда снова начали попадаться на скамейках парка в трогательном, хотя и молчаливом уединении. Молчаливость, впрочем, не была в характере Ванды. Ванда сильно выросла и похорошела в колонии и целый день где-нибудь щебетала: то в цехе, то в спальне, то в столовой. Еще весной она вступила в комсомол, но комсомольское бюро было недовольно Вандой, она плохо выполняла порученную ей нагрузку по работе среди детей сотрудников. Только когда в колонию приехала группа польских коммунистов, вырученных Советской властью из тюрем Польши, Ванда очень оживилась, выпросила у бюро, чтобы ей поручили организовать ужин для гостей и колонистов, и с этой задачей блестяще справилась: ужин был богатый, вкусный, блестел чистотой и цветами, и гости, очень тепло принятые колонистами, в особенности благодарили хозяйку ужина Ванду Стадницкую. А Ванда сказала им:
– Я – полька, а смотрите, как мне хорошо здесь. У нас всем хорошо, и русским, и украинцам, и евреям, у нас и немец есть, и киргиз, и татарин. Видите?
Когда же гости уехали, Ванде пришлось утешать младших девочек: Любу, Лену и других. Они выбрали из гостей самого худого, очень за ним ухаживали, старались получше угостить, а потом они узнали, что этот самый худой – член местного городского Мопра, и были очень расстроены, даже плакали в спальнях. Ванда сумела их утешить и объяснить, что дело вовсе не в худобе. Ванду любили в колонии и девочки и мальчики, и всем было очень не по себе, когда все чаще и чаще начали встречать ее с Петром Воробьевым. Зырянский уже хотел поговорить с Петром, но события в колонии были так серьезны, что Алеше некогда было думать о Петре Воробьеве. В заседании совета бригадиров Торский развернул бумажку и сказал:
– Есть заявление: «В совет бригадиров. Прошу меня отпустить домой, так как мать моя, в Самаре, очень нуждается и просит меня приехать. Воленко».
В совете тишина. Головы опущены. Воленко стал у дверей, тонкий и строгий, опустил красивую голову. Торский подождал и спросил тихо:
– Кто по этому вопросу?
Захаров сказал:
– Я хочу несколько вопросов Воленко. Что с матерью?
– Она… нуждается.
– Ты раньше получал от нее письма?
– Получал.
– Раньше ее положение было лучше?
– Да.
– А что теперь случилось?
– Ничего особенного не случилось… но мне нужно к ней поехать.
– Но ведь ты перешел в десятый класс.
– Что ж… придется отложить.
Воленко отвечает сухо, только из вежливости поднимает голову, смотрит на одного Захарова, и снова чуть-чуть склоняет ее.
И снова тишина, и снова Торский безнадежно предлагает говорить.
Наконец услышали Филькин дискант:
– А письмо от матери он может показать?
Воленко вкось взглянул на Фильку:
– Что я, малыш или новенький? Письмо я буду показывать!
– Бывает разное… – начинает Филька, но Воленко перебивает его. Немножко громче, чем следует, но совершенно спокойно, совершенно уверенно и совершенно недружелюбно он говорит совету бригадиров.
– Чего вы от меня хотите? Я вас прошу отпустить меня домой, потому что мне нужно. Разрешение бюро имеется.
Марк подтвердил:
– Бюро не возражает.
Торский еще осмотрел совет. Сжалился над ним Илья Руднев, по молодости, наверное:
– Странно все-таки, чего тебе домой приспичило. Дом какой-то завелся, то не было этого самого дома…
Воленко с последним усилием сдержал себя.
– Голосуй уже, Торский!
– Дай слово!
– Говори!
И Зырянский сказал хорошие слова, но сказал, избегая встречаться взглядом с Воленко:
– Чего ж тут думать? Воленко хороший колонист и товарищ. Не верить ему нельзя. Если он говорит, значит, нужно. Мать нельзя бросать. Пускай едет, надо его выпустить, как полагается для самого заслуженного колониста: полное приданое, костюмы, белье, из фонда совета бригадиров выдать по высшей ставке – пятьсот рублей.
И больше никто звука не проронил в совете, даже Зорин, даже Нестеренко, старый друг Воленко.
Торский сделался суровым, нахмурил брови:
– Голосую. Кто за предложение Зырянского?
Подняли руки все, только Филька, хоть и не имел права голоса в совете, а сказал сердито:
– Пусть покажет письмо.
Воленко быстро поднял руку в салюте, сказал очень тихо «спасибо» и вышел. В совете стало еще тише. Зырянский положил руки на раздвинутые колени, смотрел пристально в угол, и у него еле заметно шевелились мускулы рта, оттого что он креп сжал зубы. Нестеренко склонил лицо к самым ногам, может быть, у него развязалась шнуровка на ботинке. Руднев покусывал нижнюю губу, Оксана и Лида Таликова забились в самый угол и царапали пальцами одну и ту же точку на диванной обивке. Один Чернявин, новый бригадир восьмой, оглядел всех немного удивленным взглядом хотел что-то сказать, но подумал и увидел, что сказать ничего нельзя.
Вечером Захаров вызвал к себе Воленко. Он пришел такой же отчужденный и вежливый. Захаров усадил его на диван рядом с собой, помолчал, потом с досадой махнул рукой:
– Нехорошо получается, Воленко. Куда ты поедешь?
Воленко смотрел в сторону. На его лице постепенно исчезла суровая вежливость, он опустил голову, произнес тихо:
– Куда-нибудь поеду… Союз большой.
Он вдруг решительно повернул лицо к Захарову:
– Алексей Степанович! Алексей Степанович!
– Говори! Говори!
– Алексей Степанович! Нехорошо получается, вот это самое главное. Думаете, я ничего не понимаю? Я все понимаю: пускай там говорят, а может, сам Воленко взял часы! Пускай говорят! Я знаю: старики так не думают… а может, и думают, это все равно. А только… почему в моей бригаде… такая гадость! Почему? Первая бригада! У нас… в колонии… такое время… такая работа! И везде… везде люди как теперь работают. А что же получилось? Или Левитин, или Рыжиков, а может, и Воленко, а может, Горохов, а может, вся бригада из воров состоит… И все в моей бригаде, все в моей бригаде. Думаете, этого ребята не видят? Да? Все видят. Я дежурю, а на меня смотрят… и думают: тоже дежурит, а у самого в бригаде что делается. Не могу. Я, значит, виноват…
Воленко говорил тихо, с трудом, каждое слово произносил с отвращением, страдал и морщился еле заметно.
– Нельзя… нельзя мне оставаться. Товарищи, конечно, ничего не скажут и не упрекнут, потому что… и сами не знают… А понимаете… чувство, такое чувство! Вы не бойтесь, Алексей Степанович, не бойтесь. Я не пропаду. А может, иначе буду теперь… смотреть. Вы не бойтесь…
Захаров молча сжал руку Воленко выше локтя и поднялся с дивана. Подошел к стулу, погладил его лакированную боковинку:
– Так… я за тебя не боюсь. В общем правильно. Человек должен уметь отвечать за себя. Ты умеешь. Правильно. Это… очень правильно! В общем, ты молодец, Воленко. Только не нужно мучиться, не нужно… Все!
На другой день Воленко пришел проститься к Захарову. Он был уже в пальто с деревянной некрашенной коробочкой под мышкой.
– Прощайте, Алексей Степанович, спасибо вам за все.
– Хорошо. Счастливо тебе, Воленко, пиши, не забывай колонию…
Захаров пожал руку колониста. По-прежнему стройный и гордый, Воленко глянул в глаза Захарову и вдруг заплакал. Отвернулся в угол, достал носовой платок и долго молча приводил себя в порядок. Захаров отвернулся к окну, уважая мужество этого мальчика. Неожиданно Воленко вышел, сверкнув в дверях последний раз некрашенной деревянной коробкой.
Его никто не провожал. Он шел по дороге один. Только, когда он подходил к лесу, за ним стремглав полетел Ваня Гальченко. Он нагнал Воленко уже в просеке и закричал:
– Воленко! Воленко!
Воленко остановился, оглянулся недовольно:
– Ну?
– Слушай, Воленко, слушай! Ты не обижайся. Только просьба, одна просьба:[279] Дай нам твой адрес, только настоящий адрес!
– Кому это нужно?
– Нам, понимаешь, нужно, нам, четвертой бригаде, всей четвертой бригаде. И еще Чернявину, и еще другим.
– Зачем?
– Очень нужно! Дай адрес. Дай! Вот увидишь!
Воленко внимательно посмотрел в глаза Вани и слабо улыбнулся:
– Ну хорошо.
Он полез в карман, чтобы найти, на чем написать адрес. Но Ваня закричал:
– Вот, все готово! Пиши!
У Вани в руках бумажка и карандаш.
Через минуту Воленко пошел через просеку к трамваю, а Ваня быстро побежал в колонию. В парке его поджидала вся четвертая бригада.
– Ну что? Дал?
– Дал. Только он не в Самару поехал. Не в Самару. Он в Полтаву поехал… В Полтаву, и все!
15 Мещанство
Вестибюль – это не просто преддверие главных помещений колонии. В вестибюле было очень просторно, нарядно, и украшали его цветы, и украшал его часовой в парадном костюме. В вестибюле стояли мягкие диванчики, и на них хорошо было посидеть, подождать приятеля. Для этого[280] лучше места не было, так как в вестибюле пересекались все пути колонистов. Через него шли дороги к Захарову, в совет бригадиров, в комсомольское бюро, в столовую, в клубные комнаты и театр. И раньше, чем попасть туда, каждый хоть на минуту задерживался в вес тибюле, чтобы поговорить со встречным, а поговорить всегда было о чем. В таком случайном порядке однажды утром собрались[281] в вестибюле Торский, Зырянский и Соломон Давидович. Последним пришел шофер Петро Воробьев и сказал:
– Здравствуйте.
Зырянский кивнул в ответ, но слова произнес, не имеющие никакого отношения к приветствию:
– Слушай, Петро, я с тобой уже разговаривал, а ты, кажется, наплевал на мои слова.
В этот момент вбежал в вестибюль бригадир девятой Похожай. Похожай страшный охотник до всяких веселых историй, и поэтому его заинтересовали слова Зырянского:
– Это кто наплевал на твои слова? Петька? Это интересно!
– Он наплевал, как будто я ему шутки говорил. Чего ты пристал к девочке?
Воробьев начал оправдываться.
– Да как же я пристал?
– Ты здесь шофер и знай свою машину. Рулем крути сколько хочешь, а голову девчатам крутить – это не твоя квалификация. А то я тебя скоро на солнышке развешу.
Соломон Давидович с мудростью, вполне естественной в его возрасте, попытался урезонить Зырянского:
– Послушайте, товарищи! Вы же должны понимать, что они влюблены.
– Кто влюблен? – заорал Зырянский.
– Да они: Воробьев и товарищ Ванда. А почему им не влюбиться, если у них хорошее сердце и взаимная симпатия?
Зырянский с удивленным гневом вытаращился на Соломона Давидовича:
– Как это «влюблены»? Как это «сердце»! Вот еще новости! Я тоже влюблюсь, и каждому захочется! Ванде нужно школу кончать, а тут этот принц на нее глаза пялит! Эти соображения Зырянского были так убедительны, что Витя Торский вышел наконец из своего нейтралитета:
– Действительно, Петро, ты допрыгаешься до общего собрания.
Перед лицом этой угрозы Воробьев даже побледнел немного, но не сдался:
– Странные у вас, товарищи, какие-то правила: Ванда взрослый человек и комсомолка тоже. Что же, по-вашему, она не имеет права?..
Все, что говорил и мог говорить Воробьев, вызывало у Алеши Зырянского самое искреннее возмущение:
– Как это – взрослый человек! Она колонистка! Права еще придумал!
Торский более спокойно пояснил влюбленному:
– Выходи из колонии и влюбляйся сколько хочешь. А так мы колонию взорвем в два счета.
Зырянский смотрел на Воробьева, как волк на ягненка в басне.
– Вас много найдется охотников с правами!
Соломон Давидович слушал, слушал и тоже возмутился:
– Но если бедная девушка полюбила, так это нужно понять!
Зырянский и Соломону Давидовичу объяснил:
– Они только этого и ждут, до чего вредный народ…
– Кто это?
– Да влюбленные! Они только и ждут того, чтобы их поняли. Ах, ах, как жалко, как жалко: влюбились. Это вредный народ! Тут у нас завод строится, план какой трудный, станки разваливаются, с Воленко, смотрите, что получилось, а им что? Они себе целуются по закоулкам. Целуешься, Воробьев? Говори правду!
– Да честное слово…
– Целуются, им наплевать. И до чего нахальство доходит, еще в глаза смотрят, мы их должны понимать! Жалеть! Ах, они влюбились!
Соломон Давидович рассмеялся:
– И они правы, к вашему сведению. Это же довольно трудная операция – если человек влюбится.
Воробьев грустно опустил голову. Зырянский еще раз сказал:
– Так и знай, будете стоять на середине: ты и Ванда.
И убежал вверх по лестнице.
Похожай добродушно положил руку на плечо вюбленного:
– Ты, Петр, с ними все равно не сговоришься. Это, понимаешь ты, не люди, а удавы. Ты лучше умыкни!
– Как это?
– А вот, как раньше[282] делалось: умыкни! Раньше, это, значит, поведут лошадей к задним воротам, красавица, это, выйдет, а такой вот Петя, который втрескался, в охапку ее и удирать.
– А дальше что? – спросил Торский.
– А дальше… мы его нагоним, морду набьем, Ванду отнимем. Это очень веселое дело!
Соломон Давидович проект Похожая выслушал с улыбкой:
– Зачем ему на лошадях умыкивать? Это совсем старая мода. У него же машина. И на чем вы его догоните? Другой же машины нету. И они вполне в состоянии прямо в загс! И покажут вам на общем собрании справку, вы еще салютовать будете как миленькие. В это время прибыли в вестибюль новые персонажи, и Соломон Давидович произнес более прозаические слова:
– Однако глупости побоку. Едем, товарищ Воробьев, а то плакали наши наряды.
Продолжение этого разговора произошло через неделю. Был выходной день. Вся колония культпоходом ходила на «Гибель эскадры»[283]. Возвратились к позднему обеду, часов в пять вечера. Колонистам очень понравилась пьеса, а кроме того, вообще было приятно промаршировать через город со знаменем, с оркестром, в белых костюмах. И Захаров возвратился повеселевшим, и Надежда Васильевна смеялась и шутила, как девочка, – в общем, вышел прекрасный выходной день. Когда разошелся строй, все колонисты побежали по спальням переодеваться, умываться, готовиться к обеду. А в вестибюле скучал одинокий дневальный Новак Кирилл, который очень любил театр и которому из-за дневальства пришлось остаться без культпохода. В этот самый момент в открытые двери заглянул Петр Воробьев, испугался строгого вида дневального и грустно отвернулся к цветникам. Только через две минуты из вестибюля вылетел, уже в трусиках, Ваня Гальченко.
– Ваня, голубчик, иди сюда, – позвал Воробьев.
Ваня остановился:
– А тебе чего? Наверное, Ванду позвать?
– Ванюша, дорогой, позови Ванду!
– А покатаешь?
– Ну а как же, Ваня!
– Есть, позвать Ванду!
– Да чего ты кричишь?
– Товарищ Воробьев, все равно все знают. Я позову, позову, не бойся!
Ваня полетел вверх по лестнице, а Петр Воробьев остался рассматривать цветники. Ванда выбежала в цветник в белом платье, румяная, красивая, все как полагается. Воробьев зашептал трагическим голосом:
– Ванда, знаешь что?
Оказалось, впрочем, что несмотря на свою красоту, в белом платье, Ванда тоже страдает:
– У меня в голове такое делается! Ничего не знаю! Уже все хлопцы догадываются. Прямо не знаю, куда и прятаться.
Воробьев сложил руки вместе и приложил их к груди:
– Ванда, едем сейчас ко мне!
– Как это так?
– Прямо ко мне домой!
– Да что ты, Петр!
– Ванда! А завтра в загс, запишемся, и все будет хорошо!
– А здесь как же? А завод?
– Ванда! Разве ж Захаров тебя бросит или что? Едем!
– Ой! А ребята как?
– Да… черт… никак! Просто едем! Честное слово, хорошо. Мне ребята и посоветовали.
– Ну!
– Это… честное слово.
– Да они же прибегут за мной!
– Куда там они прибегут! Они даже не знают, где я живу. Едем!
– Вот… как же это? А я в белом платье!
– Ванда. Самый раз. На свадьбу всегда в белом полагается. И мать будет рада, она уже все знает…
Ванда приложила к горячей щеке дрожащие пальцы:
– А знаешь, Петя, верно! Ой, какой ты у меня молодец!
– Чудачка! Ведь шофер первой категории!
– А увидят?
– Вандочка! Ты же понимаешь, на машине, кто там увидит?
– Сейчас ехать?
– Сейчас!
– Ой!
– Ну, скорей, вон машина стоит, садись и…
– Подожди минуточку, я возьму белье и там еще что…
– Так я буду ожидать. А ты им записочку оставь. Все-таки знаешь… ребята хорошие.
– Записочку!
– Ну да. Они, как там ни говори, а смотри, какую красавицу сделали. Напиши так, знаешь: до скорого свидания и не забывайте.
– Напишу.
Ванда убежала в здание, а Воробьев остался в цветнике, и его томление распределилось теперь между несколькими пунктами: между Вандой, которую нужно ожидать, между полуторкой, которая сама ожидала их, и между Зырянским, которого ожидать не следовало, но который всегда мог появиться в самую ответственную минуту.
В это время очень близко, в вестибюле, молодой инженер Иван Семенович Комаров находился также в положении ожидающего. Во всяком случае Зырянский, выглянувший из столовой задал такой вопрос:
– Вы кого-нибудь здесь ожидаете? Или позвать можно?
Инженер Комаров ответил в том смысле, что он никого не ожидает и звать никого не нужно, но в словах Зырянского он почувствовал совершенно излишнюю откровенность и грустно отвернулся к открытым дверям наружу. В двери было видно, как шофер Воробьев наслаждается цветником, но инженер Комаров не обратил на него внимания. Зато Алеша Зырянский увидел и шофера Воробьева, и лицо Ванды, вдруг мелькнувшее на верхней площадке лестницы и немедленно исчезнувшее. И Алеша Зырянский сказал возмущенным голосом:
– О! Влюбленные уже забегали! Никакого спасения!
Инженер Комаров густо покраснел и все-таки нашел в себе силы обратиться к Зырянскому с холодным вопросом:
– Товарищ колонист! Я вас не понимаю!
Занятый своими наблюдениями, Зырянский ответил с некоторой досадой:
– Влюбленные! Что ж тут непонятного!
Комаров почувствовал незначительный озноб от простоты Алешиного объяснения, но Алеша и дальше объяснил:
– Если им волю дать, этим влюбленным, жить нельзя будет. Их обязательно ловить нужно.
Трудно предсказать, чем мог окончиться этот разговор, если бы не вошла в вестибюль Надежда Васильевна. Она тоже разрумянилась в походе и тоже была в белом платье, все как полагается. Кроме того, она была в хорошем настроении.
– Алеша все влюбленных преследует. Если вы влюбитесь, Иван Семенович, старайтесь Алеше на глаза не попадаться. Заест.
Зырянский смущенно улыбнулся и сказал, уходя в столовую:
– Влюбляйтесь, не бойтесь.
– Я вас ожидаю, – сказал Комаров.
Надежда Васильевна села на диванчик и подняла к инженеру лукавое лицо.
– А для чего я вам нужна? Насчет инструментальной стали?
– Как?
– А может, вам нужно знать мое мнение об установке диаметрально-фрезерного «Рейнеке-Лис»?
– Вы все шутите, – произнес инженер, очевидно, намекая на то, что есть на свете и серьезные вещи.
– Я не шучу. Но я имею разрешение говорить с молодыми инженерами только о воробьях и соловьях.
– От кого разрешение?
– От вашего Вия.
– От Вия? Кто это, позвольте…
– Это у Гоголя, Иван Семенович, в одной производственной повести говорят: «Приведите Вия!» – это значит: пригласите самого высокого специалиста. У вас тоже есть такой Вий.
– Ах, Воргунов!
– Так вот… Вий распорядился, чтобы с молодыми инженерами я говорила только о разных птичках.
– Распорядился? Не может быть!
– Как «не может быть»? Если я говорю, значит, так и было. Это потому, что молодые инженеры оказались скоропортящимися. Ужасное качество: вас можно перевозить только скорыми поездами вместе с другими скоропортящимися предметами: молоком, сметаной.
Кирилл Новак с большим любопытством слушал этот разговор. Больше всего ему понравилось, что Воргунов похож на Вия. Кирилл Новак недавно прочитал повесть о Вие, и теперь стало ясным, что Воргунов действительно похож на Вия. Кирилл Новак с увлечением представил себе, как он расскажет о таком открытии четвертой бригаде, но в этот момент произошли события, способные дать еще более богатый материал для сообщения четвертой бригаде. Сверху быстро сбежала Ванда с порядочным узелком в руках и, еле-еле выговаривая слова, обратилась к Надежде Васильевне:
– Надежда Васильевна, миленькая, передайте эту записочку с Торскому.
– А ты куда это с узелком?
– Ой, Надежда Васильевна, уезжаю!
– Куда?
– Уезжаю! Совсем! Говорить даже стыдно: к Пете уезжаю!
Ванда чмокнула Надежду Васильевну и выбежала из вестибюля. Только теперь Кирилл Новак понял, какое событие разыгралось перед его глазами, и заорал благим матом в столовую:
– Алеша! Алеша! Ванда…
Зырянский вырвался из столовой, но было уже поздно. Он видел, как тронулась в путь полуторка, и мог только сказать:
– Ах ты… уехала, честное слово, уехала! Она с узелком была? Да?
– С узелком. Да вот записка к Торскому.
– Записка? Все, как в настоящем романе! Вот мещане! Ах ты, черт!
«Торский, я люблю Петю и уезжаю к нему и выхожу замуж. Спасибо колонистам за все. До скорого свидания».
– Вот я покажу свиданье! И этому «Пете» покажу!
16 Бригадир первой
Заметно или незаметно, а пришел август, такой самый август, как и в прошлом году. Уже холодно стало спать в палатках в некоторые ночи, но Захаров тоже спал, и неудобно было поднимать вопрос о переходе в здание, а то Захаров еще скажет, как это было раньше в подобных случаях:
– Если холодно, можно ватой вас обложить, тогда будет теплее…
В прошлом году август был счастливым месяцем, это Ваня хорошо помнит, и в этом году все было еще лучше приспособлено для счастья, если бы не первая бригада.
Первая бригада! Первая бригада выбрала вместо Воленко бригадиром Рыжикова! Они думали, в первой бригаде: вот они выберут Рыжикова, а никто ничего не заметит. Как же это можно не заметить, если каждый вечер только и разговору было в четвертой бригаде, что об этих самых выборах. Разговаривали больше пацаны. Алеша Зырянский слушал с хмурым выражением, задумывался. Было о чем задумываться. Что такое сделать с колонистами, что случилось в комсомоле, почему Захаров все соглашается и соглашается. Почему первая бригада выдвигает Рыжикова, а комсомольское бюро поддерживает? А Захаров что сказал на общем собрании? Захаров сказал:
– Я не возражаю против кандидатуры Рыжикова. Я надеюсь, что в роли бригадира Рыжиков еще лучше проявит свои способности.
А Марк Грингауз что говорил?
– Все мы знаем, что в первой бригаде тяжелое положение. Пять лучших комсомольцев уходят в вузы, значит, придут пять новеньких, с ними тоже работа нелегкая. Рыжиков показал себя энергичным человеком, мы уверены, что он поставит бригаду на должную высоту. Работник он хороший, бригадир будет энергичный. Все знают, что он и Подвесько вывел на чистую воду, и Левитина поймал с ключами… В это время Левитин закричал с места:
– Я не брал ключей! Не брал!
Марк Грингауз подождал, пока головы снова повернутся к оратору, и продолжал:
– Мы знаем, что в колонии многие против Рыжикова, многие никак не могут простить ему прошлое. А сколько у нас таких товарищей, у которых прошлое, так сказать, подмоченное! Если я начну называть фамилии, так будет очень долго. А теперь они комсомольцы, и студенты, и кто хотите. Конечно, тут дело доверия. А поэтому бюро разрешает комсомольцам голосовать как им угодно. Большинство покажет…
Рыжиков фертом ходил по колонии: куда тебе – знаменитый литейщик! Баньковский, мастер, без Рыжикова и шагу ступить не может, даже свой несчастный барабан начал ему доверять, хотя этому барабану три дня до смерти осталось. Рыжиков – аккуратист, Рыжиков – веселый парень, у Рыжикова – политика в голове, Рыжиков ворам спуску не дает в колонии! Нет, четвертую бригаду не так легко провести. Может быть, колонистам некогда, у колонистов и новый завод, и фронт, и умирающие станки, и школа опять на носу, и любовные неприятности с разными Петьками и Вандами. Но у четвертой бригады нашлось время, чтобы крепче подумать о Рыжикове. И бригадир четвертой, Алеша Зырянский, встал на собрании и сказал:
– По вопросу о кандидатуре Рыжикова в бригадиры первой наша бригада поручила сказать Володе Бегунку.
Колонисты поняли, почему не бригадир будет говорить, а Бегунок. Все узнали в этом ходе робеспьеровскую руку Алеши. Все помнят, как не так еще давно Володя Бегунок что-то хотел сказать, а дисциплина бригадная треснула Володю по голове, он сидел на ступеньках перед бюстом Сталина и краснел, сжимая в руках свою трубу. И Зырянский хитрый: сейчас все должны понять, что и тогда и теперь он согласен с Володей, что бригада Володю ни в чем не обвинила, что только по причинам дипломатическим четвертая бригада не может поднять настоящий скандал.
Поэтому, когда Володя встал, чтобы говорить, колонисты улыбнулись понимающими улыбками: упрямство четвертой бригады давно известно. Володя сказал, сохраняя на лице выражение холодной вежливости по отношению к Рыжикову и тонкого намека по отношению к собранию:
– Четвертая бригада ничего не имеет против колониста Рыжикова, но считает, что для первой бригады и для колонии можно найти более достойную кандидатуру. Поэтому четвертая бригада будет голосовать против Рыжикова.
Торский с удивлением посмотрел на Володю, и этот взгляд был для всех понятен: откуда у Бегунка такие шикарные выражения? Торский спросил:
– Значит, четвертая бригада считает, что Рыжиков недостоин звания бригадира?
Володя чуть-чуть улыбнулся углом рта и ответил Торскому:
– Нет, четвертая бригада вовсе не так считает. Ничего подобного! Он тоже достойный, а только надо еще достойнее. Видишь?
Теперь Володя улыбнулся полностью, что вполне соответствовало одержанной им дипломатической победе. Но Торский не унимался:
– Хорошо. Раз так, так почему четвертая бригада не предложит своего кандидата?
Кто их знает, может быть, четвертая бригада заранее готовилась к вредным вопросам Торского, Бегунок не долго думал над ответом:
– Мы можем предложить… пожалуйста… кого только угодно… сколько есть колонистов, какого угодно колониста.
– Только не Рыжикова?
– Да, за всех будем «за» голосовать, а за Рыжикова будем «против» голосовать.
Общее собрание было восхищено мудрыми ответами Володи Бегунка, хотя в этих ответах было много и чепухи. Для того чтобы ее обнаружить в полной мере, Торский задал еще один вопрос:
– Значит, все колонисты могут быть бригадирами, только Рыжиков не может?
Володя обошелся без слов. Он просто задумчиво кивнул.
– И ты можешь быть бригадиром первой или, например, Ваня Гальченко?
У всех загорелись глаза. Хотя и важный вопрос разбирался на собрании, но колонисты всегда любили острые положения. В самом деле, как Бегунок вывернется?
И что ты скажешь, вывернулся! Правда, чмыхнул по-мальчишески, совершенно забыв о своей дипломатической миссии, но сказал громко, и когда начал говорить, то был даже чересчур серьезен:
– Я не говорю, что я буду таким замечательным бригадиром или там Ванька Гальченко, а только… все-таки лучше Рыжикова.
Торский зажмурил глаза и зачесал пальцами у виска, колонисты засмеялись, Брацан сказал хмуро:
– Да довольно с ним… вот затеяли с пацаном представление!
Володя Бегунок услышал, покраснел, обиделся:
– И вовсе не с пацаном, а вся четвертая бригада.
Четвертая бригада сидела на ступеньках у бюста Сталина и посмеивалась довольная: ее представитель здорово сегодня действует! А когда Витя Торский предложил поднять руки, кто за Рыжикова, четвертая бригада, сложив руки на коленях, рассматривала собрание насмешливыми[284] глазами.
– Кто против?
Четырнадцать рук поднялось у бюста Сталина, и еще несколько рук в других местах. Против голосовали: Игорь Чернявин, Оксана, Шура Мятникова, Руслан Горохов, Левитин, Илья Руднев, еще несколько человек.
– Против двадцать семь голосов, – сказал Торский. – Только непонятно, как голосуют Чернявин и Руднев. Выходит так, что вы голосуете не со своими бригадами.
Чернявин на это ничего не сказал, а Руднев ответил спокойно:
– Да, меня Бегунок сегодня сагитировал.
Руднев сказал это действительно спокойно. Никто не улыбнулся его словам. И хотя только двадцать семь голосов было против Рыжикова, а впечатление у всех осталось нехорошее. Еще никогда таких выборов в колонии не было. И когда принесли знамя и временный бригадир первой Садовничий вытянулся перед Захаровым, всем было не совсем удобно салютовать этой передаче. В четвертой бригаде Филька даже шепнул Зырянскому:
– Ой, Рыжикову салютовать?!
Зырянский шепотом же и ответил:
– Не Рыжикову, а общему собранию и знамени.
Рыжиков тоже чувствовал себя не вполне победоносно. С собрания он ушел скучный, на лестнице обогнал Чернявина с Ваней, оглянулся и сказал глухо:
– Вы все копаете против меня… хорошо… копайте!
Чернявин прищурил один глаз:
– Синьор, не портите себе нервы! Берегите здоровье! Не переутомляйтесь!
– Ничего… все равно, не закопаете… раз я правильно делаю, не закопаете!
– Не беспокойтесь, синьор, не беспокойтесь: закопаем, если будет нужно.
Так Рыжиков стал бригадиром. Через неделю он дежурил по колонии, и Ваня Гальченко, стоя на дневальстве, вытягивался «смирно», когда Рыжиков проходил мимо.
17 Спасибо за жизнь!
Гораздо приятнее окончилось дело с Вандой. Конечно, ее бегство из колонии было тяжелым ударом и оставленная Вандой записка помогала мало. Хуже всего, что нашлись философы, которые стали говорить:
– И чего там перепугались? Ну влюбились, поженились, что ж такого?
Зырянский таким отвечал с пеной у рта:
– Ничего такого? Давайте все переженимся! Давайте!
– Чудак, так влюбиться же нужно. Ты влюбись раньше!
– Ого! Влюбиться! Думаешь, это трудно? Вот увидите, через три месяца все повлюбляются! Вот увидите.
Похожай успокаивал Зырянского:
– И зачем ты, Алеша, такое несоответствующее значение придаешь? Не всякий же имеет полуторку. Без полуторки все равно не выйдет.
И Соломон Давидович успокаивал:
– Вы, товарищ Зырянский, не понимаете жизни: любовь – это же не по карточкам! Вы думаете, так легко влюбиться? Вы думаете, пошел себе и влюбился? А квартира где? А жалованье где? А мебель? Это же только идиоты могут влюбляться без мебели. И, насколько я понимаю, у колонистов еще не скоро будет сносная мебель.
Зырянского эти слова не только не успокоили, а еще больше пугали:
– С мебелью! Воробьев с мебелью, а теперь у нас сотрудников развелось, так бедным колонистам жизни не будет.
– Не скажите, – настаивал на своем Соломон Давыдович, – смотри какая мебель, а, кроме того, к вашему сведению, у сотрудников нельзя сказать, чтобы было много возможностей влюбляться. Жены все-таки…
– Да, вы вот так говорите, а потом возьмете и умыкнете колонистку!
– Товарищ Зырянский! Для чего я буду ее увозить, если своих четыре дочки, не знаешь, как замуж выдать.
– Ага! Свои дочки, так вы понимаете!
– Хэ! Свои дочки – не только большое счастье. Если бы нашелся такой, пускай себе умыкает, решительно ничего не имею. Могу даже такси нанять, чтобы меньше хлопот было. Похожай прав, не у всякого гражданина есть полуторка.
Зырянскому не везло или Ванде, но пришла она в колонию в выходной день, а дежурным бригадиром был в этот день… Зырянский. Колонисты жили уже в спальнях. Ванда вошла в вестибюль в послеобеденный час, когда все либо в спальнях сидят, либо в парке прячутся. На дневальстве стоял Вася Клюшнев, похожий, как известно, на Дантеса. Ванда оглянулась и сказала несмело:
– Здравствуй, Вася!
Клюшнев обрадовался:
– О Ванда, здравствуй!
– Пришла проведать. К девочкам некого послать?
– Да ты иди прямо в спальню. Там все.
– А кто дежурный сегодня?
– Зырянский.
Ванда повалилась на диванчик, даже побледнела:
– Ой, как не повезло!
– Да ты не бойся, иди, что он тебе сделает?
Но в этот момент Зырянский вышел из столовой вместе с Бегунком, и когда он увидел Ванду, у него было выражение, которое показывало, что он многое может с Вандой сделать:
– А! Вы чего пожаловали?
– Нужно мне, – с трудом ответила Ванда.
– Скажите, пожалуйста, «нужно». Убежала из колонии, значит, никаких «нужно»!
Из столовой выбежали две девочки и запищали в восторге. Потом на этот писк выбежали еще две и тоже запищали, вырвалась оттуда же Оксана и, конечно, с объятиями:
– Ванда! Ой, какая радость! Вандочка, миленькая!
Зырянский пришел в себя и крикнул:
– Я вас всех арестую! Какая радость? Она убежала из колонии!
Оксана удивленно посмотрела на Зырянского:
– Убежала! Что ты выдумываешь. Не убежала, а замуж вышла!
Володя Бегунок смотрел и тоже бросился к Ванде на шею:
– Вандочка! Ах, милая, ах, какая радость! Она замуж вышла!
– Убирайся вон, чертенок! – закричали на Володю девушки.
Зырянский все-таки был в повязке.
– Колонистки, к порядку.
Это был привычный призыв дежурного бригадира, и девочки смущенно смолкли.
– Нечего ей здесь околачиваться! Я ее не пущу никуда. Раз убежала из колонии, кончено! И из-за чего? Из-за романа!
Ванда наконец тоже подняла голос:
– Как это убежала? Что я, беспризорная, что ли? Я целый год в колонии!
– Год в колонии. Тем хуже, что ушла, как… по-свински, одним словом! Для тебя донжуаны лучше колонистов?
– Какие донжуаны?
– Петька твой – донжуан!
И Володя Бегунок пропел со своей стороны:
– Дон Кихот Ламанчакский.
– Какой он донжуан? Мы с ним в загсе записались!
– В загс тебе не стыдно было пойти, а в совет бригадиров стыдно. Убежала и целый месяц носа не показывала! Товарищ Клюшнев! Я не разрешаю пропускать ее в спальни. Клюшнев приставил винтовку к ноге:
– Есть, не пропускать в спальни!
Зырянский гневно повернулся и ушел в столовую. Бегунок побежал в кабинет.
– Вот ирод! – сказала Оксана. – Что же теперь делать? Вася, ты не пропустишь?
Вася грустно улыбнулся:
– Что вы? Приказание дежурного не только для меня, а и для вас обязательно.
Но в этот момент в коридор вышел Захаров, девочки бросились к нему:
– Алексей Степанович! Вот пришла Ванда, а Зырянский не пропускает ее в спальни!
Захаров обрадовался Ванде не меньше девочек. Он поцеловался с нею, пригладил ей прическу:
– Как это можно? Такой дорогой гость! Алеша!
Зырянский стал в дверях столовой.
– Алеша! Как же тебе не стыдно!
– Наш старый обычай – беглецов в колонию не впускать!
– Какие там беглецы! Пропусти.
Зырянский нахмурил брови, принял официальный вид:
– Есть, товарищ заведующий! Товарищ Клюшнев, пропусти ее по приказанию заведующего колонией!
Захаров засмеялся, повертел головой, обнял Ванду за плечи, шутя, галантным жестом показал девочкам дорогу, и все они отправились в кабинет. Сидели они там долго, и Володя Бегунок потом рассказывал в четвертой бригаде:
– Там одни девчата, понимаете, собрались, так они все по-своему, все по-своему. И Алексей Степанович ничего такого… не ругал, а только все спрашивал, какая квартира, да какая там старуха, да какой Петька. А Ванда все одно и тоже отвечает: ах, какой замечательный Петя, и какая замечательная старуха, и какая замечательная квартира! А потом, понимаете, прямо подошла так… к Алексею Степановичу и давать обнимать… за шею, все обнимает и обнимает и ревет. Потеха! Все замечательное, все замечательное, а на весь кабинет плачет. И она плачет, и другие девочки слезы вытирают, потеха…
– А дальше?
– А дальше Алексей Степанович говорит: Володька, убирайся отсюда, до чего ты распустился! Я и ушел.
– А за что?
– Я… честное слово, не знаю. Я так, просто смотрел… больше ничего.
– А чего ж она плакала?!
– А разве их разберешь? Она все благодарила, благодарила. А потом так стала посередине кабинета и как скажет: «За жизнь! Спасибо за жизнь!»
Филька посмотрел серьезными своими глазищами и сказал:
– Это она правильно: спасибо Алексею есть за что, это правильно. А только вот непонятно: почему сейчас же реветь[285]? Если «спасибо», так при чем тут слезы? Он, наверное, выговаривал ей за что-нибудь?
– Нет, ни чуточки не выговаривал. Он так… знаете… совсем такой добрый был, ничуть не сердитый.
Вечером был совет бригадиров. На совет пришел и Петя Воробьев, и много пацанов сбежалось из четвертой бригады, и удивило всех присутствие Воргунова. Он сел на диване рядом с колонистами и слушал внимательно. Торский сразу дал слово Ванде; Ванда осмотрела всех каким-то особенно взволнованным взглядом, слезы дрожали у нее в голосе, когда она говорила:
– Дорогие колонисты! Я у вас только год пожила, а я вам по правде скажу: нет у меня другой жизни, только этот год и есть. И я всю жизнь буду вас вспоминать и все буду вам спасибо говорить и Советской власти, аж пока не помру. И вы простите мне, что я полюбила Петю, а вам ничего не сказала, я боялась, и стыдно было. Вы простите, Петю простите, он же тоже, как колонист все равно. И выпустите меня, как колонистку, с честью, и работать чтоб можно было мне на новом заводе, хоть токарем, а может, и еще чем.
И Петр Воробьев сказал, несмело, правда, и все краснел и поглядывал на Зырянского:
– Я вот… не оратор. Тут не в словах дело, а в человеке. Вы не думайте, я все понимаю и не обижаюсь. Это, конечно, хорошо, что у вас строго, я понимаю, оттого и Ванда… такая хорошая…
– Понравилась? – спросил Зырянский, посматривая на Воробьева подозрительными глазами.
Но Воробьев ничего особенного не увидел в этом вопросе.
– А как же! Я люблю Ванду, прямо здесь говорю, и вы не беспокойтесь, я на всю жизнь люблю…
– Ах, как хорошо, – прошептала Оксана, наклонившись к уху Лиды Таликовой. Лида сочувственно кивнула головой.
Зырянский все-таки попросил слова:
– Ванда и Петро поступили нехорошо. Может, там они и действительно на всю жизнь, а только кто их знает? А другим, может, на короткое время захочется, а откуда мы знаем? Так тоже нельзя допускать. Дисциплина где будет, если всем таким влюбленным волю дать? Должны были в совет бригадиров заявить, а мы посмотрели бы, комиссию выбрали бы, проверить, как и что. А то взяли, сели в грузовик и поехали. Это верно, что так у древних славян делали. Я предлагаю за то, что вышла замуж без…
И вот тут Воргунов сказал свое слово к колонистам:
– Без благословения родителей.
Не только Зырянский, все колонисты опешили от этого неожиданного нападения, все повернули лица к Воргунову, а он сидел между ними массивный, и как будто недовольный и смотрел прямо на Зырянского:
– Я говорю: без благословения того… совета бригадиров. Но это все равно. За такое дела родители раньше проклинали.
Зырянский обрадовался человеческому голосу Воргунова.
– Проклинать не будем, а под арест посадить Ванду и Петра… часов на десять следует.
Филька крикнул откуда-то из дальнего угла:
– Правильно!
Воргунов нашел Фильку взглядом, перегнулся в его сторону всей тяжелой своей фигурой:
– Это ты говоришь «правильно», а откуда ты знаешь?
– Так и так видно!
– А мне вот не видно.
– Мало ли чего, – сказал Филька возможно более низким голосом, – вы еще недавно в колонии.
И вот тут увидели колонисты, что Воргунов умеет смеяться, да еще как красиво, просто прелесть! У него и живот смеется, и плечи, а рот он при смехе открывает широко и смеется басом. А потом он спросил Фильку, но уже строгим голосом:
– Ты думаешь, и я сделаюсь таким кровожадным зверем, как Зырянский?
– А как же? Если у нас поживете… А только, может, вы убежите раньше.
Воргунов опять хохотал, ему нравился Филька, но очень возможно, что он считал Фильку наивным ребенком. А на самом деле Филька говорил дело, все бригадиры это прекрасно понимали, ничего смешного в филькиных словах не было. Колонисты торжествовали[286] по другому поводу: просто было приятно, что наконец этот отчужденный главный инженер заговорил и даже засмеялся.
Совет бригадиров окончился весело. Правда, Зырянский не снял своего предложения, но за него поднялось только две руки, да и то одна рука была Филькина, который не имел права голоса, потому что не был еще бригадиром. Совет бригадиров постановил выпустить Ванду с честью, дать приданое, выбрать комиссию, оставить на работе токарем, а в следующий выходной день всем советом пойти к Воробьеву и посмотреть, как он живет, может, чем-нибудь и помочь придется. Ванда уходила из совета счастливая, даже о своем Пете забыла, так тесно окружили ее девочки.
А вечером Ванда зашла проститься с четвертой бригадой. Зырянский встретил ее приветливо, усадил на стул, спросил:
– Ты на меня не сердишься?
– Ой, милые мои мальчики, мне с вами так трудно расставаться, что и сердиться некогда. Живите хорошо, не забывайте про меня. Вы, как братья, вы просто такие милые, такие родные. Хорошо. И спасибо вам, что были товарищами, спасибо.
Володя Бегунок внимательно и серьезно слушал Ванду, но успел посмотреть и на Фильку. У Фильки в глазу что-то блеснуло подозрительно, и Володя воспрянул каверзным своим духом. Но Филька нахмурил брови и сказал довольно важно, самым обыкновенным, ничуть не растроганным голосом.
– Мы… что ж… мы и будем хорошими товарищами. Это ты не беспокойся, Ванда. А только ты напрасно слезы… чего ж тут плакать?
Ванда вытерла глаза, улыбнулась и набросилась на Ваню Гальченко. Она расцеловала его при всех, и Ваня испуганно смотрел на нее, а потом только опомнился:
– Да что ж ты меня одного целуешь? Ты тогда и со всеми попрощайся. Понимаешь?
И после этого вся четвертая бригада загалдела и полезла целоваться. Пожимали Ванде руки и говорили:
– Ты к нам приходи… в гости… В четвертую бригаду… приходи.
И Ванда перестала проливать слезы, а смеялась и обещалась приходить. Может, потом и плакала где-нибудь, но четвертая бригада того не видела. А в самой четвертой бригаде все попрощались с Вандой весело, и ни один колонист и не подумал плакать.
18 Флаги на башнях
Постройка корпусов завода была закончена, и, как всегда это бывает, именно теперь скопилась такая масса работы, что, казалось, ее невозможно когда-нибудь переделать[287]. Кое-где стояли на фундаментах станки, другие станки еще[288] прибывали и прибывали, и ставить их было негде: то фундамент не готов, то подсыпка не сделана, то неизвестно, прибудут ли скоро подходящие станковые соседи. Колонистский двор, как ни берегли его, колонисты обратился все-таки в хаос. На новых зданиях стоят леса, везде разбросаны бараки, сараи, остатки досок, щебень, просто обломки кирпича, зияют известковые ямы, валяются разбитые носилки, куски фанеры, куски рогожи, и все это присыпано вездесущим строительным прахом, от которого нет спасения уже и в главном здании.
А рядом с новым заводом, «возникающим в хаосе» стройки, умирает старое производство Соломона Давидовича, и вокруг него распространяется такой же хаос, только этот хаос умирания.
В конце августа наступающие цепи колонистов вышли на линию 1 ноября, это в среднем по колонии; правый фланг, девочки, «теснили отступающего в панике противника» на линиях двадцатых чисел декабря, но все равно завод Соломона Давидовича умирал. Токарные «козы» выбывали из строя одна за другой, в машинном отделении деревообделочного цеха было не лучше. Стадион, заваленный неизмеримым хламом обрезков, бракованных деталей, массой какой-то дополнительной приблудной дряни, представлял настолько отвратительное зрелище, что Захаров категорически запретил с наступлением холодов возвращаться на стадион для работы. Раза два на стадионе почему-то начинались пожары. Их замечали в самом начале и легко тушили, от пожаров оставались черные пятна обугленных участков, от этого стадион казался еще печальнее. Соломон Давидович говорил колонистам:
– Можно все перенести: можно перенести производственные неполадки, можно перенести новый завод, но нельзя переносить еще и пожары! Разве можно для моего сердца такие нагрузки? С какой стати?
Колонисты утешали Соломона Давидовича:
– Он все равно сгорит – стадион. Так и знайте, Соломон Давидович, он все равно сгорит.
– Откуда вы так хорошо знаете, что он сгорит?
– А это все колонисты говорят.
– Мне очень нравится: все колонисты говорят. Разве они не могут говорить что-нибудь другое?
– Про стадион? А что ж про него говорить? Это старый мир, Соломон Давидович! Его все равно нужно подпалить.
Соломон Давидович и обижался, и тревожился. Теперь он выдумал для себя моду приходить по вечерам к Захарову и дремать на диване. Захаров спрашивал его:
– Почему вы не спите, Соломон Давидович?
– Новое дело, хвороба его забрала б!
– Какое дело?
– Очень смешное, конечно, дело: пожара ожидаю.
– На стадионе?
– Ну а где же?
– Так почему вы думаете, что пожар случится в то время, когда вы не спите? Ведь загореться может и под утро?
– Это совсем другое дело: под утро! Никто не скажет: «Стадион загорелся, а Соломон Давидович спозаранку спать лег». А если я лягу и в двенадцать часов, так это будет прилично, как вы думаете?
– Это будет прилично.
– Ну вот, я и посижу у вас до двенадцати.
В конце августа приехал Крейцер, пробежал по цехам Соломона Давидовича, зашел к Захарову и сказал:
– Скажите этому вашему Володьке, пускай играет сбор бригадиров.
– Да ведь рабочее время.
– Все равно. Предлагаю немедленно прекратить работу. По-вашему, можно еще работать в этом самом механическом и на стадионе?
– Совсем нельзя.
– Давайте совет бригадиров!
– Даем!
Удивленные бригадиры и все колонисты в самый разгар рабочего времени услышали «сбор бригадиров». Никому не пришло в голову, что этот короткий, из трех звуков сигнал наносит последний удар старому производству Соломона Давидовича.
Заседание продолжалось недолго. Крейцер предложил все силы колонистских бригад перебросить на строительство, чтобы скорее привести в порядок новый завод и начать на нем работу. Колонисты встретили это предложение овацией. Воргунов и предожение и овацию выслушал с недоверчивой тревогой, присматривался к ребятам и задал только один вопрос:
– И леса они будут разбирать?
Бригадиры ответили недоуменными взглядами: они не поняли, в чем сущность вопроса, а Воргунов смотрел на них и не понимал их недоуменных взглядов. Соломон Давидович с осуждением пыхнул губами:
– Пхи! Леса разбирать! Если вы им предложите разобрать самого черта, так они разберут, к вашему сведению, и все сложат в порядке: лапы отдельно, копыта отдельно, а рожки и хвостик тоже отдельно. Вы можете спокойно произвести инвентаризацию.
Воргунов повернул к нему голову и произнес с сарказмом:
– Черта мне не приходилось, но думаю, что это все-таки легче, чем леса.
– Ошибаетесь. Черт, вы думаете, он себе будет сидеть и смотреть, как его разбирают? Он же будет кусаться!
Этот оригинальный спор разрешил Захаров:
– И Соломон Давидович и Петр Петрович запоздали с проблемой: и Бог и черт давно разобраны и сложены в музеях. А леса мы разберем, Петр Петрович!
Воргунов сделал движение всем телом, которое обозначало, что он посмотрит, как колонисты разберут леса.
На другой день у диаграммы штаба соревнования особенно толпился народ. Боевая сводка гласила:
«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 29 АВГУСТА
Вчера наш краснознаменный правый фланг нанес последний удар противнику: годовой план швейного цеха выполнен полностью, девочки после короткого штурма взяли правые башни города, на башнях развевается Красный флаг СССР.
Враг, потерявший всякую надежду на победу, приступил к эвакуации города. Надеемся, что завтра, несмотря на выходной, наши части левого фланга и центра вступят также в город».
На диаграмме, действительно, было видно: на правой башне развевается красный флаг. Это замечательное событие так долго ожидалось, что просто глазам не верилось, когда оно[289] наступило.
Четвертая бригада в продолжение целого дня ходила смотреть на диаграмму: действительно, на башнях стоит маленький, узенький красный флаг и на нем написано: СССР. И на диаграмме было еще видно, как из города разбегаются враги: они были совсем не синие, они оказались черненькие, мелкие, довольно противные. Петр Васильевич Маленький нарисовал их тушью, и, видно, много времени ушло на эту работу, потому что врагов было очень много.
За ужином прочитали приказ. Было коротко сказано:
«Пятой и одиннадцатым бригадам прибыть на общее собрание в строгом порядке. Оркестру и знаменной бригаде быть в распоряжении дежурного бригадира».
И вечером на общем собрании состоялось торжество. Девочки вошли в парадных костюмах, их встретили знаменным салютом, а потом поздравляли и вообще хвалили. Конечно, у девочек не было таких «коз» и такого леса, как у мальчиков, но все-таки нельзя было отрицать, что они здорово поработали, и поэтому никто из мальчиков им не завидовал, а, напротив, все радовались и смотрели на девочек сияющими глазами.
На поздравление отвечала Оксана Литовченко. Игорь с гордостью слушал ее речь. Он гордился тем, что только он один понимал, какая это прелесть – Оксана! Никто другой не мог так хорошо сказать, как Оксана:
– Вот что я вам скажу, дорогие мои товарищи! Кто ж это и когда мог думать, что придут девчата в такую красивую комнату, а сорок хлопцев на серебряных трубах заиграют девчатам почет? А сами те хлопцы, которые играли и которые под знаменем нашим стоят, они вместе с нами, и Соломоном Давидовичем, и с новым нашим главным инженером Петром Петровичем, и с другими людьми, а самое главное – с Алексеем Степановичем, и с другими, которых здесь нет, а которые сейчас на работе, и с учителями нашими, и с мастерами, и с рабочими – все как один человек послухали, что нам сказала партия большевистская, и что говорил нам Ленин… И послухали и работали как герои, и не как наймиты, и сделали сколько тысяч и сотен тысяч столов, и масленок, и чертежных столов, и трусиков, и ковбоек; сделали и людям послали на потребу. И вот сейчас мы завоевали для себя и для нашей страны новый завод, такой завод, который будет делать машинки, будем делать для Красной Армии, бо Красная Армия теперь должна не только пулями, а и машинами побивать врагов. И не для одной Красной Армии, а и для тех, кто мосты строит, и для тех, кто дома строит и дороги, и для всех трудящихся. И никто из колонистов, ни один человек не ховался в обозе, как говорит товарищ Киров, самый первый друг и помощник товарища Сталина, а только один, может быть, гад и до сегодняшнего дня живет между нами, и еще не покарала его наша рука. И вчера еще пропадали инструменты на заводе. Видели, как черненькие разбегаются из нашего города, которых нарисовал штаб соревнования? Такой же черненький и между нами живет. И девчата просят нас, товарищи колонисты: не нужно нам покоя, и не нужно нам никакой радости, пока не найдем его и не… не арестуем. И девчата еще просят, чтоб такое торжество устроить тогда, когда найдем его, какого еще торжества не было у нас!
Вот какую речь сказала Оксана, и все слушали ее и забыли, кто на каких станках работал, кто на правом, а кто на левом фланге, а кто в центре. Сразу вспомнили и театральный занавес, и часы, серебряные часы Захарова, и прошлогодние пальто, и много всякого инструмента и добра, пропавшего в колонии. И вспомнили Воленко. И все согласились с ней, что, когда они найдут этого гада, – такой нужно праздник устроить в колонии, какого еще никогда не было. А когда она кончила, все подумали, что ничего отвечать не нужно на такую речь – все понятно и все одинаково думают. Но только взял слово для ответа… Воргунов. С каких это пор Воргунов просит слова на общем собрании? Что такое сделалось с Воргуновым.
Воргунов, кряхтя, полез на ступеньки к бюсту Сталина. Он не хотел говорить просто с места, он хотел говорить по-настоящему. И колонисты с большим интересом смотрели, что будет дальше делать Воргунов. А он стал прямо против знаменной бригады, сразу поднял палец:
– Оксана Литовченко – так зовут эту девушку, которая вам говорила, – бригадир пятой бригады! Так вот я, старик, старый инженер, кланяюсь низко и говорю: молодец Оксана Литовченко! Она говорила о самом главном: черненькие гадики ползают у нас под руками на каждом шагу и мешают работать. Я вам правду скажу: ехал я к вам и думал: э, что там, балуются с ребятами, какой там завод. Я не люблю подлизываться, и к вам не подлизывался и не буду подлизываться. А теперь присмотрелся, прямо говорю: с вами и мне по дороге. Скорее давайте приведем в порядок новый завод и скорее давайте работать. Черненьких всяких будем кипятком вываривать, вместе будем, хорошо?
Колонисты с радостью аплодировали старому инженеру: прибавилось еще подмога на боевых участках их фронта. А Воргунов продолжал:
– А только на работе я человек строгий. Не скажу: страшно строгий, но так… не полегче Алексея Степановича!
– Подходяще! – закричали колонисты.
– Подходяще? Тогда по рукам. И вы будете меня слушаться.
– А вы нас?
– Вас слушаться? Да, что ж, пожалуй, иногда и придется!..
Воргунов смеялся, стоя возле бюста Сталина, а колонисты смеялись, стоя вдоль дивана. Смеялись и в оркестре, и знаменная бригада, и четыре строевые шеренги девочек.
На другой день боевая сводка объявила:
«Враг покинул стены нового города. Наши части по всему фронту вступили в город. Наши красные флаги развеваются на всех башнях. Последние силы врага залезли на территорию строительства и прячутся между бочками и ящиками и в кучах мусора. Часть засела на старом стадионе. Постановлением совета бригадиров решено в течение сентября выбрать их из последнего убежища, чтобы к празднику 7 Ноября не осталось в колонии ни одного врага».
19 Что такое энтузиазм
Воругнов считал: как раз будет хорошо назначить один месяц для приведения в порядок территории строительства, старых и новых зданий. Воргунов, вероятно, правильно рассчитал, что энергия одиннадцати бригад чего-нибудь стоит. Но уже 31 августа общее собрание постановило:
«1. При таком положении заниматься в школе все равно невозможно. Начало учебных занятий перенести на 15 сентября, с тем чтобы зимних вакаций не устраивать.
2. Работать без сигнала «кончай работу», а сколько влезет.
3. Работать по ответственным бригадным участкам.
4. Закончить работу к 15 сентября».
1 сентября все бригады вышли на работу сразу после завтрака – в одну смену. Этого Воргунов не ожидал. Он рассчитывал на 100 человеко-дней в сутки да еще сбрасывал 35 процентов на «детскую поправку». Но уже в конце первого дня увидел, что в его распоряжении полных восьмичасовых двести человеко-дней, а что касается поправки на малолетство, то здесь вообще было трудно что-нибудь разобрать. Во многих местах работа имела, безусловно, детский характер.
Строительная площадка вдруг приобрела новый вид. И раньше на ней работало до двухсот строителей: плотников, столяров, штукатуров, рабочих. И сейчас они были на своей работе, строительный организм остался тот же. А колонисты как будто даже и не изменили ничего существенно. Эти мальчики и девочки и меньше знают, и меньше у них физической силы, но зато они как кровь в организме. Как кровь, они стремительны и вездесущи. Они пропитывают своим участием, словом, смехом, требованием и уверенностью каждый участок работы, везде копошатся их подвижные фигурки, что-то тянут, кряхтят, кричат, потом забеспокоятся вдруг, как воробьи, целой стаей срываются и уносятся на новую линию, где требуется помощь.
В самом корпусе, там, где почва идет под уклон, работают девочки. Их бригадам выпала трудная работа: высыпка. Сюда нужно поднести тысячи носилок земли, и пока этого не будет сделано, нельзя настлать полы, нельзя устанавливать фундаменты для станков.
Где-то на каком-то секретном совещании девочки постановили работать бегом. В первый день этот способ всех поразил, но ребята говорили:
– Упарятся, куда ж там!
Но бегом девочки работали и на другой день, и на третий, а потом уже стало ясно: они не только не умариваются, а, пожалуй, просто привыкают работать бегом. И тогда между ребятами пошли другие разговоры:
– Смотри ты: и с пустыми носилками бегом, и с полными бегом!
Воргунова эти детские темпы начали уже и тревожить. Он все чаще и чаще заходит в здание и смотрит. Мимо него пролетает пара за парой и хохочут:
– Здрасьте, Петр Петрович! Как мальчишки там, не гуляют?
Вместе с колонистами работают и учителя и инструкторы. Пожилая инструкторша швейного цеха тоже бегает за девочками и застенчиво и счастливо протестует[290]:
– Меня, старуху, загоняли, подлые девки. Им, понимаешь, это удобно: легкие они, а мне куда там за ними. Правда, они все-таки придерживают, когда со мной.
На готовой уже площадке, у почти сложенного фундамента, сидит на земле старик каменщик и смеется беззубым ртом.
– В жизни ничего такого не видел: это я тебе вот что скажу: до чего упорный народ! И все смеются… Смотришь, смотришь, аж зло берет; эх, коли мне помолодеть бы! Уж я пробежался бы, смотри какую и перегнал бы! Ох!
Он вдруг вскакивает и бросается вдогонку за Леной Ивановой и Любой Ротштейн.
Четвертой бригаде поручена работа специальная: они бьют щебень для бетона. Кирпичные остатки рассеяны по всей территории строительства, и они исчезают под молотками пацанов, как огонь под струей из брандспойта. Не успеешь оглянуться, а пацаны уже на новом месте сидят на корточках, постукивают молотками и, по обыкновению, спорят:
– Строгальный, если постель ходит, а если резец ходит, так это называется шепинг! Ох, там шепинг один стоит маленький, называется «Кейстон»!
– Шепинг – это тоже строгальный.
– Нет, строгальный – это если постель ходит.
– О! Постель! Какая постель!
– А так говорится!
– А потом ты еще скажешь: одеяло ходит! А потом скажешь: простыня ходит!
– Вечно спорите, – говорит Брацан, поглядывая на набитый щебень. – Давайте щебень на площадку.
– А чем будем давать? В руках, да?
– А носилки где?
– Девчата забрали, у них не хватает.
– Так беги, возьми у девчат.
– Ох, возьми, так они тебе и дадут! А с ними спорить, все равно в рапорт попадешь, а они, конечно, правы! И вчера набрехали, я даже ничего не говорил, а они сказали: грубиян!
Бригада Брацана на одном из самых почетных мест: асфальтовые тротуары! Раза три в день к колонии подъезжает автомобиль с котлом, в котором варится асфальт. По всей территории колонии протянулись сотни метров широкой дорожки. Сейчас она кое-где уже готова. В других местах только выкопаны земляные ящики, и бригада Брацана засыпает их щебнем и бетонирует.
У главного заводского корпуса бригада Похожая убирает леса. Разборка лесов – такая приятная работа, что из-за нее чуть не поссорились в совете бригадиры, пришлось тянуть жребий. А когда счастливый удел разбивать леса выпал девятой бригаде, Похожай прямо с совета побежал к главному корпусу, и за ним побежала вся бригада. Воргунов больше всего беспокоится о девятой бригаде. Он стоит внизу и кряхтит от беспокойства. Сегодня разбирают леса в том месте, где здание делает поворот и где примостки и переходы чрезвычайно перепутаны. Двадцатиметровое бревно застряло и торчит в паутине лесов почти вертикально. Колонисты облепили его своими телами, веревками, смехом и дискантом и стараются вытащить. Жан Гриф стоит на самой верхней доске и размахивает кузнечным молотом. На этот молот и поглядывает Воргунов, он еще не слышал никогда, чтобы леса разбирали при помощи кузнечного молота. Жан Гриф с оглушительным звоном пускает молот на соседний участок примостков, оттуда срывается несколько досок, и сам Жан пошатывается на своем узком основании. Сидящие пониже прячут головы, чтобы пролетающие вниз предметы их не зацепили. Воргунов переходит на «ты».
– Что ты делаешь? Что ты делаешь, безобразник?
– А что? – удивленно спрашивает Жан Гриф и заглядывает вниз.
И вся девятая бригада смотрит сверху вниз на Воргунова и старается понять, чего ему нужно.
Но Воргунов уже забыл о сокрушительном молоте Жана Грифа. Его внимание привлек маленький Синицын: по вертикально торчащему бревну он ползет вверх и держит в зубах веревку. Воргунов поднял обе руки и закричал, насколько позволял ему кричать низкий, хрипящий голос:
– Куда ты полез? Куда тебя черт несет?
Синицын тоже смотрит сверху на Воргунова и тоже спрашивает:
– А что?
– Слезай сейчас же! Слезай, такой сякой, тебе говорю!
Бригадир девятой – Похожай – тоже сидит на верхних примостках и улыбается воргуновскому беспокойству[291]:
– Пускай лезет! А то мы здесь до вечера провозимся. Он веревку привяжет и больше ничего.
– Да ведь бревно не укреплено! Бревно не укреплено!
– А куда ему падать? – спрашивает Похожай. – Мы, двенадцать человек, дергали, и то не падает.
Но спор не имеет значения. Синицын уже на верхушке бревна и привязывает веревку. Воргунов следит за ним немигающими глазами. Когда Синицын спустится вниз, Воргунов поймает его и будет… будет бить или тормозить, во всяком случае. Но откуда-то летит техник Дем и кричит:
– Идемте, идемте, скажите что-нибудь. У меня волосы дыбом! Что они делают! Что они делают!
Губы у Дема дрожат, и смешно шевелятся пушисты усы. Воргунов посмотрел по направлению его руки и увидел картину, действительно волнующую: на деревянной крыше сарая стоят человек пятнадцать и поют:
– И туда! И сюда! И туда! И сюда!
Они ритмически раскачиваются, и вместе с ними раскачивается на слабых ногах вся конструкция сарая. Раскачивается все больше и больше, трещат ее кости, начинают выпирать сквозь деревянные бока какие-то колья и концы досок. Воргунов побежал и что-то закричал колонистам. Но поздно: здание сарая рухнуло[292], тучи пыли и древесного пороха взлетели вверх, раздался страшный сложный треск, и в этом порохе и в этом треске провалились, кажется провалились сквозь землю, все пятнадцать колонистов.
На секунда затихли их голоса, потом раздается смех, визг, обыкновенная возня мальчиков. Сарая нет, а на земле лежит плоская груда всякого деревянного хлама, и из-под нее один за другим вылезают колонисты. Дем схватился за голову, убежал. Воргунов остановился, достал носовой платок, вытер лысину. Мальчики все вылезли из-под обломков, и все начали смотреть на следующий сарай. Маленький ушастый Коротак закричал что-то, задрал руки и выбежал вперед. Вот он ужен на крыше сарая и торжествует. Воргунов теперь уже не кричит. У него спокойные басовые нотки приказа:
– Эй, на сараях! Какая бригада?
– Десятая, – отвечает несколько голосов.
– Где бригадир?
– Есть бригадир, товарищ Воргунов!
Перед Воргуновым стоит хорошенький, румяный Илья Руднев, невинными глазами смотрит на главного инженера и ожидает распоряжений. Тем же спокойным басом Воргунов говорит:
– Черт бы вас побрал, что это такое в самом деле!
– А что?
– Вы бригадир десятой? Ваша фамилия?
– Руднев.
– В качестве заместителя заведующего я, кажется, имею право вас арестовать.
Глаза Руднева удивленно настораживаются:
– За что?
– Кто это вам показал такой способ разборки?
– А чем плохой способ? Уже третий сарай повалили. Еще два осталось.
– Я решительно запрещаю, понимаете, запрещаю!
Руднев умильно смотрит в глаза Воргунова:
– Товарищ Воргунов! Давайте уже и эти два повалим. Все равно.
– Я не разрешаю.
– Что там… два сарая!
– Вы еще возражаете? Отправляйтесь на один час под арест. Немедленно!
– Есть, один час под арест, – салютует Руднев и, обернувшись к бригаде, кричит:
– Перлов, прими бригаду, я выбыл из строя!
Коренастый, широкоплечий Перлов тоже салютует:
– Есть, принять бригаду!
Он немедленно отдает распоряжение по десятой бригаде:
– Некогда ворон ловить. Бери его штурмом!
Десятая бригада полезла на крышу. И Воргунов сдался: он положил руку на плечо Руднева и произнес жалобно:
– Руднев, голубчик, прекратите! Нельзя такой способ!
– А как?
– Руднев, прекратите немедленно, они же шатаются, уже шатаются!
– Да вы не обращайте внимания!
Но Воргунов наконец взбеленился. Он кричал, ругался, приказывал и добился-таки своего: десятая бригада слезла с сарая. Потом в совете бригадиров Руднев в порядке самокритики говорил:
– Конечно, у нас наблюдалась непроизводительная трата энергии: два сарая разбирали два дня, когда можно было повалить их за пятнадцать минут, если применить рационализацию.
В конце площадки восьмая бригада валит лишние деревья, чтобы расширить цветники перед новыми зданиями. Здесь тоже рационализация: Игорь и Санчо распиливают толстый ствол поваленного дуба, а Данило Горовой сидит на стволе и благодушествует. К работающим подошел Захаров, и Данило покраснел и обратился к нему с жалобой.
– Вот новый бригадир, Алексей Степанович! Работать не дает.
Игорь оставляет пилу и дает объяснение заведующему:
– Абсолютно необходимая мера, Алексей Степанович! В данной обстановке Данилу нельзя рассматривать как двигатель! Ни в коем случае. Данилу нужно рассматривать как пресс, принимая во внимание его вес и спокойный характер. Другой колонист не мог бы усидеть на месте, пока мы пилим, а Данило усидит.
– Угу, – Захаров кивает головой. – Правильно. А как вы используете другие качества Данилы?
– Следущее качество: вес. Видите, Данило сидит на этом конце. Данило, улыбнись! Нам легче пилить, потому что этот дуб такой проклятый, как схватит пилу, ничего иначе не выходит.
– А может, выгоднее было бы товарища Грохового использовать как дополнительную силу, тогда двое бы из вас пилили, а третий отдыхал.
– Абсолютно невыгодно. Пробовали: коэффициент полезного действия катастрофически падает.
Игорь блестит глазами, его большой рот прекрасно передает нечто среднее между ученой технической речью и мальчишеским зубоскальством.
Данило Горовой послушал-послушал эту игру и начал сползать со ствола.
– Ох, Алексей Степанович! Видите, внесли разложение в нашу трудовую семью!
Захаров засмеялся и ушел. Издали оглянулся и увидел: Игорь и Санчо пилят, а Данило сидит на стволе.
Всех бригад в колонии одиннадцать, и у каждой бригады ответственное поручение. И каждой бригаде должен уделить внимание Воргунов, и везде беспокоят его слишком «детские» темпы. За рабочий день накричится главный инженер, наволнуется, потом бредет к Захарову и говорит:
– Ну его… знаете… удивляюсь вам, как вы можете работать с этим народом!
А вечером Воргунов взял и заскучал. Скучал, скучал, ходил между своими объектами, а потом не вытерпел, отправился в спальни. Пришел в девятую бригаду, сел на стул и сказал:
– Товарищ Похожай, вытащили то бревно?
– Какое бревно?
– А торчало такое… высокое.
– То, которое на углу, или то, которое возле литейного, или то, которое сзади?
Воргунов молча вытер лысину и успокоился:
– Ага… значит, три бревна, ну… Бог с ними. А вы хорошо здесь живете. Чистенько и весело, наверное.
А потом они заспорили об энтузиазме. Похожай сказал:
– Вот как возьмемся за новый завод, Петр Петрович, с энтузиазмом возьмемся!
– Это как же… с энтузиазмом.
– А по-комсомольскому!
– Ага!
– А вы в энтузиазм не верите?
– Я не знаю, что это такое – верить? Я или знаю что-нибудь, или не знаю.
– А энтузиазм вы знаете?
– Энтузиазм знаю, как же. Но вот, например, вы геометрию знаете?
– Знаем.
– Какая формула площади круга?
– Пи эр квадрат.
– Как можно эту формулу изменить при помощи энтузиазма?
– Ну, так это само собой! Энтузиазм совсем не для того, чтобы формулы портить.
– А вот вы сегодня испортили не одну формулу.
– Когда мы испортили?
– А вот, когда леса разбирали.
– А какие ж там формулы?
– Там на каждом шагу формулы. Если бревно стоит, оно на что-нибудь опирается. Есть определенные законы сопротивления материалов и т. д. По этим законам есть и советский закон: нельзя так разбирать леса. А вы, как папуасы, полезли, полезли, веревку в зубах потащили. А Руднев со своей бригадой как сараи валил? Сколько он формул испортил? А формулы портить, сами говорите, нельзя.
Девятая бригада закричала, возмутилась, сейчас же нашлись и возражения:
– А на войне как? А если на войне. Тоже формулы?
– А как же?
– По формулам? На войне?
– Ребятки мои! Война – это дело серьезное: умирать ты обязан за Родину? Вот тебе и первая формула? Правильно? Ага! Замолчали! А глупо умирать ты имеешь право?
– Как это глупо?
– А вот так: вылезешь просто на окоп и начнешь руками размахивать, а тебя и ухлопают! Имеешь право?
– Это если кто захочет…
– Ничего подобного. Никто не имеет права этого хотеть. Ты боец, ты нужен, ты не имеешь права! Ага? Замолчали. Ну, до свидания. Завтра я вам не позволю формулы портить.
Поднялся и ушел. А девятая бригада посмотрела ему вслед, и Похожай сказал:
– Смотри ты какой? Он против энтузиазма!
– Да нет, он не против!
– Как не против?
– Против.
– Нет, не против.
И пошел из девятой бригады этот вопрос гулять по всей колонии. Все и на работе и во время отдыха старались разрешить его как можно правильнее.
Пока происходили эти теоретические изыскания по вопросу об энтузиазме, работа на строительстве шла в прежних темпах и Воргунову не всегда удавалось отстоять свои формулы. К 15 сентября строительную площадку нельзя было узнать: обнажились прекрасные горизонтали зданий, клумбы и дорожки нарядной лентой окружили их; в цехах среди блестящих новизной полой аккуратными рядами строились станки. Кое-где продолжали еще работать штукатуры, и жизнь для них наступила тяжелая. При входе на завод стали часовые с винтовками, и улеглись на пол сухие и влажные тряпки.
– Товарищи, вытирайте ноги.
– Ась?
– Ноги вытирайте.
– Это я?
– Вы. Пожалуйста, вот тряпка.
– Да я – штукатур, дорогой!
– Все равно.
– Да где ж такое видано, чтоб штукатуры вытирали ноги?
– Значит, видано.
Штукатур трет подошвы, привыкшие никогда нигде не вытираться, и, пораженный, рассматривает часового. А потом штукатуры ходили жаловаться к Воргунову и Захарову. Воргунов ответил им:
– И ты вытирал?
– Вытирал.
– И не умер?
– Да что ж там умереть…
– Ну и хорошо.
А Захаров сказал:
– Ничего не могу поделать. Они и меня заставляют.
– Да ну? И тебя!
Так ничего и не вышло.
15 сентября на общем собрании Воргунов докладывал об окончании работ, очень хвалил все колонистские бригады, а про формулы ничего не сказал. После собрания спросил у него Похожай:
– Все-таки отвечайте, есть энтузиазм или нету?
Воргунов хитро отвернулся, а глаза улыбаются:
– Это еще иначе называется, друзья: это честность, это любовь, это душа! Душа у вас есть?
– Душа? Должна быть…
– То-то ж! Вот это и есть энтузиазм!
20 На новом заводе
Еще раньше уехали и старые, и новые студенты. Их провожали торжественно, говорили речи под знаменем, эскортировали всем строем до вокзала, и на вокзале кое-кто даже поплакал, конечно, не четвертая бригада.
Плакали больше девочки, которым было жалко расставаться с Клавой Кашириной, но и восьмой бригаде и другим не так легко было проводить Нестеренко, и Колоса, и Садовничего, и Гроссмана.
А на место уехавших на другой день прибыли новые. Были здесь и семейные, и «с воли», и из-под ареста, и мальчики, и девочки. В день их прибытия Игорь Чернявин был дежурным бригадиром. Вспомнил он тот день, когда Воленко принимал его, и радостно стало и грустно: где теперь Воленко?
Новеньким лафа теперь в колонии. Уже замки висят на старых цехах Соломона Давидовича и осенняя поросль[293] – до чего шустрая! – начала уже прикрывать старые дорожки, протоптанные колонистами. Стадиону так и не удалось сгореть. Пришли рабочие и в несколько дней разбросали это замечательное сооружение. И никто о нем не пожалел, даже Соломон Давидович вздохнул свободно и перестал ожидать пожара.
Соломон Давидович назначен сейчас начальником отдела снабжения и сбыта. В день назначения он благодарил колонистов за боевую и героическую работу на старом производстве, вспоминал, с каким напряжением, с каким страданием заработали они шестьсот тысяч на новый завод, говорил, что он никогда в жизни не забудет этот прекрасный год. И прослезился Соломон Давидович, и не стеснялся слез, и никто не упрекнул его за слезы. А потом воспрянул духом и даже так сказал:
– Раньше я думал, что у меня потухающая кривая. А теперь скажу вам, товарищи колонисты, пока сердце бьется, не может быть потухающей кривой. Правильно сказал Санчо Зорин, что эту кривую оппортунисты выдумали.
Поздно вечером в кабинете Захарова Соломон Давидович уже забыл о старом производстве, а с большим энтузиазмом готовился к новому своему делу: снабжению и сбыту. И сказал Захарову:
– Со щитом или под щитом, а снабжение у нас будет неплохое, к вашему сведению.
Захаров обнял Соломона Давидовича и только незначительное изменение предложил к его боевому кличу:
– Надо говорить «со щитом или на щите», Соломон Давидович. Так греки говорили.
– А «под щитом» – они не говорили?
– Нет, не говорили, Соломон Давидович.
– Под щитом, значит, им было без надобности?
– Совершенно верно. Так говорили греки, когда отправлялись на войну. Со щитом вернусь, – значит, с победой. На щите, – значит, принесут меня убитым. Со щитом или на щите.
Соломон Давидович внимательно прислушался к этой исторической справке и усомнился.
– Если я правильно понимаю, для нас подходит только со щитом, а на щите для нас абсолютно не подходит. Какой же смысл может быть для отдела снабжения на щите?
– Пожалуй.
– Тогда скажем так: со щитом или с двумя щитами! Это вполне приемлемо для отдела снабжения.
С таким исправленным классическим лозунгом Соломон Давидович и ринулся в новый бой. К его услугам скоро появилась легковая машина – газик, и на газике шофер – Миша Гонтарь.
Да, новеньким лафа сейчас в колонии! Они сразу пошли на новый завод, с первого же дня попали в такое место, которое иначе нельзя назвать, как земным раем!
Только тот, кто поработал на старом производстве Соломона Давидовича мог постигнуть величественную прелесть нового завода, а колонисты все поработали.
17 сентября двести с лишним колонистов вошли в стены завода. Каждому было выбрано прекрасное место – кому в механическом цехе, кому в литейном, кому в сборочном, кому в инструментальном.
Механический цех помещался в первом этаже. Второго этажа, собственно говоря, нет, но есть балкон второго этажа, который проходит по всем четырем стенам огромного зала и не мешает этому залу освещаться с крыши. В механическом цехе стоит полсотни[294] прекрасных станков, и советских, и заграничных: токарные, револьверные, шлифовальные, строгальные, зуборезные, фрезерные, сверлильные, долбежные. Каждый станок прекрасен, каждый по-своему наряден: у одного сияют никелированные части, другой солидно скромен в матовых отблесках стали, третий умен и изящен, как дипломат, четвертый красив в неповторимо привлекательных линиях своего черного зеркального тела. Маленький шепинг «Кейстон» еще жирно покрыт масляной желтоватой смесью. За ним ухаживают, его обмывают и наряжают Филька Шарий и Ваня Гальченко – новые его владетели.
Первыми завертелись токарные станки «Комсомольцы» и «Красный пролетарий». На них целиком перешли третья и десятая бригады. Через день начали работать револьверные – здесь Зырянский, Поршнев, Садовничий, Яновский и другие ветераны колонии. Скоро заработали тигли в литейном и в механическом цехе появились блестящие алюминием части кожуха сверлилки: верхний щит, нижний щит, станина. Эти же блестящие детали скоро завертелись и в патронах токарных и револьверных.
На станках теперь требуется точная работа, а колонисты еще не искушены в точности, и поэтому они осторожны, как в лаборатории. Два раза в минуту берет колонист шаблон или штанген и проверяет деталь в работе. Верхний этаж – сборочный цех – почти целиком отдан девочкам и пацанам, здесь больше всего требуются их ловкие руки. До целой сверлилки еще очень далеко, но «узлы» уже начали собираться, и в девичьих руках заходили первые якори.
После школы в аудиториях и школьных кабинетах занимаются[295]группы, организованные комсомолом для лучшего проникновения в тайны производства. Тайн этих немало, работа каждой детали представляет очень сложную задачу, разрешение которой связано и с характером станка, и с комплектом многих приспособлений. В сборке то и дело выясняется, что эту операцию нужно производить не так, а иначе, что многие детали лучше штамповать, чем точить. В электросверлилке целая система шестеренок, а с ними хлопот больше всего. Целую неделю ходил черный как уголь, угрюмый и неповоротливый инженер Беглов вокруг зуборезного «Марата». Вместе с Семеном Касаткиным они с замиранием сердца ожидали выхода очередной шестеренки, а когда шестеренка родилась – ее еще теплое тельце дрожит на ладони Беглова, – Касаткин чуть не со слезами смотрит на ладонь инженера и говорит:
– Опять на концах съело…
– Съело.
– А давайте на модуль один попробуем!
Беглов смотрит в лицо Семена, но видит не серые большие глаза, а исписанный цифрами листок бумаги, на котором он ночью высчитывал работу фреза модуль ноль семьдесят пять сотых.
– Нет… давай еще разок пройдемся этим чертом.
– Все равно не выйдет, – говорит Семен Касаткин, но покорно пускает свой сложный станок, и снова они стоят над станком и с замиранием сердца ожидают.
По цехам заходили контролеры: Мятникова, Санчо Зорин, Жан Гриф. В руках у них шаблоны, образцы и прочая точная механика. Между колонистами поселилось и прижилось слово «сотка». На втором этаже завертелся круглошлифовальный «Келенбергер», на который Александр Остапчин и Похожай распространили весь запас любви и заботы, какой только может поместиться в душе колониста. Шлифовка валиков и здесь производилась сначала с ежеминутной проверкой шаблоном. Через две недели Похожай научился слово «сотка» произносить без всякого почтения.
– Что прикажете? Снять на полсотки? Есть, товарищ инструктор…
Похожай пускает станок и чуть-чуть склоняется к нему: его глаза, его нервы, его пятые, шестые и десятые чувства – все сосредоточились на подсчете бесконечно малых движений станка, – и вот хитрый, удирающий, неуловимый момент пойман. Похожай выключает станок и протягивает инструктору деталь!
– Есть на полсотки, товарищ инструктор! Получайте.
– Да ты проверь!
– Мало интересуюсь проверкой: проверяйте вы, а у нас, как в аптеке.
Завод разворачивается: уже в кладовых некоторые полки заполнены деталями, уже стружек стало выметаться из цехов полные ящики, уже в совете бригадиров стали поругивать деревянные модели и просили молодого инженера Комарова дать объяснения. Комаров пришел с розоватым оттенком на обычно бледных ланитах и отбивался:
– Все, что можно было сделать в инструментальном цехе, сделано. Осталось еще сорок приспособлений, они будут готовы через неделю. Лимитирует сталь номер четыре, которую Соломон Давидович обещал…
Колонисты слушают Комарова, верят ему и уважают его, а все-таки спрашивают:
– Почему, когда привезли сталь номер четыре, так она два дня лежала в кладовой, а потом только догадались ее выписать?
– А почему чертежи кондуктора для детали сто тринадцатой с ошибкой?
Комаров краснеет еще больше и посматривает на Воргунова, а Петр Петрович принимает его взгляд целыми пригоршнями и говорит:
– Ага? Что ж вы на меня смотрите? Вы на них смотрите!
Филька Шарий сидит, как обыкновенно, на ковре и тоже высказывается:
– Это потому, что Иван Семенович слишком много внимания… это… слишкоми много внимания Надежде Васильевне…
– Филька, – возмущается Торский, – что это такое, в самом деле! Всегда тебя выгонять нужно из совета!
Филька надувает губы и отворачивает лицо: он еще не помнит, чтобы к нему относились справедливо. Но и у Комарова положение после Филькиного выступления не из легких. Он быстро перебирает в руках инструментальные бумажонки и бормочет…
– Я не могу… такие разговоры… Я назначен работать, а не выслушивать…
Бригадиры дипломатически смотрят на окна, у Оксаны чуть-чуть вздрагивают губы. Захаров поправляет пенсне.
Вечером Комаров пришел к Захарову с заявлением об уходе. Захаров положил заявление перед собой и разглядывает почерк Комарова недоверчивым взглядом:
– Это не нужно, Иван Семенович!
– Как не нужно? Какое они имеют право… в личные дела…
– Да что ж тут такого? В наших личных делах нет ничего позорного. Все знают, что вы влюблены в Надежду Васильевну, все вам сочувствуют, радуются, а Филька, конечно, ничего не понимает в этих делах.
Комаров после этого случая дней десять ходил по колонии мрачный и старался не встречаться с Надеждой Васильевной. Через десять дней у него опять было столкновение с советом бригадиров, только уже по другому вопросу: совет хотел колониста Редьку перевести в механический цех. Комаров долго возражал против этого, а потом из себя вышел:
– Так и знайте: заберете у меня Редьку – ухожу с завода!
И смотрел после этих слов на бригадиров злой и бледный. Бригадиры удивились, а Филька произнес:
– А что ж? Он правильно говорит! С какой стати!
Совет бригадиров уступил, а вечером Захаров сказал Комарову:
– Видите, отстояли дело, ваш верх.
Комаров улыбнулся и прямо от Захарова пошел в гости[296] к Надежде Васильевне.
Очень трудно в той части горизонта, где помещается сфера Соломона Давидовича, – там всегда толпятся грозовые тучи. Деньги все истрачены на строительство и оборудование, старый завод закрылся, новый еще не выпускает продукции. И Соломон Давидович «парится».
– Сколько угодно есть предложений. Дадут какой угодно аванс, только подпишите договор на сверлилки.
– Сверлилок еще нет, – отвечает Захаров.
– Но будут же, или они никогда не будут?
– Первые сверлилки будут, вероятно, плохие.
– Какое это имеет значение, плохие или хорошие, но их продать можно?
– Их продать нельзя.
– Алексей Степанович, говорите такие слова тому, у кого хорошие нервы, а у меня очень плохие нервы. Как это так: нельзя продать готовую продукцию?
Захаров молчит, и Соломон Давидович страдальчески вздыхает:
– Разве я теперь человек? Я теперь угорелая лошадь!
Новый завод, как и всякое настоящее дело, оказался трудным. Заедало то в одном месте, то в другом таинственные секреты открывались там, где, казалось, все безоблачно и все предначертано. И не только нервы Соломона Давидовича иногда гуляли, но и в четвертой бригаде начинало дебоширить беспокойство, то самое беспокойство, которое иначе еще называется чувством ответственности. Новый завод колонисты воспринимали как небывалое и невиданное счастье, выпавшее на их долю. Если они знали, что Октябрьская революция принесла людям новую жизнь, то для них эта новая счастливая жизнь была неотделимо от завода электроинструмента. И поэтому так страстно хотелось, чтобы скорее выходили сверлилки, чтобы скорее приехали за ними представители Красной Армии и промышленности, чтобы как можно скорее Советское правительство издало приказ, запрещающий ввоз электросверлилок из-за границы.
Игорь Чернявин получил самый лучший станок на заводе – плоскошлифовальный «Самсон Верке». Он стоит в углу механического цеха рядом с шепингом «Кейстон». Игорь Чернявин рассказывал товарищам:
– Этот станочек – самое симпатичное существо на свете. С ним даже разговаривать можно, такой он симпатичный.
Игорь и в самом деле разговаривал со станком, особенно когда приходил по утрам. Станок, действительно, у Игоря занятный: плоский предмет, который нужно шлифовать, ничем не прикрепляется к доске, а просто Игорь тронет выключатель сбоку, и деталь пристанет к столу, как будто они из одного куска вырезаны.
– Магнитный стол, – говорит Игорь. – Магнитный стол – это вам не какой-нибудь дореволюционный патрон.
Возле этого магнитного стола Игорь и уроки готовит, и отдыхает. Даже образ Оксаны чуточку потускнел в сравнении со станком.
И все-таки Игоря постиг удар. В маленьком шкафчике, в самом станке, стоял флакон особого, дорогого машинного масла, которое с большим трудом добывал Соломон Давидович исключительно для этого станка. И вот однажды утром пришел Игорь в цех, открыл шкафчик, а флакона не увидел. Может быть, Игорь забыл поставить его в шкафчик. Игорь обыскал станок, задумался, произнес тревожно:
– Синьор! Я вчера смазывал ваши части и поставил флакон в шкафчик! Куда вы его задевали?
Но шлифовальный молчал, и было видно по выражению его лица, что он тоже расстроен происшествием. Рядом на «Кейстоне» работал Филька. Игорь подозрительно посмотрел на Фильку и на шепинг, но у обоих выражение было самое добродетельное. Игорь целый день искал свое масло, так и не нашел. Подобные случаи перестали удивлять колонистов.
Кражи в колонии продолжались. С открытием нового завода они сосредоточились на инструментах. Не было дня, чтобы не пропадало что-нибудь возле того или другого станка: микрометр, штанген, приспособление, ключи, дорогие резцы. Захаров отдал приказ – после конца работы все сдавать в кладовую, кроме необходимых «текущих» вещей, приписанных к данному станку, а такие вещи запирать под замок в тумбочках. Это не помогло, потому что и из тумбочек, из-под замка, вещи все равно пропадали. Заведующий инструментальной кладовой, бывший литейщик Баньковский, только и делал, что составлял акты на пропавшие инструменты, приносил к Воргунову на подпись и говорил:
– Тут… в этой колонии, воров… половина. Вот увидите, они все раскрадут.
Воргунов неохотно, морщась, подписывал акты, отворачивался от Баньковского, а потом шел к Захарову:
– Что делать? Нельзя же работать! Микрометры – ведь дорогая вещь, их не так легко достать.
Захаров молча выслушивал, круто поворачивался на стуле, опирался руками на колени: на одну ногу кулаком, на другую ногу локтем, закусывал нижнюю губу. Воргунов следил за ним и спрашивал:
– Как вы думаете, сколько воришек есть в колонии?
Захаров отвечал, не меняя позы.
– Петр Петрович, воришки есть, конечно, но наши воришки – люди с чувством и сердцем, они на заводе красть не будут.
– А кто крадет? Кто? Я сплю и дрожу: если будут украдены фрезы, мы остановимся надолго. Таких фрезов во всем городе нет, они никому не нужны, кроме нас, а сделать фрез, вы знаете, что это значит?
Говорят, если у человека на лице родимое пятно, то он к этому привыкает. Кражи в колонии были тоже неприятным родимым пятном, которое искажало светлое человеческое лицо коллектива, но привыкнуть к нему колонисты все-таки не могли. Игорь несколько дней искал свое масло, другие искали свои микрометры и штангены, но думали все уже не о своих обиженных станках, а о большом всеобщем горе, о всеобщем бессилии коллектива. Думали и складывали в глубине души молчаливые глыбы гнева и оскорбления.
Игорь еще искал свое дорогое масло, когда перед обедом в кабинет Захарова пришел дежурный бригадир Рыжиков и забыл даже стать как следует.
– Алексей Степанович, новая кража: все фрезы с зуборезных, до одного!
– Что?
– Ни одного фреза не осталось – восемнадцать штук!
Захаров снял пенсне, положил на стол, крепко прижал пальцы к глазам, потом долго натирал ладонями щеки, и только тогда[297] сказал:
– Есть!
– Обыск нужно, Алексей Степанович.
– Не нужно… обыска.
Рыжиков вздохнул, молча поднял руку и вышел.
21 Враги
В пять часов вечера Филька и Ваня Гальченко вышли из кабинета Захарова. Володя Бегунок трубил сбор бригадиров. Рыжиков услышал сигнал и удивился: почему трубят без ведома дежурного бригадира? Он пошел к Захарову.
– Ах, да, – сказал Захаров, – ты извини, срочно нужно. Я все равно хотел тебе сказать, ты задержи ужин, потом поужинаем.
Но раньше, чем собрались бригадиры, Игорь Чернявин стал перед Захаровым и сказал:
– Я знаю: масло сперли Филька и Ванька. И я прошу: вы их построже допросите.
– Но ведь у тебя нет доказательств?
– Если бы были доказательства, я вас не беспокоил, а прямо в совет бригадиров. А вы их хорошенько допросите. Они работают рядом на «Кейстоне» и сперли.
В кабинете сидели Воргунов, Соломон Давидович и Надежда Васильевна. Игорь не стеснялся их присутствия, теперь было все равно, никого нельзя жалеть и ни с кем считаться. Захаров почему-то улыбался и явно не сочувствовал Игорю:
– Что же я могу сделать?
– Их нужно в работу взять, Алексей Степанович. Я позову.
– Позови.
Звать было недолго. Игорь открыл дверь в комнату совета и сказал:
– Эй вы, ступайте сюда.
Очевидно, обвиняемые прекрасно догадались, кому нужно «ступать сюда». Филька и Ваня вошли в кабинет, аккуратно салютнули Захарову. Ваня тихонько присел на диване и сразу засмотрелся на потолок. Филька стал перед столом, готовый разговаривать с Захаровым. Захаров поправил пенсне и спросил голосом средней строгости.
– Чернявин вот… обвиняет вас в том, что вы взяли у него флакон масла.
Филька поднял глаза к Игорю:
– Мы взяли масло? Чудак какой! Ничего мы не брали.
Чернявин упорно двинул головой и плечами:
– А я говорю: вы взяли.
У Фильки замечательная мимика: она убедительна, серьезна, пышет здоровьем.
– Ты посуди, Игорь, для чего нам твое масло? У нас свое есть!
– У меня было особенное, дорогое!
– Ах, особенное? Очень жаль! Где оно у тебя стояло?
– Да чего ты прикидываешься? Где стояло! В станке, в шкафчике!
Филька даже головой помотал от сильной впечатлительности:
– Воображаю, как тебе жалко!
Игорь взмахнул рукой – жест отчаяния!
– Смотрите, он еще воображает! Вы на это масло давно зубы точили.
– Мы и не знали, что оно у тебя есть. Правда же, Ваня, не знали?
Ваню этот разговор, кажется, совсем не интересовал. Ваня больше разглядывал кабинет, это вполне устраивало его, так как избавляло от необходимости встречаться с разными взглядами Соломона Давидовича, Воргунова… Так же, рассматривая кабинет, Ваня завертел головой, значит, действительно они не знали ничего про масло. Игорь закричал:
– Вот распустились! Стоит и брешет: не знали! А сколько вы ко мне приставали: дай помазать! Приставали?
Филька добродушно согласился:
– Ну… приставали.
– И что же?
– Да… ничего… Что же? Не даешь, и не надо.
– А сколько раз вы просили Соломона Давидовича купить вам такого масла? Чуть не со слезами: купите, купите! Что ты теперь скажешь?
Действительно, что теперь скажет Филька? Этот вопрос всех заинтересовал: Захаров даже вперед подался и положил голову на кулаки. Филька повел носом и руку поднял для более убедительного жеста:
– А что ж тут такого? Просили. Ни с какими слезами только, а просили.
– А вот уже четыре дня не просите и не вякаете! А?
Филька с обычным для него оскорбленным выражением отвернулся и прошептал:
– И не вякаем, а что ж?
Видно было, что Фильке сильно надоел этот пустой разговор. Он даже вздохнул незаметно. Но Игорь приставал, как смола, и пользовался тем, что дело происходит в кабинете.
– А почему это?
Филька тоже потерял терпение:
– До каких же пор приставать? Не покупает – и не надо! Тебе купил, а нам не покупает. Значит, он к тебе особую симпатию имеет!
Блюм не выдержал нейтралитета на своем диване:
– Ах, какой вредный мальчишка!
Ваня не повернул головы, мало ли что могут сказать люди. Но Филька оглянулся и неожиданно для всех подарил Соломона Давидовича очаровательной улыбкой. Соломон Давидович пригрозил ему пальцем.
– А мажете вы как? – приставал дальше Игорь.
Этого удара Филька, пожалуй, и не ожидал. Ваня тоже вытянулся на диване и навострил уши. Пришлось Фильке снова обиженно отворачиваться:
– Обыкновенно, как…
– Я знаю. Встаете, еще вся колония спит, и в цех. Через окно. Филька мажет, а Ванька на страже стоит. Что, не так?
Захаров теперь не выпускал Филькиных глаз, а это было очень неудобно. Хоть на кого так смотреть все время… И Филька не стал вдаваться в подробности, а ответил коротко:
– Мажем, как нам удобнее.
А Ваня Гальченко с дивана поддержал его звонким советом:
– И ты можешь раньше всех вставать и мазать.
Игорь беспомощно развел руками. Соломон Давидович подумал, что нужно зайти с другой стороны:
– Вы такие хорошие мальчики…
Но Захаров перебил его доброе намерение. Ни снимая головы с кулаков, он сказал медленно:
– Убирайтесь вон! Нахалы!
Одновременно Филька и Ваня подняли руки в салюте. Салют вышел радостный, и только на долю Игоря пришлась самая незначительная порция вредного, дразнящего взгляда. Мальчики, подталкивая друг друга, выбрались из кабинета. Все захохотали громко, только Игорь был недоволен:
– Ну что ты будешь с ними делать?
Соломон Давидович утешил Игоря:
– Я вам, товарищ Чернявин, еще куплю такого масла. А они пускай уже мажут. Они же влюблены в свой «Кейстон».
Воргунов посмеивался над Игорем:
– Так вы ничего не выяснили с маслом, товарищ Чернявин?
– С ними выяснишь! У меня с ними хорошие отношения, вот они и пользуются. Когда вымажут весь флакон, сами скажут, а теперь ни за что! Им масло отдавать не хочется. И где они его прячут, интересно знать, я у них уже в спальне смотрел.
– При них?
– А что ж, церемониться с ними буду?
– Да. Это… молодцы! Станок у них, не у каждой девушки постель такая бывает чистоя. Это… Ах, фрезы мне покою не дают…
В дверь заглянул Баньковский:
– Меня в совет звали, Алексей Степанович?
– Да, очень важный вопрос, прошу.
– О фрезах?
– И о фрезах поговорим.
Баньковский скрылся, Воргунов спросил:
– О фрезах совет?
Захаров улыбнулся какой-то особенной радостной улыбкой и вышел из-за стола:
– Надеюсь, что фрезы сегодня будут у вас на столе, Петр Петрович.
Володя Бегунок открыл дверь, вытянулся, от него тоже исходили негасимые лучи радости:
– Совет бригадиров собрался, Алексей Степанович.
Торский, несколько удивленный экстренностью совета, открыл заседание.
– Слово Алексею Степановичу.
Захаров весело оглядел своих бригадиров и обычных гостей:
– У меня слово будет короткое. Я только прошу предоставить слово для доклада Филе Шарию.
– Для доклада? Филька докладчик?
– Да, товарищ Шарий докладчик, и по самому важному вопросу, правда, я не знал, что к этому важному вопросу прибавилось еще и масло товарища Чернявина, но все равно, прошу внимательно выслушать докладчика.
Филька важно поднялся, как полагается докладчику, вышел к столу Торского, заметил слишком веселый взгляд Лиды Таликовой, опустил на одно мгновение глаза:
– Приходим мы сегодня с Ваней Гальченко в цех, а еще и сигнала «вставать» не было…
– «Кейстон» смазывать, – про себя как будто хрипнул Воргунов.
Бригадиры рассмеялись, Филька серьезно кивнул:
– Угу. Мы имеем право смазывать наш шепинг?
– Только масло краденое! – сказал Игорь.
Филька повернулся к председателю:
– Витя, я прошу… чтоб меня не оскорбляли.
– Говори, говори, – ответил Витя, – не оскорбляйся.
– Приходим мы с Ваней в цех, давай смазывать. Только мы наладились, зашел Рыжиков с Баньковским, из литейной вышли. Мы скорей за Игорин «Самсон Верке» и…
В комнате совета вдруг раздался треск, звук удара, шум неожиданной возни, крик Зырянского:
– Нет! Я смотрю!
От дверей Рыжиков с силой был брошен прямо на середину комнаты. Он упал неудачно – лицом на пол, и когда поднял лицо, рот у него был в крови. Все вскочили с места, Захаров закричал:
– Колонисты! К порядку! Зырянский, в чем дело? Брацан, подними этого.
Но Рыжиков и сам поднялся, стоял посреди комнаты и рукавом вытирал окровавленный рот. На руке у него яркая шелковая повязка дежурного бригадира. Зырянский быстро подошел к нему, сильно рванул, повязка осталась у него в руке. Он размахнулся, бросил повязку на пол, зашипел в лицо Рыжикова:
– Даже красную повязку опоганил, сволочь!.. В чем дело? Бежать хотел! Да я за ним с самого утра смотрю. И сел возле дверей, видно, знал, чем пахнет в совете!
– Довольно, Зырянский! Никто ничего еще не знает. – Торский кивнул Фильке. Рыжиков так и остался стоять на середине, трудно было представить себе, чтобы ему кто-нибудь позволил сесть рядом с собой.
Вдруг для всех стало ясно, что Рыжиков – враг, и сам Рыжиков не возражал против этого. Он не сказал ни слова, не протестовал против насилия, он смотрел только вниз в тот самый пол, на котором только что расшиб свой мягкий нос. К Фильке теперь все бригадиры обратили напряженные, острые глаза, кто-то подтолкнул:
– Рассказывай, рассказывай!
– Да мы спрятались за «Самсон Верке» и сидим. А Баньковский и говорит Рыжикову: вчера Беглов с фрезами допоздна возился, они здесь, фрезы. И сейчас же пошли, а отмычек у них… вот столько. Раз, раз, открыли тумбочку Семена и взяли. А потом Рыжиков и спрашивает: продал штангены? А Баньковский отвечает: нет, не продал, это неважно, так и сказал: это неважно! А Рыжиков еще и смеется: ха, говорит, вот потеха теперь пойдет, без фрезов! А Баньковский ничуть не смеется, а строго так говорит: всякая рвань стала заводы строить. И больше ничего не говорил, а только все время был очень злой. А Рыжиков не злой, а смеялся. И ушли. И фрезы понесли, в карманах фрезы понес Баньковский. А мы тогда и шепинг забыли смазать и побежали, Алеше рассказали, а потом и Алексею Степановичу.
Филька кончил и смотрел на Захарова. Захаров взял его за пояс, притянул к себе, и так уже до конца Филька простоял рядом с Захаровым. А Ваню Гальченко просто взглядами заласкали в этот вечер; даже Воргунов сидел рядом и все похлопывал Ванею по коленям. Все в совете обратились к Баньковскому. Он сидел в углу и дрыгал одной ногой, положенной на другую. Торский спросил:
– Что вы можете сказать, Баньковский?
Баньковский поднял лицо, хоть и побледневшее, но вовсе не испуганное:
– Нечего мне говорить, мало ли чего мальчишки набрешут.
Зырянский засмеялся ему в лицо:
– Ему нечего говорить, а нам нечего спрашивать. Надо немедленно произвести обыск у него в комнате.
– А мы имеем право?
– А мы без права. А может, Баньковский разрешит? Вы разрешите, гражданин Баньковский?
И Зырянский спрашивал насмешливо, и насмешливо смотрели на Баньковского колонисты, а все-таки Баньковский ломался:
– Я определенно не возражаю, но только вы и права не имеете. Это, если каждый будет обыскивать…
– Тогда мы без разрешения…
Все вперились взглядами в Захарова, он махнул рукой:
– Нет, этого случая мы не пропустим. Какие там еще разрешения? Вы, Баньковский, пойманы на месте преступления, и с вами мы церемониться не будем.
– А кто поймал? – закричал Баньковский.
– Мы поймали, понимаете, мы? Торский, посылай комиссию для обыска – три человека.
Комиссию сразу наметили: Зырянский, Чернявин, Похожай.
– Отправляйтесь, – сказал Торский, – старшим – Зырянский.
– И Баньковского брать?
– Я никуда не пойду и ключей не дам. И решительно протестую.
Филька воспользовался паузой и произнес басом:
– Иди, Баньковский, не валяй дурака.
Баньковский после этого молча вышел вместе с комиссией.
Только теперь вспомнили все, что на середине стоит с разбитым носом Рыжиков. Захаров негромко сказал:
– Может быть, Рыжиков нам что-нибудь расскажет?
И к общему удивлению, Рыжиков поднял печальное лицо, из тех лиц, которые просят и молят о понимании и сочувствии. Моргая глазами, страдальчески морщился и… и очень много интересного рассказал бригадирам. Может быть, он рассчитывал, что его искренность подкупит колонистов, может быть, хотел всю вину свалить на Баньковского, но темных мест после его рассказа не осталось. И пальто, и занавес, и серебряные часы, и множество всякого инструмента перестали быть таинственными. И французские ключи он подбросил Левитину, и два раза поджигал старый стадион. Рассказывал Рыжиков монотонным, страдающим голосом, без увлечения и без подробностей, но не забывал морщиться и моргать:
– Баньковский сказал: если бы на бригадиров думали! Чтоб у них бригадиры в подозрении были!.. А я согласился. А потом взял у Воленко часы и еще хотел подложить что-нибудь Зырянскому, только Баньковский так говорил все, а я говорю ему: не поверят про Зырянского.
Когда он кончил, Захаров спросил:
– Что же ты… из-за денег?
– Нет, на что мне деньги. Это все Баньковский говорил. И про моего отца говорил: отец твой хорошо жил, а ты теперь пропадешь через Советскую власть. Ну а я слушал, конечно, по глупости, и все делал. А мне отец что, я про отца ничуть не думаю…
– Так, – произнес Зырянский, – ты меня уже разжалобил. У меня слезы на глазах, видишь?
Рыжиков посмотрел в глаза Зырянского и отвернулся. Ничего он там не увидел, кроме самого беспощадного приговора.
Через час приехал Крейцер, вызванный Захаровым по телефону. Он вошел в комнату, как и раньше всегда входил, бодрый и способный смеяться, но не смеялся, а сказал, отвечая на общий салют:
– Здравствуйте, дорогие! Поймали? Обыск сделали? Правильно. Фрезы нашли? И штангены? Хорошо. А давайте-ка я с ними еще по секрету поговорю. Впрочем, я с одним Баньковским – два слова.
В кабинете Захарова он не больше пяти минут поговорил с Баньковским, вышел оттуда и сказал:
– Это только ниточка. А клубочек НКВД распутает. Надо их отправить в город. Алексей Степанович, хороших хлопцев, чтобы не выпустили, человек шесть!
– Выпустить? О, на что угодно, а на это у наших способностей, кажется, не хватит. Зырянский, конечно.
– Я не пойду с Зырянским, – прохрипел Рыжиков.
– Почему?
– Я не пойду. Он меня… он меня убьет.
Крейцер весело повернулся к Зырянскому:
– В самом деле? Алеша!
Зырянский побледнел и сжал губы:
– Я за себя не могу ручаться.
– Здорово, – сказал Крейцер. – Кто же тогда?
– Чернявин…
– Алексей Степанович, я его не убью, а бить всю дорогу буду. За Воленко и за всю колонию.
Крейцер закричал на весь совет:
– Это что такое? Это что за безобразие! Я приказываю: Зырянский, Чернявин, Похожай, кто еще… Брацан, Поршнев…
– Я, – сказал Филька.
– Подрасти!
– Все подрасти и подрасти!
– Подрасти, ничего… и Клюшнев! Вот: шесть человек. Дам записку доставить этих, и ни один волос у них с головы не упадет, и пальцем никто не тронет. Поняли?
Все шестеро встали как один, подняли руки в салюте:
– Есть, товарищ Крейцер!
– То-то же. Убийцы какие, подумаешь! Ну, поздравляю вас, ребята, поздравляю, дорогие! А дайте же мне посмотреть на героев, на самых главных.
И Филька и Ваня стали перед Крейцером, смущенные общим вниманием и своими собственными заслугами перед коллективом.
– Вот эти? О! Ваня Гальченко? Мы с тобой работали вместе! На закладке! А Фильку я хорошо знаю, старые приятели! Молдцы! Жму вам руки от имени Советской власти. И Крейцер крепкой широкой рукой по-настоящему пожал маленькие руки колонистов.
Когда все кончилось, когда увели арестованных, когда пришло бурное и радостное общее собрание, когда уехал Крейцер, Филька и Ваня принесли в кабинет флакон с остатками дорогого масла. Речь опять говорил Филька:
– Мы только два раза помазали, Алексей Степанович. И пускай Игорь не обижается. Мы и «Самсон Верке» его тоже смазывали, а не только свой шепинг.
Захаров долго и серьезно смотрел в глаза мальчиков и сказал им:
– Вы даже представить себе не можете, какие вы замечательные люди! И вы никогда этого не поймете, и это хорошо, по крайней мере, задаваться не будете!
Филя и Ваня не вполне поняли, что сказал Захаров. Они ответили ему, как полагается отвечать заведующему: – Есть, не задаваться!
22 Будем помнить
Всем казалось, что к концу пришла эта маленькая история в маленьком детском коллективе, в скромной колонии им. Первого мая. Счастливый конец всегда отмечается торжеством, и искренно и открыто торжествовали первомайцы свою победу: действительно, к празднику 7 Ноября не осталось врагов в колонии, ни на производстве, ни в бригадах. Открытыми глазами теперь можно смотреть друг другу в глаза, и не стыдно никому видеть утром два узких флага на башнях главного здания.
В конце октября уехал в Ленинградское военно-морское инженерное училище им. Дзержинского секретарь совета бригадиров Виктор Торский. И когда стали выбирать нового секретаря, Илья Руднев сказал:
– Надо выбрать Игоря Чернявина. Он человек с далеким глазом. Он тогда один говорил, что это Рыжиков – враг, а мы ему не поверили, Игорю. Нам нужен такой председатель.
И, наверное, все так и раньше думали, потому что выбрали Игоря единогласно. Он сдал восьмую бригаду новому бригадиру Санчо Зорину и сел рядом с Захаровым, чтобы вместе управлять трудной работой колонии. И первым делом нового секретаря было возвращение Воленко. Адрес его хорошо сохранился в тайниках четвертой бригады. В Полтаву была отправлена делегация из трех колонистов, не пожалел для этого Захаров никаких денег. Делегация повезла Воленко письменное приглашение общего собрания возвратиться в колонию, деньги на дорогу и новый парадный костюм. С полным правом в эту делегацию включили и Ваню Гальченко, который тогда придумал взять у Воленко адрес.
Воленко возвратился на первый день праздника. Удивляясь, наверное, горожане, почему это первомайцы с демонстрации не домой пошли через Хорошиловку, а в противоположную сторону, к вокзалу. На широкой и красивой вокзальной площади они выстроились. Совет бригадиров и Захаров пошли к самому поезду, а когда они вышли на площадь вместе с Воленко, их встретили знаменным салютом. Двести пар глаз смотрели на Воленко, и не было ни одной пары, в которой ни кипели бы слезы. И горожане смотрели на первомайцев и удивлялись: почему это такой стройный отряд мальчиков и девочек под музыку замер в салюте и почему так заметно у них по щекам сбегают слезы? А потом поняли горожане, что это им показалось: когда дал Захаров команду «вольно» и все бросились здороваться с Воленко, а многие и целоваться, поняли горожане, что у колонистов не горе, а радость сегодня. Воленко прошел по фронту колонистов, тонкие его, строгие губы улыбались и с благодарностью к товарищам, и с гордостью за свою колонию. А когда опять стали колонисты в строй, вышел вперед Игорь Чернявин и, не обращая внимания на зрителей, на праздничную и счастливую, нарядную[298] толпу, сказал:
– Дома будем говорить подробнее. А сейчас просим Воленко принять сегодняшнее дежурство по колонии. Нам будет приятно, если в день великого праздника дежурным бригадиром будет бригадир первой.
И тут же на площади Руднев и Воленко вытянулись перед заведующим. Руднев сказал:
– Товарищ заведующий! Дежурство по колонии бригаду первой бригады Воленко сдал.
И Воленко сказал:
– Товарищ заведующий! Дежурство по колонии от бригадира десятой Руднева принял.
И было так радостно всем колонистам услышать голос Воленко, и казалось многим, что все прошлое было сном, и не было никакого Рыжикова, и не было никакого горя у колонистов. И еще радостнее было возвращаться домой через торжественный город, ставить легкую танцующую ногу под счастливый серебряный марш и видеть краем глаза, как любуются люди на тротуарах колонной первомайцев, и гордиться своей удачей в прошлом и своей удачей в будущем. Вечером на собрание приехал Крейцер, поздравлял колонистов с праздником, с возвращением Воленко, а потом сказал:
– Дорогие друзья! Только не успокаивайтесь. На своей шкуре вы почувствовали, как трудно бороться с врагом. Разве у вас Рыжиков не был бригадиром первой? Разве вы не тянулись перед ним и не говорили «есть, товарищ дежурный»? А он вовсе был не товарищ, а если и был дежурным, так это был дежурный враг. Смотрите, вы теперь знаете, что такое враг и сколько он зла может принести. Враг никогда не придет к вам сереньким и скучным. Он всегда будет в самые глаза ваши пролезать, в самую душу проникать, он всегда постарается вам понравиться, он захочет кое-что сделать для вас, чтобы вы считали его своим товарищем. А вы смотрите внимательно, вы уже многому научились. Есть у вас такой Подвесько. Слышал я, он провинился перед вами, а вы его даже не наказали. Правильно, потому что провинился по неопытности и по ошибке. Смотрите и дальше разбирайтесь в этом. И вам это нужно, и Советской стране.
Теперь колонисты за каждым словом видели сущность вопроса. Они видели, как опасен и скрытен может быть враг, и они готовились встретить его в жизни с неприкрытой, уничтожающей ненавистью, встретить в самом начале его предательства.
Не прошло и месяца, как вместе со всем Союзом они увидели страшный смертельный взмах вражеской руки и на всю жизнь запомнили это видение.
В этот день Захаров вышел из своей квартиры поздно. Ночью он работал и, уходя спать, сказал часовому, что на поверке не будет. Правда, он слышал сигнал побудки, но не спешил. Выйдя во двор, он по привычке остановился у дверей и бросил общий взгляд на колонию. Было еще темно, но уже краснело небо на востоке. На фоне зари он видел флаги на башнях главного корпуса и… что-то странное происходило с флагами. Один из них вдруг начал опускаться. На фоне красной зари он казался черным, спускаясь, он вздрагивал, и его узкий конец подымался кверху. На середине флагштока он остановился, и начал спускаться второй флаг. Захаров с усилием старался вспомнить: второе декабря… нет… что-то случилось! Он побежал к главному зданию. Среди темных кустов цветников на него налетел Игорь:
– Что такое… Почему флаги?
– Киров… Алексей Степанович! Киров… убит!
– Что… Откуда знаете?
– По радио сейчас только…
Захаров вбежал в здание. Растерянная толпа колонистов забила весь вестибюль. Говорили шепотом, чего-то ждали, на диванчике тихо плакала девочка, повалившись лицом вниз. Дежурный бригадир Оксана Литовченко проталкивалась к Захарову:
– Алексей Степанович, не могу дежурить.
– Как это «не могу»?
– Я не могу, Алексей Степанович!
Захаров понял, что от нее толку уже не добьешься. Она упала[299] с рыданиями на диван, повторяя одну и ту же, ставшую уже бессмысленной, фразу:
– Ой, не могу, ой, не могу, Алексей Степанович!
Он стал отстегивать ее повязку, она забилась на диване:
– Ой, не могу! Если они будут убивать, если они будут стрелять… Кирова стрелять…
Колонисты смотрели на Оксану с молчаливым испугом, их глаза напряглись в неподатливых поворотах, они хотели быть мужчинами, они не хотели дать волю слезам. Захаров отдал повязку Игорю.
– Кому дежурить? – спросил Игорь.
– Дежурить? Захаров забыл, что он хотел сказать. – Дежурить… Ты о чем меня спросил?
– Кому дежурить?
– Ага… – Захаров хотел сообразить, и что-то мешало ему. Он, наконец, нашел выход:
– Дежурь сам. Понимаешь, сам дежурь. Сейчас… ага! Общее собрание немедленно. Оркестр. Знаменная бригада… Да… Креп… пошли ко мне домой… Креп на знамя.
Захаров прошел в кабинет. На всех диванах в комнате совета и в кабинете сидели малыши и молчали, заложив руки между колен. Они сидели тесно и неподвижно? При входе Захарова встали машинально и машинально подняли руки, а потом снова опустились на диван и снова заложили руки между колен. Захаров не обратил на них внимания, сел за стол и задумался. Наконец догадался:
– Расскажите… подробнее, что передавало радио.
Малыши с большим трудом, помогая друг другу, рассказали ему о том, что слышали. Донеслись сигналы[300] общего сбора и сбора оркестра. Малыши сорвались с дивана и побежали в зал, но и на бегу они сегодня были как бы неподвижны. Общее собрание началось в подавленном, тяжелом молчании. Встретили знамя, увитое черным крепом, обернулись к Захарову:
– Товарищи! Страшное горе и страшное преступление… Оказывается, мы даже не знали, какие есть подлые враги, сколько еще злобы и ненависти против нас, против нашего государства, против наших вождей. Теперь вы понимаете, что это такое, товарищи колонисты?
– Понимаем! – ответили как один двести колонистов, ответили негромко, единодушным задумчивым ропотом. И сорок трубачей заиграли революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», потом шопеновский марш, марш торжественной скорби. Увитое горестным крепом бархатное красное знамя склонилось. Вышел вперед секретарь совета Игорь Чернявин и сказал:
– Жизнь наша… и наше счастье, товарищи, в наших руках. И из наших рук его хотят вырвать. Стреляют! Сволочи, они убили Кирова, они думали что? Они думали: одних убить, других запугать, третьих обмануть! Они так думали! А для чего? Для того чтобы вернулась старая жизнь, которая им нравится, потому что в той жизни они будут хозяевами, а мы будем у них рабочей скотиной! Мы будем рабочей скотиной? Они не знают, гады, они не знают, что мы уже привыкли быть людьми, настоящими людьми, рабочей скотиной мы теперь не сумеем. Так мы и скажем: синьоры, мы не умеем, до свиданья! Алексей Степанович! Партия! Колонисты! Скажите, что я правильно говорю: и сейчас, и когда вырастем, и всегда будем помнить товарища Кирова, и всегда будем помнить, кто его убил и для чего! И не простим, и не пощадим, уничтожим каждого, кто станет на нашей дороге. Только я говорю: не нужно ждать момента, не нужно ничего ждать. Каждый день, каждый час думать об этом. Теперь мы еще лучше знаем, для чего наш завод! Наш завод – это вооружение, это борьба, это новые люди, и такие люди, которые не подкачают и ничего не простят. Нестеренко поехал в авиастроительный, Колос поехал в университет, Миша Гонтарь сел за машину – никто не пошел в рабы и не пойдет. А этот день будем помнить. Я не знаю, что сказать, я хочу, чтобы этот день, как тревога, понимаете, как сигнал тревоги, мы всегда слышали. Я предлагаю: до той минуты, когда будут хоронить товарища Кирова, пусть наше знамя здесь, возле Сталина, стоит, пусть стоит склоненным, и мы станем с винтовками. Пусть каждый колонист будет помнить, как он стоял на страже возле нашего знамени.
И двое суток стояло бархатное знамя колонии им. Первого мая, и день и ночь через каждые пятнадцать минут сменялись возле знамени парные часовые. Они стояли смирно с винтовками в руках, в парадных костюмах, только воротники белые сняли в знак траура. И до поздней ночи сидели на бесконечном диване в «тихом» клубе колонисты, а пацаны сидели на ступенях к бюсту Сталина и говорили шепотом.
А когда унесли знамя из «тихого» клуба и когда поднялись узкие красные флаги к верхушкам флагштоков и развернулись по ветру, с новой страстью, с новой настойчивостью, с новым разумом бросились колонисты к станкам, к школьным столам, к строгому порядку своего коллектива. Они продолжали идти вперед, они смотрели направо и налево и далеко, далеко видели: теряясь в туманных далях краев и границ, шел вместе с ними все вперед и вперед великий фронт социалистического наступления.
Жизнь продолжается, и продолжается борьба. И продолжается радость, уже отвоеванная в жизни, и продолжается любовь. Игорь Чернявин, у которого большой рот выражает теперь не только иронию, но и силу, Игорь Чернявин идет вперед, и в его руке рука Оксаны. И Ванда Стадницкая – мать и жена, ударница на заводе, идет вперед и улыбается всегда, когда вспоминает прошлые свои неудачи. И Ваня Гальченко и вся четвертая бригада славная, непобедимая четвертая бригада – серебряным маршем звенит по земле, и другие бригады с ними рядом, великие бригады трудящихся СССР – исторические бригады тридцатых годов.
Приложение
План сценария
Основная тема: Борьба детского коллектива (советского коллектива) за человека, за культуру, за новую жизнь и одновременно с этим за новую культуру воспитания.
Подтемы: а) рост и социализация отдельной личности разной степени сопротивляемости; б) рост и организация коллективных связей, новой дисциплины, новых стремлений; в) рост общественной ценности коллектива; г) рост и упражнение – изобретение новых педагогических приемов, материализация педагогики; д) общий мажор, радость советской жизни; е) рост материального богатства и культуры; з) никаких нервов не нужно.
Сюжет. Сюжет заключается в переплетении нескольких лиц, которые в конце концов находят свою личность в коллективе. Эти лица составляют основную группу взаимно сталкивающихся людей, тянущихся друг к другу и взаимно отталкивающихся.
Центральные сюжетные линии. А, Б, В, Г – группа всех четырех встречается на небольшой станции.
Г чистит сапоги. Он ушел из дома от мачехи и побоев отца, но не хочет быть вором, а в детских домах ему не нравится. Он умный, веселый, уважает труд людей. Ящик он сделал сам, а 15 рублей ему дал дядя. Но чистить сапоги ему не нравится. Он готов искать лучшего. С ящиком он приходит в колонию.
А на этой же узловой станции получает по переводам. Это человек прежде всего беспринципный, но веселый и умный. Энергии у него много, но работать он не умеет. Терпеть не может грязи.
Б – самый испорченный, лживый, осторожный и хитрый вор. От воровства избавиться не может. Крадет даже у беспризорных.
15 действующих лиц. Центральная сюжетная группа. А – тип Захожая-Огнева: бодрый, умный; Б – тип Иванова-Ужикова; В – тип Веры Березовской; Г – тип Вани Зайченко: активный, боевой.
Центральная внесюжетная группа. Д – тип Лаптя; Е – тип Наташи Петренко; Ж – тип Ужикова Марка; З – тип Маруси Левченко; И – тип Зырянского; К – тип Федоренко; Л – тип Синенького; М – тип Марка Шейнгауза.
Центральная внесюжетная группа. Д – тип Лаптя: юмор, ум; Е – тип Зырянского: страсть; Ж – тип Наташи Петренко: спокойствие, душа; З – тип Синенького: ясное детство; И – тип Романова Петра: острый, умный, проказник.
Оттеняющая группа. К – тип Шейнгауза: мечтательный, задумчивый; Л – тип Сатина: правдолюб, страсть; М – тип Боярчика: техник, друг; Н – тип Миши Овчаренко: балда; О – тип Галатенко: лентяй; П – тип Перца: хулиган.
Взрослые: Завкол, Отченаш, Коган, Воргунов, Белоконь, Воргунов – шофер, Сильвестров – телеграфист, Торская – воспитательница, Перский – воспитатель, Троян – инженер.
Дополнительные: Лаптенко – беспризорник.
Характеристики персонажей
1. Гальченко Ваня. Чистое бледное личико. Веселый и живой. Серые глаза. Русые волосы.
2. Игорь Чернявин (Черногорский). Насмешливый, ехидный, большой рот и веселые глаза. Худой и длинный.
3. Стадницкая Ванда. Белокурые волосы. Хорошенькие серые глаза.
4. Рыжиков Гриша. Рыжие волосы. Угрюм. Некрасив и неприятен. Зеленые глаза.
5. Кравчук Петька. Серьезный, лобастый. Чубчик выходит на лоб и закругляется спиралью. Иногда говорит басом…
6. Бегунок Володя. Румяный, хорошенький. Вторая труба.
7. Воленко Сергей. Тонкое лицо, очень интеллигентное и бледное. Тонкие строгие губы.
8. Торский Витя. Человек серьезный и бывалый.
9. Захаров Алексей Степанович. Лысеет. Пенсне. Стриженые усы. Детская улыбка…
11. Никола Иванович Душин. Хорошо одет, аккуратно, очень вежлив. Чисто выбритые щеки, седые усы, умело, кокетливо подкрученные.
12. Нестеренко Вася. Доброжетальное лицо, полные губы, круглые щеки, серые с поволокой глаза, пушисто раскиданная русая прическа, неповоротлив… Мягкий баритон – десятый класс.
13. Рогов. Аккуратное, чистенькое, умное личико блондина. Привержен к одной учебе, лишь на производстве – приобщение к пацанам, сборочный цех.
14. Гонтарь Миша. Слесарь по ремонту, пятый класс. Низкий лоб. Жесткие волосы… Неряха. Не любит строя. Хочет быть шофером…
15. Акулин Петр. Простенькое лицо, худое, простого деревенского румянца, спокойное и ровное без улыбки. Хочет быть летчиком. Токарь лучший, восьмой класс.
16. Остапчин Александр. Большие карие красивые глаза… В токарном, бригадир.
17. Зорин Санчо. Живой, подвижный… Горячий… Восьмой класс. Шеф Олега. Сборочный цех.
18. Лиственный Сергей. Излишняя любовь к чтению. Сборочный цех.
19. Савченко Харитон. Вялось характера. Широкоскулый, нескладный.
20. Яновский Борис. Кудрявый, красивый, улыбающийся брюнет. Наклонность к запирательству и брехне.
21. Середин Всеволод. Пижонство. Сборочный цех. Чистое лицо. Закидывает назад голову.
22. Горовой Даниил. Медвежья неповоротливость, неуязвимость.
23. Оришкина Клава. Хорошенькое, нежное, чуть-чуть полное личико. Темно-русые кудри… Хорошие серые небольшие глаза. Замечательно красивый голос.
24. Касаткин Семен. Тоненький, белокурый…
25. Горохов Руслан. Коренастый, стриженный под машинку. Очень простое, прыщеватое, носатое лицо. Нос красивый, разные зубы. Работает на шипорезном.
26. Блюм Соломон Давидович. Полный, с брюшком, круглая голова, обритая.
27. Волончук. Скучный, нескладный…
28. Оксана. Кожа темно-розовая, карие глаза, темно-каштановые волосы. Черные брови. Лоб, суживающийся наверху.
29. Зырянский Алексей (Робеспьер). Хорошо сложен… Умные веселые глаза… Выразительные губы.
30. Штевель-мастер. Широкий, плотный, румяный, серые глаза.
31. Лида Таликова. Полное, чуть тронутое веснушками, но милое лицо. Ярко-золотые волосы.
32. Филька Шарий. Широколобый…
33. Люба Ротштейн. Аккуратная, розовая.
34. Марк Грингауз. Большеголовый, черноволосый.
35. Поршень. Изящный…
36. Виктор Денисович Лошаков. Веселый, старый.
37. Жан Гриф. Черноглазый, красивый юноша…
О повести «Флаги на башнях»[301] Встреча А. С. Макаренко с читателями в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова (18 октября 1938 г.)
Вступительное слово
Товарищи, я полагаю, что все или почти все присутствующие здесь товарищи прочли «Педагогическую поэму». Но другое мое произведение «Флаги на башнях», которое является продолжением «Педагогической поэмы», многие из вас, вероятно, не читали, поэтому о «Педагогической поэме» говорить не буду, а о последней книге дам некоторое объяснение.
В «Педагогической поэме» меня занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое лицо, борьбу более или менее напряженную. В «Флагах на башнях» я задался совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение.
Это счастливый коллектив в счастливом обществе. И я хотел показать, что счастье этого коллектива, нередко выражающееся в глубоко поэтических формах, заключается тоже в борьбе, но не в такой напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, как было в колонии, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих сил, часто выражаемых внутренними, еле заметными тонами. Все это очень важные и сложные вопросы. Только в коммуне им. Дзержинского я особенно остро понял, почувствовал, что недостаточно охватил еще всю сложность процесса воспитания нового человека.
Этот процесс происходит не только внутри самого коллектива, он происходит во всем нашем социалистическом обществе. Это процессы труда и внутренних отношений, роста самого человека и, наконец, многочисленные чрезвычайно тонкие внутренние между мальчишеские и междуколонистские отношения. Все это я и стремился показать. Может быть, с такой задачей в произведении «Флаги на башнях» я и не справился. Решения этой задачи, вероятно, хватит не одному поколению. Но я обратил внимание, что мальчики и девочки в таком коллективе – это прежде всего граждане. И в этом заключается отличие наших детей от детей какого угодно общества… Чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди.
Это социальные движения, имеющие характер важнейших движений, и в то же время явно детские движения – они тоже движения в нашем обществе, в нашей борьбе и сопровождаются тем же удовлетворением, теми же правами, той же степенью благородства, и деликатности, и смелости и другими лучшими человеческими качествами.
Вот это я стремился показать, а как удалось, как вышло – судите вы, ибо очень часто бывает, что хочется написать и рассказать многое, но не всегда это удается. Только читатель может судить о том, насколько удачно получилось.
Каковы действующие лица этого произведения? Захаров, заведующий колонией, несколько старших колонистов-комсомольцев и бригада малышей, четвертая бригада. Это бригада мальчиков 10, 11, 12 лет…
В то же время они умели находить прекрасную середину, умели находить слушателей и не поддаваться давлению старших. Очень сложная конъюнктура. «Вечером 7-го Захаров с дежурным бригадиром… (читает)… проходили мимо. Председатель: «Товарищи, теперь мы приступим к разговорам. Слово имеет т. Коваленко…»
Заключительное слово
Хвалиться мне неудобно, но могу прямо сказать, что мы со своей коммуной шагнули значительно дальше, чем вам кажется. Я действительно не считал и не считаю своих воспитанников «морально дефективными», и они не были дефективными ни одного дня.
Некоторым читателям хочется, чтобы воспитатели мучились, перековывая беспризорников в новых людей. Но я не мучился и не перековывал. Я достиг больших успехов в своей коммуне, достиг такого положения, что мог брать группы по 50 человек прямо с вокзала. Мы брали только тех, кто путешествует в поездах. Я брал, скажем, сегодня вечером, а завтра я не беспокоился, и никто не беспокоился, как ведут себя вновь принятые дети в коммуне.
Вы скажете, что это чудо? Нет, это не чудо, это наша советская действительность.
Совершеннейшая правда написана во «Флагах на башнях», даже с сохранением фамилий, с сохранением событий и разговоров. Мы принимали много делегаций – советских и иностранных. Иностранные делегации удивлялись и не верили. Но наши советские люди не могли не верить; они понимали, что это был счастливый коллектив. За все 8 лет не было ни одного черного дня, не было ни одного несчастья. Я не хочу сказать, что это чудо. Это норма. И именно потому, что я в этой жизни жил, видел, ощущал каждый нерв, именно поэтому считаю себя вправе настаивать на этом. Я ни к какой фантастике не прибегаю.
Я считаю, что при нормальной организации детского коллектива он всегда будет похож на чудо. У нас в советской школе часто хулиганят в V–VI классах, в X классе учатся, а потом делаются студентами и летчиками. А сколько хулиганов? Ни одного. А сколько кричали, что в школе хулиганы!
Если имеется настоящая организация детского коллектива, то можно сделать настоящие чудеса.
Нам указывают на кинокартину «Путевка в жизнь», что вот, мол, какие ребята вредные, испорченные, Я бы сказал так: попал в нормальные человеческие условия и на другой день стал нормальным. Какое еще счастье нужно? Это и есть счастье! И так бывает всегда в хорошо построенном детском коллективе. Все дети любят дисциплину.
Что касается «Чести», то я не совсем согласен с оценкой, хотя это, может быть, самое бездарное мое произведение.
К сожалению, выступление т. Тихомирова сводится только к одной критике; своих мыслей он не дал. Повторяю, я не совсем согласен с плохой оценкой романа «Честь». Критика была построена на цитатах. А к чему это приводит? Т. Тихомиров процитировал мои слова: «Вы меня все знаете», мол, фамилия Макаренко. Эта цитата может быть приведена с некоторым изменением. Я только что приехал в Москву из Киева и на собрании сказал: «Вы меня не знаете, моя фамилия Макаренко». Это записано в стенографическом отчете данного собрания.
Теперь несколько замечаний по отдельным выступлениям.
Товарищ, читавший «Флаги на башнях», ставит некоторые вопросы, характеризующие его как читателя вдумчивого, но все-таки вопросы недоуменные. К сожалению, ответить на них развернуто я не в состоянии за неимением времени. Отвечу кратко.
Почему я не удерживал Воленко, когда он решил уйти из колонии? Да по традиционной педагогике я должен был его удерживать. По нашей, советской педагогике его надо было удерживать. Я не боюсь риска и знаю, что перемена обстановки бывает очень полезна, иногда полезна, иногда полезно пережить то или иное потрясение. Вот поэтому я не захотел удерживать Воленко. Он считал себя ответственным за то, что в его бригаде происходит кража. Колония считала его ответственным. Это совершенно необычное для старой педагогической логики явление, чтобы в детском коллективе считали бригадира ответственным за кражи. Но в бригаде Воленко были воры, потому что Воленко – мягкий человек, всепрощающий человек. Он не мог оставаться в колонии со спокойной совестью, должен был уйти. Это было требование, его собственное требование к себе. Я понимал, что уход из колонии был для него тягостным, но я хотел, чтобы он пережил это. Очень хорошо, когда человек предъявляет к себе большие требования, это воспитывает человека. У многих наших педагогов есть такое ошибочное желание не слишком перегружать человека требованиями к себе или вообще совсем не перегружать, а все расписать, как и что нужно сделать. Я с этим не согласен и поэтому не удерживал Воленко в колонии.
Кто такой Рыжиков? Это не сознательный вредитель, но по натуре пакостник.
Почему я не применил никаких методов? Главнейший метод – это была вся колония, все общество, весь коллектив. Ни я, ни другой педагог никакими уговорами не можем сделать того, что может дать правильно организованный гордый коллектив. Рыжиков ничего не смог усвоить даже в этом коллективе. К сожалению, сейчас об этом распространяться я не могу и в романе не распространяюсь. Об этом я напишу в той большой серьезной книге, которую задумал написать о методике коммунистического воспитания.
Относительно перековки. Товарищ спрашивает, почему я не показал перековки Игоря? Трудно показать, когда не было этой перековки, не было у меня дефективных людей; приходили люди несчастные, им трудно жилось в тех условиях, в которых они жили раньше. Я не верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только поставить в нормальные условия жизни, предъявить ему определенные требования, дать возможность выполнить эти требования, и он станет обычным человеком, полноценным человеком нормы. Мы это хорошо понимали, и, когда мы брали с вокзала 30–35 человек новых воспитанников, мы выходили на вокзал всей колонией в 400 человек в парадной форме с оркестром. Мы их встречали салютами, знаменами и маршем. Они этого не ожидали. И это внимание, эта любовь уничтожали немедленно всю дефективность. Ну какая тут может быть дефективность? Я считаю, товарищи, что бывают только дефективные методы, а дефективных людей не бывает.
Я получил интересную записку: расскажите в своем заключительном слове об отношении к педагогической общественности. Если под общественностью понимать учительское общество, то я не предполагал бы, что у нас могли быть плохие отношения. Я любил учителей. А если под педагогической общественностью понимать тех людей, которые по разным причинам почему-либо оказывались «мудрецами» педагогики, то наши отношения известны.
Я стою за общественность в педагогике. Когда я воспитываю человека, то должен знать, что именно выйдет из моих рук. Я хочу отвечать за продукцию свою и моих сотрудников, за будущих инженеров и мастеров, за всю эту организацию, за летчиков, студентов, педагогов. За эту продукцию я несу ответственность.
Но для того чтобы можно было отвечать за свою продукцию, нужно в каждый момент своей педагогической жизни знать, чего я хочу и чего добиваюсь.
Среди наших педагогических руководителей оказались и враги народа, которые охотно пользовались порочной логикой: такое-то средство якобы обязательно приводит к таким-то результатам. Поэтому это хорошее средство. Проверка опытом здесь и логически не допускалась.
Я повторяю, что если ребенок становится хулиганом, то в этом виноват не он, а виноваты педагогические методы.
В «Педагогической поэме», изданной в 1933 г., сказано, как я относился к педологам; я педологов всегда ненавидел, никогда этого не скрывал, и они боялись со мной встречаться. Однажды они пожелали проверить организованность нашего коллектива и начали задавать ребятам вопросы: «Представьте, у вас есть лодка, она затонула. Что вы будете делать?» Ребята на это ответили: «Никакой у нас лодки нет, и ничего мы делать не будем». Следовательно, коллектив наш прекрасно знал, что такое педология. Ребята очень хорошо знали, что это такое. Детский коллектив может знать и о педологии, и о педологах и может отвечать за свое к ним отношение.
Интересный вопрос относительно Задорова. «Неужели вы думаете, что этот метод принес пользу?» – спрашивает меня автор записки. – Конечно, никогда я этого не думал. Это было полное отчаяние, бессилие. Если бы на месте Задорова был кто-нибудь другой, может быть, это привело бы к катастрофе, но Задоров был благородным человеком, он понял, до какого я дошел отчаяния, он нашел в себе силу протянуть руку и сказать: «Все будет хорошо». Разве этого не видно? Если бы я ударил того же Волохова, то мог быть им избит. Я был действующим лицом, а победителем Задоров, и только благодаря ему я мог сохранить авторитет, он поддержал меня. Вот в чем заключается успех, а не в том, что я ударил. Разве удар – метод? Это только отчаяние.
Меня спрашивают: «Преподавателем какой дисциплины я был раньше?» – До колонии я в школе преподавал историю.
Где я сейчас работаю? – По состоянию здоровья и по другим причинам сейчас нигде не работаю, только пишу.
Где бы я хотел работать? – Я бы хотел работать в так называемой нормальной школе. Семейные дети в тысячу раз труднее беспризорных. У беспризорников никого не было, только я один, а у семейных есть мама и папа в запасе. И вот с этими-то нормальными детьми я бы очень хотел поработать.
Автор записки спрашивает, за какие я стою наказания? – Я ни за какие наказания не стою, но в колонии я применял наказания. Вот тот же самый Клюшник был командиром первого комсомольского взвода, и ему попадало гораздо чаще, чем кому-нибудь другому. Почему? Да потому, что он был командиром и на него возлагалось больше ответственности, с него больше спрашивалось, чем с кого-либо другого. Такие наказания, которые выражают одновременно и уважение к человеку, и требование к нему, я считаю возможными, когда они применяются умело, а вообще наказание в большом масштабе мне не приходилось применять. У меня был хороший коллектив.
Говорят, что недостаточно уделено внимания отношениям между девочками и мальчиками. Верно, это трудный вопрос. Я всегда был уверен, что не отдельное личное влияние определяет отношения, а организация. Я постарался, чтобы у меня не было половины девочек и половины мальчиков, так как я знал, что тут я уже ничего не сделаю. У меня было 25 % девочек. На одну девочку приходилось по два мальчика. В таком положении особых «любвей» быть не могло.
В первое время существования коллектива комсомольской организации не было. Если я видел, что молодой человек слишком увивался за какой-нибудь воспитанницей, судьба которой мне дорога, то я вызывал его и говорил: «Брось, понимаешь, брось». Он говорил: «Понимаю».
Это я вам говорю по секрету, и вы никому не рассказывайте. Это ни в какой мере не педагогично, но это приносило большую пользу. Меня боялись.
Одно время я начал либеральничать и прозевал. Вижу такие парочки, которых не разгонишь. «Влюблен, не могу». Я очень испугался. Восемнадцатилетний мальчик, шестнадцатилетняя девочка – ну какая тут может быть любовь? Какая любовь в 16 лет!
Комсомольская организация встала на мою сторону. Мы стали агитировать, уговаривать, собирать и говорить: «Рано, подождите, тебе кажется, что это любовь». Кое-кого уговорили, а кое-кого и не уговорили.
Тогда мы нашли блестящий метод: влюблен – женись! Что же получается? Беззаботная юность, а тут нужно пойти и на базар, и в очередь за галошами. Сразу обнаружилось, что характеры как-то не подходят.
Начнет какой-нибудь парень увиваться за девочкой. Ты влюблен? Женись!
– Нет, нет, – говорит, – не влюбился.
Мы пришли к норме. Гриша влюблен в Валю. Влюблен, ну и хорошо. Гуляет, разговаривает. И очень многие парочки потом ушли в вуз и только на курсе поженились. Такая духовная любовь хорошо действует на характер и на самоопределение человека. Это я считаю нормой.
Какое я принимал участие в составлении учебника педагогики? – Меня пригласили профессора помочь им написать учебник. Я ответил согласием, но при условии, если они ответят на один вопрос: будем мы писать педагогику сегодняшнего дня или завтрашнего? Они сказали, что не могут писать педагогику завтрашнего дня. Тогда я сказал – пока вы будете писать педагогику сегодняшнего дня, жизнь вас перегонит, и в результате вы напишете педагогику не сегодняшнего, а вчерашнего дня.
Что касается замечания, будто «Книга для родителей» не нужна, то оно не совсем правильно. Хотя родители и взрослые люди, но не всегда знают, как им поступать со своими детьми. Неправильно считать, что взрослому человеку нечему учиться.
Также неправильно мнение, что взрослая девушка не должна поцеловать человека, который ей помог. Почему не должна, что же тут предосудительного?
Об Игоре, что он сейчас делает? – Игорь учится, любит отца, уважает его, любит Оксану, и они, наверное, поженятся.
Останавливаться на больших проблемах я сейчас не могу, но должен сказать: ваше внимание, указания и замечания очень помогают в моей работе, и я эти указания использую.
Марш 30 года Повесть
Памятник Феликсу Дзержинскому
Вступление
Харьковская окраина. Опушка леса, красивый темно-серый дом, цветники, фруктовый сад, площадки для тенниса, волейбола и крокета, открытое поле, запахи чебреца, васильков, полыни…
Здесь расположена самая молодая детская коммуна на Украине – коммуна имени Феликса Дзержинского, открытая 29 декабря 1927 года. Сто пятьдесят коммунаров (сто двадцать мальчиков и тридцать девочек) живут в великолепном доме, выстроенном специально для них.
Многие товарищи упрекали коммунаров-дзержинцев в «дворцовой жизни» и даже в барстве. Подумайте, живут в таком роскошном доме! Дом с паркетными полами, с великолепной уборной, с холодными и горячими душами, с расписными потолками…
– Разве это воспитание? Привыкнут ребята к такому дому и душам, и паркетам, а потом выйдут в жизнь, где ничего этого нет, и будут страдать. Надо воспитывать применительно к жизненной обстановке.
Говорили еще и так:
– Рабочему человеку все это не нужно. Рабочему нужно, что поздоровее и попроще, а эти финтиклюшки ни к чему.
Коммунары, впрочем, не особенно прислушивались к этой болтовне. Они не сомневались в том, что душ – вещь хорошая, да и паркет – тоже неплохо.
В первые дни коммунары только восторгались всем этим, но вскоре оказалось, что паркет нужно беречь, что с душем надо обращаться умеючи, что с расписных потолков нужно ежедневно стирать пыль. Сохранение этого дома – памятника Дзержинскому, содержание его в чистоте стало делом всех коммунаров.
Наш дом достаточно велик, несмотря на то что по фасаду он большим не кажется. Это двухэтажный темно-серый дом, без каких бы то ни было архитектурных вычуров. Только сетка вывески с золотыми буквами над фронтоном да два флагштока над нею украшают здание. В центре – парадная дверь. От главного корпуса протягиваются вглубь три крыла, так что все здание имеет форму буквы Ш. В первый год существования нашей коммуны других зданий у нас не было, если не считать несколько стареньких дач, в которых кое-как расположился обслуживающий персонал. На втором году коммуна построила одноэтажный длинный флигель. Теперь здесь квартиры работников коммуны и мастерские.
Войдя в дом и пройдя небольшой вестибюль, вы остановитесь перед парадной лестницей. Она довольно широка, освещена верхним окном в крыше, стены и потолок расписаны.
Нижний этаж симметричен. Направо и налево тянется светлый коридор. С каждой стороны лестницы расположено по одной комнате управления, по одному классу и по одному залу. Левый зал у нас называется «громкий» клуб. Там сцена и киноустановка. Правый зал – столовая. Рядом с ним кухня. И в классах и в залах большие окна. В «громком» клубе собрано все то великолепие – гардины, портреты, расписные потолки и т. д., – тлетворным влиянием которого нас попрекали. В зале рояль и хорошие венские стулья, изготовленные в нашей мастерской. В столовой пятнадцать столов, накрытых клеенкой, у каждого стола по десять венских стульев. Портреты Ленина и Дзержинского. И больше ничего. Стена-окно отделяет столовую от кухни. В кухне – в белом колпаке Карпо Филлипович.
В классах нет парт – двухместные дубовые столики и двухместные дубовые легкие диванчики.
Подымаемся по парадной лестнице на второй этаж.
На первой площадке лестницы, под портретом Дзержинского, имеется две двери: одна из них ведет в «тихий» клуб, вторая – в спальню девочек.
У этой спальни есть своя длинная и бурная история.
Окна выходят на север, пол не паркетный, и главное – комната очень велика. Наши ребята против больших спален.
Первыми здесь поселились ребята одиннадцатого отряда, все – малыши и новенькие. Постоянное отставание этого отряда во всех решительно областях, неряшливый, некоммунарский вид Петьки Романова, Гришки Соколова, Мизяка, Котляра, Леньки и других пацанов, вечные разговоры на общих собраниях и в совете командиров о том, что одиннадцатый отряд надо подтянуть, различные мероприятия, вплоть до лишения малышей право выборов командира, – все это достаточно всем надоело. Летнее избирательное собрание 1929 года назначило в одиннадцатый отряд командира из старших, комсомольца, но он скоро, не справившись с заданием, категорически заявил на собрании, что лучше будет целый год чистить уборные, чем командовать «этой братвой». Начались бурные собрания, одно за другим, на которых заведующий крыл комсомольцев за то, что забросили пацанов, а коммунар Алексеенко требовал жестких законов для них. Пацаны тоже выступали на собрании и доказывали, что никто не виноват, если штаны быстро рвутся, если руки и шеи не отмываются, если постели неизвестно кем разбрасываются, если стрелы попадают не в дерево, а в окно, если полотенце почему-то оказывается не на своем месте. Но в конце концов было принято твердое решение: расформировать одиннадцатый отряд и разделить малышей между остальными десятью отрядами, состоявшими из более взрослых ребят. Совету командиров было поручено привести это решение в исполнение. Целый день продумали командиры, и, как ни вертели, все выходило, что придется девочкам покинуть свои прекрасные две спальни наверху и перебраться в одну, на место одиннадцатого отряда. В совете командиров было восемь командиров, из них только две девочки: командиры пятого и шестого отрядов. Девочки протестовали и ехидно указывали:
– Конечно, нас только двое, так вы можете что угодно постановить.
В конце концов предложили девочкам компенсацию, на которую они согласились. Купили девочкам гардины, поставили посреди спальни большой хороший дубовый стол и дюжину стульев, на пол положили пеньковую дорожку с зелеными кантами. Обещали еще дать им трюмо, да этого обещания не исполнили по финансовым соображениям. Правда, девочки и не настаивали.
Вот почему сейчас у девочек так хорошо обставлена спальня.
В «тихом» клубе альфрейные потолки и великолепная мебель: четыре восьмигранных дубовых стола, окруженных светлыми венскими стульями. Особенно заботливо обставлены уголки Дзержинского и Ленина. «Тихим» клуб называется потому, что в нем нельзя громко разговаривать. Здесь можно читать, играть в шахматы, шашки, домино и другие настольные игры.
За клубом – комната для книг. У дзержинцев до шести тысяч томов в библиотеке.
Верхний этаж занят спальнями. Их одиннадцать и почти все они одинаковы: на двенадцать-шестнадцать человек каждая. В широком коридоре и во всех спальнях – паркетные полы. Все кровати – на сетках и покрашены под слоновую кость. Комнаты все очень высокие, много воздуха и солнца.
В том же здании внизу – мастерские, о которых еще много придется говорить, а на втором этаже – больничка-амбулатория и две-три кровати на всякий случай. Но коммунары редко болеют, и эти кровати стоят пустыми. Наш лекпом поэтому занимается больше врачебными разговорами и воспоминаниями о своей прежней медицинской деятельности, когда он был подручным у какого-то светила и затмевал это светило благодаря своему таланту и удачливости. Ребята лекпому не верят и смеются.
Как мы начинали
Обычно детские дома, колонии, городки помещаются в старых монастырях или в бывших помещичьих гнездах. За время революции многие из этих ветхих построек обратились в развалины. Прежде чем размещать в них детей, приходилось восстанавливать разрушенное. Окрестные плотники и жестяники, производившие ремонт, ходили по имениям со своим нехитрым инструментом, украшая строения свежими сосновыми заплатами и доморощенными пузатыми печами. По уютным когда-то комнаткам размещались объекты социального воспитания. Для них расставлялись шаткие проволочные кровати, и на вбитых в стены четырехдюймовых гвоздях развешивались грязные полотенца. Те же плотники в честном порыве втиснули в расшатавшийся паркет новые сосновые ингредиенты, и под бдительным оком санкомов заходили по паркету половые тряпки, обильно смачиваемые грязной водой. Крылечки, предназначенные для нежных ножек тургеневских женщин, и перильца, на которые должны были опираться нежные ручки, не могли выдержать физкультурных упражнений неорганизованной молодежи, и зимою их обломки дослуживали последнюю службу человечеству: с аппетитом пожирал сухое дерево разложенный в печках огонь. Удобные для размещения ампирных диванчиков и различных пуфов небольшие комнатки не соответствовали новым требованиям. Многочисленные переборки и простенки были серьезным недостатком обшежитий. Они были зачастую столь стары, что из них вываливались гвозди, и домашние штукатуры напрасно прибавляли к их толщине два-три вершка глины. Они стояли до поры до времени, эти бугристые изнемогавшие стены. «Клифтами»[302], штанами, рукавами и плечами вытирался мел, которым ребята белили стены. Обваливалась глина. Наступал момент, когда явственно обнажался древесный скелет. Последний часто использовался ребятами как топливо.
В монастырях – та же история и те же картины. Только стены в монастырях гораздо массивнее, только запахи в бывших кельях гораздо живучее: с большим трудом вытесняется приторный запах ладана. Но переборки и стены здесь разрушались скорее, крылечки в самом непродолжительном времени заменялись приставленной доской.
В монастыре детский дом прежде с великим увлечением приспосабливал под клуб церковь. Десятисаженные высоты и храмовые просторы страшно увлекали наших педагогов, которым представлялось: вот в этих дворцах забурлит клубная работа, вот здесь разрешатся все проблемы нового воспитания. Перестройка этих церквей стоила очень дорого, а результаты получались, просто говоря, неудовлетворительные. Летом ребят не загонишь в полутемный гулкий и неуютный зал, и зимою ничем клубный воздух не отличается от свежего зимнего. Все потому, что когда перестраивали храм, то, оказывается, не сообразили: никакими печами и никакими тоннами топлива помещение не обогреешь.
Полуподвальная трапезная со стенами и подоконниками шириною с полторы сажени, с нависшими сводами, обставленная древними столами длиною в четверть километра, конечно, обращалась в столовую. Она трижды в день наполнялась шумливой и нетерпеливой толпой, и поэтому никогда не находилось времени убрать столовую как следует. Пыльные окна скоро становились целыми государствами пауков, кое-как прикрытые мелом масленые Спасители, Богородицы и чудотворцы начинали одним глазом подсматривать за ребятами, а потом доходили до такой смелости, что и бороды их и благословляющие персты безбоязненно окружали ребячью толпу.
И в именьях и в монастырях очень много построек – домов, домиков, флигелей, складов. Как посмотрит, бывало, организатор на эти хоромы и на эти коридоры, так и себя не помнит. Но жадные на помещение педагоги просчитываются на этом обилии. Сотни детей через месяц уже сидят на всех подоконниках. Оказывается, что разместились не совсем удобно, что это нужно перестроить, а это построить заново, а это перенести. Целое лето энергичный организатор торгуется с плотниками и печниками. На осень разместятся по-иному. Но зимою в колонию приходит новый организатор, у которого новые вкусы. Начинаются стройки и перестройки. Действительно, все это богатство представляет просторное поле для деятельности. И так бесконечно перестраивается колония, но самого главного в ней всегда нехватка: теплых уборных нет, водопровода нет, электричества нет, и канализации нет, и нет никакого органического единства, и никакой гармонии. Игра вкусов на протяжении пяти – десяти лет настолько запутывает, что в последнем счете – все по-прежнему неудобно и неуютно. В течение целого дня сотни ребят бродят из дома в дом, ибо в одном доме столовая, в другом – школа, в третьем – мастерские, в четвертом – клуб, в пятом – спальни, а в шестом – управление, и ни в одном из этих домов нет вешалки, а если и есть, то никто эту вешалку не охраняет. Никому не хочется остаться без пальто, без фуражки, и бродят ребята по колонии, не раздеваясь в течение всего дня… Надворные уборные в самый короткий срок делаются непригодными для прямого своего назначения, и зимой используют их все для того же отопления. В наскоро приспособленных умывальных всегда налито, напачкано – не лучше, чем в уборных. Так, несмотря на все ремонты и перестройки, отнимающие огромные средства, все это старье все-таки постепенно разрушается, осыпается и обваливается, пока, наконец, спасительный пожар не уничтожает последние остатки старого мира и пока, следовательно, детский дом не переводится в другое место.
Наш дом выстроили чекисты Украины за счет отчислений из своей заработной платы. Чекисты создали памятник великому Дзержинскому. Они обнаружили ясность и четкость в понимании задачи, последовательность и решительность в ее выполнении.
В конце декабря 1927 года наш дом был готов и оборудован. Были расставлены кровати, в клубах повешены гардины и закончены художниками уголки. В библиотеке на полках стояло до трех тысяч книг, в столовой и на кухне все было приготовлено, и сам Карпо Филлипович был на месте. Кладовые были наполнены всем необходимым. И только когда все это было готово, в коммуну приехали первые коммунары.
По этому поводу многие товарищи говорили: не по правилам сделано, ни на что не похоже, педагогической наукой и не пахнет.
Мы и раньше не раз слышали такие проповеди:
– Не нужно ребятам давать все в готовом виде. Не нужно им все до конца строить и оборудовать. Пусть детский коллектив собственными руками сделает себе мебель, украсит свой дом, вообще пусть он станет на путь самоорганизации, самообслуживания, самооборудования – только тогда у нас воспитается настоящий, инициативный человек-творец.
Как прекрасно звучат все эти слова!
Но ведь дело не только в словах.
Мы не против самоорганизации и самооборудования, пусть никто не обвинит нас в педагогическом оппортунизме.
Изготовить, скажем, мебель, столы, скамьи или даже стулья – это, конечно, очень хорошо. Но для этого нужно уметь это изготовить?
Если ты не умеешь сделать стол, то ты его и не сделаешь, а если сделаешь, то дрянной, и уйдет на это больше времени и больше средств, чем на покупку стола в магазине. И еще: не сделает этого стола не только ребенок, но и самый хитроумный организатор, который придумал именно такой порядок самооборудования. При таком мучительном способе самооборудования как раз никаких воспитательных достижений не получится. Наоборот, можно сказать с уверенностью, что самые талантливые ребята через месяц возненавидят вас за то, что их заставили спать на полу и обедать на подоконнике, что заставили их делать то, чего они не умеют делать.
Но доказать эти простые вещи не так уж легко. Многим педагогам очень приятно показать посетителям рукой на все окружающее и сказать:
– Это дети сами сделали.
– В самом деле? Ах, какая прелесть! Действительно, как интересно!.. Как же вы этого добились?
И тогда изложить свои восхитительные приемы:
– Очень просто, знаете… Когда дети сюда прибыли, мы им ничего не дали, мы им сказали: сделайте себе все своими силами!
Мы хотели бы таким педагогам посоветовать:
– Почему бы вам самим на себе не испытать всю прелесть этого метода? Ведь если это вообще полезно, то полезно будет и для вас: может быть, и у вас прибавится инициативы и творческого опыта. Попробуйте вместе с вашими восторгающимися посетителями поселиться в пустых комнатах и самооборудуйтесь – сделайте себе столы и табуретки, сшейте одежду и т. п.
Дзержинцы вошли в готовый и оборудованный дом. Им предоставлено было все то, что нужно для мальчика и девочки: забота, чистота, красивые вещи, уют – все то, чего они давно были лишены и что должны по праву иметь все дети. Никто не захотел производить над ними неумных, жестоких и ожесточающих опытов.
Первые дзержинцы
Мы решили, что не стоит сразу впускать в дом толпу с улицы и потом смотреть, как будет разрушаться общежитие. Первые отряды дзержинцев были организованы из ребят, живших в колонии имени М. Горкого. Это не значит, что мы выбрали из числа горьковцев самых лучших и организованных ребят и оставили колонию в руках новичков и социально запущенных. Отряды первых дзержинцев заключали в себе сильных и слабых ребят, и даже ребят, довольно сомнительных в смысле пригодности их для роли организаторов нового дела. Но все они уже были связаны общей горьковской спайкой.
Из состава горьковской колонии было выбрано для колонизации Нового Харькова шестьдесят колонистов, в том числе пятнадцать девочек. Уже за три недели до переезда эти ребята были выделены советом командиров горьковской колонии и приняли участие в подготовке своего переезда. В мастерских горьковской колонии была изготовлена новая одежда, и 26 декабря все шестьдесят человек, нарядившись в новые костюмы и попрощавшись с колонистами, в снежный зимний день тронулись навстречу новой жизни.
Вошли они в новый дом запущенные снегом, пухлые и толстенькие, какими не привыкли у нас видеть беспризорных. Бобриковые пальто еще больше толстили их.
Большинство первых дзержинцев были в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, но попадались между ними и старые горьковцы, представители первых полтавских поколений этого прекрасного племени.
Здесь были:
Виктор Крестовоздвиженский – мастер и работать, и командовать, и веселиться, человек, преданный самой идее детской коммуны, обладавший исключительными способностями организатора: прекрасной памятью, способностью схватывать сразу множество вещей, привычкой к волевому напряжению. К тому же Виктор был очень искренним и благородным человеком. Единственным его недостатком, унаследованным от первых времен беспризорщины, было пренебрежение к школе. Он всегда презрительно относился к стремлению многих ребят попасть на рабфак и в глубине души считал рабфаковцев «панычами».
Митя Чевелий – «корешок» Виктора – многим отличался от него, но был его постоянным спутником на жизненном пути. Это был идеальный горьковец, подтянутый, стройный и немногословный. Дмитрий был крепко убежден в ценности и колонии и коммуны. Он видел очень много детских домов, принимал даже участие в реорганизации некоторых разваленных колоний. Он был очень хорош собою, но никогда не козырял этим и к девушкам относился чрезвычайно сдержанно.
И Виктору и Дмитрию было лет по семнадцати.
Третьим нужно назвать Кирилла Крупова, тоже «старика-полтавца». Кирилл всегда был очень способным и в настоящее время учится в одном из вузов Харькова. Неизменно активный, он был в комсомольской ячейке одним из самых видных членов. Правда, на него иногда нападало легкомысленное настроение. Он очень любил начать вдруг возню. Его желание встряхнуться после работы выражалось в диких прыжках и сумасшедшей беготне, причем ему далеко не всегда удавалось избежать столкновения с вещами и с людьми. Бывали у него минуты, когда на него «находило». Вдруг он становился забывчивым и недисциплинированным. После ему приходилось отдуваться на общих собраниях наравне с малышами. Но в общем это был хороший товарищ и прекрасный коммунар.
Павлуша Перцовский, любимец всех коммунаров, человек удивительно добрый, но с твердыми убеждениями. Такие люди, как он, сильны прежде всего тем, что умеют от чего угодно отказаться и с чем угодно примириться, если это касается материальных условий.
Вот Николай Веренин – это совсем другой человек. Пришел он к нам жадненьким и весьма нечистым на руку. Между словами «купить», «выменять», «отнять», «украсть» он не видел никакой качественной разницы и избирал всегда тот способ, который был наиболее удобным. Жизнь в горьковском коллективе, чрезвычайно настойчивом и не боявшемся никаких конфликтов, подействовала на Веренина только в том смысле, что заставила его быть гораздо осторожнее. Веренин был парень очень неглупый, Уже в колонии Горький он был в старшей группе и считался одним из самых образованных коммунаров. Он умел объединить несколько невыдержанных товарищей, чтобы вместе с ними начать игру в карты, проникнуть в кладовку, организовать наблюдение за тем, что плохо лежит, и т. д. Новичков Веренин в первый же день брал на свое попечение и эксплуатировал их, как только было возможно. Использовал он и кое-кого из ребят постарше, тех, кто поглупее. В числе таких был Охотников, которого ребята назвали «удивительная балда». Однако политика Веренина еще в колонии Горького начала срываться. Его выкинули из комсомола и стали смотреть на него как на последнего человека.
В самый день переезда новых дзержинцев из Куряжа в Новый Харьков Веренин был назначен сопровождать воз с ботинками. И конечно, пара ботинок исчезла неизвестно куда. Веренин был не один – с ним был Соков, спокойный и стройный мальчик, самим своим видом внушавший к себе доверие. Веренин указывал на то, что с ними был конюх и им нужно было отлучаться от подводы по делам. В первый же день в коммуне Дзержинского пришлось разбирать такое грязное дело.
Свою жизнь в новом доме мы начали с организации самоуправления.
Как только коммунары разделись и наскоро ознакомились со зданием коммуны, Крестовоздвиженский взялся за сигнальную трубу, предусмотрительно купленную накануне. Впервые в нашем дворце зазвенели звуки старого сигнала, так всем хорошо знакомого, такого зовущего и такого непреклонного:
«Спеши, спеши, скорей!»
Оживленные, радостные ребята, восхищенные и домом и новизной своих костюмов, сбежались в зал «громкого клуба. Витька, вытирая ладонью мундштук сигналки, засмеялся:
– Хорошо! Проиграл один раз – и все на месте.
Действительно, в колонии Горького, чтобы собрать общее собрание, да еще такое экстренное, пришлось бы с трубой в руках обходить все корпуса и закоулки.
В «громком» клубе на новых диванах киевской работы расселись шестьдесят новых коммунаров.
На собрании мы занялись подсчетом: для слесарной нужно две смены, для столярной две смены, для швейной две смены – вот уже шесть отрядов. Еще сапожная мастерская – тоже выходит два отряда, но относительно нее были сомнения.
– Тут такие мастерские и машины, что никто не захочет идти в сапожную, – говорили ребята.
Наметили и еще один отряд – хозяйственный. По горьковскому плану в этот отряд входили ключники, завхозы, кладовщики, секретарь совета командиров и вообще все должностные лица колонии или ребята, имеющие индивидуальную работу.
Решили на собрании, что каждый коммунар сейчас же напишет на клочке бумаги, в какой мастерской он желает работать, а совет командиров немедленно соберется и рассмотрит все эти записки. Совет командиров выбрали тут же на собрании и поручили ему распределить по отрядам командиров. Выбрали и секретаря совета – Митю Чевелия. Первыми нашими командирами были: Крестовоздвиженский, Нарский, Соков, Перцовский, Шура Сторчак и Нина Ледак.
Только тронулись все из «громкого» клуба, а Витька уже затрубил «сбор командиров».
Коммунары разошлись по коммуне, главным образом по мастерским, где их ожидали новенькие станки – токарные, сверлильные, шепинги[303], фрезерные, долбежные.
А в комнате совета Митя Чевелий оглядел всех шестерых своими черными глазами и сказал ломающимся баском:
– Совет командиров трудовой коммуны имени Дзержинского считаю открытым.
Михайло Нарский, самым видом своим противоречащий всякому представлению о торжественности, сказал, весело шепелявя:
– Хиба ж это совет командиров? Шесть каких-то человек! От, понимаешь, даже смешно! Вот в колонии хиба ж так?
Но Митя сердито оборвал его:
– Если тебе смешно, так выйди в коридор и посмейся.
Нарский смущенно наклонил лохматую голову и сказал:
– Та я шо ж? Я ж ничего… Так только…
Долго пришлось просидеть за столом совету командиров, распределяя коммунаров по отрядам, учитывая все личные особенности и желания, считаясь и с требованиями заведующего производством. Особенно трудно было с сапожной мастерской: никто не хотел посвятить свою жизнь сапожному делу. Пришлось в скором времени мастерскую закрыть.
Занялись и Верениным. Недолго бузил Николай, повинился в грехе, и сказал ему Митка:
– Ото ж, щоб було в послiднiй раз, бо не знаю, що тобi зроблю!
И удивительно! – как священный завет принял Веренин слова Митьки: сегодняшний случай с Николаем действительно оказался последним.
Первый отряд
В коммуне теперь двенадцать отрядов.
Первым коллективом на производстве в коммуне всегда был отряд коммунаров, а не класс или спальня.
По нашей системе вся группа коммунаров, работающая в той или другой мастерской в одну из смен, составляет отряд.
Таким образом у нас получилось:
Первый отряд – токарно-слесарный цех первой смены.
Второй отряд – тот же цех второй смены.
Третий отряд – столяры первой смены.
Четвертый отряд – столяры второй смены.
Пятый отряд – швейная мастерская первой смены.
Шестой отряд – швейная мастерская второй смены.
Седьмой отряд – литейный цех первой смены.
Восьмой отряд – литейный цех второй смены.
Одиннадцатый отряд – никелировщики первой смены.
Двенадцатый отряд – никелировщики второй смены.
Только десятый отряд соединяет в себе «шишельников» обеих смен, так как разбивать их было нецелесообразно – слишком маленькие получились бы отряды.
Девятый отряд – запасной: он посылает помощь остальным отрядам, если кто-нибудь заболеет или командируется на работу на сторону. Обычно в девятый отряд входят те коммунары, которые еще не определили своих симпатий в производственном отношении, или новенькие. Новеньким дают возможность присмотреться и попробовать себе на работе.
Некоторые из отрядов сложились уже в крепкие коллективы; другие, напротив, никак не подберут постоянного состава. Сейчас первые шесть отрядов состоят из ребят, давно живущих в коммуне.
По сменам коммунары распределились в зависимости от принадлежности к школьной группе. В коммуне в последнем учебном году было шесть групп семилетки: одна третья, два четвертых, два пятых и одна шестая.
Самый заслуженный и лучший отряд в коммуне – это первый. За восемь месяцев междуотрядного соцсоревнования три месяца победителем был этот отряд.
В первом отряде подобрались знающие ребята, лучшие наши метталисты, старые коммунары. Из четырнадцати человек в отряде семеро уже проходили командирский стаж, некоторые – по нескольку раз. Многие занимают теперь более ответственные посты – заместителя заведующего, членов санкомов (а в санком всегда выбирается самый подтянутый и чистоплотный коммунар). Первый отряд носит почетное звание комсомольского, так как он составлен исключительно из комсомольцев.
Командует отрядом Фомичев. Он избирается на командирский пост уже не первый раз.
Фомичев – веселый и неглупый парень, бесспорный кандидат на рабфак, способный производственник. Только недавно он вместе с Волчком перешел на токарный станок – и вот теперь уже Фомичев и Волчок идут первыми по токарному отделению и перегнали даже самого заслуженного нашего токаря Воленка. И Волчок и Воленко – оба в первом отряде. У них несколько странные отношения. Они по ряду причин не любят друг друга, но стараются не показать этого в коммуне. Воленко изрядно завидует успехам Волчка в токарном цехе, завидует его исключительному положению в коммуне.
Волчок – общий любимец и общепризнанный авторитет. Этот семнадцатилетний мальчик уже давно в комсомоле, всегда он расположен ко всем, всегда улыбается и в то же время подтянут и по-коммунарски подобран. Он – старый командир оркестра и умеет держать его в руках, несмотря на то, что в оркестре подобрался народ, имеющий большой вес в коммуне. Коммунары в восторге от музыкальных талантов Волчка. Действительно, он – незаурядный музыкант. Он ведет партию первого корнета, освобожден педагогическом советом от занятий в нашей школе и ежедневно посещает Музыкальный институт, готовится к серьезной работе по классу духового оркестра. Коммунары давно привыкли к своему оркестру, тем не менее они всегда собираются послушать, как выводит Волчок свои замечательные трели. За такое мастерство коммунары могут простить много грехов. Волчок умеет руководить, не потрафляя никаким слабостям товарищей и не вызывая к себе неприязненного чувства. Вот почему, когда Волчок командовал отрядом, отряд так легко захватил коммунарское знамя, удерживал его три месяца и сдал пятому отряду с боем.
Сейчас Волчок подчиняется Фомичеву как командиру отряда, но Фомичев играет на баритоне в оркестре и подчиняется Волчку как командиру оркестра. И если Волчок в отряде безупречен, то нельзя того же сказать о Фомичеве в оркестре. Опоздать на сыгровку, потерять мундштук, нотную тетрадь, иногда побузить во время игры – для Фомичева не редкость. Наш капельмейстер Тимофей Викторович раз даже просил его уйти из оркестра.
Волчку не раз приходилось призывать Фомичева к порядку, иногда даже представлять в рапорте вниманию высших органов коммуны.
Но у Фомичева мягкий характер. Он всегда добродушен, никогда не обижается на Волчка и вечно обещает ему, что «этого больше не будет». Трудно ему пересилить свою легкомысленную и немного дурашливую природу. Но он так же любит Волчка, как и все коммунары, и сколько Волчок ни отказывался, Фомичев все же настоял в совете командиров, чтобы Волчка назначили его помощником по отряду.
Недавно первый отряд должен был поливать клумбы перед зданием коммуны. Командир не сумел это дело организовать как следует: не распределил работу между коммунарами, не успел согласовать ее с другими работами отряда, не учел отпускных расчетов по отряду в день отдыха, не получил вовремя леек, не наладил брандспойты и вообще запутал дело так, что хоть зови следователя. Вышло все это не потому, что не хватало у него сообразительности, а просто по его халатности и забывчивости.
Получился полный беспорядок. Коммунары здорово обиделись на своего командира.
Волчок, с улыбкой наблюдая неразбериху в работе отряда, говорит Фомичеву:
– Чудак же ты! Как же ты назначаешь парня к брандспойту на шесть часов вечера, если он с пяти стоит на дневальстве в лагерях.
Командир сердится и кричит:
– Вы все только разговариваете, а я должен каждого просить! Боярчук на дневальстве? Хорошо. А почему Скребнев не мог взять кишку? Ты их защищаешь, а они радуются.
Волчок снова спокойно:
– Вот чудак! Ну как тебе не стыдно? Разве Скребнев справится с брандспойтом? Он его и не подымет. Ты сообрази.
Фомичев в таких случаях именно сообразить и не может. Он «парится» и кричит, хватает первого встречного, уже и без того злого:
– Боярчук, иди на клумбу!
Хитрый и смешливый рыжий Боярчук поворачивает к командиру свою веснушчатую физиономию и, дурашливо уставившись на него, говорит ехидно:
– На клумбу идти? А ты ж сказал, чтобы я бочки прикатил…
Все начинают смеяться.
Тогда в полной запарке Фомичев приказывает:
– Нечего долго разговаривать! Бери ты, Волчок, брандспойт.
Волчок заливается смехом:
– Вот чудак, все я да я: и вчера я и позавчера я! Чего ты все на меня?.. Ну хорошо, что с тобой делать?
И до поздней ночи возится Волчок с клумбой, наполняет бочки водой, расстилает для просушки мокрый брандспойт и убирает в вестибюле, через который приходится протягивать кишку от домового крана.
Рядом с ним напряженно работает сам командир, но работой командует уже не он. Три-четыре коммунара из отряда, приведенные в порядок веселым умным Волчком, деятельно носятся с поливалками.
Сложную и хитрую политику ведет Воленко. Это мальчик серьезный, немного обозленный, немного недоверчивый.
Он чрезвычайно активен и вполне заслуженно носит сейчас звание дежурного заместителя. Но, занимая и этот пост, стоя наиболее близко к управлению в коммуне, он всегда склонен подозревать всякие несправедливости, всегда готов стать на защиту кажущегося угнетенным. А так как угнетенных в коммуне нет, то Воленко часто поддерживает отдельных бузотеров и неудачников. Поддерживает он и Фомичева. Часто это приводит к конфликтам с Волчком. В голубой повязке дежурного заместителя Воленко неуязвим, его решения не подлежат обсуждению, и он этим пользуется в своей молчаливой борьбе с авторитетом Волчка.
Один раз Волчок поставил вопрос о Фомичеве перед общим собранием.
Играл наш оркестр в городе в каком-то клубе. Началась торжественная часть, весь оркестр в яме, а Фомичев пропал. Послали его искать, нашли в буфете. Говорят:
– Иди.
А он:
– Что, мне уже и отдохнуть нельзя?
– Да от чего ты отдыхать будешь? Ведь еще и не играли.
– А дорога?
Пришлось самому Волчку идти ругаться с ним. Вернувшись в оркестр, Фомичев заявил, что никак не может найти мундштук. А мундштук был в кармане пальто. Так и играли торжественную часть только с одним баритоном, а в антракте даже вызвали дежурного члена клуба, искали мундштук. Коммунары возмутились ужасно.
Припомнили все прежние проступки Фомичева. Редько из четвертого отряда прямо предложил:
– Из-за него только позоримся всегда. Выкинуть его из оркестра, вот и все!
Фомичев хмуро стоял посреди зала и только огрызался:
– Ну что ж, и выкинь.
Волчок знал, что выкинуть нельзя, не скоро приготовишь нового баритониста, но и он ругал:
– Да и придется.
И вот тут Воленко, когда прения закончились, нанес свой удар:
– Замечание в приказе!
Волчок, чуть не плача:
– Да что ты, Воленко, замечание! Сколько уже замечаний было!
– А ты как считаешь? – спросил Воленко с подчеркнутой серьезностью.
– Как считаю?
Волчок улыбаясь, оглянулся и снова сердито показал на своего командира:
– Вот, смотрите: стоит – как с гуся вода. Ему десяток нарядов закатить нужно, чтоб помнил.
В собрании сочувствующий гул. Но Воленко настаивал:
– Что ж тут такого? Забыл, вот и все. Не нарочно он сделал.
Председатель собрания, наконец, прекратил этот поединок. Фомичеву объявили замечание в приказе. Однако легче ему не стало. Когда отряд пришел в спальню, все напали и на Фомичева и на Воленко. Последний снял уже голубую повязку, и, следовательно, с ним спорить было можно. Да он и сам, наконец, понял, что поступил с Фомичевым слишком милостиво.
Если сравнивать Фомичева, каким он был два года назад, с Фомичевым теперешним – нельзя не поразиться такой переменой.
Он был в высшей степени ленив, неаккуратен, рассеян и груб. Несколько раз общее собрание приходило в отчаяние: выходило так, что хоть выгоняй Фомичева из коммуны.
Этого Фомичева мы воспитали и сделали из него образцового коммунара. Теперь, если напомнить ему о прошлом, он улыбнется во весь рот и скажет: «А ведь и в самом деле!» Теперь, хоть и порядочно еще недостатков у Фомичева, все же недаром его на второй срок выбрали командиром лучшего отряда. Может он многое забыть и многое перепутать, но нет лучше его в цехе: умеет он и с мастером поговорить о разных неполадках, и всем коммунарам с ним весело и занятно. В комсомоле и разных комиссиях он, если захочет и не забудет, всякое дело сделает добросовестно и даст вразумительный отчет. Нет такого вопроса в коммуне, на который бы он не отозвался.
И еще вот что хорошо: он не обидчив и каждому члену отряда он приятель.
Пацаны
На другом полюсе коммуны находится и отряд пацанов.
В этом десятом отряде в настоящее время собраны не все пацаны. Года полтора тому назад они имели полную автономию и составляли довольно сильную общину, их было человек тридцать, занимали они отдельные спальни и выбирали себе своего командира. Я уже рассказывал, как они потеряли свою самостоятельность.
Собственно говоря, никаких преступлений и тогда пацаны не совершали. В то время их еще не пускали в производственные мастерские, а предоставляли им возможность работать в изокружке, в котором много они перепортили материалов и инструментов. В изокружке дела было очень много: модели аэропланов, паровая машина, выпиловка, разные игры, в том числе знаменитая «военная игра». Малыши, постоянно нуждаясь в «импорте» таких материалов, как бамбук, резина и пр., вели деятельные внешние сношения. Бамбук они получали у коммунарской спорторганизации и потому всегда с нетерпением ожидали очередной лыжной аварии, сопровождавшейся зачастую поломкой палок. С резиной, необходимой для изготовления аэропланных моторов, дело обстояло гораздо сложнее. Для этого поддерживались сношения с расположенным недалеко от нас авиазаводом. Скудные партии резины, достававшиеся через знакомых рабочих и комсомольцев, слабо покрывали нужду в этом материале. Однажды пацаны отправили делегацию к самому начальнику завода и с тех пор были этим необходимым сырьем обеспечены на сто процентов. Благодаря этому изокружковское дело стало поглощать у них очень много энергии, и ее не хватало для исполнения нарядов по коммуне. А без работы в коммуне никогда ни один коммунар не оставался. В особенности часто не справлялись они с обязанностью отстаивать посты в сторожевом отряде. Главный пост этого временного (недельного) сводного отряда – в вестибюле. Дневальный обязан смотреть, чтобы в коммуну не входили чужие, чтобы все вытирали ноги, чтобы пальто вешали на вешалки, а не бросали как попало на барьеры вестибюля. Главная же задача дневального – проверять ордера в спальню. Днем вход в спальню не разрешается без ордера дежурного по коммуне. В ордере пишется, на сколько минут разрешается коммунару войти в спальню и что можно из спальни вынести. Дневальный проверяет ордер и следит за тем, чтобы предписания дежурного по коммуне были выполнены. Другие коммунары, стоя на посту, умели все это делать как-то без хлопот и скандалов. У пацанов же всегда получалось не совсем ладно. То прозевает дневальный какого-нибудь нарушителя, заглядевшись на интересное зрелище во дворе или в здании коммуны, то, напротив, проявит излишнюю энергию: покажется ему, что слишком долго кто-нибудь задержался в спальне, и он спешит туда вместе со своей винтовкой – возникает конфликт, а в это время уже дежурный по коммуне записывает в рапорт, что дневального на посту не было. В особенности много претерпевали пацаны оттого, что в сутках так мало помещается часов. Никогда нельзя успеть сделать всех дел, которые предусмотрены планом, не говоря уж о работе сверх плана. Не только ведь заниматься в изокружке нужно и в школе хорошо учиться, и поиграть, и в лес пойти, и выкупаться, и зайти в совет командиров узнать новости, и свести счеты с каким-нибудь противником, и поговорить, и на дневальстве постоять, и умыться, и почиститься. Ребята не успевали всего сделать. Особенно страдали те процессы, которые не могли непосредственно заинтересовать пацанов, например умывание, чистка ботинок и пр. К тому же в своей деятельности пацаны развивали предельные темпы, причем большинство так называемых механических препятствий преодолевали простейшим способом: перелезали через изгороди, лазили в окна, топтали цветники. Это, конечно, сказывалось и на их одежде. Выглядели они иногда возмутительно с точки зрения и дежурного по коммуне, и дежурного члена санкома. В результате всего этого неизбежный рапорт, и провинившегося выводили на середину на общем собрании. Коммунары в общем относились к ним ласково, однако это не мешало требовать порядка. Совет командиров всегда считал, что виноваты в беспорядках сами наши командиры. Несколько раз предлагали малышам хороших командиров, но отряд гордо держал знамя независимости: «Зачем нам ваши командиры? У нас и своих ребят хватит». Кандидатов избирательных комиссий они отводили в особенности ретиво, и поэтому на избирательных собраниях всегда им удавалось проводить своих кандидатов.
Все это было давно.
Сейчас десятый отряд уже участвует в производстве. Он обязан представить в день тысячу четыреста «шишек».
Шишка – это сделанная из песка и воды куколка, которая при формовке вкладывается в форму, чтобы заполнить проектированную пустоту полой вещи. При литье место, занятое шишкой, медью не заполняется. Для изготовления шишек есть специальные шаблоны и формы: для кроватных углов, для масленок, для трубочек и т. п. Отряд Мизяка делится на две бригады. Каждая бригада должна приготовить в смену семьсот шишек. Приблизительной нормой на отдельного коммунара считается сто шишек за четырехчасовой рабочий день. Для шишек нужно готовить еще и проволоку, на концах которой они подвешиваются внутри формы при отливке. За каждую шишку коммунар получает копейку.
Многие из членов десятого отряда теперь уже делают по двести шишек, и благодаря такой успешности у нас скоро предвидится сокращение десятого отряда и перевод старших в более серьезные цехи. Мечтают они все о токарном цехе.
В десятом отряде много замечательных ребят. Пока что расскажем только о «старом» нашем коммунаре Петьке Романове.
У Петьки есть брат Алексей, старшего его на полтора года и опытнее. Но Петька к старшему брату относится с некоторым высокомерием. Алексей моложе его по коммуне, и его имя чаще попадается в рапортах, потому что он человек излишне предприимчивый и с собственническими наклонностями.
Петьке только двенадцать лет. Родился он на Кубани. Давно уже судьба разбросала Петькину родню по свету. После небольшого беспризорного стажа попал Петька в коммуну. А через три месяца прислали из коллектора[304] и Алексея. Петька и Алеша – низкорослые подростки, очень похожие друг на друга. Только Алешка веселее и не такой курносый. Петька же большей частью серьезен.
Как-то случилось с этими представителями фамилии Романовых с Кубани потешная история.
В тот самый день, когда привели Алешку из коллектора, пришли в коммуну два мальчика, оба черные от паровозной копоти и угля, оба «небритые и немытые», оба лет по тринадцати. Заявили они, что работали в Донбассе и теперь хотят устроиться в детском доме. Совет командиров, экстренно собранный, отнесся к ним благожелательно. Коммунары накормили и переодели их в кое-какое барахлишко, назвали их шахтарями, но в коммуну принять отказались: шахтари были неграмотны, а у нас первой группы никогда не было. Решили отвести их в коллектор и просить принять для отправки в какую-нибудь колонию.
Шахтари согласились. Им разрешили переночевать в клубе. Они ушли из совета командиров и заигрались где-то с ребятами.
На другой день я почему-то забыл о них. Только к вечеру вспомнил, что нужно привести в исполнение постановление совета командиров. Вызвал срочно Нарского, дал ему записку в коллектор и сказал:
– Отведешь этих шахтарей в коллектор. Вот тебе письмо совета командиров, а вот деньги на проезд.
Нарский, как всегда, с готовностью салютнул и, ответив «Есть!», бросился спешно исполнять поручение. Как всегда, через минуту возвратился:
– А какие эти пацаны?
– Да вот те два, что вчера в совете командиров… Шахтари.
– А, знаю! – обрадовался Нарский. – Шахтари? Знаю… А где они?
– Там где-то, в саду. Разыщи и доставь в коллектор, да смотри чтобы приняли. Без того и не возвращайся.
– Есть! – повторил Нарский и исчез.
Часа через два кто-то из коммунаров увидел, что Петька сидит на парадной лестнице и плачет.
– Что с тобой? Чего ты плачешь?
Петька отвернулся и перестал плакать, но разговаривать не хотел.
Коммунары почти никогда не плачут, и все кругом были уверены, что с Петькой случилось что-то серьезное.
– Расскажи, чего ты ревешь?
Петька поднялся со ступеньки, зацепился рукой за поручни и, наконец, сказал серьезно и решительно:
– Отправьте меня из коммуны.
– Почему?
– Не хочу здесь жить?
– Почему?
– Отправьте меня к брату.
Все удивились. Как будто никакого такого брата, к которому можно было бы отправить Петьку, у него не было.
– К какому брату?
– К какому! К старшему…
– А где он живет?
– Я не знаю… Я не знаю, куда вы его отправили.
– Мы отправили?.. Что ты мелешь? Ты здоров?
– Я же видел… Нарский Мишка повел. Я ему говорю: «Куда ты его ведешь?» А он говорит: «Не твое дело!» И повел.
– Нарский повел в город твоего брата? Одного?
– Нет, еще какого-то пацана.
Немедленно я выяснил потрясающие подробности. Нарский захватил и отвел в город одного из шахтарей и нового Романова – Алешку. Второй шахтарь продолжал играть в саду и чувствовал себя прекрасно.
Пришлось срочно организовать вторую экспедицию, отправлять второго шахтаря и возвращать Романова.
Сильно обрадовался Петька этому обороту дела. Когда экспедиция возвратилась, он долго оглядывал своего найденного вторично брата, помог ему искупаться и переодеться, начал знакомить с коммуной. Он упросил совет командиров назначить Алешку в свой отряд.
С тех пор Алешка и сам сделался матерым коммунаром, Петька лишил его своего покровительства. Он кроет брата на собраниях под улыбки всего зала и записывает в рапорт при всякой возможности.
Петька расхаживает по коммуне, всегда хлопотливый и занятой. Только одного он боится – экскурсий и делегаций. Боится с того времени, когда оскандалил коммуну и всю пионерскую организацию.
Приехал однажды в коммуну один из членов высокой партийной организации. Встретил в коридоре Петьку, задрал его остроносую морду вверх и спросил:
– Вот так коммунар! Ты грамотен?
– А как же! – сказал Петька.
– Может быть, ты и политграмоту знаешь?
– Ну да, знаю.
– А ты знаешь, кто такой Чемберлен?
– Знаю, – улыбнулся Петька.
– А ну, скажи!
– Председатель Харьковского исполкома.
Посетитель усмехнулся.
– Что ты говоришь? Ты, брат, ошибаешься.
Петька задумался и вдруг махнул рукой безнадежно, не видя возможности выйти из положения.
И убежал в сад.
С тех пор Петька, как только увидит экскурсию или делегацию, немедленно скрывается в лес.
Утро в коммуне
Ночь. Все в коммуне спят, только дневальный бодрствует. В вестибюле возле памятных мраморных досок стоит небольшой дубовой диванчик. Это место дневального.
В карауле бывают по очереди все, без исключения, коммунары. Каждый дневальный стоит на карауле два часа. Совет командиров назначает на две пятидневки разводящего, который освобождается от всех работ в коммуне и обязан следить за правильностью смен дневальных и за правильным исполнением ими своих обязанностей. Разводящий является начальником караула в коммуне и вечером сдает рапорт о состоянии сторожевого сводного отряда. Сторожевым отрядом считаются коммунары, дежурившие по караулу в течение дня.
Редко в этом рапорте отмечаются ошибки дневальных. Коммунары – народ дисциплинированный, и в коммуне, кажется, не было случая, чтобы дневальный не вовремя явился на пост или ушел с поста самовольно. Вот только с новенькими коммунарами бывают иногда скандалы. Заснет на дневальстве парень, а уж тогда ни один коммунар не откажется взять и унести винтовку.
Бедный страж просыпается и сразу сознает, что беда непоправима. Придется ему все утро провести в поисках винтовки, и хорошо, если удастся найти похитителя и уговорить его возвратить винтовку. В большинстве же случаев бывает, что винтовка находится уже после того, как весть о позорном поведении дневального облетит всю коммуну и со всех сторон на сонливого стража посыплются вопросы:
– А где ж твоя винтовка?
– Что же это ты оскандалился?
Однажды проезжая педагогическая комиссия пришла в ужас:
– Что это у вас за казарма? Зачем эти часовые?
Кое-как нам удалось убедить педагогов, что без часовых нам жить никак невозможно: и беспорядок будет в спальнях, и грязь. Ведь в коммуну ходит много посторонних людей, которые считают, что если они принесут в коммуну каких-нибудь полкилограмма пыли и грязи, то это пустяк, о котором не стоит говорить.
Коммунары же хорошо знают, что принесенную на сапогах пыль завтра нужно убирать и щетками и тряпками, да и то, конечно, всю не уберешь – много ее попадет в легкие.
Эти соображения немного убедили педагогов. Но тогда возник вопрос:
– А зачем ему винтовка? Стрелять-то ведь он не будет.
На этот вопрос ответить было уже труднее. И в самом деле, дневальный не будет стрелять, да и патронов у него нет. Но коммунары очень дорожат этой винтовкой в руках дневального. Это символ его значения, это знак того, что ему доверено коллективом очень много – охрана коллектива. Коммунар знает также, что его винтовка в руках – это прообраз будущей винтовки, которую ему нужно будет взять в руки для защиты своей рабочей страны и своей революции. И если теперь ему приходится за этой винтовкой ухаживать и за нее отвечать, то это облегчит ему усвоение будущих военных обязанностей.
К тому же винтовка в руках – это просто удобно и целесообразно. Каждому проходящему – и своему и постороннему – сразу ясно, что перед ним дневальный, которому нужно подчиняться без всяких споров.
Дневальный коммунар имеет право сидеть, он должен вставать только при появлении заведующего коммуной, дежурного по коммуне и командира сторожевого отряда. Мы таким образом превращаем дневальство в гимнастику внимания и зоркости, обостряем слух и глаз и приучаем коммунара к тому молчаливому сосредоточению, которое необходимо часовому.
Та же педагогическая комиссия возмущалась:
– Ведь это же безобразие! Стоит мальчик, молчит и ничего не делает. Хоть книжку ему дайте, все-таки с пользой проведет время. Ведь так стоять страшно неинтересно.
Присутствовавший тут же представитель ГПУ, человек военный и не отравленный педагогическими «теориями», даже побледнел от удивления:
– Как вы говорите? Часовому читать книжку?.. Да разве это возможно!
Одним словом, мы совершаем это педагогическое преступление и наш дневальный стоит с винтовкой.
Обыкновенно дневальные коммунары очень строги. В рапорте дневального отмечаются самые мельчайшие нарушения санитарной и общей дисциплины: «Баденко не закрыла за собой двери», «Котляр не вытер ноги», «У Орлова пальто без вешалки».
Сторожевой отряд имеет право всякое пальто без вешалки сдать в кладовую, и собственнику пальто после этого придется хлопотать у секретаря совета командиров – получать ордер на выдачу его пальто из кладовой.
Недавно дежуривший на дневальстве Петька Романов записал в рапорт самого заведующего производством – всеми уважаемого Соломона Борисовича Левенсона – за то, что на предложение вытереть ноги Соломон Борисович возразил: «Зачем же? У меня ноги чистые». Пришлось Соломону Борисовичу на общем собрании коммунаров извиняться и приводить объяснения: «Занят очень, много приходится бегать, иногда и забудешь».
Много дела днем нашему дневальному, но и ночью ему скучать не приходится. Ночью в здании коммуны не остается ни одного взрослого, так как квартиры сотрудников все в других домах, а дежурства воспитателей в коммуне нет. Дневальный запирает двери, как только сотрудники разойдутся, запирает кабинет заведующего и проверяет, все ли окна в доме закрыл дежурный отряд. У вечернего дневального карточка, на которой он записывает, кого нужно будить раньше других. Эта карточка передается следующим дневальным.
Раньше всех нужно будить старшую хозяйку. Эта должность возлагается чаще на мальчиков, но название ее сохраняет по традиции женский род. Ключ от кухни хранится у старшей хозяйки, и с ее приходом начинается кухонная жизнь.
После старшей хозяйки поднимается дежурный по коммуне, или сокращено ДК. Отличает его красная повязка. Всех дежурных по коммуне девять. Их коллегия избирается общим собранием вместе с советом командиров на три месяца, обычно из старших коммунаров. ДК организует весь рабочий день коммуны. ДК обходит коммуну, подписывает у старшей хозяйки ордера в кладовую, проверяет все помещения коммуны и получает у дневального ключ от кабинета заведующего. Без четверти шесть дневальный будит дежурного сигналиста. Сигналистов тоже девять. Каждый ДК имеет у себя постоянного, прикрепленного к нему трубача, с которым он сработался. Трубачом в коммуне быть дело не простое. Сигналов очень много, все они более или менее сложны, поэтому почти все трубачи набираются из оркестра.
Ровно в шесть разливается по коммуне сигнал. Это веселый дробный мотив. К нему давно подобрали слова, как и к большинству сигналов:
Ночь прошла. Вставайте, братья! Исчезают тень и лень. Блещет день. За мотор, За станок и за топор! Нам Вставать пора к трудам!Притихшая в предутреннем сне коммуна вдруг наполняется шумом.
Коммунары немедленно приступают к уборке. Уборочных отрядов у коммунаров нет, мы не имеем возможности отрывать от производства лишнюю рабочую силу. У нас снимаются с производства только ДК, командир сторожевого и старшая хозяйка. Уборка же производится всеми коммунарами авральным способом. Наладить эту уборку было делом далеко не легким. Только в совете командиров пятого созыва порядок уборки был выработан окончательно. Каждое утро нужно убрать всю коммуну, то есть вымыть полы там, где нет паркета, подмести, вытереть пыль на стенах и на вещах, протереть окна, поручни лестниц, убрать в уборных, вычистить медные части, поправить гардины и занавеси. Это – огромная работа, и ее вполне хватит на сто пятьдесят человек коммунаров.
Самое распределение этой работы – разделение всей территории коммуны между уборщиками и в особенности распределение орудий уборки – оказалось в свое время сложнейшей задачей, требующей изобретательности и четкости. В настоящее время работа по уборке распределяется советом командиров на очередном заседании в девятый день каждой декады, на декаду вперед. Наряд дается на отряд. Работа по уборке в том или другом пункте определяется числом очков, например:
В общей сложности это составляет семьдесят пять очков, то есть на каждых двух коммунаров приходится одно очко. В согласии с этим каждому отряду полагается известное количество очков, например: для десятого отряда – четыре очка, потому что в отряде восемь коммунаров, а для первого отряда – семь очков, потому что здесь коммунаров четырнадцать. Секретарь совета командиров заранее заготовляет билетики. На одной стороне билетика написано название работы, а на другой обозначено только число очков. Все эти билетики раскладываются на столе номерами вверх, и каждый командир набирает себе столько очков, сколько полагается для отряда. Очередь отрядов по выниманию билетиков все время передвигается. Если в прошлую декаду начинали с первого отряда, то теперь начинают со второго, а в следующую будут начинать с третьего. Каждому отряду предоставляется право обменяться своим билетом с другим отрядом, если будет достигнуто соглашение. Когда все такие междуотрядные соглашения закончены, секретарь совета командиров записывает, что кому попалось, и все это объявляется в приказе вечером от имени совета командиров. Копия приказа выдается санитарной комиссии. Каждый отряд получает на декаду орудия уборки. Работа по уборке считается непроизведенной, если она не сдана командиром или его помощником дежурному члену санитарной комиссии. Для этого ДЧСК[305] обходит все помещения по приглашению отряда, внимательно проверяет, как подметен пол, как протерты стекла, как вытерта пыль. Когда все отряды уборку сдали, дежурный член санитарной комиссии подходит к ДК и рапортует ему:
– Уборка сдана.
Только после такого рапорта ДК может распорядиться о дальнейшем движении дня. Если же этого рапорта нет, день задерживается. Мы привыкли в таких случаях не «париться» и не волноваться.
Недавно третий отряд очень плохо убрал верхний коридор. Дежурный член санитарной комиссии отказался принять уборку. Третий отряд был того мнения, что уборка проведена хорошо, что пыль на батареях – дело несущественное и что ДЧСК просто придирается. Отряд сложил свои орудия производства и заявил, что уборку он повторять не будет.
ДК попробовал поговорить с отрядом по совести, но отряд заупрямился, и его командир, белобрысый парень Агеев Васька, сказал:
– Чепуха какая – пыль на батареях! Это дело генеральной уборки. Смотри ты: засунул руку черт его знает куда! Хорошо, что она у него как соломинка. А у нас и руки ни у кого такой нет.
Дежурный член санитарной, маленький юркий Скребнев, сверкает белыми зубами.
– Смотрите, у них руки для уборки не годятся! Скоро скажете – полы не будем мыть, нагнуться никак нельзя, видите, животы какие нажили.
Швед, помощник командира, мягкий и ладный, серьезно обращается к своему командиру:
– Скажи, пускай уберут ребята. Можно послать на батареи Кольку, он просунет руку.
Агеев – руки в карманы и кивает на Скребнева:
– Записывай в рапорт! А я запишу, что ты придираешься, как бюрократ.
Сидим на диване у парадного входа, нас любопытно рассматривает умытое глазастое утреннее солнце.
Подходит ДК – маленький, подвижный и совсем юный Сопин. Он – старый коммунар и комсомолец. Он сам состоит в третьем отряде и не раз даже командовал им. Сопин усаживается рядом со мной и подымает жмурящееся лицо к солнцу.
– Вы знаете, Антон Семенович, опаздываем уже на десять минут, а эти лодыри, третий отряд, до сих пор не сдали уборки.
Я, не выпуская изо рта папиросы, так же спокойно говорю:
– Что же ты будешь делать? Ведь это твои корешки?
– Да вот и не знаю, что делать. Понимаете, с командиром тоже ссориться не хочется.
Агеев Васька хохочет.
Налетает сердитый, взлохмаченный Фомичев и орет:
– Чего вы держите? Уже давно на поверку…
Сопин непривычно для него жестко заявляет:
– Сигнала не дам, пока не скажет ДЧСК. Мое дело маленькое.
Швед опять трогает за рукав Агеева:
– Пошли кого-нибудь, черт с ними! Я бы и сам пошел, да жду здесь Ваньку, он обещал сдать щетки.
Агеев отрицательно качает головой. Фомичев «парится на три атмосферы», как говорят ребята, и кричит:
– Через вас, смотри, уже четверть часа!
– Ну хорошо, – говорит Агеев. – Уберем.
Через пять минут подходит к Сопину Скребнев и салютует:
– Уборка сдана.
Сопин кивает черной, как уголь, головой востроглазому Пащенку, и тот прикладывает сигналку ко рту. Звенят в сияющем утреннем воздухе раскатистые, бодрые призывы: «Собирайтесь все!»
Вечером в этот день ДК отмечает в рапорте: «По дежурству в коммуне все благополучно. Утром задержан завтрак на пятнадцать минут по вине третьего отряда».
Председатель собрания смотрит на командира третьего. Агеев пробует улыбаться и нехотя вылезает на середину.
– Ну, что ты скажешь? – спрашивает председатель.
– Да что я скажу? – вытягивается командир.
По тону его и по тому, как он держит в руках фуражку, чувствуется, что настроен он вяло, сказать ему нечего.
– Там эти батареи, так никак туда руку…
Он замолкает, потому, что в зале смеются. Все очень хорошо знают, что там не в руках дело. Сколько раз уже эти самые батареи проверялись санкомом!
– Больше никто по этому вопросу? – спрашивает председатель.
Все умолкают и ждут, что скажет дежурный заместитель.
ДЗ сегодня самый строгий. Это Сторчакова, секретарь комсомольской ячейки. Она всегда серьезна и неприветлива, и ничем ее разжалобить невозможно. Агеев, видно, утром забыл, кто сегодня ДЗ, иначе он был бы сговорчивее.
– Три часа ареста, – отчеканивает Сторчакова.
Агеев тянет руку к затылку.
– Садись, – говорит председатель.
После собрания Агеев подходит ко мне.
– Ну что, влопался? – спрашиваю его.
– Я завтра отсижу.
– Есть.
На другой день Агеев сидит у меня в кабинете. Читает книжку, заглядывает через окно во двор. Он арестован.
– Что, скучно? – спрашиваю я его.
– Ничего, – смеется он. – Еще час остался.
Такие оказии, впрочем, бывают чрезвычайно редко. Уборка обычно не вызывает осложнений в коллективе, настолько весь этот порядок въелся в наш быт. Вот разве только новенькие напутают. В прошлом году ДК так и не добился от новеньких уборки в вестибюле и с негодованием отметил в рапорте, что вестибюль не был убран. Оказалось потом, что ребята слово «вестибюль» поняли так, что им поручено «мести бюст», и действительно вылизали на славу бронзовый бюст Дзержинского в «громком» клубе.
Когда уборка окончена, трубач дает сигнал на поверку. По этому сигналу бегом собираются коммунары по спальням, потому что поверка не ждет и неизвестно, с какой спальни она начинается.
Поверка – это ДЗ, ДК и ДЧСК.
При входе поверки командир командует:
– Отряд, смирно!
Коммунары вытягиваются каждый возле своей кровати, и дежурный по коммуне приветствует отряд:
– Здравствуйте, товарищи!
Ему отвечают салютом и приветствием, и начинается самая работа поверки. Каждый коммунар должен доказать, что он оделся как полагается, что он убрал постель, что у него чисто в ящике шкафа и что он не забыл почистить ботинки и помыть шею и уши. Разумеется, старших коммунаров только в шутку можно попросить:
– Повернись-ка, сынку!
Зато малышей и новеньких поверка действительно поворачивает во все стороны, заглядывает им в уши, поднимает одеяла и иногда даже просит показать, как надеты чулки и не грязны ли ноги.
Теперь в коммуне очень редко бывают в рапортах неожиданности по данным поверки. Только Котляра, одного из самых младших членов десятого отряда, приходится часто выводить на середину. Общее собрание уже привыкло к его страшной неаккуратности и почти потеряло надежду что-нибудь с ним сделать. Часто раздаются голоса:
– Да довольно с ним возиться! Пускай командир выходит на середину. Почему не смотрит за пацаном?
Мизяк не смотрит? Мизяк с этим Котляром возится больше любой матери. Но что тут поделаешь, если самая фигура нескладного, корявого Котляра просто не приспособлена для одежды.
До сих пор Котляр не умеет зашнуровать ботинок, а ведь живет в коммуне больше года. Штаны на нем всегда выпачканы и почему-то всегда изорваны, даром что меняют ему спецовку постоянно. Котляр на середине безучастно слушает негодующие речи и смотрит на председателя широкими рачьими глазами.
И председатель и ДЗ машут на него руками:
– Садись уже, довольно стоять.
Последней проверяют спальню девочек. Там всегда идеально прибрано. Только Сторчакова иногда скажет самой младшей:
– Покажи, как шею помыла.
Поверка окончена. Все спускаются вниз, и труба играет: «Все в столовую!»
Завтрак.
В машинном цехе
После завтрака, в половине восьмого, проиграли «на работу». Нечетные отряды идут в мастерские, четные – в школу.
В здании коммуны собираются воспитатели-учителя, к мастерским подходят рабочие и инструкторы. Через три минуты никого уже не видно в коридорах и во дворе. Только ДК в красной повязке что-то рассчитывает у дневального расписания, повешенного в коридоре внизу.
Шум затихает лишь на несколько минут. Скоро начинается новая симфония. Раньше всех закричит шипорез в машинном цехе деревообделочной мастерской. Он наполняет коммуну гулким ветровым шумом, перемежающимся с отчаянным визгом пожираемого машиной дерева. Каждый дубовый брусок начинает с громкого вскрика, потом вдруг орет благим матом и, наконец, испустив истошный последний вскрик, в стоне замирает. А вот на циркулярке дереву, видно, даже умирать приятно. Циркулярка в течение целого дня звенит веселым, торжествующим звоном, аккомпонируя острому дурашливому крику дерева. Фуговальный гудит кругло и по-стариковски ворчливо.
В машинном цехе утром работают восемь коммунаров из третьего отряда. Между ними ходит, поправляет и проверяет их высокий и худой инструктор Полищук, начавший с беспризорности, а кончивший приобретением большой квалификации и вступлением в партию. У него с коммунарами отношения приятельские.
Сейчас коммуна делает большое дело: оборудует мебелью новый Электротехнический институт в Харькове. Институт открывается осенью этого года.
Много коммунаров собирается поступить на рабфак института.
Мы делаем сотни дубовых столов, стульев, табуреток, чертежных столов и пр., всего на пятьдесят тысяч рублей. Все это нужно закончить к 15 августа, и поэтому в деревообделочной мастерской «запарка». Машинный цех буквально завален деревом, обрезками, деталями и полуфабрикатом, назначенным для сдачи в сборный цех. Целыми штабелями лежат под стенами и у машин ножки, царги, проножки, планки и прочая столярная благодать. Коммунары покрыты дубовой пылью, у них страшные и смешные запыленные очки.
Самый маленький здесь Топчий, приемыш коммуны. Как-то осенью, в темную и мокрую ночь его папаша, селянин с Шишковки, в состоянии непозволительно веселом напоролся на часового у пороховых погребов. На первый окрик отмахнулся пьяной рукой, на второй – выразился пренебрежительно, и снял его часовой.
Черноволосый и круглоголовый Топчий – малый способный, напористый и рассудительный. Он с первых же дней, невзирая на свой рост и возраст, потребовал от совета командиров, чтобы ему дали настоящее дело. Командиры его осадили высокомерно:
– Молодой еще! Посмотрим, что из тебя выйдет.
Но уже через два месяца сказали командиры:
– Э, Топчий парень грубой[306].
Очень скоро назначили Топчия в третий отряд и дали ему долбежный станок. Теперь он, почти не отрываясь, разделывает на этом станке шиповые пазы и отверстия для скреплений.
Самая тонкая работа в машинном цехе выпала на долю Шведа. Он – на ленточной. Швед – большой политик и оратор. Как только он прибыл в коммуну из коллектора, тотчас же обратился в совет командиров с письменным заявлением. Он писал, что хочет работать в коммунарском активе и просит дать ему такую именно работу. Это заявление возмутило и взволновало коммунаров:
– Как это, в активе? Что это, совет командиров будет актив назначать? Посмотрим, как он в мастерских поработает.
Вместе со Шведом пришел из коллектора его друг Кац.
Трудно объяснить, что могло связать Шведа и Каца. Швед умен, начитан, очень развит. Он, пожалуй, даже не в меру серьезен, только в его серьезности нет ничего напряженного и сухого. В его огромных черных глазах какая-то старая, недетская печаль. Он мягок и вдумчив. Коммунарский стиль чистоты и подтянутости он усвоил очень быстро.
Совсем другое дело – Кац. Только очень плохая семья могла воспитать и вытолкнуть в люди такого разболтанного, никчемного мальчика. Работать он не захотел. Он прямо заявил, что не собирается быть ни столяром, ни слесарем и вообще к деятельности этого рода он себя не готовит. Стыдно ему было оставаться в коммуне без работы, но в мастерских от него не было никакого толку. Зато он убивал много времени на поддерживание каких-то невыясненных связей в городе: не было дня, чтобы его кто-то не вызывал по телефону или чтобы он просился в отпуск по самым срочным делам. Из отпуска он приходил всегда с опозданием, и ДК с утра ругался, что нужно искать замену и кого-то передвигать с места на место. Благодаря всему этому Кацу часто приходилось выходить на середину на общих собраниях. К разным рапортам и жалобам на Каца скоро прибавились и его жалобы на коммунаров: тот толкнул, тот придирался, тот что-то сказал. На поверку выходило, что никто не виноват. Каца начали ненавидеть. Не было дня, чтобы в совете командиров или на собрании кто-нибудь не заявлял: «Нат такие не нужны». Коммунаров доводило до остервенения высокомерие Каца и его неаккуратность: «Ленивый, грязный…»
Швед очень мучительно переживал неудачи своего товарища, тем более что к этим неудачам присоединились и его собственные. После его заявления о желании вступить в актив над ним посмеивались, и хотя он держался крепко и никогда не попадал в рапорт, общая оценка Шведа была в коммуне невысокой. Дело кончилось неожиданным взрывом.
Тимофей Денисович, заведующий нашей школой, подал в совет командиров заявление, в котором просил назначить Шведа его помощником. У нас помощники Тимофея Денисовича зимой освобождаются от другой работы. На них лежит много обязанностей: вести учет школьной работы и посещаемости, заведовать учебниками, учебными пособиями, наглядными пособиями и музеем школы. Фактически Швед, как и его предшественники, должен был стать руководителем командиром школьных групп. Это очень почетная роль в коммуне, она требует знаний и умения деликатно обращаться с книгами, картами, банками, ретортами и т. д. В совете командиров неохотно пошли на назначение Шведа, предлагали других кандидатов. Но против старых квалифицированных и знающих коммунаров были возражения со стороны организаторов производства, которые отказывались снимать с работы настоящих мастеров. Ребятам помоложе было бы трудно вести сложную работу со школьными группами. Наконец, настаивал на своем Тимофей Денисович. Ему уступили, хоть и неохотно.
– Ничего в коммуне не сделал, походил по сводным отрядам две недели, и уже в активе. Так нельзя! Просто «латается», не хочется работать в мастерской, да и все тут.
Швед подал заявление. В нем он писал, что в коммуне есть антисемитизм, что ребята преследуют его и Каца только потому, что они – евреи. Я просил указать лица и факты, но Швед сказал, что он боится назвать фамилии. Я передал его заявление общему собранию.
Собрание было оглушено и возмущено. Действительно, заявление было явно неосновательным. В коммуне много евреев, много евреев и среди рабочих, есть и евреи-воспитатели. Никогда в коммуне не было национальной розни.
На собрании долго говорили о необоснованности заявления и выдвинули обвинение против Шведа и Каца в явно придирчивом и нетоварищеском отношении к коммунарам. Указывали, конечно, на плохую работу и нечистоплотность Каца, на неосторожное стремление Шведа в актив. Такие «радикалы», как Редько, высказывались прямо:
– Довольно заниматься чепухой! Они не могут указать фактов, нечего тут и разбирать. Не нравится им в коммуне, потому что здесь работать нужно, – пусть уходят, никто их не держит.
Большинство требовало, чтобы Швед назвал лиц, которых он обвиняет в антисемитизме, возмущалось его страхом.
– Что у нас, бандиты, что ли? Пусть кто-нибудь попробует здесь заниматься этим делом – и вы увидите, чем это кончится! Вот в девятьсот двадцать восьмом году один такой нарвался из коллектора, так что, долго с ним церемонились? В два счета вылетел. А вы какое имеете право бояться? Значит, вы не настоящие коммунары, а какие-то гости.
Коммунары-евреи были также очень поражены. Юдин, Каплуновский и другие обрушились на Шведа, обвиняли его в том, что он вносит раздор в среду коммунаров, утверждали, что по отношению к себе и к другим евреям они встречали только товарищеское отношение. Высказывались на собрании по этому вопросу только старшие коммунары: малыши притихли и держались выжидательно. А между тем именно с их стороны раздавались голоса против Каца.
Кончилось дело тем, что выбрали комиссию для более подробного расследования. Комиссия ничего из заявления Шведа не подтвердила, и это дало основание совету командиров на ближайшем же заседании вновь поднять вопрос о преждевременности включения Шведа в коммунарский актив.
Для меня было совершенно очевидно, что в своей жизни Швед много пережил обид на почве национальной розни и у него выработалось уже привычное ожидание новых обид и преследований. Поэтому, вероятно, он взял на себя и защиту Каца, который встречал неприязненное к себе отношение еще в коллекторе. К мальчику, подобному Кацу, в среде коммунаров всегда сложилось бы определенное отношение, независимо от того, к какой национальности он принадлежит.
Шведа сняли и назначили в столярную мастерскую. «Пусть поработает, тогда из него настоящий коммунар выйдет». Я не возражал, так как на самом деле это было полезно для Шведа.
Швед был крайне подавлен всей этой историей. Его удивляло и обескураживало, что он так нечаянно и неожиданно оказался в противоречии со всем коллективом. Но в то же время видно было, что он признал правоту коллектива.
В дальнейшем Швед дал доказательства и большой воли и здравого ума. Неожиданно для всей коммуны, будучи дневальным, он занес в рапорт по сторожевому отряду Каца и на собрании напал на него искренне и горячо:
– С такими коммунарами, конечно, трудно жить. Если ему говорят – покажи ордер, а он отвечает: «Ты уже заелся?» – так это не коммунар, а шпана!
Собрание довольно холодно выслушало оправдания Каца. Кацом перестали интересоваться и давно уже перестали продергивать его на собраниях. Так всегда бывает, когда в глазах коммунаров кто-нибудь становится безнадежным, когда его уже не считают членом коллектива.
Кац это тоже понял. В тот же вечер он пришел ко мне и просил отправить его к родным в Киевский округ. Совет командиров, которому я представил заявление Каца, на экстренном заседании дал согласие на этот отъезд.
Швед все-таки провожал товарища до шоссе.
С тех пор на глазах стал расти Швед. Уже через месяц совет командиров согласился на просьбу Васьки Агеева назначить Шведа помощником командира третьего отряда. Почти в то же время Швед прошел в редколлегию стенгазеты и скоро стал ее председателем. Наконец, его выбрали кандидатом в ДК, и он теперь часто носит красную повязку, выполняя ответственнейшую и труднейшую работу в коммуне. В третьем отряде, одном из лучших отрядов коммунаров, Швед сделался общим любимцем. Товарищи гордятся его развитием, его умением говорить, всегда выдвигают его в разные делегации. Он теперь чувствует себя в коллективе свободно и уверенно.
1 июня третий отряд после долгой борьбы занял первое место, главным образом благодаря работе Шведа, на которого «старик» Агеев Васька (который, между прочим, по возрасту моложе Шведа) возложил почти все функции командования. Агеев не скрывал этого, и при торжественной передаче знамени отряду-победителю зная принимал не сам Агеев, а Швед. Он в этот вечер был подчеркнуто ладно одет, такими же подтянутыми явились и его ассистенты. Их лица выражали сдержанное торжество и готовность серьезно бороться за свое первенство. Швед и сейчас работает в машинном цехе столярной мастерской. Это для него оказалось во всех отношениях полезным. Даже на способе выражаться это отразилось очень положительно. Швед оставил прежнюю манеру низать одна на другую книжные фразы и щеголять утомительными, бесконечными периодами: его язык приобрел живость и простоту.
В машинном цехе Швед нашел и товарищей и самого себя. Он деятельно готовится в вуз и прекрасно понимает, что его производственная работа занимает выдающееся место в этой подготовке.
Сборный
В сборном цехе не так шумно, как в машинном.
Здесь с трудом пробираешься между верстаками. Кругом навалены табуретки, стулья, части столов, козелки и разные детали. И немудрено: один маленький Брацихин вырабатывает за свои четыре часа двести рамок для сидений.
Здесь собрался народ квалифицированный. Почти все ребята уже второй-третий год работают в столярной. За это время коммунары выпустили много продукции: оборудовали Харьковскую городскую станцию Южных дорог дорогами, тысячерублевыми кассами-кабинками, представляющими собой целые квартиры для станционных кассиров, с барьерами, ящиками, полочками, окнами и стеклами; в новом прекрасном клубе союза строителей обставили дубовой мебелью зрительный зал, лекционный зал, вешалки, кабинеты; громадный новый Дворец культуры, выстроенный союзом химиков в Константиновке, полгода снабжали мебелью: в этом дворце две тысячи мест только в одном театральном зале; студентам-харьковцам отправили в общежитие сотни тумбочек, табуреток и стульев. Работали и для Института паталогии и гигиены труда, и для поликлиник, и для Харторга.
И разумеется, в первую очередь отделали новые клубы для своих шефов: клуб ГПУ УССР имени Ильича и клуб Фельдъегерского корпуса.
В первое время, пока не умели коммунары работать, было много наемных рабочих. Добраться в коммуну трудно, и квартир в коммуне всегда не хватало; попадались нам рабочие плохие – летуны, рвачи и лодыри, которые никак не могли удержаться на производстве. Но уже в прошлом году коммунары потеряли терпение и потребовали от заведующего производством уменьшить постоянный приток чуждых коммуне людей. Скоро начался спор о введении разделения труда, о работах по бригадам. Наши рабочие, главным образом кустари, привыкли кое-как, не спеша копаться у своего станка. В результате и работа тянулась мучительно долго, и заработок у них был плохой. Тогда они начинали «бузить» – расценки, мол, никуда не годятся. А когда им предложили ввести разделение труда, то помешали взаимное недоверие и подозрительность. Сколько ни крыли их коммунары на общих собраниях и на производственных совещаниях – ничто не помогало. Наконец коммунары приняли отчаянное решение. Сократили всех рабочих, за исключением тех, кто сжился с коммунарами, кто готов был идти по пути рационализации. Как раз в это время нужно было сдать заказ союзу строителей в Москве. Чтобы выполнить заказ к сроку, общее собрание ввело двойной рабочий день – по семь часов, перебросило в столярный цех всех более или менее свободных слесарей и всех пацанов. Им дали работу по полировке мебели. Вместе с ними работали и все воспитатели.
Только благодаря этой ударной работе заказ выполнили к сроку, и пятого июня мы сидели уже в вагонах московского поезда, получив накануне от строителей четыре тысячи рублей.
В настоящее время в сборном цехе очень мало взрослых рабочих, да и те – рабочие самой низкой квалификации. Они выполняют самую простую работу: ножки чистят. Основная работа в цехе ведется исключительно старыми коммунарскими кадрами третьего и четвертого разрядов. Большей частью это ребята пятнадцати-шестнадцати лет, есть и четырнадцатилетние.
У двух верстаков расположилась полубригада из трех коммунаров: Зорин, Водолазский и Ширявский.
Зорин совсем малыш, и ему поручили проверять шипы при помощи специального сусла. Он очень ловко перебрасывает в своем сусле и проверяет лучковой пилой до ста шипов в день; детали с проверенными шипами он передает Водолазскому, который покрывает шипы шоколадной жижицей клея и деревянным молотком сбивает рамку будущего стула.
Водолазский – высокий белокурый юноша. Ему шестнадцать лет, но выглядит он гораздо старше. Водолазский давно отбыл и командирский срок и побывал заместителем заведующего. Работает он с точностью машины. Он, почти не глядя, отбрасывает случайный брак, сквозь зубы поругивая машинный цех. В сборном цехе часто придираются к машинистам и станковым, обвиняя их в халатности.
– Смотрите, опять шипы зарезали с параллельным уклоном. Вечно у них там… замечтается кто-нибудь и портит!
Ширявский с улыбкой в умных глазах принимает от Водолазского рамку и завинчивает ее в пресс, стоящим перед ним на козлах. Пресс сжимает рамку со всех сторон. Ширявский еще постучит по ней молотком, и через четверть минуты она уже лежит в штабеле таких же рамок.
У этой полубригады дело идет весело.
Рядом с ней работает Никитин – самый авторитетный человек в коммуне, носитель и продолжатель старых традиций горьковской колонии. Никитин сейчас – «контроль коммуны». Его участие во всех проверочных и следственных комиссиях обязательно. На нем же лежит неприятная обязанность приводить в исполнение все постановления общего собрания, касающиеся отдельных коммунаров: ограничение в отпуске, лишение кино, иногда наряд на дополнительную работу. Никитин поэтому всегда носится с блокнотом.
Сейчас Никтин очень недоволен: что-то заело в машинном цехе, и для сборщика не хватает настоящей работы. Никитину дали чистить планки для спинок – это такая «буза», которую может делать простой чернорабочий, а не шестиразрядник – ветеран коммуны Никитин.
Сегодня вечером попадет от него на производственном совещании и Полищуку, и главному столярному мастеру Попову, и коммунарам-машинистам, и в особенности Соломону Борисовичу.
Первое: почему до сих пор не поставлена вторая циркулярка?
Второе: почему до сих пор не налажена маятниковая пила?
Третье: почему не исправлен штурвал у фрезера?
Четвертое: почему задерживается точка ленточных пил?
Главные удары на производственных совещаниях всегда приходятся по машинному цеху. Это не потому, что там плохо работают, а потому, что силы сборщиков у нас превышают возможности машинного цеха. Вот почему и возникла необходимость ставить дополнительные станки и усиливать пропускную способность имеющихся.
На дворе устроился Сопин с двумя товарищами. Сопин вообще не выносит комнатного воздуха, раньше всех он выбирается спать в сад. Он убедил Попова перенести туда же верстаки.
У Сопина всегда занятно и весело. Даже распиливая косой шип, он ухитряется о чем-нибудь болтать и над чем-нибудь посмеиваться.
– А чего это у токарей сегодня такие кислые рожи? Ты не знаешь, Старченко?
Старченко, прилизанный, аккуратный юноша, оглядывается на маленького Сопина и продолжает постукивать молотком по стамеске.
– А ты знаешь?
– Конечно, знаю! Они насобачились на углах, а сегодня им масленки понесли точить. Кравченко разогнался штук на шестьдесят в день, а у него не выходит.
Сопин знает все, что делается в коммуне. Это ему удается благодаря какой-то удивительной способности проникать всюду, отнюдь не пользуясь никакими шпионскими способами, а исключительно благодаря своей замечательной общительности и живости. На всякое событие в коммуне он должен отозваться.
Сопин прославился в коммуне зимой этого года, когда в пику вялой редколлегии «Дзержинца», еле-еле выпускающей два номера в месяц, он с небольшой компанией добровольцев вдруг бахнул по коммуне ежедневной «Шарошкой». «Шарошка» сначала вышла на небольшом картонном листе, но с каждым днем увеличивала и увеличивала размеры и, наконец, стала протягиваться длинной узкой полосой по всей стене коридора. Она была до отказа набита статьями, заметками, вырезками из газет, ехидными вопросами и смешными издевательскими телеграммами.
Коммуна зашевелилась, как разворошенный муравейник. Продернутые в «Шарошке» коммунары решительно запротестовали против самовольно организованного общественного мнения и требовали, чтобы «Шарошка» сняла предзаголовок: «Орган коммунаров-дзержинцев». Старая редколлегия «Дзержинца» указывала на отдельные промахи газеты и называла ее брехушкой. Но Сопин с компанией не отступали и с каждым днем увеличивали свою газету.
На общем собрании редколлегия «Дзержинца» обиженно заявила, что она прекращает издание «Дзержинца», так как у нее нет материала: все перехватывает Сопин. Бюро комсомола еле помирило две редакции. Полномочия Сопина были подтверждены общим собранием, и только в одном ему пришлось уступить: отказаться от названия «Шарошка».
С тех пор «Дзержинец» выходит в формате «Шарошки», и хотя редколлегия отказалась от ежедневного выхода, но раз в пятидневку газета сменяется.
До половины двенадцатого кипит работа в мастерских, шумят станки, визжит пила и стонет дерево. Заказ нового Электротехнического института с каждым часом подвигается вперед.
Коммунар очень ценят этот заказ не только потому, что он приносит заработок и прибыль, а еще и потому, что мы связались с институтом. К нам часто приезжают в коммуну организаторы института, и многие коммунары уже считают себя будущими студентами. Осенью этого года тридцать три коммунара готовятся к поступлению на рабфак института.
Куда мы идем?
В наших цехах имеются производственные комиссии, часто собираются производственные совещания, есть штаб социалистического соревнования, но все решения этих институтов не могут иметь обязательной силы, если они не утверждены советом командиров. Получается как будто неладно: старшие, более опытные, да еще поддержанные участием взрослых – это настоящая сила, сосредоточенная в производственных органах, как будто уступает силе двенадцати коммунаров, народу более молодому и менее опытному в производстве. Но у нас очень дорожат именно таким соотношением сил.
Совет командиров представляет всю коммуну, а не один какой-нибудь цех, и ему часто приходится выступать против цеховщины и даже цехового рвачества. И то обстоятельство, что командиры почти всегда «середняки» по возрасту, очень нравится большинству коммуны, потому что в коммуне восемьдесят процентов именно «середняков». Кроме того, на заседаниях совета командиров могут высказываться все коммунары, хотя в голосовании участвует только по одному человеку от отряда. Обычно бывает, что, если в совете командиров разбирается производственный вопрос, командир присылает в совет наиболее матерого специалиста по цеху, который и ведет свою линию в заседании от имени отряда, а командир в это время тихонько сидит в углу. Вообще говоря, в коммуне выработалась очень сложная и хитрая механика внутренних отношений. Механика и стиль наших отношений инстинктивно усваиваются каждым коммунаром. Благодаря этому нам удается избегать какого бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и сплетен. И вся мудрость этих отношений, в глазах коммунаров, концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные.
Производственные совещания и комиссии находятся под общим руководством комсомола. Производство, в котором работает сто пятьдесят ребят, средний возраст которых не превышает пятнадцати лет, представляет очень сложный организм. Мы не можем ограничиться одним каким-нибудь производством, так как в таком случае наверняка не сумеем удовлетворить разнообразных вкусов и наклонностей попадающих к нам ребят. Если мальчику, живущему в семье, нужно идти на фабзавуч, он может выбрать тот, который ему больше по душе или к которому у него есть определенные способности. Наш воспитанник принужден выбирать себе уже в коммуне работу и специальность, может быть, на всю жизнь. Наша обязанность – предоставить ему возможно больший выбор. В то же время мы принуждены держать у себя различные возрастные группы ребят – в основном от тринадцати до семнадцати лет.
В деле организации наших мастерских мы все время были несколько стеснены. С самого начала коммуна имени Дзержинского не числилась на бюджете какого-нибудь учреждения. Она была выстроена и оборудована обществом чекистов, но содержать сто пятьдесят детей, то есть ежемесячно вносить в коммуну шесть-семь тысяч рублей, чекистам было чрезвычайно тяжело, да и коммунары бы этого не захотели. Передать же коммуну на бюджет государственный или местный – значило бы для чекистов отказаться от руководящей роли в коммуне и, будем говорить прямо, подвергнуть коммуну всем испытаниям, выпадающим на долю детских домов.
Все это привело к тому, что и в Правлении и в коммуне возникло стремление к самоокупаемости. Нужно признаться, что в первый момент мы не вполне ясно представляли себе, в какие формы это может вылиться, и у нас было много сомнений в педагогической ценности самого института самоокупаемости.
И все же наше производство, у которого не было ни оборотного капитала, ни квалифицированной рабочей силы, было организовано.
Первый год принес нам радости немного. Мы оборудовали несколько клубов, выпустили немало мебели, но не только не пришли к самоокупаемости, а еще получили убытки. Все это произошло исключительно благодаря нашей половинчатости. Мы боялись сразу оттолкнуться от соцвосовских берегов и не решались поставить воспитанника в те же условия, в которых находится рабочий, боялись вызвать и использовать личную заинтересованность коммунара, боялись строго стандартизированной механической работы, вообще прилипли к «сознанию» и к «сознательности» и боялись от них оторваться.
Но неудачи заставили нас отказаться от «педагогических» предрассудков и сжечь корабли.
В начале тридцатого года мы вложили в производство небольшой капитал и поставили несколько станков для стандартной работы.
Производство медной арматуры, в особенности кроватных углов, было механизировано до конца, было введено полное разделение труда, и коммунарам стала выплачиваться сдельная плата по тем же расценкам, как и взрослым рабочим. То же самое было сделано и в столярной мастерской. В первый же месяц мы увидели результаты, которых и сами не ожидали: в апреле мастерские дали тысячу рублей прибыли. В последующие месяцы прибыль эта стала расти в замечательной прогрессии: в мае – пять тысяч рублей, в июне – одиннадцать тысяч, в июле – девятнадцать тысяч, в августе – двадцать две тысячи.
Если принять в расчет, что содержание коммунаров стоит в месяц только шесть тысяч, то очевидной сделается головокружительность наших успехов. При этом нужно учесть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Каждый коммунар вносит из своего месячного заработка на пополнение расходов по содержанию коммуны восемьдесят процентов (но не более тридцати пяти рублей). Всего внесено коммунарами в мае полторы тысячи, в июне – две тысячи четыреста и в июле – четыре тысячи. Таким образом, из прибылей производства приходилось брать лишь самую небольшую сумму, и мы имели даже возможность вкладывать большие суммы в расширение нашего производства, в постройку новых мастерских, мы смогли на эти деньги покупать новые машины.
Одним броском мы достигли полной самоокупаемости. И когда в карманах у коммунаров зазвенели деньги, появились новые потребности. Нашему педагогическому совету стоило много напряжения все эти потребности заранее учесть, заранее принять меры к тому, чтобы отдельные новые явления в коллективе не стали бы в противоречие с интересами всего коллектива и с интересами нашего воспитания.
Все обошлось благополучно.
Больше того. Как раз личная материальная заинтересованность сделала совершенно очевидной необходимость общих усилий для улучшения производства. Старая дисциплина и прекрасные отношения в коллективе пришлись как раз кстати и для нового дела, для организации работы в таком направлении, чтобы коммунар мог действительно работать, зарабатывать и был в этом заинтересован.
Уже на третьем месяце этот заработок как сумма полученных коммунаром рублей перестал быть новостью для них, и выросли новые формы коллективных устремлений: соцсоревнование и ударничество.
Вся система нашей коммуны и производства – производственные комиссии в каждом цехе, общекоммунарский штаб соцсоревнования, совет командиров, сами командиры – все это сумело органически слиться в работе. Все фетиши соцвоса, после того как мы их отбросили, никакими призраками не тревожили нас. Мы о них забыли на другой же день.
Мы сделались настоящим заводом. Но мы и больше завода, ибо мы теперь действительно коммуна: из заработка коммунаров мы организуем потребление и быт в тех совершенных формах, которые мы уже выработали раньше.
Таким образом, наш решительный разрыв с псевдоучеными и потребительскими уклонами детских домов действительно оздоровил и нашу производственную работу, и наше воспитание.
Мы довольны всем этим. Но методисты из соцвоса именно теперь считают нас «мытарями», променявшими высокие идеи «новейшей педагогики» на презренные чертежные столы для советских вузов и кроватные углы.
С другой стороны, слышны разговоры о том, что наши мастерские не дадут квалифицированных рабочих. Но это – буза, как говорят наши коммунары. Разумеется, наши выученики не сумеют сделать вручную дубового, великолепного, резного буфета, хитроумных часов с кукушкой или с танцующими фигурками. Но это ведь никому и не нужно сейчас. Нам сейчас нужны станковые, сборщики, литейщики, формовщики, никелировщики. Как раз их и готовит коммуна. При этом наши ребята получают образование и коллективное воспитание. Это есть то, что называется новыми кадрами.
Дальше. За три года пребывания в коммуне коммунар становится квалифицированным рабочим в нескольких областях труда. Вот сейчас Ленька Алексюк работает на шишках. Что и говорить, квалификация небольшая. В следующем году он перейдет на машинную формовку, а потом и на ручную. На третьем году он прекрасно изучит никелировочное дело – и пойдет в жизнь нужным советским трудовым человеком.
«Педагоги» нас критикуют. Но к нам приезжают рабочие с канатного завода и просят:
– Дайте нам ваших токарей. Нам вот такие токаря нужны до зарезу!
Этой оценки нам достаточно для хорошего самочувствия.
Хозяева
Нигде не собрано так много настоящих коммунаров, прошедших через нашу школу, бодрых, веселых, трудолюбивых и удачливых, как в слесарно-токарном цехе. Подавляющее большинство здесь – комсомольцы. Здесь у каждого станка живет молодая, уверенная в себе рабочая мысль.
И в столярной мастерской, и в других мастерских и цехах есть и дисциплина, и подъем, и умение работать, и бодрость. Но только наши металлисты сумели в своих цехах сделаться самостоятельными хозяевами производства, задающими тон даже квалифицированным рабочим.
В токарно-слесарном цехе работают мастер Левченко, его помощник и несколько квалифицированных рабочих – токарей и слесарей. Все это неплохие рабочие и хорошие люди. Коммунары в этот цех пришли недавно, так как всего полгода тому назад поставили у нас токарные станки.
Но во всем, на каждом шагу, в каждом кубическом сантиметре воздуха чувствуется здесь, что крепкий, непоколебимо уверенный в себе коллектив мальчиков стал во главе цеха – без всяких постановлений, без протоколов и почти без речей, исключительно благодаря своей сознательности и спайке.
В смену работают здесь четырнадцать коммунаров. У токарных станков стоят мальчики и обтачивают медные углы для кроватей или медные масленки для каких-то станков. Перед каждым на станине лежит несколько станов еще не обточенных углов и несколько станов уже готовых.
Работа спорится не у всех одинаково. У Волчка и у Фомичева, у Воленко, у Кравченко, у Грунского горки готовых медных частей больше, чем у других, менее квалифицированных. Невелика горка у маленького Панова, который у своего станка стоит на подставке.
На станинах взрослых рабочих – частей гораздо больше, и станки здесь вращаются быстрее. Взрослых рабочих человек семь.
Вот один из них отошел от своего станка, и, не отрываясь от работы, все коммунары повернули головы к нему. Может быть, там ничего особенного и не случилось, может быть, и коммунары ничего особенного не подумали, но их совершенно инстинктивное внимание ко всему, что происходит в мастерской, заставляет всю мастерскую чутко реагировать на малейшее нарушение привычного ритма общей работы.
Где-то заест пас, где-то начнет болтаться конец трансмиссии, у кого-нибудь не хватит резцов, и тот поспешит за ними в кузницу, где-нибудь завяжется спор между механиком и рабочим – никто не остановит работы, никто из коммунаров не скажет ни слова, но это вовсе не значит, что случай «проехал». Ничего не проехало. Если всего этого не заметил командир и сегодня на общем собрании коммунаров будет благополучно в рапорте, то завтра на производственном совещании, или просто в кабинете завкоммуной, или даже в коридоре кто-нибудь обязательно постарается выяснить, в чем дело. И если один начнет говорить об этом, его немедленно поддержат тринадцать, а то еще придет помощь и из другой смены.
Недавно на производственном совещании один из рабочих обвинял механика в каких-то неправильных распоряжениях и между прочим сказал:
– Я, конечно, ему не подчинился. Я работаю токарем двадцать восемь лет, а он мне говорит: «Останови станки, я запрещаю вам работать». Как он мне может запретить, если мне разрешил работать сам заведующий производством! И он все-таки чуть не стал на меня кричать, чтобы я вышел из мастерской!
Все сочувственно кивали головами, все соглашались с оратором.
Но встал коммунар и сказал:
– А мы вот этого не понимаем. Вам приказал механик остановить станки, а вы ему не подчинились, да еще и хвалитесь здесь, говорите, что вы двадцать восемь лет работали. Где вы работали двадцать восемь лет? А мы считаем, что такого рабочего, как вы, нужно немедленно уволить.
Соломон Борисович, заведующий производством, человек старый, но юркий, замахал на коммунара руками и испуганно замахал глазами. Как это можно уволить такого квалифицированного рабочего? Соломон Борисович даже рассердился.
– Как это вы говорите – уволить? Это старый рабочий, а вы еще молодой человек.
Коммунары загудели кругом. Дело происходило в саду, на площадке оркестра.
– Так что же, что молодые?
Кто-то поднялся:
– Молодые мы или нет, а если с Островским еще такое повторится, так его нужно уволить, пусть он хоть тридцать восемь лет работал.
Слово берет Редько и медлительно, немного заикаясь, начинает говорить:
– В цехе три начальника, а четвертый – сам Соломон Борисович.
Распоряжения отдаются часто через голову механика, квалифицированные рабочие «гонят», портят материал и покрывают брак, трансмиссии установлены наскоро, в цехе много суетни и мало толку…
Собрание не принимает никакого постановления и расходится.
Обиженный Островский уходит в одну сторону, обиженный механик – в другую, обиженный Соломон Борисович – в третью.
Коммунары не обижаются: они знают свою силу и уверены, что будет так, как они захотят.
Через день совет командиров назначает своего браковщика, тот начинает отшвыривать неправильно обточенные, грубо обработанные детали, и уже никому не приходит в голову протестовать против его браковки.
В том же совете командиров недвусмысленно требуют от Соломона Борисовича, чтобы в ближайшие дни был поставлен на фундамент шлифовальный станок. Соломон Борисович обещает поставить его в течение трех дней. Вася, секретарь совета, записывает в протокол это обещание и говорит с улыбкой:
– Записано: через три дня.
А после совета в частной беседе грозят Соломону Борисовичу:
– Смотрите, Соломон Борисович, ваша квартира недалеко – устроим демонстрацию против ваших окон, оркестр у нас свой. Когда-нибудь сядете пить чай, а тут – что такое? Смотрите в окно, а кругом красные флаги и плакаты: «Долой расхлябанность! Да здравствует дисциплина!»
Соломон Борисович отшучивается:
– Ну, вы окна бить не будете? Окна ж ваши, коммунарские.
Васька закатывается за своим столом.
– Окна, конечно, нельзя, так мы стаканы побьем. Милиции близко нету, не забывайте.
Смеется Соломон Борисович.
– Честное слово, хорошие вы ребята, только напрасно волнуетесь, все будет хорошо.
– Посмотрим! – говорят коммунары.
И они смотрят. И под их взглядами ежится всякий шкурник, рвач, растяпа. Соломону Борисовичу этот въедливый хозяйский взгляд помогает вскрыть все недостатки производства.
Все уверенны, что первый и второй отряды наведут дисциплину в токарном цехе.
Недавно на общем собрании рыжий Боярчук, сдавая рапорт на командира первого отряда, сообщил:
– В цехе полчаса не было резцов.
Соломон Борисович при обсуждении рапорта заявил категорически:
– Это неправда. Резцы были. Просто поленились пойти к кладовщику получить.
Коммунары хорошо знают, что где угодно может быть неправда, только не в рапорте. Рапорт пишется пером, и ни один командир не напишет в рапорте неправды.
Коммунары засмеялись.
– А если правда, тогда что?
– Что хотите, – сказал Соломон Борисович.
Встал командир первого, Фомичев:
– Мне за неправильный рапорт было бы не меньше трех нарядов.
– Пускай мне будет три наряда, – выпалил сердито Соломон Борисович.
– Хорошо, – сказал Фомичев.
Тут же выбрали комиссию. На другой день она доложила:
– Резцов действительно не было.
На собрании поднялся смех:
– А где же Соломон Борисович?
Оглянулись, а Соломона Борисовича и след простыл.
На другой день пришел ко мне Соломон Борисович и сказал:
– Ну что ж, я им сделаю душ в саду. Это стоит трех нарядов.
Васька, секретарь совета командиров, подумал и сказал:
– Пожалуй, что и стоит.
Копейки и мальчики
В никелиревочном цехе работают два отряда: одиннадцатый – до обеда и двенадцатый – после обеда. В каждом по десять человек. Командирами здесь старые коммунары – Крымский и Жмудский, но большинство членов этих отрядов – новички. Однако эти новички уже справляются со своим положением хозяев на производстве. Недавно они даже одержали крупную победу над Соломоном Борисовичем.
Никелировочная мастерская разделяется на два отделения: в одном стоят шлифовальные, полировочные станки и так называемые щетки. На всех этих приспособлениях медные части, вышедшие из токарного цеха, приготовляются к никелировке: шлифуются и полируются. В другом отделении они опускаются в никелировочные ванны, но и перед ваннами проходят очень сложную процедуру промывок и очисток и бензином, и известью, и еще каким-то составом. Одним словом, в никелировочном цехе очень много отдельных процессов, и общий успех работы зависит от слаженности и согласованности.
Почему-то Соломон Борисович держал здесь двух мастеров: один заведовал шлифовальным отделением, второй – собственно никелировочным. Мастера эти отчаянно конкурировали друг с другом, подставляли один другому ножку, сплетничали и втягивали в эту глупую борьбу и рабочих, которых там человека четыре, и ребят.
Вообще никелировочный цех у нас один из самых неудачных: всегда в этом цехе что-нибудь ломается, останавливается. И Соломон Борисович, и мастер, и члены производственного совещания, и остальные коммунары на каждое заседание совета командиров приходят с взаимными претензиями. Начинается разговор в очень корректных выражениях, но кончается бурно. Раскраснеются физиономии, размахаются руки, голоса повысятся на пол-октавы. Голос секретаря совета командиров, называемого чаще ССК, переходит в фальцет, но тщетны все попытки сколько-нибудь охладить Соломона Борисовича. Соломон Борисович горячится ужасно.
– Что вы мне рассказываете? Кому вы рассказываете? Я работаю на производстве девятнадцать лет, а мне такой, понимаете, малыш говорит, что здесь число оборотов неправильное. Так разве я могу так работать? Я требую, чтобы со стороны коммунаров было ко мне другое отношение.
Тут Соломон Борисович сам доходит до такого числа оборотов, что уже не замечает, как начинает рассказывать своему соседу, политруководителю коммуны товарищу Варварову, о каких-то еще более возмутительных проявлениях неуважения к его производственному опыту. Варваров, молодой и кучерявый, что-то у него спрашивает. Соломон Борисович ерзает на стуле и роется в глубочайших карманах своего пиджака-халата, очевидно, разыскивая документальное доказательство.
ССК пищит:
– Соломон Борисович, а Соломон Борисович! Соломон Борисович, говорите всему совету. Чего вы шепчетесь?..
Соломон Борисович оглядывается на сердитого Ваську и расцветает в улыбке:
– Ну, вот видите?
Но, несмотря на все эти столкновения, Соломон Борисович любит ребят и часто приходит в неожиданный восторг от напористости коллектива.
Этот восторг он выражает на каждом шагу, но и на каждом шагу он с этим коллективом ссорится и устраивает конфликты. Коммунары платят ему таким же сложным букетом. С одной стороны, они видят его энергию и знания, но в то же время они не склонны подчиняться его авторитету и прекрасно разбираются в отрицательных свойствах его как организатора: бывает, что Соломон Борисович погонится за дешевкой, любит сделать что-нибудь, как-нибудь, только бы держалось, из-за копейки часто не только поспорит, а и разволнуется.
Коммунары умеют собрать самые подробные сведения о какой-нибудь детали у мастеров и неожиданно ошеломляют своей эрудицией Соломона Борисовича.
– Вот в Киеве на производствах везде платят по полкопейки за такую-то деталь; а я вам даю три четверти.
– Э, и хитрый же вы, Соломон Борисович! Так в Киеве платят же только за формовку, а есть еще и чернорабочие…
Соломон Борисович наливается кровью, размахивает руками и сердится:
– Откуда вы все это знаете? Я девятнадцать лет работаю на производстве, а он будет мне толковать о чернорабочем!
Когда был поднят вопрос о ненужности двух мастеров в никелировочном, Соломон Борисович сначала попробовал обидеться, потом стал взывать к милосердию и, наконец, сообразил, что предложение производственной комиссии оставить одного мастера на два отделения – предложение дельное. Принужден он был согласиться и с другим предложением производкомиссии: платить коммунарам за работу на ванне не одну с четвертью копейки от стана, а две копейки. Но на совете командиров Соломон Борисович вдруг стал на дыбы:
– Постойте, как же так? – Соломон Борисович даже вспотел. – Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит и ваша прибавка, – он повернулся к членам производственной комиссии, – может быть только с пятнадцатого.
Председатель производственной комиссии – командир двенадцатого Жмудский, поддерживаемый внушительным урчанием половины всего своего отряда, расположившейся прямо на полу, вероятно, в знак того, что они не имеют права голоса на совете командиров, вытянул удивленную черномазую физиономию.
– Так причем же здесь мастер?
Маленький востроносый ССК Васька даже лег на стол, устремившись всем телом к расстроенному Соломону Борисовичу.
– Так поймите же, Соломон Борисович! Мастер-то относится к рационализации, а то совсем другое дело – расценки.
– Что вы мне, молодой человек, рассказываете? Кому вы это говорите?..
Полный, круглый, красный и клокочущий, завернутый в широчайший и длиннейший, покроя эпохи последних Романовых пиджак, карманы которого всегда звенят ключами, метрами, отвертками, шайбами и т. п., Соломон Борисович вскакивает со стула и вдруг набрасывается на меня, хотя я решительно ни в чем не виноват. Я мирно подсчитываю в это время, сколько метров сатина нужно купить на парадные трусики для коммунаров, принимая во внимание, что девчонкам трусиков не нужно, что в кладовой имеется сто одиннадцать метров и что…
– Вы, Антон Семенович, распустили ваших ребят. Они теперь уже думают, что это не я инженер, а они инженеры. Они будут мне читать лекции о рационализации… Я пойду в Правление, я решительно протестую!
Соломон Борисович брызжет слюной и отчаянно машет руками.
– Да ведь они же правы, Соломон Борисович.
– Как правы? Как правы? Как правы? Я должен где-то брать деньги на никелировку? И мастеру платить, и три четверти копейки…
– Да причем же здесь мастер? – спрашивает Жмурский.
– Как причем? Как причем? Вы слышите, что они спрашивают? Причем мастер? А мастеру платить нужно за две недели? По-вашему, так можно выполнять промфинплан?
– А какое нам дело, что вы держали мастера, который не нужен? Вы и еще бы держали, если бы мы не придумали, а теперь вы хотите, чтоб за наш счет…
Соломон Борисович начинает чувствовать, что Жмудский не так уж далек от истины, и перестает вертеть руками, растеряно всматривается в лицо Жмудского:
– Как вы говорите?
Жмудский смущен неожиданным замешательством противника. Он даже подымается со своего стула и заикается:
– Мастер же, это был убыток. Мы вам посоветовали…
– Нам премию нужно выдать! – перебивает Жмудского кто-то из командиров сзади Соломона Борисовича.
Соломон Борисович резким движением поворачивается на сто восемьдесят градусов и… улыбается. На него смотрят плутоватые глаза Скребнева, которому он очень симпатизирует. Соломон Борисович находит выход:
– Мастер, говорите, убыток? У Соломона Борисовича никогда не бывает убытка.
– Как это не бывает? А ведь был лишний мастер, – раздается со всех сторон.
– Эх, нет, товарищи!
Соломон Борисович вытаскивает из кармана платок, который кажется бесконечным, потому что до конца никогда не вытягивается, затем снова усаживается на своем стуле и забывает, что имел намерения вытереть трудовой пот на инженерском челе. Платок исчезает в кармане, и Соломон Борисович уже сияет и по-отечески, по-стариковски ласково и любовно говорит притихшим коммунарам:
– Двух мастеров нужно было иметь, пока вы учились работать. Вот теперь вы выучились, и двух мастеров не нужно, нужен только один. Если бы вы и не предложили, я его и сам бы снял. Пока вы учились, конечно, нужно было переплачивать на мастерах, и расценки были ниже. Вы работали не самостоятельно, а с мастером.
– Э-э-э, Соломон Борисович!.. Нет… Это что ж…
– Ишь, хитрый какой!
– Смотрите! Учились… А когда мы научились? Сегодня? Сегодня? Да? На Соломона Борисовича один за другим сыплются вопросы, но чувствуется все же, что он нанес гениальный удар.
Когда шум немного стихает, серебряный дискант Скребнева вдруг звенит, как колокольчик председателя?
– Это вы сейчас придумали? Правда ж?
Весь совет заливается хохотом. Соломон Борисович снова наливается кровью и с достоинством подымается с места:
– Нет, товарищи, я так не могу работать…
Снова Соломон Борисович начинает кричать:
– Конечно! Довольно! Кто я здесь такой? Инженер? Или я буду у этих мальчишек учиться управлять производством?..
Коммунары в общем не обижаются даже за «мальчишек». Они улыбаются в уверенном ожидании моего ответа. И я улыбаюсь.
– Да ведь как же не согласиться? Тут ведь дело не в копейке, Соломон Борисович. Нельзя предъявлять коммунарам такую логику, нельзя связывать эти два пункта.
Соломон Борисович опять выступает с достоинством, складывает бумаги в портфель и говорит:
– Хорошо. Значит, дело это переносится в Правление.
– В Правление? – ССК таращит глаза.
– Да, в Правление, – обиженно угрожает Соломон Борисович.
– Посмотрим, что Правление скажет, это интересно. Вот смотри ты, в Правление! – удивляется ССК.
Соломон Борисович вылетает из кабинета, и еще виден в дверях его пиджак, а Васька уже вещает:
– Следующий вопрос – заявление Звягина о приеме в коммуну.
Из книги о культурной революции
Пока шумят мастерские, в главном доме коммуны тихо. Только во время перемен из класса высыпают ребята и спешат кто в спальню, кто в кабинет, кто в кружок. Многие просто прогуливаются у парадного входа по выложенному песчаником тротуару.
Школьная смена своим костюмом резко отличается от рабочей. В то время, когда слесари, токари и в особенности кузнецы и формовщики с измазанными физиономиями щеголяют блестящими от масла пыльными спецовками, старыми картузами и взлохмаченными волосами, на ребятах из школьной смены хорошо пригнанные юнгштурмовки, портупеи, новенькие гамаши и начищенные ботинки, головы приведены в идеальный порядок, и даже такая всесоюзная растрепа, как Тетерятченко, по крайней мере до третьего урока ходит причесанным.
Кончив работу, первая рабочая смена должна переодеться и вымыться к обеду. Вторая надевает рабочие костюмы только после обеда. Вечером, после пяти часов, все должны быть в чистых костюмах.
Добиться этого удалось далеко не сразу. Многие коммунары считали, что внешность истинного пролетария должна быть возможно более непривлекательной. Совет командиров и санитарные комиссии долгое время безрезультатно боролись с этим взглядом.
– Двадцать раз в день переодеваться! – говорили коммунары. – Конечно, тогда ничего не сделаешь. Только и знаешь, что развязываешь до завязываешь ботинки!
Пришлось вводить строгие правила.
Удалось, наконец, добиться, чтобы, отправляясь в школу, ребята переодевались. Но уже к вечеру каждый ходил, как хотел.
Однако довольно скоро наступили перемены. Когда для клубов и столовых наша мастерская изготовила новую прекрасную мебель, заменившую тоненькие киевские диванчики, стало для всех очевидным, что эту мебель мы сможем привести в негодный вид в самый короткий срок. Наша санкомиссия очень легко провела на одном из общих собраний, запрещение входить в клубы и в столовую в рабочей одежде. Энергичные ДЧСК стали настойчиво приводить в исполнение постановление общего собрания.
– Фомичев, выйди из столовой!
– Чего я буду выходить?
– Ты в спецовке.
– Не выйду.
ДЧСК берется за блокнот. Фомичев знает, что кончится рапортом и выходом на середину на общем собрании, но ему хочется показать, что он не боится этого.
– Пиши в рапорт, – говорит он. – Я все равно не выйду.
Тут приходит на помощь более решительный дежурный по коммуне:
– Не раздавать первому отряду, пока Фомичев не переоденется.
Этот ход сразу вызывает более выгодную для санкома перестановку сил. Первый отряд отходит на тыловые позиции.
– Почему из-за одного Фомичева мы должны сидеть за пустым столом?
– Я не буду спорить с каждым коммунаром, – настаивает ДК. – Что вы, маленькие?
С ДК ничего не поделаешь, без его ордера обеда из кухни отряду не отпустят. И члены первого отряда нападают уже на Фомичева:
– Вечно из-за тебя возня!
Фомичев отправляется переодеваться.
К общему удивлению, число таких конфликтов среди коммунаров было очень незначительным. Зато пришлось немало повозиться с рабочими.
В дверях нашего «громкого» клуба – дежурный отряд. Один из дежурящих вежливо заявляет:
– Товарищ, нужно переодеться.
Рабочий принимает все защитные позы и окраски и даже рад случаю повеличаться:
– Как это переодеться? Что ж тут – для господ у вас или для рабочих? Ответ на удивление выразительный:
– Идите переоденьтесь и тогда приходите на киносеанс, – говорит дежурный.
– А если мне не во что переодеться?
Распорядитель прекращает спор и вызывает командира.
Командир – человек бывалый, много видевший, у него неплохая память. Он заявляет бузотеру:
– У вас на чистый костюм денег нет? А на водку у вас есть?
– На какую водку?
Не знаете, на какую? На ту, которую вчера выпили с Петром Ухиным. Возле посетителя уже два-три добровольца из ближайших резервов, самым милым образом кто-то прикасается к его локтям, а перед его носом появляется винтовка молчаливо-официального дневального.
Впрочем, за последнее время таких столкновений почти не бывает. Мы забыли об этих спорах, никому не приходит теперь в голову вступать в пререкания с коммунаром, украшенным какой-нибудь повязкой. Для всех стало законом, что нельзя в зале сидеть в шапке, и если кто-нибудь забудет ее снять, со всех сторон раздаются возгласы:
– Кто это там в шапке?
Разговоры у дневального обычно возникают лишь с посторонней публикой.
Недавно какой-то посетитель вошел в помещение с папиросой. В доме курить запрещено. Вошедшему предложили бросить папиросу. Он швырнул ее куда-то в угол вестибюля под вешалку. Дневальный потребовал:
– Поднимите.
Посетитель оскорблен ужасно. Он не хочет поднять окурок.
– Нет, поднимите!
В голосе дневального появляются нотки тревоги: а вдруг так-таки повернется и уйдет, не подняв окурка?
Чрезвычайно интересно, что такие тревожные нотки удивительно быстро улавливаются всей коммуной. Этот ребячий коллектив перевязан какими-то тончайшими нервами. Малейшее нарушение мельчайших интересов коллектива ощущается как требовательно-призывный пожарный сигнал.
Не успели оглянуться и посетитель и дневальный, как несколько человек окружили место скандала.
Малыши, если они одни, не оглядываются по сторонам – они уверены, что через несколько секунд прибудут солидные подкрепления. Поэтому атака пацанов стремительна:
– Как это не поднимите?
Нарушитель закона что-то возражает. В это время где-то в конце коридора уже гремит тяжелая артиллерия – Волченко, или Фомичев, или Долинный, или Водолазский:
– Что там такое?
Посетитель спешит поднять окурок и растерянно ищет, куда бы его бросить.
– Правильно! А то никакого спасения от разных господ не будет.
– Какие же тут господа?
– А вот такие! Вам говорят поднимите, значит, поднимите. Без лакеев нужно обходиться.
В отношении к пьяным коммунары непоколебимы. Для них не существует разницы между человеком пьяным и даже чуть подвыпившим, только пахнущим водкой. Насчет спирта нюх коммунарского контроля настолько обострен, что малейший запах скрыть от них невозможно. Если возникло такое подозрение, посетителя выставляют из коммуны, хотя бы даже он и вел себя очень разумно и умеренно. Тут уж ничего нельзя сделать.
Коммунары – очень строгий народ. Я сам, заведующий коммуной, иногда с удивлением ловлю себя на мысли: «Хорошо ли я вытер ноги? Не получу ли я сейчас замечания от дневального, вот этого самого Петьки, которого я пробираю почти каждую пятидневку за то, что у него не починены штаны?»
В коммуне живет до полсотни служащих и рабочих, и никогда у нас не бывает пьянства, ссор, драк. Когда недавно из Киева к нам прибыла целая группа рабочих, бывших кустарей, на третий же день к ним пришел отряд легкой кавалерии нашего комсомола и вежливо попросил:
– Отдайте нам карты. Вы играете на деньги.
Вы не застрахованы от того, что в вашу дверь вежливо постучит Роза Красная или Скребнев и спросит:
– Разрешите санкому коммунаров посмотреть, насколько у вас чисто в квартире.
Можно, конечно, и не разрешить, можно сказать – какое, дескать, вам дело, что у меня в комнате грязь!
– Если еще будет такая грязь, мы вас вызовем на общее собрание.
И если вам придет в голову, что вы сможете, не явившись на общее собрание, после этого на другой день продолжать жить в коммуне, вы скоро убедитесь, что это была непростительная ошибка.
Наши служащие невольно подчиняются этому крепкому, убежденному, уверенному в себе ребячьему коллективу. Для них не безразлично отношение к ним коммуны, а многим просто нравятся эти вежливые и настойчивые дети. Благодаря этому все в общем проходит благополучно. Не только никто не будет протестовать против вторжения санкома в квартиру, но все заранее позаботятся, чтобы всюду было чисто, чтобы не пришлось краснеть перед контролерами.
Моя мать – старая работница, проведшая всю жизнь в труде и в заботах, – радостно встречает молодых носителей новой культуры и, предупредительно показывая им свои чуланчики и уголки, наполненные старушечьим барахлишком, даже приглашает их:
– Нет, отчего же, посмотрите, посмотрите… Может, чего мои старые глаза не увидели, так ваши молодые найдут.
«Делегации»
Нередко у нас бывают экскурсии из города. Но больше всего бывает иностранных делегаций. Поэтому в коммуне всех посетителей называют «делегациями».
Зимой делегаций меньше, летом же почти не бывает дня, чтобы в коммуну кто-нибудь не приехал. Это объясняется не только известностью коммуны. Много значит и то, что коммуна – единственное детское учреждение, расположенное в черте города.
Посетители всегда предупреждают коммуну по телефону за день, за два. В первое время мы рассматривали каждое такое предупреждение как сигнал к специальным приготовлениям. Иногда было необходимо выстраивать коммуну с оркестром и знаменем. Это – в дни памятных для коммуны событий. К таким мы относим посещения коммуны членами Коминтерна и КИМа.
Но бывало и так, что торжественные встречи ложились на нас своего рода бременем. Пока автомобили с делегацией кружат по горам и лесам в поисках сносной дороги в коммуну (а дорогу в коммуну отыскать не так-то легко), коммунары должны томиться в ожидании. Мало того: перед этим нужно бросить работу в мастерских, переодеться, нужно собирать оркестр и выносить знамя, а вынос знамени, по коммунарским традициям, является довольно сложной церемонией. Очень многие делегации настаивают на созыве общего собрания коммунаров.
Понятно, что такие торжественные собрания, если они созываются ежедневно, делаются для коммунаров тягостными. Поэтому уже давно мы встали на путь решительной борьбы с разными церемониями, и теперь, несмотря на самые настойчивые требования, мы решительно в них отказываем. Мы уже потому не можем позволять себе роскоши излишних парадов, что от этого страдает наше производство.
Теперь гостей при входе в коммуну встречает дежурный, приветливо приглашает их в кабинет, если их немного, или в «громкий» клуб, если гостей больше трех-четырех десятков. Дальнейшая судьба делегации зависит уже от того, из кого она состоит. Иностранцев обыкновенно провожает заведующий; на его обязанности лежит и прием больших рабочих экскурсий. Компании же поменьше выпадают на долю секретаря совета командиров или дежурного заместителя. С течением времени в коммуне образовалась небольшая группа специальных гидов, которые знают, что интересует гостей, что показывать, и держат в голове всю необходимых статистику. Коммунары в мастерских теперь не отрываются от станков, когда приходит делегация.
В столовой, если гости попадают к нам во время обеда, еще живет обыкновение при входе гостей всем вставать и салютовать. Но в этот обычай внесена небольшая поправка. Коммунары приветствуют гостей таким образом, если тот, кто водит гостей по коммуне, скажет, входя в столовую:
– Товарищи, у нас гости.
Большинство делегаций радует нас, разнообразя нашу жизнь и в значительной мере помогая поддерживать связь с внешним миром. Особенно приветливо встречаем харьковских рабочих, которые посещают нас большими кампаниями, человек по сто и больше. Были в коммуне и негритянские и китайские делегации. Горячо приняли коммунары делегата Германского союза фронтовиков. Его восторженно чествовали на торжественном собрании и выбрали даже почетным коммунаром с зачислением в восьмой отряд.
Иностранные делегации, состоящие из выхоленных и прекрасно одетых, богатых англичан или американцев, вызывают к себе тоже большой интерес, но это уже интерес особый.
Коммунары смеются:
– Хлопцы, живые буржуи в коммуне!
Вокруг «живых буржуев» всегда собирается толпа пацанов, которые, очевидно, никак не могут представить себе, что эти представители вымирающего подвида людей еще имеют возможность свободно передвигаться по земной коре и никто их не ловит и не отправляет в заповедники. Малыши рассматривают этих туристов с таким видом, как будто и в самом деле рассчитывают увидеть оскаленные челюсти, хищные движения, испачканные кровью рабочих руки, раздувшиеся животы. И выражение лиц у некоторых пацанов такое, как будто вообще находиться рядом с такими гостями, даже и в нашей стране, не совсем безопасно.
Буржуи с пацанами разговаривают ласково и даже восхищаются некоторыми физиономиями. Нужно признать, что господа осматривают коммуну очень внимательно и на каждом шагу спрашивают:
– Так вот это и есть беспризорные?
Умытые, причесанные и очень интеллигентные коммунары, совершенно головокружительная вежливость их, умение коммунаров держаться с достоинством, чистота в здании, деловой тон в мастерских противоречат представлениям буржуазного мира не только о наших беспризорных, но и вообще о всей нашей жизни. Отсюда и то недоверие, с каким относятся буржуи к коммуне.
Мы, правда, не отказываем себе в удовольствии поразить их. Коммунары с винтовками в вестибюле нарочно задирают повыше головы. На вопрос: «Неужели все это беспризорные?» – мы отвечаем через переводчика: нет, это не беспризорные, это хозяева здесь. Все это принадлежит им: и спальни, и мастерские, и материалы.
Переводчик, улыбаясь, что-то растолковывает буржуям. Те преувеличенно вежливо кивают головами, но все же не могут скрыть небольшого смущения, тем более что коммунары самым приветливым и самым ехидным образом посмеиваются.
Еще больше приходится смущаться буржуям, когда коммунары усаживают их в кружок в зале и начинают задавать очень недипломатические вопросы:
– Работают ли у вас дети на фабриках и заводах?
– Сколько часов в день?
– Сколько они получают?
– Помогает ли им государство?
– Есть ли у вас сироты и куда они деваются?
– Помогает ли государство этим сиротам попасть в вуз?
После этих вопросов буржуи делаются и гораздо вежливее и гораздо суше. Они вынуждены отвечать довольно нечленораздельно.
– Да, конечно, у нас есть приюты… Приюты, понимаете? Там тоже мастерские, только, конечно, там дети учатся ремеслу и «приучаются не воровать»…
Рабочие делегации Запада никогда не спрашивают: «Неужели все это беспризорные?», никогда не становится их тон сухим или чрезмерно вежливым. Они в восторге от нашей коммуны и от наших ребят, они в восторге и от того, что к ним так тепло относятся эти ребята, от того, что ребятам так хорошо живется в коммуне. Они искренно, часто волнуясь, рассказывают ребятам, как тяжело живется на Западе, как тяжек там детский труд, как тяжела детская сиротская доля. Коммунары слушают их, затаив дыхание.
Гости давно уже сидят в автомобилях, но еще продолжаются расспросы, рукопожатия и шутки. Шоферы нетерпеливо оглядываются, заведующий производством волнуется, что прервали работу, но всем легко и весело. Наконец, автомобили трогаются. У передового на подножке стройная фигурка коммунара, который должен показать самую прямую дорогу через лес.
Экскурсии советских рабочих в коммуне ведут себя по-хозяйски. Женщины заглядывают под одеяла, щупают подушки, осматривают кухонную посуду. Мужчины в мастерских проверяют с циркулем в руках полуфабрикат и спрашивают, почему плохо работает вентиляция. Коммунары в разговоре с ними употребляют самые специальные термины. Только и слышишь: шкив, суппорт, трансмиссия.
Придирчивость гостей никого не обижает. Мы признаем, что подушки действительно надо бы поднабить, что с вентиляцией дело в никелеровочной неладно, что шкив болтается. Эти наши гости самым приятельским образом отплясывают гопака в нашем саду под музыку улыбающихся оркестрантов. Отцы пляшут, отчего же не улыбаться! И уж действительно становится весело, когда на поддержку добродушной неповоротливой толстухе из Нарпита вылетает наш юркий и красивый Ленька Нигалев и начинает заворачивать вокруг нее такие хитрые и умопомрачительные антраша, что сидящий на скамейке в ряду других гостей худой усатый рабочий сбивает фуражку на затылок и кричит:
– Ах, ты ж, с-с-сукин сын! Это наш!..
Уходят рабочие из коммуны пешком, их провожают разговорившиеся, оживленные коммунары. Прощаются на меже у леса.
«Окружающее население»
На общие собрания коммунаров почти каждый раз приходят парни и девчата села Шишковки.
С Шишковкой коммуна начала устанавливать связь давно. Вначале из этого ничего хорошего не получалось. Первые наши культуртрегеры – комсомольцы Охотников, Веренин, Нарский – возвращались из деревни в ночную пору, не только ничего не сделав, но несколько навеселе, так как Шишковка славилась своим самогоном и любила угощать дорогих гостей. Кончились эти первые походы позорно: общее собрание запретило Охотникову посещать Шишковку?
Но скоро в коммуну стали приходить девчата из деревни. Наш политрук от удовольствия только руки потирал. Девчата посещали все комсомольские собрания, постепенно приобщаясь к жизни нашей организации. Большое неудобство, правда, заключалось в том, что девчат нужно было после собрания провожать домой.
Очень скоро обнаружилось, во-первых, что Крупов страшно влюбился в какую-то Катю и возымел даже желание на ней жениться, во-вторых, что в ту же Катю влюбился и Митка, в-третьих, что Катя не порвала со старым бытом, хотя и вступила в комсомол. Она по-прежнему торговала самогоном, так же как и ее мать. Ребята явно подпали под ее влияние. Комсомольцы оказались виновными и «во-первых», и «во-вторых», и «в-третьих». Все было выяснено нашими пацанами на страницах стенной газеты, и после двух-трех бурных заседаний с этим было покончено. Но после такой истории ребята почему-то очень охладели к Шишковке.
В это именно время коммуна совершила несколько культурных походов в более далекое село Шевченки, главным образом преследуя цели антирелигиозной пропаганды. Первое наше выступление было в пасхальную ночь. Несмотря на оркестр, мы собрали мало народу. Была исключительно молодежь, но и та, когда ударили к заутрене, предпочла не ссориться со стариками и отправилась в церковь в предвкушении приятного обжорства на другой день. Однако в Шевченках был уже небольшой актив, и наши комсомольцы сумели с ним связаться и постепенно продвинуться вперед на антирелигиозном фронте. На другой год мы уже были знакомы с половиной села и смогли устроить в пасхальную ночь настоящее торжество с концертом, фейерверком, кинопостановкой. Теперь уже многие решили разговляться не после заутрени, а после нашего представления. Это было немалым шагом вперед.
Но Шевченки – Шевченками, а Шишковка все же не давала покоя нашим политическим организациям. Подошли к Шишковке с другой стороны, и очень хитро подошли.
Наш клубник Перский давно толковал о том, что нужно привлечь в наш драмкружок артистов из Шишковки. В совете командиров долго возражали против этого плана, указывая на то, что Шишковка никогда артистическими силами не славилась, что шишковцы принесут в коммуну водку и будут спаивать ребят. Больше всего командиры беспокоились, что новые артисты будут плевать в здании, бросать окурки и обтирать стены. По вечерам в коммуне стали появляться новые лица. Их было человек десять, артистическими талантами они, правда, обладали небольшими, но были замечательно усердны и послушны. В сравнении с нашими актерами, не имеющими никогда времени прочитать роль, шишковцы оказались прямо золотом. Перский организовал что-то вроде театральной школы – во всяком случае, каждый вечер шишковцы с десятком коммунаров упражнялись в главном зале в дикции, ритме, позе и прочих театральных премудростях.
Работа эта оказалась своевременной и в другом отношении. У коммунаров всегда была неприязнь к театральной работе, они считали, что подготовка к спектаклю отнимает очень много сил, а получается всегда довольно слабо, что во всех отношениях кино в тысячу раз лучше театра и, наконец, в нашем зале можно поместить кроме коммунаров и служащих не больше двадцати человек, так что играть не для кого.
Перский поставил несколько пьес, между прочим даже «Рельсы гудят», и «Республика на колесах».
Для коммунаров смотреть эти пьесы было истинным наслаждением. Действительно, шишковцы хоть и были на сцене довольно неповоротливы и комичны, но зато прекрасно знали роли, и суфлер всегда отставал от артистов.
Главное было сделано: ребята близко и по-деловому познакомились с селянской молодежью. Скоро нашлись и другие общие дела у нас и у шишковцев: комсомол открыл в Шишковке школу ликвидации неграмотности и кружок молодежи, откуда черпал пополнения наш комсомол. Шишковцы не ограничились участием в драмкружке. Они близко подошли к жизни коммуны и сделались постоянными посетителями наших общий собраний. Правда, они не смогли освободиться от излишнего уважения не столько к нашим коммунарам, сколько к строгости и четкости нашей жизни, и коммунары всегда посматривали на них несколько свысока.
Взаимоотношения с селами укреплялись. После первых выпусков школы ликбеза возле коммуны сплотилась целая группа действительно новой молодежи. Наши комсомольцы снабдили село библиотекой. Большое значение имели наши лекции перед каждым сеансом кино – о внешней и внутренней политике, о партийных съездах, о пятилетке. О пятилетке мы прочли около двух десятков лекций, очень подробно останавливаясь на отдельных отраслях хозяйства.
У нас установилась тесная связь с рабочими организациями. Наиболее близко мы стали к клубу металлистов, в особенности к рабочим ВЭКа[307]. Металлисты несколько раз бывали в коммуне, мы всегда с особенной торжественностью и подъемом отправлялись к ним в клуб.
Наши экскурсии на завод были настоящим праздником для коммунаров. Скоро рабочие завода перезнакомились и подружились со всеми. Эта дружба особенно укрепилась после того, как шесть товарищей из коммуны поступили работать на ВЭК. С этих пор коммунары стали рассматривать ВЭК как «свой» завод. Если вэковцы что-нибудь организуют, они обязательно пригласят и коммуну. Если на заводе что-нибудь случится, об этом в коммуне не прекращаются разговоры.
Когда же засветился Тракторострой, когда нам было поручено изготовление дверей для Тракторостроя с обязательством выпускать ежедневно сто штук нашим восторгам не было конца.
Кабинет
«Кабинет» в коммуне имени Дзержинского – место, о котором необходимо поговорить серьезно, потому что эта небольшая комната имеет в коммуне огромное значение.
В кабинете стоят два стола – заведующего, то есть мой, и секретаря совета командиров, три шкафа – мой, секретаря совета командиров и редколлегии стенгазеты, несколько дубовых стульев и два диванчика. Есть пишущая машинка.
Кабинет никогда не бывает пустым – в нем всегда люди и всегда шумно. Пока наше производство еще не развернулось и было много свободных коммунаров, в кабинет назначался специальный дежурный. На его обязанности было держать кабинет в чистоте, исполнять обязанности курьера и, самое главное, время от времени освобождать кабинет от лишней публики. В настоящее время специальных дежурных для кабинета выделить невозможно и поэтому удалять из кабинета лишнюю публику некому.
Откуда набирается в кабинете лишняя публика? Дело в том, что в нашем коллективе существует старая традиция – все коммунарские дела разрешать не на квартире у заведующего, как это принято в соцвосовской практике, а только в кабинете, и ни одного дела, в чем бы оно не заключалось, не делать секретно. В полном согласии с этой традицией каждый коммунар имеет право в любое время зайти в кабинет, усесться на свободном стуле и слушать все, что ему выпадет на долю. Коммунар, понятно, не упустит случая зайти в кабинет. Он всегда найдет какое-нибудь дело, часто самое пустяковое: попросить отпуск, доложить, что возвратился из отпуска, попросить бумаги или конверт, спросить, нет ли для него писем, что-то сверить у ССК, наконец, принести забытую кем-то в саду тюбетейку или пояс. Под такими благовидными предлогами, а иногда и без всяких предлогов коммунар задерживается в кабинете. Но, разумеется, коммунару тихонько сидеть на стуле даже и физически невозможно. Он вступает с кем-нибудь, таким же случайным гостем, и негромкую беседу в уголке. К ним присоединяется третий, и беседа разгорается.
Кроме того, в кабинет все время заходят и особы более дельные: ежеминутно забегает дежурный по коммуне с разными вопросами, ордерами, «запарками» и недоумениями, председатель столовой комиссии ругается по телефону с соседом-завхозом: утреннее молоко оказалось прокисшим и председатель кричит что есть мочи:
– Что у нас кони – казенные? «Отвезите!»… Давайте теперь ваших коней.
Иногда у стола собирается целый консилиум: девочки хотят сшить себе юбки «модерн» и демонстрируют покрой. Я с сомнением смотрю на узкую выгнутую юбочку и говорю:
– Мне кажется, мало подходит для коммунарки.
Инструктор швейной мастерской, маленькая, худенькая добрая Александра Яковлевна, виновато поглядывает на девчат, а девчата уступать и не собираются.
– Почему не подходит? Это вам все мальчишки наговорили?
Присутствующие тут же мальчишки поднимают перчатку:
– Тогда и хлопцы начнут модничать. Вот нашьем себе дудочки…
– Разве мы модничаем? Какая же тут особенная мода?
– Вы их балуете, Антон Семенович, – говорят мальчишки. – Сколько уже у них платьев?
– Сколько же у нас платьев? Ну, считай…
– Ну вот, смотри, – начинает откладывать пальцы «мальчишка». Парусовое – раз?
– О, парусовое! Так это же парадное… Смотри ты какой!
– Парадное не парадное, а – раз?
– Ну, раз.
– Дальше: синее суконное – два?
– Что ты! Смотри, так же парадное зимнее. Что ж, мы в нем ходим? Надеваем два раза в год.
– Все равно, хоть и десять раз в год. Два?
– Ну, два.
– Дальше: серенькое вот, которое такое, знаешь…
– Ну, знаем… это же спецовка.
– Спецовка там или что, а – три?
– Ну, три.
– Потом с цветочками разными – четыре.
– А что же мы будем в школу надевать спецовку, что ли?
– Все равно – четыре. Потом синее, рябое, полосатое, клетчатое и вот то, что юбка в складку, а кофточка…
– Что вы такое выдумываете? Разве это у всех такие платья? У одной такое, у другой такое.
– Рассказывайте – такое да такое! Вот пусть об этом совет командиров поговорит, а то одна одежная комиссия, а там девчата – что хотят, то и делают.
Девочки побаиваются совета командиров – народ там всегда очень строгий. Но и у девочек есть чем допечь мальчишек.
– Смотри ты, какие франты! Сколько у них костюмов! Парусовый – раз.
– Да что ты, парусовый! Это ж летний парадный.
– Все равно – раз?
– Ну, раз.
– Суконный синий – два.
– Ну, еще будешь считать! Сколько же мы его раз надеваем в год? Разве что седьмого ноября.
– Все равно – два?
– Ну, два.
– Черный – три. Юнгштурм – четыре.
Мальчики начинают сердиться.
– Да ты что? А что ж нам в спецовках ходить в школу?..
Споры эти – настоящие детские споры. За ними всегда скрывается робкое чувство симпатии, боящееся больше всего на свете, чтобы его никто не обнаружил.
Попробуй та же девочка показаться в клубе в слишком истрепанном платье – со всех сторон подымается крик:
– Что это наши девочки хотят, как беспризорные. Что, им лень пошить себе новое платье?
Иногда у стола заведующего возникают дела посложнее. Виновато разводит руками инструктор литейного цеха:
– Вчера не было току, это верно.
– А сегодня.
– А сегодня этот лодырь Топчий не привез нефти из города.
– Какое нам дело до вашего Топчия! Вы отвечаете за то, что литье начинается в восемь часов, когда выходят на работу коммунары.
Инструктор бессилен снять с себя ответственность. Коммунары лежачего не бьют – только разве кто-нибудь вставит:
– Поменьше бы в карты играл у себя в общежитии.
Особый интерес возбуждают приезжие заказчики. Какой-нибудь технорук раскладывает на столе чертежи и торгуется с Соломоном Борисовичем, а из-за их плеч просовывают носы коммунары и нюхают, чем тут пахнет.
Вообще много интересного бывает в кабинете, и зайти в эту комнату всегда полезно.
В рабочие часы в кабинете почти никого нет, разве задержится больной или дежурный зайдет по делу.
Но как только затрубили на обед или «кончай работу», так то и дело приоткрывается дверь и чья-нибудь голова просовывается в кабинет, чтобы выяснить, есть смысл зайти или можно проходить мимо. Если я занят бумагами, ребята накапливаются в кабинете понемногу и начинают располагаться совсем по-домашнему. Вероятно, мой занятый вид импонирует им в высшей степени. Подымаю голову. Они не только расселись на всех стульях, но уже и в шахматы идет партия на столе ССК, а рядом – кто читает газеты, кто роется в каких-то обрезках стенных газет, кто оживленно беседует в углу. В кабинете становится шумно. Иногда я начинаю сердиться:
– Ну, чего вы здесь собрались? Что это вам – клуб? Я у вас не играю на станках в шахматы!
Коммунары быстро скрываются и бросают недоконченную партию, но на меня никогда не обижаются.
Их можно выдворить и гораздо более легким способом:
– А ну, товарищи, вычищайтесь!
– Вычищаемся, Антон Семенович!
Но ровно через пятнадцать минут я отрываюсь от работы и вижу: другие уже набились в кабинет, опять – шахматы, опять – чтение, опять – споры…
Бывают дни, когда я забываю о том, что они мне мешают. За десять лет моей работы я так привык к этому гаму, как привыкают люди, долго живущие у моря, к постоянному шуму волны. И поздно вечером, когда я остаюсь в кабинете один, в непривычно молчаливой обстановке работа у меня не спорится. Я нарочно иду в спальню или в лагери и отдыхаю в последних плесках ребячьего говора.
Но иногда от переутомления делаешься более нервным; тогда я дохожу даже до жалоб общему собранию:
– Это же ни на что не похоже! Как будто у меня в кабинете нет работы. Каждый заходит, когда ему вздумается, без всякого дела, разговаривает с товарищем, перебирает мои бумаги на столе, усаживается за машинку.
Все возмущены таким поведением коммунаров и наседают на ССК:
– А ты куда смотришь? Что, ты не знаешь, что нужно делать?
Два-три дня в кабинете непривычная тишина. Но уже на третий день появляется первая ласточка. Оглядываюсь – под самой моей рукой сидит маленький шустрый Скребнев и читает мой доклад Правлению о необходимости приобретения хорошего кабинета учебных пособий. Его локоть лежит на папке, которую мне нужно взять.
– Товарищ, потрудитесь поднять локоть, мне нужна эта папка, – говорю я с улыбкой.
Он виновато краснеет и быстро отдергивает локоть:
– Простите.
Я беру папку, а он усаживается в кресле поуютнее, забрасывает ногу на ногу и отдается чтению важного доклада. В дверь просовывается чей-то нос. Его обладатель, конечно, сразу догадывается, что эпоха неприкосновенности кабинета пришла к концу. Он орет во всю глотку:
– Антон Семенович! Вы знаете, что сегодня случилось в совхозе?
Так как я занят, то он начинает рассказывать последние новости Скребневу и еще двум-трем коммунарам, уже проникшим в кабинет.
При всей бесцеремонности по отношению к моему кабинету коммунары прямо не могут перенести, если так же бесцеремонно в кабинет заходят новенькие. Тогда со всех сторон раздается крик:
– Чего ты здесь околачиваешься? Тебя просили сюда?
Новенький в панике скрывается, а коммунары говорят мне:
– Ох, этот же Тумаков и нахальный! Смотрите, он уже здесь, как дома. Все поддерживают:
– Это верно. Сегодня я ему говорю: «Чего ты стены подпираешь?» А он: «А тебе какое дело!»
– В столовой разлил суп, я говорю ему: «Это тебе не дома. Аккуратнее» – так он спрашивает: «А ты что – легавый?»
Ребята хохочут.
Но через месяц, когда все раскусят новенького до конца, приучат не подпирать стены, не разливать суп и окончательно, раз навсегда забыть о том, что есть на свете «легавые», его присутствие в кабинете никого не удивит.
Коммунары, очевидно, считают кабинет своим центром, считают, что каждый настоящий коммунар вправе в нем присутствовать, но что для этого все-таки нужно сделаться настоящим коммунаром.
Когда в нашу кабинетную толпу входит посторонний человек с явно деловыми намерениями, ему вежливо дают дорогу, еще вежливее предлагают стул, каким-то особым способом уменьшают толпу в кабинете на три четверти нормальной и тихонько слушают, если интересно. А неинтересно, все гуртом «вычищаются» в коридор.
Совет командиров
В кабинете собирается и совет командиров. Очередные заседания совета бывают в девятый день декады, в половине шестого, после первого ужина. Обыкновенно об этом совете объявляется в приказе, и коммунары заранее подают секретарю совета заявления: о переводе из отряда в отряд, о разрешении курить, о неправильных расценках, об отпуске, о выдаче разрешения на лечение зубов и пр.
Гораздо чаще совет командиров собирается в срочном порядке. Бывают такие вопросы в жизни коммуны, разрешение которых невозможно откладывать на десять дней.
Собрать совет командиров очень легко, нужно только сказать дежурному по коммуне:
– Будь добр, прикажи трубить сбор командиров.
Через четверть минуты раздается короткий сигнал. Я не помню случая, чтобы между сигналом и открытием заседания прошло больше трех минут.
Мы стараемся созывать совет командиров внерабочее время, чтобы не раздражать Соломона Борисовича. Да и ребята не любят отрываться от работы.
По сигналу в кабинет набивается народу видимо-невидимо. Командиры приводят с собой влиятельных членов отряда, бывших командиров и старших комсомольцев, чтобы потом не пришлось «отдуваться» в отряде. Приходят и все любители коммунарской общественности, а таких в коммуне большинство.
У нас давно привыкли на командира смотреть как на уполномоченного отряда, и поэтому никто не придирается, если вместо командира явился какой-нибудь другой коммунар из отряда.
Заседание начинается быстрой перекличкой.
– Первый.
– Есть.
– Второй.
– Есть.
– Третий.
– Есть…
И так далее.
– Объявляю заседание совета коммунаров открытым, – заявляет ССК. – У нас такое экстренное дело. Пришло приглашение окружного отдела МОПРа провести с ними экскурсию в чугуевский лагерь. Условия предлагают такие…
Начинается самое подробное рассмотрение всех условий, предложенных МОПРом. Коммунары – все члены МОПРа и все гордятся своими мопровскими книжками, но это не мешает им с хозяйской недоверчивостью обсуждать каждую деталь предложения.
Черномазый Похожай – добродушный и умный командир девятого отряда новеньких, уже комсомолец и общий любимец, хоть ему еще и пятнадцати не стукнуло, сверкает глазами и басит:
– Знаем, чего это они к нам с приглашением. Наверное, у них оркестра нет. Вот они и просят: давайте ваших семьдесят коммунаров. А мое предложение такое: что нам делить коммуну? Если ехать, так всем ехать, а не ехать – так никому не ехать.
На полу под вешалкой сидит Ленька Алексюк из десятого отряда, политбеженец из Галиции, самый младший и смешливый коммунар. Его командир Мизяк долго соображает что-то по поводу предложения Похожая, а Ленька уже сообразил:
– Ишь, хитрые какие! Семьдесят человек… А если и мы хотим ехать?
Ленька – человек опытный и знает, что если дойдет дело до выбора, то ему скажут: «Успеешь еще, посиди в коммуне, заснешь там ночью…»
Командир третьего Васька Агеев о чем-то шепчется с непременным своим спутником Шведом, и я слышу обрывки разговора:
– Ну, так что?
– В копейку влетит, если все…
Берет слово Волчок, помощник командира первого. Волчка Фомичев почти всегда посылает в совет в трудных случаях.
– Да что тут говорить? Конечно, всем ехать…
Васька, секретарь, обращается ко мне:
– А как у нас с деньгами?
– Слабо, – говорю я.
Васька оживляется.
– Ну, так что ж тут говорить! Значит, предложение будет такое, как тут высказывались: едет сто пятьдесят коммунаров, проезд на «их» счет, и чтобы обед в Чугуеве. Голосую…
В таких случаях решение бывает единогласным.
Но иногда разгораются страсти, в прениях принимают участие и гости и даже вся толпа не успевших занять стулья или присесть на полу. Тогда Васька «парится» и кричит:
– А ты чего голосуешь? Ты командир?
– Наш командир в городе, я – за него.
– Ты за него, а почему голосует Колька?
– А это он за компанию.
– Голосуют только командиры! – разрывается секретарь, и Ленька Алексюк опускает руку. Он всегда голосует, хотя его руку давно уже привыкли не замечать под вешалкой.
В особенности часто разделяются голоса в тех случаях, когда затрагиваются вкусы. Недавно решали, что покупать на лето – фуражки или тюбетейки. Народ поменьше стоял за тюбетейки, старшие настаивали на фуражках; вышло поровну. В таком случае дает перевес голос председателя. И Васька начинает важничать: долго думает, морщит лоб и отмахивается от недовольных комсомольцев, которым тюбетейка почему-то кажется несимпатичной.
– Да ну же решай, чего там морщишься? Все равно никто носить не будет.
Васька сейчас же в «запарку», поддерживаемую большинством собрания:
– Как это не будешь? А если постановят? Ты мне такие разговоры не заводи, а то в бюро придется с тобой разговаривать!
Васька и сам комсомолец и член бюро, но ему только пятнадцать лет, поэтому ему мила тюбетейка. Теперь же, после угрозы не подчиниться постановлению, он решительно переходит на сторону золотой шапочки и подымает руку.
– За тюбетейку!
Бывает часто, что и мне приходится оставаться в меньшинстве. В таких случаях я обычно подчиняюсь совету командиров, и тогда ребята торжествуют и «задаются»:
– Ваша не пляшет!
Но бывает и так, что я не могу уступить большинству совета. У меня тогда остается один путь – апеллировать к общему собранию коммунаров. На общем собрании меня обычно поддерживают все старшие коммунары, бывшие командиры и почти всегда – комсомольцы, способные более тонко разбираться в вопросе.
Благодаря такой конъюнктуре командиры очень не любят, когда я угрожаю перенести вопрос на общее собрание, и недовольно бурчат:
– Ну да, конечно, на общем собрании за вас потянут. А вы здесь должны решать, а не на общем собрании. Им что, поднять руку!
В прошлом году стоял вопрос о летней экскурсии. Совет командиров настаивал на Крыме, я предлагал Москву. В совете о Москве и слышать не хотели:
– В Крыму и покупаться и отдохнуть…
– У нас мало денег для Крыма, а в Москву дешевле, – возражал я.
– Мы и в Крыму проживем дешево.
– В Москве больше увидим, многому научимся, увидим столицу.
– А Харьков не столица разве?
Я все же не помирился с советом и перенес вопрос на общее собрание. Все командиры агитировали против меня, яркими красками рисовали прелести Крыма и отмахивались от моей поправки: «В этом году – в Москву, а в следующем – в Крым».
На общем собрании решение ехать в Москву было принятом большинством трех голосов, и это дало основание в совете командиров поднять вопрос о пересмотре. При новом голосовании в совете я остался уже не в таком позорном одиночестве, а на новом общем собрании мне удалось собрать больше двух третей голосов благодаря единодушной поддержке комсомола. Только тогда оппозиция успокоилась.
Такие случаи объясняются тем, что в командирах ходят не обязательно самые авторитетные коммунары. Командир командует отрядом три месяца и на второй срок избирается очень редко. С одной стороны, это очень хорошо, так как почти все коммунары таким образом проходят через командные посты, а с другой стороны, получается, что командиры сильно ограничены влиянием старших коммунаров. Последние, в особенности комсомольцы, умеют подчиняться своим командирам в текущем деле, на работе, в строю, но зато независимо держатся в общественной жизни и в особенности на общем собрании. Здесь коммунары вообще не склонны разбирать, кто командир, а кто нет.
Исключительное значение имеет в коммуне ячейка комсомола, объединяющая больше шестидесяти коммунаров. Она никогда не вмешивается в прямую работу совета командиров, но очень сильно влияет на общественное мнение в коммуне и через свою фракцию всегда имеет возможность получить любое большинство в совете. Поэтому в вопросах, имеющих принципиальное значение, совету командиров часто приходится только оформлять то, что уже разобрано и намечено в разных комиссиях, секторах, бюро ячейки и, наконец, в общем собрании комсомола.
Но зато в повседневной работе коммуны, во всех многообразных и важных мелочах производства совет командиров всегда был на высоте положения, несмотря на свой переменный состав. Здесь большое значение имеют традиция и опыт старших поколений, уже ушедших из коммуны. Вот мы сейчас собираемся уезжать, и в совете командиров все хорошо знают, что нужно подумать и о котлах, и о ведрах, и о сорных ящиках, о правилах поведения в вагонах, о характере работы столовой комиссии, о санитарном оборудовании похода. Во всех этих делах ребята не менее опытны, чем я, и быстрее меня ориентируются. Только поэтому мы могли в пять часов вечера окончить работу в мастерских, а в шесть выступить в московский поход.
Из особенностей работы совета необходимо указать на одну, самую важную: несмотря на все разногласия в совете командиров, раз постановление вынесено и объявлено в приказе, никому не может прийти в голову его не исполнить, в том числе и мне. Может случиться, что я или старшие комсомольцы будем разными путями добиваться его отмены, но мы совершенно не представляем себе даже разговоров о том, что оно может быть не выполнено.
В начале этого лета одно из постановлений совета прошло незначительным большинством и при этом наперекор общему настроению. Дело касалось охраны лагерей. Зимой сторожевой отряд освобождался от работы в мастерских – иначе было нельзя: коммунары занимались в школе, а из школы мы никогда ребят не снимали. Но когда настали каникулы, совет командиров возбудил вопрос об охране лагерей в порядке дополнительной нагрузки. Большинство в совете набралось очень незначительное – один или два голоса. Вся коммуна была недовольна. Еще бы: нужно вставать ночью и становится на дневальство на два часа, и это приходится делать раз в пятидневку. Но другого выхода не было.
Дня два мы не решались объявить постановление в приказе, я даже побаивался: а вдруг не выполнят?
Наконец, решились с Васькой: чего там смотреть! Объявили в приказе давно известное всем решение.
И ни одного голоса не раздалось против, ни один человек не опоздал на дневальство и не проспал. Вопрос был исчерпан. И мы этому не удивились. Васька, подписывая приказ, недаром говорил:
– Кончено! Подписали!
Наши шефы
Правление, в которое Соломон Борисович грозил перенести вопрос о копейке, имеет огромное значение в жизни коммуны. В Правлении – четыре товарища. По странному совпадению фамилии всех членов Правления начинаются на одну букву Н. Члены Правления – чекисты. Они отнюдь не перегружены педагогической эрудицией и, вероятно, никогда не слышали о «доминанте». Но они создали нашу коммуну и блестяще руководят ею.
Все члены Правления – люди очень занятые. Они могут нам уделять лишь немного времени по вечерам или в выходной день, да и то очень редко. Несмотря на это, ни одна деталь нашей жизни не проходит мимо них, они всегда полны инициативы.
Н. приезжает в коммуну без портфеля и в дверях весело здоровается с коммунарами. Коммунары, занятые своими делами, пробегают мимо него и наскоро салютуют. Они не чувствуют перед Н. ни страха, ни смущения. Н. направляется в кухню и в столовую. Старшая хозяйка расплывается в улыбке и спрашивает:
– Может, покушаете чего?
– Потом, потом…
Н. обходит спальни. Его сопровождает случайно прицепившийся коммунар, почему-либо свободный от работы. Из седьмой спальни Н. выносит кривой «дрючок» и с укоризненным видом опирается на него, пока Сопин, украшенный красной повязкой ДК, отдает рапорт:
– В коммуне все благополучно, коммунаров сто пятьдесят один.
– Все благополучно? А это зачем в спальне?
– Наверное, для чего-нибудь надо, – уклончиво отвечает Сопин.
– Надо!.. Для чего это может понадобиться? Собак гонять?
– Почему для собак? Наверное, для чего-нибудь нужно пацану, – может быть, какое-нибудь дерево особенное.
Сопин присматривается к «дрючку», стараясь найти в нем в самом деле что-нибудь особенное.
– Дерево… – говорит Н. – Вы это обсудите в санкоме, почему в спальнях разные палки.
– Конечно, если придираться… А у вас в комнате ничего не бывает? Вот палку нашли…
– Да чудак ты! Зачем я в комнату принес палку, такую кривую?
– Вам не нужна, а пацану, может, нужна для чего… Больше никаких замечаний нет?
Сопин оставляет Н. Через минуту врывается в кабинет с этой самой палкой в руках и гневно говорит Ваське ССК:
– И откуда, понимаешь, понатаскивают разной дряни! На поверке, понимаешь, ничего не было, а теперь палок разных…
Васька строго смотрит на палку.
– Что? Наверно, Н. приехал?
Но Н. уже входит в кабинет в сопровождении какого-то пацана, рука его лежит у пацана на затылке, и пацан что-то лепечет, задирая вверх голову.
Васька отставляет палку в угол и салютует.
– Вы опять его балуете? Ты чего без дела?
– У меня пас лопнул, зашивают, – шепчет пацан и немедленно удаляется.
Н. усаживается за стол ССК.
– Ну, как у вас дела?
– Дела скверные, – говорит Васька. – Дуба нет, в цехах тесно, холодно, станки старые, пасы рвутся, считай, каждую минуту: все старье.
– Постой, постой, это мы знаем…
– Ну, а так все хорошо.
– Вот, подожди немножко, поправимся, построим новые цехи, все будет. Ну, пойдем в цех.
К сигналу «кончай работу» они возвращаются в кабинет. С ними приходят другие коммунары и Соломон Борисович. Соломон Борисович недоволен:
– А деньги где? А фонды?
Мы не открываем заседания. Без председателя и протокола мы в течение получаса решаем вопрос о том, где достать леса, как отеплить цех, какую спецовку выдать Леньке. Между делом Н. говорит:
– Завтра в клубе интересный концерт. Пришлите тридцать коммунаров.
Наконец подошли и к вопросу о копейке в никелировочном. О ней докладывают Васька и Соломон Борисович с диаметрально противоположными выводами. Н. хохочет и кивает Соломону Борисовичу:
– Придется платить.
– Вам хорошо говорить! – закипает покрасневший Соломон Борисович, но ему не дают кончить коммунары. Они тоже хохочут и требуют Соломона Борисовича за полы пиджака:
– Годи[308]! Теперь уже годи!..
Приблизительно раз в месяц коммуна бывает в клубе ГПУ. Коммунары рассыпаются по залам клуба, занимают первые ряды в зрительном, толпятся у стоек буфета, угощаются чаем. Беседуют со знакомыми, договариваются о каких-то делах – спортивных, литературных, комсомольских, смеются и шутят. Чекисты создали нашу коммуну, они знают в лицо многих коммунаров, для них коммуна Дзержинского – живое дело, созданное их коллективом и неуклонно развивающееся благодаря их заботе. Сколько наговорено слов о связи детского дома с производством и с окружающим населением! Создана целая методика по этому вопросу. А оказывается, нужно просто сделать детский дом органической частью общества, создавшего его и за него ответственного. Только в таком случае создается тот необходимый фон, без которого советское воспитание невозможно.
Наши шефы – люди занятые чрезмерно, занятые круглые сутки. Но все-таки они находят время подумать о коммунарах, и они умеют все делать, не выставляя напоказ своей заслуги. Это естественно: наша коммуна – их коммуна, и забота о ней – забота о близком и дорогом деле, которое тем дороже, чем больше на него положено сил.
Коммунары-дзержинцы имеют все основания встречать свое начальство просто и без напряжения, потому что это приезжают свои люди, близкие.
И так же просто и естественно выходит, что товарищ Н. ночью, после целого дня напряженной работы, выезжает на вокзал встречать возвращающуюся из Москвы коммуну и заботливо спрашивает:
– Никто не потерялся? Все здоровы?
Дела комсомольские
Комсомольцев в коммуне шестьдесят пять. Все они очень молоды, самому старшему семнадцать лет. Наши коммунары – плохие ораторы. Коммунарская жизнь упорядочена и логична. На общих коммунарских собраниях всегда все так ясно и все так единодушны, что разговорившегося оратора немедленно останавливают и председатель и все собрание: «Довольно, знаем!» Большего всего приходится говорить ребятам на производственных совещаниях, но там такой малый и в то же время четкий круг вопросов, что разговор принимает форму беглой беседы. Ораторским способностям коммунаров негде развернуться.
Нужно сказать и еще одну правду: коммунарам зачастую бывает в высшей степени мучительно выслушивать заезжих докладчиков, способных в течение часа излагать то, что всем давно известно. Невысоко ценится в коммуне и тот кустарный пафос, которым умеет щегольнуть кто-то из приезжих «ораторов».
Но все же коммунары всегда болезненно переживали те неловкие минуты, когда в ответ на какое-нибудь цветистое и полное «измов» приветствие никто в коммуне не мог ответить. С приходом Шведа это больное место в нашем коллективе было как будто залечено. Комсомольцы прямо назначили Шведа присяжным ответчиком и приветчиком во всех подходящих случаях.
А таких случаев бывает много в коммуне: посещение торжественных собраний в разных клубах, проведение в самой коммуне различных кампаний и т. д. Швед умеет смело выйти на трибуну, заложить одну руку в карман и начать говорить, ни разу не сбиваясь. Коммунары с восхищением смотрят на самоуверенного трибуна Шведа, такого ласкового и мягкого в нашем коммунарском быту. Но иногда Швед уж слишком разойдется, и тогда его апломб вызывает возражения в коммуне:
– Что это такое: «Я надеюсь, что ГПУ исполнит свой долг»?
Неожиданно в коммуне обнаружился и второй оратор, четырнадцатилетний Васька Камардинов. По должности ССК ему часто приходится брать слово и произносить речи.
Васька никогда не употребляет книжных выражений, всегда умеет найти живые и непритязательные слова и подкрепить их смущенным жестом и смущенной улыбкой. Он никогда не мог бы произнести такие ответственные слова, на которые с легким сердцем решается Швед:
– Перевыборы нашего самоуправления, товарищи, происходят в весьма сложной обстановке: с одной стороны, буржуазия делает последние усилия, чтобы справиться с мировым кризисом и втянуть нас в войну, с другой стороны – Советский Союз строит свою пятилетку уже не в пять лет, а в четыре года.
Кроме этих двух присяжных ораторов есть, правда, в коммуне и другие, которые отваживаются даже при посторонних брать слово и пытаются что-нибудь высказать. Но наши доморощенные докладчики сначала весьма смущаются и лишь постепенно овладевают задачей более или менее удовлетворительно изложить на нашем русско-украинском языке (результат перехода из русской школы в украинскую и обратно) существо дела.
Но совсем другое дело на общих собраниях, в совете командиров, на производственных совещаниях, где коммунар не чувствует себя обязанным блеснуть ораторским искусством, всегда коммунары найдут там яркие и нужные экономные слова, достаточно при этом остроумные, горячие и убедительные. Застрельщиками в таких выступлениях всегда бывают комсомольцы.
Комсомольской ячейке коммунаров работы по горло. Руководство ходом соревнования и ударничества лежит на плечах нашего комсомола.
Наш взрослый состав, к сожалению, не всегда удовлетворителен во многих отношениях. Например, один из рабочих, только что поступивший на производство, ночью пьянствовал на Шишковке, а наутро оказалось, что у других рабочих пропали вещи, что в цехе не хватает двух новых рубанков. В обеденный перерыв легкая кавалерия бросилась на Шишковку и ликвидировала целый самогонный завод, а вечером бюро до двенадцати ночи договаривалось с месткомом об увольнении рабочего.
В таких случаях местком обязательно проводит линию милосердия и прощения, а комсомольцы кроют:
– Какой он там рабочий?.. Разве это рабочий?.. Уволить – и все!
– Нельзя же, товарищи, так строго, – говорит один из воспитателей-месткомовцев.
– Почему нельзя так строго? – удивляется Сторчакова.
– Ну, все-таки в первый раз.
– Как это – в первый раз? Что ж, по-вашему, каждый по разу может украсть и пропить?
На производственных совещаниях и в комиссиях – а их в коммуне шесть – для комсомольцев самая тяжелая повседневная работа. Здесь по целым вечерам приходится биться над тонкостями сортирования материалов для отдельных частей стола, неправильностью проводки к никелировочной ванне, новыми приспособлениями у токарных зажимов, капризами расмусного станка, расхождениями отделов токарного цеха, недостатками вентиляции в литейной…
Мне их становится иногда жаль. На улице золотой радостный вечер, кто-то смеется и кто-то катается на велосипеде, а в «тихом» клубе наморщили лбы пять комсомольцев и выслушивают довольно путанные объяснения мастера, которому следовало бы в двух словах повиниться и признать, что вчера проспал и поэтому в цехе полчаса не было работы. В таких случаях я нажимаю и требую сокращения работы комиссий. Раз в две пятидневки бывает общее комсомольское собрание. На собрание приходят обычно все коммунары, даже Ленька Алексюк заранее занимает место за передним столом.
Самое трудное дело для нашего комсомола, труднее всех производственных тонкостей – дело пионерское. Не налаживается у нас с пионерами. Пока не работали малыши в производстве, еще шли у них дела. Теперь же они возгордились и считают, что в пионерах им делать нечего.
Комсомольцы их и укоряют, и прикрепляют к ним все новых и новых работников, но пионеры неизменно отлынивают от пионерработы. Зато почти еженедельно они подают в комсомол заявления о приеме. В самом деле, как пацану работать в пионерах, если по квалификации он перегнал своего командира, если по школе он перегнал многих комсомольцев, если в политиграх он идет впереди, если газет он читает больше? Можно вступать в комсомол с четырнадцати лет…
В пионерорганизации только одному Леньке Алексюку место, но и Ленька с удовольствием посещает комсомольские собрания и совет командиров…
Общее собрание
После второго ужина в коммуне наступает час, когда вся дневная программа считается законченной, все обязанности исполненными. Но кое-где еще бьется пульс дневного напряжения.
В столовой еще ужинают: дежурства, подавальцы, опоздавшие.
У парадного входа балагурят старшие в ожидании общего собрания. Здесь же собираются и инструкторы и рабочие, любители наших общих собраний. Образуются группы вокруг наиболее веселых и говорливых товарищей. Если сегодня была сыгровка оркестра, то веселее всего тем, кто толпится вокруг Тимофея Викторовича, нашего капельмейстера. Ему шестьдесят лет от роду, но в то же время он самый здоровый, энергичный и общественный человек в коммуне, никогда не устает ни от работы, ни от толпы. Он пользуется огромным авторитетом не только среди музыкантов, а решительно у всех коммунаров. Тимофей Викторович – человек полный, у него подстриженные усы и нос картошкой. Он был и на японской, и на империалистической, и на гражданских войнах, побывал чуть не во всех частях света. Этот умный и жизнерадостный человек любит порассказать о своих приключениях и наблюдениях.
В кабинете яблоку негде упасть. Командиры приготовляют рапорты и передают дежурному по коммуне для подтвердительной визы. Любители кабинета в этот момент собраны в наибольшем количестве. Да и трудно не зайти в кабинет, когда здесь и Соломон Борисович с последними производственными новостями и планами, восторгами и обидами, здесь и наш клубник, оригинал и фантазер Перский, всегда занятый неким изобретением, подозрительно похожим на перпетумм-мобиле; возле Перского непременный штаб, состоящий из самых недисциплинированных, самых дурашливых, предприимчивых и способных коммунаров – Ряполова, Сучкевича, Боярчука, Швыдкова.
В этот час только и можно выпросить у меня денег на какие-нибудь приспособления для изокружка, у Соломона Борисовича – дикт и гвозди, у ССК – бумаги и резинок. На диване или на полу поспешно заканчивают шахматную партию наши маэстро. Среди них – физкультурник Карабанов, старый мой товарищ по горьковской колонии, когда-то вместе со мной закладывавший камень за камнем фундамент горьковского здания, до того – беспризорный и бандит, а теперь – один из самых влиятельных дзержинцев, по-прежнему упорный и огневой, наш чемпион в шахматах. Тут же и какой-нибудь заночевавший гость, чаще всего из учителей. Он не может постигнуть, каким образом в этом невероятном шуме решаются дела, пишутся бумаги, выдаются деньги, производятся расчеты и утверждаются акты.
В вестибюле в это время, то и дело поглядывая на циферблат наших главных часов стоит дежурный сигналист.
Ровно в половине девятого сигналист поправляет рубашку и пояс и трубит сразу два сигнала – старая наша традиция – «сбор командиров» и «общее собрание». Как и все остальные сигналы, это играется четыре раза: в вестибюле, на парадном крыльце и на двух углах здания. Когда до меня долетают последние звуки, я оставляю свой пост и выхожу из опустевшего кабинета. В конце коридора при входе в «громкий» клуб я вижу сбегающихся по сигналу коммунаров.
В «громком» клубе чинно сидят коммунары, а поперек зала стройно вытянулись в две шеренги командиры. Против них, у самой сцены – дежурный по коммуне с красной повязкой. Когда шум постепенно стихает, раздается голос дежурного:
– К рапортам встать!
Начинается церемония рапортов. Каждый командир подходит к ДК, держа в руках рапорт. Командир вытягивается в салюте сегодняшнему старшему, за ним вытягивается и весь зал: коммунары салютуют командиру и в его лице всему отряду. В зале полная тишина, и все ясно слышат рапорт:
– В седьмом отряде все благополучно.
– В девятом отряде все благополучно. Заболел Васильев.
– В десятом отряде все благополучно. В цехе было три рабочих часа простоя.
– В пятом отряде все благополучно. Во время работы поссорились Лазарева и Пономаренко.
– В одиннадцатом отряде все благополучно. В командировке Богданов.
После командиров отдают рапорты дежурный член санитарной комиссии, старшая хозяйка и командир сторожевого отряда. У ДЧСК обычные замечания: за столом четвертого отряда было грязно, Романов не чистил утром зубы. У старшей хозяйки тоже обычное: Тетерятченко разбил чашку. А у командира сторожевого: Семенов не вытер ноги, девочки не прикрывают двери, Уткина была в спальне без ордера.
Дежурный по коммуне в ответ на рапорт говорит:
– Есть.
Рапорты окончены, все опускаются на стулья, а на месте ДК появляется очередной председатель, назначенный вчерашним приказом, и секретарь.
– Объявляю общее собрание коммунаров открытым.
Председатель заглядывает в кучу рапортов с особыми замечаниями, специально отложенных ДК.
– Тетерятченко!
Тщедушный Тетерятченко выходит на середину зала. На блестящем паркетному полу под главным фонарем он становится в позу «смирно».
– В рапорте старшей хозяйки отмечено, что ты разбил чашку, – говорит председатель.
Наиболее распространенный ответ коммунаров на такое обвинение:
– Я ее не разбил. Она стояла, а я подошел к ней и хотел взять в руки, а она распалась.
Коммунары всегда помнят, что еще в прошлом году я предложил им отвечать так:
– Я посмотрел на чашку, а она распалась.
Чашек у нас уже не хватает. Многим в столовой приходится ожидать, пока освободятся чашки. Я умышленно не покупаю пополнения, и все ребята догадываются почему: бейте, значит, – посмотрим, чем это кончится. Неудобство от недостатка чашек огромное, но все знают, что меня лучше не трогать, потому что я скажу: «Чашки были пополнены три месяца назад. Денег на новое пополнение нет». Поэтому никто и не заикается о пополнении.
Волчок просит слова:
– Я думаю, что с чашками как-нибудь нужно что-то сделать. Каждый день бьют. Или не давать таким, как Тетерятченко, – он где ни повернется, так испортит что-нибудь. Надо греть таких раззяв.
Собрание склонно последовать этому совету, но у каждого на совести есть чашка или тарелка, поэтому прения не развиваются.
Я вношу предложение: придется купить аллюминевые, эти не будут биться. В зале начинают сердиться. С места говорят:
– Ну, аллюминевые!
Председатель строго говорит Тетерятченке:
– Садись ты. Да смотри, в другой раз осторожнее поворачивайся вокруг посуды.
Тететрятченко, довольный, что дешево отделался, салютует председателю и отправляется на свое место.
Председатель снова заглядывает в рапорт.
– Лазарева и Пономаренко.
На середине две небольшие девочки, однако они умеют уже кокетливо жеманиться и демонстрируют сразу и смущенную застенчивость и пренебрежение к собранию. Они – новенькие, их только недавно прислала к нам комиссия по делам несовершеннолетних. Жили они еще совсем недавно в какой-то наробразовской колонии и своим «поведением» и решительным нежеланием подчиниться авторитету педагогов заслужили удаление из колонии.
Пономаренко – постарше, у нее выцветшие прямые волосы, челка почти закрывает глаза. Она задирает голову и все время вертится.
С краев зала несколько голосов кричат:
– Стань смирно! Что ты танцуешь?
Пономаренко вихляет ногой и бурчит:
– А вам не все равно?
На сцене, где всегда заседают самые активные пацаны, кто-то не выдерживает и, не получив слова, приступает сразу к речи:
– До каких пор это будет продолжаться? Они даже на собрании вести себя не умеют.
Председатель строго осаживает горячего оратора:
– А ты чего кричишь? Тебе давали слово?
– Ну, так дай слово.
– Говори.
Со стула подымается небольшой кучерявый Гершанович и начинает говорить, жестикулируя правой рукой над головами сидящих впереди товарищей:
– Я думаю, что с Пономаренко нечего возиться. Сколько уже раз она давала слово, а все равно каждый день на середине, да еще выйдет и ломается, как будто она барышня какая. Надо отправить ее, откуда пришла. На что нам такие?
Пономаренко, окинув Гершановича сердитым взглядом, намеренно резко говорит:
– Ну и отправляйте! Что ж, подумаешь, нужно очень!
В зале подымается возмущенный шум. Со всех сторон раздается:
– А что ж, на твою челку смотреть будем?
– Да, конечно, отправить ее в комиссию!
– Пацанов сколько в коллекторе ждет вакансии в коммуне, так тех не берем, а эту держим, не видели ее ужимок!
– Пусть едет в Волчанск и там ужимается, сколько хочет!
Председатель с трудом наводит порядок в зале:
– Вот спросим, что ее командир скажет. Вехова, что сегодня случилось?
Вехова, румяная девочка лет шестнадцати, аккуратненькая и приветливая, как всегда склонив голову немного набок, подымается со стула:
– Да сегодня они с утра в мастерской все грызлись из-за какой-то катушки. Их несколько раз и я останавливала, и Александра Яковлевна, и все девчата. Перестанут, а потом опять начинают. А сегодня после обеда, когда только что пришли на работу, они вцепились одна другой в волосы и такое подняли, что пришлось дежурного по коммуне вызывать.
В зале хохот. Сам председатель смеется. Из-под экрана кто-то из малышей старается всех перекричать:
– Их надо остричь, надо, тогда не за что будет хвататься!
Слово берет Редько:
– Я думаю, что тут все девчата сами виноваты…
У девчат:
– О, придумал, уже мы виноваты!
– Да, виноваты! Как это можно не справиться с ними? Пусть у нас в цехе попробуют драться! А если у вас нет силы их примирить, так держите всегда под рукой ведро с водой или огнетушитель повесьте.
Взрыв смеха настолько заразителен, что и сами обвиняемые смеются. Редько раздражается:
– Вот, смотрите, они еще смеются!
Председатель отмахивается от Редько и дает слово Воленко. Воленко всегда старается встать на сторону «униженных и оскорбленных»…
– Чего все так напали на девчат? Чем они виноваты? Только недавно прибыли, никакой культуры не нюхали. Нужно было им разъяснить.
Из угла девочек возмущаются:
– Мало им разъясняли! И мы сколько раз, и здесь на общем собрании, и воспитатели сколько уже с ними разговаривали да уговаривали, и в комсомол их вызывали, да и сам Воленко брался.
– Надо все-таки и дальше продолжать, пока они не станут культурнее, а то они еще совсем, как дикари.
Пономаренко быстро оборачивается к Воленко:
– Сам ты дикарь! Нужны кому твои разговоры!
В зале опять смех.
– Садись, Воленко, пока цел.
Слово получает Сопин. Он сегодня серьезен:
– Довольно уже с ними возиться! Я считаю, что разговаривали довольно. Надо с ними построже. Нужно запретить им работу в мастерской – вот что, раз они там себе прически только портят. Не пускать их в мастерскую, пускай уборкой занимаются.
– Правильно! – кричат со всех сторон.
Председатель видит, что вопрос выяснен.
– Можно голосовать? – спрашивает он дежурного заместителя.
Наложить взыскание имеет право и сам ДЗ единолично, если проступок не представляет собой ничего необыкновенного, но всегда считается полезным передать карательные полномочия общему собранию. Для голосования наказания все-таки необходимо согласие ДЗ.
– Не возражаю.
Предложение Сопина принимается единогласно. Пономаренко и Лазарева направляются к своим местам, но председатель останавливает:
– А салют?
Они нехотя салютуют.
На другой день они убирают в саду и в коридорах, но уже к вечеру приходит ко мне Вехова и говорит:
– Там Пономаренко и Лазарева просят, чтобы их простили. Говорят, что никогда так не будут делать.
– Так я же не могу, ведь общее собрание постановило.
– И я им говорила, а они все-таки просят.
– Ну вот, сегодня на собрании поговорим.
Вехова уходит, а через пять минут в кабинет потихоньку просовываются Пономаренко и Лазарева и, увидев, что в кабинете никого нет, шепчут:
– Если вы нас не можете простить, так не нужно на общее собрание ставить вопрос.
– Почему?
– А ну их! Это хлопцы опять смеяться будут.
– Ну, а в самом деле, разве не смешно, что вы в мастерской в драку вступаете, как петухи? Что же делать! Общему собранию трудно не покориться. Я советую вам все-таки сегодня как-нибудь помириться с собранием.
Они молча уходят.
На собрании я сообщаю после выяснения всех очередных вопросов:
– Вчера мы довольно строго наказали двух девочек. Сегодня они хорошо работали на уборке и просили меня и командира шестого, чтобы с них наказание сняли. Больше драться они, конечно, не будут.
– Ну что ж, можно и амнистировать, – спокойно басит Похожай, командир девятого.
Волчок хлопает по плечу сидящую рядом с ним Пономаренко и говорит:
– Такая славная девочка, только бы на басу играть, а она – в прическу.
В зале улыбаются.
Председатель мирно спрашивает:
– Так что ж, может, и в самом деле на этот раз?..
Редько со смеющимся, всегда довольным лицом поворачивается во все стороны:
– Оно и не следовало б прощать, да так уже, для хорошего вечера…
– Возражений нет?
– Нет! – кричит весь зал.
Председатель обращается в ту сторону, где спрятались за спинами товарищей виновницы торжества:
– Ну, смотрите, собрание вас прощает. Ну, а если еще такие драки будут…
– Ладно, – говорит Пономаренко.
– Редько серьезно поправляет:
– Не ладно, а есть.
– Ну, есть.
В зале смех.
Почти каждое общее собрание начинается с вызова бенефициантов на середину. Но большей частью их бывает очень немного и притом с пустяковыми провинностями. А бывает не раз, что командиры только быстро чеканят салюты:
– Все благополучно.
– Все благополучно.
– Все благополучно…
Я налагаю наказания очень редко. Чаще всего – по рапортам дежурных заместителей. Последние довольно строги, но возможности у них ограничены: «два наряда», «без киносеанса», «без отпуска». Попавшие «в наряд» записываются контролем коммуны в его блокнот и по требованию дежурного по коммуне посылаются на дополнительные работы: им приходится убирать в день отдыха здание, отправляться в командировку в город, подметать в саду.
Наиболее легко отделываются назначенные «без кино». Когда должен начинаться киносеанс и все коммунары собрались уже в зале и выслушивают очередной короткий политобзор, оставленные без кино вертятся у дверей и окон коридора и делают вид, будто они интересуются вечерним пейзажем. Это действует на меня или того заместителя, который их наказал.
– Ты чего здесь вертишься? – спрашивает дежурный.
– Мы без кино.
– Ну так и идите спать.
На это предложение угрюмо отмалчиваются.
Я кричу в дверь залы:
– Никитин этих пусти, пусть в последний раз посмотрят картину, все равно завтра снова попадутся!
– А может, и не попадемся!
После разбора рапортов каждый коммунар может поднять на собрании любой вопрос: о пище, об одежде, о производстве, о работе кружков, о распределении занятий, да мало ли о чем. Главным толчком здесь бывает всегда комсомол.
Половая проблема
Наши посетители, в особенности педагоги, часто спрашивают, как обстоит у нас дело с половой проблемой.
Что можно ответить такому педагогу? В самом деле, известно, что в детских домах было много случаев, когда создавалась нездоровая обстановка.
У нас, как в любой здоровой семье, живут вместе девочки и мальчики, и это не вызывает никаких осложнений. Всякое здоровое детское общество может прекрасно развиваться в этих условиях.
Если же это не так, значит, данное общество детей недостаточно здорово, то есть не спаяно в одну семью, не занято, не имеет перспективы, не развивается, недисциплинированно, обкормлено или недокормлено, а во главе его стоят люди, которых дети не уважают.
Отношения между девочками и мальчиками у нас исключительно товарищеские.
Девочки-коммунарки выглядят гораздо подобраннее и аккуратнее мальчиков, но никогда не выделяются в особое общество. Года три назад мы еще замечали, что девочки несколько дичатся ребят, стараются держаться от них особняком. С другой стороны, и мальчики старались показать, что для них девочки совершенно не нужны, что можно было бы и без них обойтись, что вообще «девчонки здесь лишние». Бывали и случаи проявления несколько грубоватого, но все же исключительного внимания к некоторым девочкам, принесшим с собой немного безобидной кокетливости. Но дальше этого дело не пошло.
Совет командиров, по моему настоянию, лишил отряды девочек права иметь отдельные столы в столовой. Это было сделано под тем предлогом, что во многих отрядах мальчики не умеют аккуратно есть. Чтобы научить их аккуратности, привлекли на помощь к командиру по две, по три девочки. Девочки сначала стеснялись и жеманились, но потом дело пошло как по маслу. Хотя в отрядах и называли девочек хозяйками, на самом деле никаких хозяйственных функций девочкам поручено не было. Но эта мера приблизила девочек к ребятам, приблизила в очень хорошей обстановке и форме коллектив к коллективу. С тех пор всякая отчужденность между девочками и мальчиками исчезла.
Все это вовсе не значит, что в коммуне совершенно не заметно отличительных особенностей совместного воспитания. Не подлежит сомнению, что многим мальчикам и девочкам уже доводится переживать пробуждение каких-то особых симпатий. Но нам, педагогам, беспокоиться совершенно не приходится, хотя мы прекрасно понимаем, что стоит ослабить связующие скрепы коллектива, хотя бы в самой небольшой мере, и у нас сразу вырастет половая проблема, взаимное половое тяготение будет осознано отдельными парами, появится желание близости и т. д. Нужно сказать, что подчинение ребят законам коллектива – акт, отнюдь не бессознательный.
Ни для кого из коммунаров не тайна сущность половых отношений. Но зато для всех является абсолютно непреложным наш закон – закон нашей коммуны: в нашей коммуне не может быть никаких половых отношений. Этот закон вытекает из ясного представления об интересах коммуны, из представления об интересах отдельной личности, из мыслей о доброй славе коммуны, и выражается этот закон в ощущении ответственности перед общим собранием, в ощущении настолько реальном, что одна мысль о возможности отвечать в этом вопросе перед собранием страшнее всех прочих бед. Наиболее строгими блюстителями этого закона являются пацаны. Общественное мнение, формирующееся среди этого народа, настолько требовательно и выразительно, что даже мысли о каком-нибудь споре быть не может.
Года два назад кто-то из пацанов на общем собрании поднял вопрос:
– А почему после сигнала «спать» Иванов гуляет в саду с Николаевой?
Иванов, красный, как клюква, вышел на середину и объяснил собранию, что эти пацаны лезут без всяких оснований, что Николаева попросила его объяснить задачу. Но его перебили ехидными замечаниями:
– Видно, трудная задача, долго что-то объяснялся. Я уж ждал-ждал, заснул, проснулся, а они все объясняются… Ухаживать тут начинают…
Кто-то из старших пытался изменить настроение собрания:
– В самом деле, у нас нельзя поговорить с девочкой, сейчас же начинают…
Но пацаны крыли немилосердно:
– Бросьте там – поговорить! Мало вам разговаривать днем? Сколько хочешь разговаривай, никто за тобой не ходит и не слушает и даже внимания никто не обращает. А если уж в сад выбрались разговаривать, значит тут секреты. Мое мнение такое: запретить всякие такие прогулки в парочках после сигнала «спать» – и все!
Председатель проголосовал. Предложение было принято единогласно, потому что ни у кого рука не могла поднять против.
Иванов после этого долго отдувался: было стыдно, что так основательно посадили пацаны на общем собрании. А спрос с них невелик, даже поколотить нельзя – у каждого пацана глотка большая и защитников множество, да и отряд не позволит.
В прошлом году прислала комиссия по делам несовершеннолетних новую воспитанницу в коммуну: восемнадцатилетнюю Шуткину.
Шуткина развязна, хороша собой. С первых дней она показала себя. Когда она в воскресенье вернулась из отпуска, на общем собрании откуда-то из-под экрана спросили:
– А пускай Шуткина скажет, куда она ходит в отпуск, почему она гуляет с кавалерами и почему у нее были губы накрашены?
Бывалая Шуткина – в контратаку:
– А ты видел? Ты много понимаешь – накрашены!
– А что же тут понимать? Я сам в художественном кружке… А почему с кавалером?
– А что ж, нельзя с человеком встретиться?
Я остановил ребят: нельзя, в самом деле, так придираться.
На другое воскресенье Шуткина снова ушла в отпуск. Часов в девять вечера меня позвали к телефону. Женский голос передал, что говорит подруга Шуткиной, что Шуткина не может возвратиться в коммуну, потому что у нее температура, она останется ночевать у подруги.
Я командировал в город двух ребят с поручением нанять извозчика, привезти Шуткину в коммуну, показать врачу и положить в больничку.
Ребята возвратились расстроенные: Шуткиной дома не застали, а квартирная хозяйка сказала, что обе подруги ушли гулять.
Еще через неделю Шуткину вызвали на середину и сказали:
– Опять с пижонами ходишь?
– С какими пижонами? Что вы все выдумываете!
Ей перечислили с какими. Оказывается, осведомленность у ребят была исчерпывающая.
Пацаны крыли прямо:
– Если ты женатая, так переходи на производство, хоть и в коммуне. А чего ты в коммунарки пришла да еще всех обманываешь, больной прикидываешься!
Шуткина послушалась совета и на другой день попросила меня отправить ее на производство.
Однако в коммуне умеют оценить настоящую любовь.
Весной двадцать девятого года зацепили пацаны на собрании Крупова зачем ухаживает за Орловой. Крупов, кандидат на рабфак, густо покраснел и пробурчал:
– Да ничего такого нет… Ну хорошо, больше не будет.
Но любовь, как известно, не картошка. Снова Крупов с Орловой глаз не сводит, а чуть вечер, так и усаживаются на скамейке в саду и уже никого не боятся.
На собрании – опять:
– Что ж это такое? То говорил, что больше такого не будет, а потом опять то же самое…
Кто-то из собрания – в голос:
– Так они влюблены! Все знают, ничего не поделаешь!
Я прекратил прения, сказав, что поговорю с ними потом.
У Крупова я прямо спросил:
– Влюблены?
Крупов опустил голову и руками развел.
– Да, в этом роде…
На следующем собрании я доложил:
– Действительно влюблены, ничего не поделаешь.
– Женить надо, – сказал кто-то.
Ничего как будто и не решали, но уже после этого никто не приставал к парочке, – напротив, все сочувственно на них поглядывали и через месяц отправили Крупова на рабфак, Орлова вышла на фабрику. Наняли для молодоженов квартиру, назначили приданное; специальная комиссия этим делом занималась: стол, стулья, кровати, белье, немного денег.
Этой весной пришла в коммуну Орлова, принесла показать своего первенца. Новый человек возился в кружевных пеленках, и Петька Романов, внимательно разглядев его, сказал:
– О, какой буржуй!.. Кружево!
Клубработа
Как полагается в приличном детском доме, мы организовали кружки: драматический, литературный, художественный и т. д.
В детских домах вся клубная работа сосредотачивается обычно в драмкружке. Но регулярные киносеансы в коммуне лишили драматургическую работу решительно всех стимулов. Как зрелище кино для ребят и интереснее и проще. На постановку пьесы сколько-нибудь ценной приходится тратить столько сил, что в глазах ребят это ничем не оправдывается. Правда, сами участвующие получают некоторое удовлетворение, но для всех остальных ребят драматическая игра товарищей представляет мало интересного, к тому же репертуарный кризис ухудшает положение. У нас есть пьесы либо для взрослых, либо для детей; для юношества, собственно говоря, ничего нет. То, что есть, совершенно не заслуживает ни разучивания, ни траты денег.
Работа литературных кружков у нас, как часто бывает, сбивалась на какой-то повторительный курс того, что проходится в школе, и увенчивалась, как то нередко случается, одним литературным судом и изданием одного номера журнала.
В художественном кружке писание натюрмортов и рисование кувшинов в разных положениях было гораздо менее интересным, чем работа на уроках рисования в школе, где ребята с увлечением чертили или рисовали детали машины, шкив, шестеренку, станину.
Одним словом, клубная работа не клеилась.
Пригласили мы в коммуну нашего Перского – человека, преданного клубной работе и великого мастера сих дел.
Это очень высокий и очень худой человек, небрежно и как-то неумело одетый. С первого же взгляда на него становится ясно, что ничего, кроме работы Перский не знает и собственная персона для него менее всего занимательна. Перский хорошо рисует, пишет стихи, умеет обращаться со всеми существующими инструментами, знает правила всех спортивных и неспортивных игр, знаком с устройством всех машин. Поражает эрудиция его во всех решительно отраслях знания. Но никогда Перский не выставляет напоказ своих познаний, всегда они у него обнаруживаются как бы случайно, поэтому ни у кого не вызывает раздражения и никому не надоедает. И наконец, главное достоинство Перского – он настоящий ребенок: во время самой несложной игры он может заиграться, забыв о жене, о детях, о самом себе; он может волноваться и размахивать руками, из-за пустяков заспорив с Петькой Романовым.
Теория клубной работы у Перского самая простая.
– Никакой клубной работы, – говорит он. – Живут вот коммунары, сто пятьдесят человек или сколько там, и ты живи с ними, вот тебе и вся клубная работа.
Мы ему говорим:
– Ну, это все парадоксы! Мало ли чего – живут. Так ведь вот у них школа, вот мастерские, вот быт, и мы все-таки видим, что вот это – ни то, ни другое, ни третье, а что-то особенное: клубная работа. Здесь есть и отличительные признаки. Здесь обязательные элементы творчества, самоорганизации и т. д.
– Ну, понесли уже педагогическую бузу! Вы вот, педагоги, свяжете человека по рукам и ногам и смотрите на него: отчего это у него активности нет? А вот в клубной работе его нужно развязать. Просто живет себе человек, и больше ничего.
Мы доказываем ему, что он сам педагог, раз он дает ребятам и темы, и планы, и методы. Но Перский всегда отрицает это с негодованием:
– Тоже все выдумали, шкрабы несчастные! Я только взрослый человек и больше видел, вот и вся разница. А ребята, брат, хоть и моложе меня, да у них и без меня хватает и тем, и планов, и методов.
Когда Перский начал свою работу, никакого плана, казалось, у него действительно не было. Сегодня он собирается ловить рыбу в озере в двух километрах, и вместе с ним собирается два десятка ребят; завтра, смотришь, Перский уже мастерит из разного древесного хлама какие-то поплавки, чтобы ездить на них по тому же озеру, и вокруг этой затеи развертывается деятельность целых отрядов. Кто-то из ребят сказал, что ночью в лесу видел волка, – и организуется целая экспедиция в поисках хищника, заготовляется провизия, выпрашиваются винтовки и охотничьи ружья. Целая рота отправляется на поиски волка, бродят двое суток и возвращаются голодные и довольные, хотя волка никакого и не видели. Не успеешь оглянуться – новая эпидемия: вся коммуна строит и чертит перпетуум-мобиле № 30. Даже старые мастера-инструкторы носятся с самыми невероятными проектами, пристают к Перскому, потом ко мне и к заведующему производством. Перский серьезно разбирает каждый проект и доказывает:
– Вот в этом месте, пожалуй, остановится. А жалко, понимаете! Если бы не эта чертовинка, он бы крутился.
Обалдевший от умственного напряжения и, кажется, даже бессонных ночей, многосемейный слесарь Чеченко чешет «потылыцю» и что-то долго соображает.
Я говорю Перскому:
– Для чего ты людям голову морочишь? Ведь знаешь же, что ничего не выйдет.
– Пусть поморочатся. Это не вредно. Это вы, шкрабы, привыкли все готовенькое зазубривать.
Но затем неожиданно добавляет:
– А вдруг кто-нибудь придумает… Вот будет история!
– Как это придумает? Что с тобой?
– Да все, знаешь, может быть. А вдруг ученые чего недосмотрели…
Однажды ночью на заднем дворе загорелись какие-то костры. Ночной сторож протестует, завхоз жалуется, жители волнуются, а оказывается, дело простое: Перский рассказывает сказки. Когда об этих сказках услышали в соцвосе 31, началось чуть ли не целое следствие: в явной опасности оказалась идеология, до сих пор якобы надежно охранявшаяся бдительным оком соцвоса. Перскому пришлось оправдываться. Это только название такое «сказки», а на самом деле это импровизация, нечто вроде научно-фантастического рассказа, к примеру, о будущей войне или о значении радиоактивности. Успокоились в соцвосе, но на будущее время Перскому запретили рассказывать сказки.
Давил на Перского и я. При всем моем уважении к его талантам я все-таки не мог терпеть полной беспорядочности и хаотичности его работы, небрежности в ее формах и в особенности полного отсутствия учета. Последнее приводило к тому, что часть ребят в свободные часы оказывались предоставленными самим себе, и никакими способами нельзя было установить, чем они занимаются. Появились любители залезть в кочегарку и просто валяться там… Появились любители картежной игры и похабного анекдота. Эту опасность на общем собрании удалось вскрыть в самом начале, но от Перского я решительно потребовал плана и учета. Это оказалось полезным и для дела самого Перского. С тех пор он сам получил у нас основательное воспитание, и теперь уже наша клубная работа представляет собой очень разветвленную систему, имеющую точный календарный план. Перскому все это было, впрочем, нетрудно организовать. Его постоянная изобретательность, огромная активность главных кадров его последователей-коммунаров превратили план и учет в целую симфонию разных работ и выдумок. Кружковая работа благодаря этим выдумкам стала у нас живым и веселым делом. Даже драмкружок зажил новой жизнью. Перский решительно восстал против разучивания готовых пьес – только импровизацию он признавал театральным искусством.
Свои постановки Перский готовил в глубокой тайне с группой ребят человек в двадцать. Неожиданно на всех дверях и окнах появляются афиши, приглашающие коммунаров на спектакль. Пьеса идет в разных концах зала: белогвардейцы, партизаны, нэпманы и честные советские рабочие вылезают буквально из всех щелей и попадают в чрезвычайно сложные, часто безвыходные положения, так что и зрители вынуждены бывают приходить на помощь. Разрешается все это к общему благополучию при помощи неожиданного трюка или остроумной выдумки одного из персонажей. В этих спектаклях бывало много ошибок и несообразностей, но это делало представление только веселее и занимательнее. Одно и то же лицо в постановке именуется то генералом, то полковником, родственные связи часто запутываются до последней степени, но зато после спектакля никто не чувствует усталости, и по всей коммуне разносятся хохот и оживленные споры.
Наиболее боевым органом Перского незаметно сделался так называемый изокружок. В коммуне признали его юридические права только после того, как он потребовал у совета командиров отдельную комнату. До тех пор он находил себе место в каком-нибудь закоулке главного здания.
В изокружке делают все, что угодно, для чего угодно и из чего угодно. В последнее время кружок «заимел» свои инструменты; с самого же начала он пробавлялся тем, что его членам удавалось притащить из мастерских. Материал и в последнее время, несмотря на то, что отпускаются изокружку и деньги и перевозочные средства, добывается контробандным способом, потому что материала нужно много, и притом самого разнообразного: дикт, сталь, листовое железо, медь, резина, материя, дуб, гвозди, клей, пух, вата. Одно время увлекались постройкой моделей аэроплана. После того как был поставлен рекорд и аэроплан Ряполова пролетел семьдесят метров, на моделях осталось немного народу. Часть занялась выпиловкой, кое-кто остановился на моделях паровой машины и двигателях внутреннего сгорания. Особенно много сил было положено на изобретение и производство военной игры. В настоящее время эта игра имеет несколько вариантов и представляет собой великой важности дело. Для нормальной игры требуется теперь несколько сотен красных и синих металлических пехотинцев, две-три сотни кавалеристов на красивых лошадях, легкая артиллерия, тяжелая артиллерия, десятка три броневиков, санитарных автомобилей, несколько аэропланов, множество пулеметов, приспособления для удушливых газов и дымовых завес, зенитные орудия и многое другое. Игра производится на полу большого зала: на всем пространстве его расставляются леса, проводятся реки и перекидываются мосты, строятся города и прокладываются окопы. С каждой стороны участвуют огромные силы, так как под каждым пехотинцем нужно разуметь целую воинскую часть. Принимающие участие в игре коммунары получают высокие назначения: один командует кавалерийской дивизией, второй – артиллерийским полком и т. д. Противник уничтожается не условно, а с помощью пушек, пулеметов и броневиков. Правила игры в точности повторяют законы военных действий, победа возможна только при умелом соединении тактических, стратегических и механических средств. Обходы флангов, прорывы, разведка – все принято во внимание. Ребята иногда задерживаются за игрой на полу зала до позднего часа, и приходится принудительно прекращать побоище и требовать от судьи немедленного решения, кто победил.
Родным братом изокружка является ребусник. Что такое ребусник – трудно даже определить. Во всяком случае, это организация, насчитывающая в некоторые периоды и до ста коммунаров. Когда начинается ребусник, каждый коммунар имеет право предложить для него любую задачу, но непременно оригинальную. Художественно оформленный ребусник вывешивается на общем листе, назначается число очков, которое полагается за каждое решение. Это число очков делится между всеми решившими, и такое же число засчитывается автору задачи. Задачи можно давать самые разнообразные – от простой арифметической до сложной производственной. Даются и шуточные задачи. Таких задач на ребусном листе появляется больше двухсот. Ребусник заканчивается после трех сигналов, а сигналы бывают приблизительно такие.
Первый: где-то в коммуне будет спрятана последняя задача; кто ее найдет – получает столько-то очков, а кто решит – столько-то.
Второй: в кармане у Соломона Борисовича окажется интересная, но совершенно лишняя вещь.
Третий: в один из дней в четыре часа Перский будет находиться на северо-западе от коммуны в расстоянии семи с половиной километров и будет ожидать товарища, который его найдет и сможет ему по секрету сказать, название какой реки имеет двенадцать букв, начинает на Г и оканчивается на р (Гвадалквивир).
После третьего сигнала ребусник снимается, и в дальнейшем ни задачи, ни решения не принимаются. Редколлегия ребусника подсчитывает заслуги авторов и решавших. Но это еще не все. Наибольшее число очков не дает еще права на первенство. Мало – уметь решать задачи. Нужно быть и физически развитым человеком. Дополнительно устраивается состязание в разных видах спорта, требующих ловкости и увертливости. Наконец приходит день, когда в главном зале устраивается специальное заседание, играет оркестр и под звуки туша победители получают премии: ножики, книги, инструменты, записные книжки, рисовальные принадлежности, альбомы.
Насколько эти ребусники захватывают всю коммуну, можно судить по тому, что редколлегии приходится пересмотреть около десяти тысяч решений.
Кружковая работа, сосредоточенная зимой в разных кружках, на каждом шагу сталкивается с физкультурой. Сам Перский и его помощники все симпатии отдают ей. Поэтому заядлые литераторы, эсперантисты, артисты и художники зимой начинают жаловаться, что им не дают работать. Главный вид спорта в коммуне – лыжи. Окружающая нас местность очень удобна для лыжного бега, а лыжи достали мы очень просто. Было у нас пар двадцать. Правление общества «Динамо» пригласило нас на какое-то лыжное торжество и снабдило лыжами. Коммунары на этом торжестве показали себя дисциплинированными ребятами, во всяком случае, ни один не отстал. В разгаре разных состязаний была дана команда коммуне построиться и ехать домой. Коммунары все уехали на лыжах. «Динамо», правда, вскоре потребовало возвращения лыж, но они остались в коммуне. На лыжах коммунары уходят очень далеко от коммуны и возвращаются только к собранию.
У парадного входа каток. Но с коньками коммунарам труднее, так как пара коньков приходится на трех коммунаров.
Весь апрель возятся коммунары с разными площадками: волейбольной, футбольной, гандбольной, крокетной. Больше всего отнимает времени и энергии площадка для горлёта. Уже в феврале покупают ребята пряжу и плетут сетки, чтобы не особенно отягощать наш небогатый бюджет. С начала мая устанавливается горлётная площадка.
Горлёт – это наша игра, которую мы считаем интересной и самой нужной пролетариату игрой. Она похожа на теннис, но отличается от него тем, что это игра коллективная: восемь на восемь. Ракетки не дорогие теннисные, а сделанные из дикта. Правила горлёта выработаны в коммуне в течение ряда лет, и мы все уверены, что игра развивает ловкость, умение коллективно действовать, находчивость, инициативу.
Горлётных команд у нас шестнадцать.
Походы
В большие революционные праздники коммуна выступает в поход в город. Главные походы – Седьмого ноября и Первого мая. Во время съездов и слетов, в дни взаимных приветствий и смычек, в дни посещения клуба ГПУ, в дни динамоских спортивных празднеств по сигналу «общий сбор» считается ликвидированной рабочая организация коммуны и вступает в силу военная. Уже нет в коммуне отрядов, а есть пять взводов во главе с взводными командирами, назначенными советом командиров. Одним из этих взводов является оркестр.
Строевой устав коммуны давно выработан и закреплен, как и полагается для военного устава. Поэтому собраться в поход, построиться и выступить коммуна в случае надобности может в течение трех минут. Большей же частью накануне отдается приказ:
«Немедленно после ужина по сигналу «сбор» коммуне построиться в обычном порядке, у парадного фасада, имея на правом фланге оркестр и знаменную бригаду. Форма одежды парадная».
Парадная форма одежды – это значит синие суконные блузы и черные брюки. Блузы спрятаны в брюки, а брюки – в гамаши, на талии блестящий черный узенький поясок, на голове темно-синяя суконная кепка, или «чепа», как говорят коммунары. К воротнику блузы пристегивается белый широкий воротник. В таком костюме коммунары имеют вид выхоленных английских мальчиков.
Особенно любим мы в коммуне день Первого мая.
Первое мая коммунары начинают ждать с ноября, как только отпразднуют Октябрь.
Уже в феврале предлагает ССК на общем собрании избрать первомайскую комиссию. Все приятно удивлены:
– Как, уже первомайскую?
ССК серьезно доказывает, что времени осталось мало, и комиссия избирается без возражений. В комиссию входят самые матерые дзержинцы. Теперь им каждый раз дается шутливый приказ:
– Смотрите же, чтобы было с промежутками!
Это повелось с тех пор, как в двадцать восьмом году первомайская комиссия предложила на утверждение собрания план кормежки коммуны в дни первомайских торжеств. Выходило, что получают пищу коммунары раз пять в день, и всё вещи самые вкусные и богатые: свинину, яйца, какао, пироги, и комиссия еще добавляла на каждый день: «В промежутках – яблоки, конфеты, пряники, пирожные».
Тогда много смеялись на собрании и стали в дальнейшем называть такое обилие специальным термином «с промежутками».
От «промежутков», между прочим, тогда отказались: уж очень выходило дорого!
Первомайские комиссии и без «промежутков» хлопот много. Нужно пересмотреть, купить и заготовить коммунарскую одежду, чтобы потом не о чем было беспокоиться. Обыкновенно к весеннему празднику производиться ревизия всего гардероба коммунаров, и выпадает это на долю первомайской комиссии. Нужно приготовить меню и запастись продуктами на несколько дней, пока коммунары будут в городе. Нужно организовать доставку этих продуктов в город, хранение и раздачу. Обеспечить коммуну подходящим помещением, наметить план посещений театров, кино и смычек. Наконец, необходимо коммуну упорядочить в маршевом отношении, то есть приучить новеньких к строю. Нужно не забыть мельчайших деталей, чтобы в майские дни ни за чем не нужно было бегать.
Комиссия выделяет из своей среды несколько подкомиссий – одежную, столовую, парадную, культурную, хозяйственную, кооптирует в свой состав коммунаров, получает и расходует деньги и время от времени докладывает собранию о ходе своих работ. Перед самым выходом в город представляется на утверждение собрания так называемый комендантский отряд, человек двенадцать во главе с командиром. На обязанности этого отряда лежит уборка того помещения, где будет стоять коммуна. Никто не должен иметь хоть малейшего повода обвинить коммуну в нечистоплотности. Комендантский отряд захватывает с собой несколько ведер, сорных ящиков, метел, веников, тряпок. В походе он производит уборку и является санитарной комиссией. Компенсируется его дополнительная нагрузка только возможной благодарностью в приказе, если все будет в отряде благополучно.
Работа первомайской комиссии, несмотря на то что отнимает много времени у коммунаров, совершенно не изменяет течения рабочих дней коммуны. Уже упакована большая часть обоза, уже отряды успели получить все, что они берут в поход, уже в городе все приготовлено. Уже двадцать девятое число, а коммуна работает полным ходом, как будто никакой особенной подготовки не совершается.
В городе коммуна проводит три дня. Третьего коммуна должна быть уже на работе.
Завтракают тридцатого еще в коммуне. После завтрака проходит час, во время которого все должно быть приведено в порядок. Ровно в десять часов все коммунары – в парадных костюмах, и только кое-где на лестницах и в спальнях можно видеть пары: коммунар высоко поднял голову, а одна из девочек пришивает к его гимнастерке белый воротничок. Прибегают запоздавшие с костюмами, те, кто грузил обоз или убирал в столовой. В оркестре Волчок проверяет инструменты: хорошо ли натянута кожа на большом барабане, не измялись ли флаги на фанфарах. У черного хода стоят нагруженные и покрытые брезентом две-три подводы с продуктами, постелями и запасами белья. В знаменном отряде надевают на знамя только что отглаженный чехол: сегодня еще не праздник, и знамя пойдет в чехле. Мне непривычно нечего делать, разве какой-нибудь зёва вроде Тетерятченко подойдет ко мне с заявлением:
– У меня пояс пропал…
Но немедленно на него зыкнет случайно пробегающий коммунар:
– Пояс пропал, шляпа. Целое утро носили по коммуне пояс, спрашивали – чей. Сам забыл в саду.
Тетерятченко и раньше знал, что с поясом именно так окончится. Я не успеваю ему нечего сказать. Раздаются звуки рожка. Сегодня сигнал играет сам Волчок. Он берет на октаву выше других ребят и умеет особенно четко и в то же время заливчато вывести последние ноты сигнала.
Я выхожу. В парадные двери вбегают коммунары, с лестницы спускается не спеша знаменная бригада – знаменщик и два ассистента с винтовками – и останавливается на площадке. Ко мне подходит дежурный по коммуне в новенькой повязке, франтоватый, как и все, с чистеньким платочком, кокетливо выглядывающим из кармана блузы.
– Знамя в чехле? – спрашивает он, хотя и сам довольно хорошо знает, что в чехле. Но так уж требуется для красоты дня.
– В чехле.
Параллельно парадному фасаду вытянулись в одну шеренгу коммунары. На правом фланге колонна оркестра, и Волчок впереди.
– Становись!
Но команда эта излишняя. Уже все стоят на своих местах, и комвзводы проверяют состав. Пробегает по рядам Тетерятченко и застегивает на ходу пояс. Его провожают сочувственные возгласы:
– Вот человеку не везет!
– Да вот пояс насилу нашел. А утром положил штаны на чужую кровать и полчаса ко всем приставал: «Кто взял мои штаны?» Его Похожай чуть не побил.
Черномазый блестящий Похожай, сегодня особенно красочный и оживленный, потому что он – еще и командир третьего взвода, басит:
– Я его обязательно когда-нибудь отлуплю, этого Тетерятченко, так и знайте, Антон Семенович. Без этого из коммуны не выйду…
Но Тетерятченко смотрит на Похожая и улыбается. Он любит Похожая за красоту и удачливость и знает, что тот его не только не отлупит, а и другому не даст в обиду.
– Равнясь! – гремит Карабанов.
Все готово. От Карабанова отходит и направляется к зданию дежурный по коммуне. В оркестре подымают трубы, и фанфаристы расцвечивают утро красными полотнищами флагов. Волчок настороженно поднимает руку.
– Под знамя смирно! Равнение налево!
Оркестр гремит знаменный салют, все коммунары поднимают руки, перед фронтом замирает Карабанов. Служащие, провожающие колонну, тоже козыряют. Из парадных дверей выходит дежурный по коммуне и с рукой у козырька фуражки «ведет» знамя. Три коммунара бережно и подчеркнуто изящно проносят знамя по фронту и устанавливают его на правом фланге. Знамя держат почти вертикально: если оно без чехла, то оно не развевается, а красивыми мягкими складками падает на плечи знаменщика, и при движении линии этих складок почти не меняются. Древко тоже касается плеча, вся тяжесть приходится на руки, а двумя руками держать знамя неприлично. Поэтому быть знаменщиком – дело довольно трудное.
Знамя на месте. Салют окончен. Карабанов последним «орлиным» взором оглядывает фронт. Пора. К левому флангу подошел обоз, и командир комендантского, в спецовке, уже сидит на первом возу.
– Справа по шести вправо… шагом… марш!
Коммунары прямо с развернутого фронта переходят в марш, на ходу перестраиваясь в колонну. Наш постоянный строй по шести, расстояние между рядами просторное – шагов до трех. Командиры взводов впереди, а между взводами интервал шесть шагов.
Гремит радостный марш: начался наш праздник.
Через час колонна подходит к городу. Между высокими домами улицы Либкнехта наш большой оркестр разрывает воздух.
Колонна занимает улицу. На тротуарах собираются толпы. Нам машут руками. С задорной улыбкой слушают наш марш девушки, приветливо-серьезно поглядывают на нас мужчины, улыбаются мамаши и корреспонденты газет. То с той, то с другой стороны подлетает новый человек:
– Что за организация?
Коммунару в строю нельзя разговаривать. Он из вежливости бросает поскорее:
– Дзержинцы.
Но харьковцы уже знают дзержинцев.
То и дело до меня долетает с тротуара:
– Это дзержинцы!
А один раз серьезный пацан лет четырнадцати показал другому:
– Это дзержинцы, а вон и сам Дзержинский.
Идущие за мной знаменщики не выдержали:
– Вот чудаки! Антона Семеновича за Дзержинского приняли.
Сегодня мы вошли в город со знаменем в чехле. Завтра мы первые с развернутым знаменем пройдем мимо трибуны и гордо посмотрим на тех, кто на трибуне: «Мы тоже пролетариат, мы тоже рабочие, сегодня – наш праздник!»
Вечером коммунары разбредаются по всем улицам. Вежливо разговаривают коммунары с публикой; как взрослые, покупают на свои карманные деньги пирожное и, как дети, любуются иллюминацией.
В дверях тридцать шестой школы – дневальный с винтовкой: школа занята нами, и вход в нее без распоряжения дежурного по коммуне посторонним воспрещен. В одной из комнат столовая комиссия готовит ужин и между делом вспоминает сегодняшний день:
– …Нет, а вот та батарея, которая на белых лошадях… Ох, и здорово же!
Москва
7 июля 1929 года в шесть часов утра колонна коммунаров тронулась с площади Курского вокзала на свою московскую квартиру. На утренних улицах, свежих и пустынных, гремел наш оркестр. Еще не совсем проснувшиеся глаза вглядывались в лицо московских улиц. Вот она, великая Москва, о которой мечтали целый год, о которой была столько споров!
Направились к центру. На углу какого-то бульвара – «Стой!»
Отдыхать не отдыхали, а, скорее, собирались с чувствами.
Меня окружили:
– Вот это такая Москва? – недовольно тянул Похожай. – Не лучше Харькова.
Сторонники Крыма поддерживали его, но это всё – так, «для разговора», а все ощущали какую-то торжественную приподнятость и были полны бодрости.
– Шагом марш!
Притихли все на асфальте Мясницкой. Глянула Москва на нас столичным важным взглядом, глянула сочными, солидными витринами, перспективой улиц… Притихли в нашей колонне. Впереди – зубцы Китай-города.
– Э, нет, это действительно Москва! – пробормотал за моей спиной знаменщик. И замолк.
Карабанов скомандовал:
– Государственному политическому управлению салют, товарищи коммунары!
Весело и задорно отсалютовали нашим старшим родичам и повернули на Большую Лубянку, теперь улицу Дзержинского. На этой улице наша квартира – школа Транспортного отдела ОГПУ.
Ничто нам так дорого не далось, как эта квартира. Пока ребята входили в улицу Дзержинского, вспомнилось все.
Целую неделю пробыл в Москве наш агент Яков Абрамович Горовский, а мы в коммуне сидели на чемоданах и ожидали от него телеграммы, в которой бы сообщалось, что квартира есть – можно выезжать.
Но Горовский ежедневно присылал нечто непонятное и неожиданное:
«С квартирой плохо. Есть надежда на завтра».
«Задержался еще на один день. Отсутствует нужное лицо».
«Наркомпрос отказал. Выясню завтра…»
Меньше всего мы ожидали, что нам откажут в квартире.
Но шестого вечером приехал Горовский и рассказал нам обидные и возмутительные вещи.
В экскурс-базе, в Наркомпросе, в Моно, в союзе Рабпрос – везде с готовностью соглашались предоставить на две недели помещение для коммуны ГПУ, но после такой любезности следовал вопрос:
– А это что за дети?
– Дети? Исключительно беспризорные.
Горовский гордился тем, что наши дети все – беспризорные, что тем не менее они организованно едут в Москву и он, Горовский, подыскивает для них квартиру. Но как только московские просветители, такие симпатичные, такие даже сентиментальные в своих книжках, так любящие ребенка и так его знающие, узнавали, что эти самые «цветы жизни» просятся к ним на ночевку, они приходили в трепет.
– Беспризорные? Ни за что! Об этом нельзя даже и говорить! На две недели? Что вы, товарищ, шутите? Что вы в самом деле?
Горовский не столько огорчался, что нет квартиры, сколько оскорблялся. Как это так? Те самые коммунары, которые не впускали Горовского в дом, если он недостаточно вытер ноги, здесь, в Москве, считаются вандалами, способными уничтожить всю наробразовскую цивилизацию?
И только когда бросил Яков Абрамович ходить по просветительному ведомству, улыбнулось ему счастье: Транспортная школа предоставила для нас общежитие с постелями, с кроватями.
Колонна во дворе школы.
– Стоять вольно!
Сигналист играет сбор командиров. Командиры отправляются делить помещение между взводами. Через три минуты они вводят свои взводы в спальни. По коридорам общежития расставляются наши плевательницы и сорные ящики, комендантский отряд уже побежал по коридорам и переходам с вениками и ведрами: прежде всего коммунары наводят лоск на то помещение, в котором будем жить. Здесь месяца полтора никого не было. Еще через пять минут дежурство дает общий сбор, и начинается авральная работа уборки. Моют стекла в окнах, уничтожается пыль.
В девять часов все коммунары в парадных костюмах уже гуляют на улице. Прибежали из столовой клуба ОГПУ члены столовой комиссии.
Все готово. Можно идти на завтрак.
Серые рубашки летних парадных костюмов, синенькие трусики, голубые носки. Круглые радостные мальчишеские головы, ноги, как на пружинах.
Все полны радостного оживления и в то же время сдержанного достоинства.
В столовой – цветы и скатерти, уют. Коммунары расположились вокруг столов и не дичатся, не боятся чистоты и цветов.
Началась череда славных московских дней.
После завтрака вышли со знаменем в Парк культуры и отдыха – благо сегодня воскресенье – посмотреть, какой такой московский пролетариат и как он отдыхает.
На московских улицах наша колонна – верх стройности и изящества. По тротуарам движутся толпы, и Тимофею Викторовичу приходится пробивать дорогу. Расспрашиваем, как пройти к парку.
Гляжу через головы музыкантов. Рядом с Тимофеем Викторовичем, не отставая, маячит белый верх чьей-то капитанской фуражки. Подхожу.
– А вот товарищ туда идет, и он нам покажет дорогу.
Товарищ лет сорока, со стрижеными усами оживлен и торжествен.
– Я покажу, покажу, вы не беспокойтесь.
Подходим к воротам парка. Направляюсь к кассе, но рука человека в капитанской фуражке меня останавливает.
– Платить? Что вы! Зачем же? Мы сейчас это устроим. Дайте ваш документ.
Я даже растерялся, но документ отдал. Капитанская фуражка немедленно исчезла за воротами. Ждем, ждем…
– Разойдись до сигнала «сбор».
Наша дисциплина позволяет нам быть совершенно свободными и никогда не мучить коммунаров лишним стоянием в строю.
Коммунары рассыпаются, завязываются знакомства, и начинаются расспросы. Смотрим, наш проводник вприпрыжку несется из парка и размахивает возбужденно какой-то бумажкой.
– Вот! Не только можно, но и очень рады, сегодня интернациональный митинг. Очень рады!
– Играй сбор!
Входим в парк и попадаем сразу на митинг. На широкой сцене – президиум; наши подошли как раз к сцене. Это хорошо, сразу попали в нужную обстановку.
Митинг не окончился, а капитанская фуражка уже отводит меня в сторону.
– Там я устроил для ребят завтрак: там, знаете, стакан чаю, бутерброд… Даром, даром, не беспокойтесь, даром!
Ребята окружили, улыбаются.
С митинга идем на завтрак. Я спрашиваю капитанскую фуражку:
– Вы здесь работаете?
– Нет, я во флоте работал, а теперь в отставку выхожу, буду здесь, в Москве, работать в одном учреждении.
Я в затруднении: как спросить, чего это он бегом гоняет из-за какой-то коммуны?
– Да, но вы так заботитесь о нас…
– Это вы хотите знать, чего я к вам привязался? Понравилось мне, знаете, ужасно понравилось! По правде сказать, мы здесь такого не видели.
С того дня «капитан», как его прозвали ребята, уже с нами не расставался. Рано утром он приходил в коммуну, будил коммунаров, принимал участие во всех наших совещаниях и заседаниях, настойчиво требовал, чтобы мы не тратили лишних денег. После завтрака, от которого всегда отказывался, он брал двух-трех коммунаров и куда-то летел устраивать бесплатные билеты на трамвай, доставать лодки для катания, добывать разрешение осмотреть Кремль.
После обеда в сопровождении «капитана» мы куда-нибудь отправлялись.
На другой день после приезда были у гроба Ленина, сыграли около Мавзолея «Интернационал». Потом были в Кремле, в Музее Революции, в редакции «Комсомольской правды», в Третьяковке, в зоопарке.
Москва поразила коммунаров обилием людей, домов, стилей и пространства. После официальных часов они, не уставая, бродили по Москве и только к двенадцати ночи собирались на ночлег. Карманные деньги позволили им объездить город в трамваях, заглянуть во все улицы и переулки. Почти всем Москва страшно понравилась, но все затруднялись определить, чем именно. Трудно было, конечно, сразу охватить и выразить все впечатления от нашей столицы. Даже и взрослому человеку это не так легко.
С другой стороны, и коммунары понравились Москве. Наша колонна на Кузнецком мосту, на Театральной площади, на Тверской была действительно хороша. А оркестр ребячий, четкая и бодрая ухватка коммунаров, подтянутость и дисциплина, видимо, в самом деле радовали глаз. Очень часто какая-нибудь впечатлительная душа бросала ребятам с тротуара розочку или гвоздику. Один какой-то немолодой уже чудак смотрел-смотрел и вдруг бросил в оркестр целый букет роз. Было так неловко: оркестр как раз играл марш, и все розы чудака были безжалостно растоптаны, а через минуту он и сам потерялся в толпе.
Радушное отношение к нам москвичей мы встречали на каждом шагу, и это, разумеется, делало Москву для нас приятнее и теплее.
За пятнадцать дней мы достаточно насмотрелись и поистратились. Собрались в обратный путь. Приготовили свой багаж к погрузке, выстроились против дверей Транспортной школы, попросили выйти к нам начальника и от души поблагодарили его за помещение. Начальник в прочувственном ответном слове выразил свою радость по поводу того, что мы у него остановились, что школа ничем не пострадала, что помещение мы оставляем даже в лучшем состоянии, чем получили.
Прошли еще сутки – и ночью, в проливной дождь, подкатили мы к Харьковскому вокзалу. Выглянули на площадь – людей нет, одни лужи и дождь. А мы было нарядились в парадные костюмы, чтобы в родной Харьков явиться в порядке.
Дождь. Что тут будешь делать? Выпросили у какого-то начальства комнатку, чтобы сложить наши корзины, а сами решили отправляться домой, в коммуну. До парка нам дали три вагона трамвая. Но ведь от парка еще три с лишним километра, из них больше километра лесом, по тропинкам.
У коммунаров тем не менее настроение было прямо торжественное.
– Становись!
– Равнясь!
– Шагом марш!
Барабанщик, прозванный почему-то Булькой, ударил в намокший барабан. Волчок, не долго думая, бахнул какую-то веселую польку. Пошли под польку в коммуну. Дождь все усиливался, и ребятам было уже безразлично, куда течет вода: все равно и сверху, и под блузами, и в ботинках – вода. Темно, не видно соседнего ряда. К лесу подошли – безлюдно, и все завоевано дождем.
– Стой! Вперед через лес четвертый взвод, за ним оркестр и знамя.
Гуськом, держась друг за друга, перебрались и вышли на поле. В коммуне были зажжены все фонари, нас ожидали, но дождь обратился в ливень настолько частый и напористый, что приходилось силой преодолевать сопротивление падающей воды.
По одному, по два подходили мы к коммуне. В дом не входили: по заведенному порядку в дом нужно раньше внести знамя. Построились. Карабанов особенно строго скомандовал:
– Смирно!
Вокруг все журчало, лопотало, булькало, свистело, волнами воды колотило по земле, тротуару, стенам, окнам, по строю коммунаров.
Но веселые, радостные лица ребят только жмурились.
– Товарищи! Поздравляем вас с концом славного московского похода! Мы много видели, многому научились и, самое главное, увидели, что мы крепко живем и что нам никакие походы не страшны. Не забудем же никогда этого нашего удачливого дела. Да здравствует наш Союз, да здравствует наша коммуна!
По-настоящему заревели ребята «ура», а свидетелями были только ливень да промокшая фигура сторожа у парадного входа.
Грянул Волчок «Интернационал», и не как-нибудь, не парадный отрывок, а полный, с настоящим концом:
…воспрянет род людской!
Строгими изваяниями замерли коммунары в салюте нашему гимну. Накрытые ночью, небом и ливнем, мы задорно и радостно заглянули в сердце нашего рабочего государства.
– Под знамя смирно! Равнение направо!
Закрытое чехлом знамя черным силуэтом прошло мимо наших лиц.
– Вольно!
И только тогда заговорили, засмеялись, зашумели ребята:
– Вот сюда, сюда, здесь тряпки!
– А какие там тряпки? Снимая всё в вестибюле, пусть девчата отойдут в сторонку.
Свалили все, пропитанное водой, в кучу, – завтра начнем приводить в порядок. Еще веселее стало. Даже дождь заиграл что-то похожее на гопак. Прибежал в дом кладовщик с ворохом свежего белья.
Девчата, мокрые, в сверкающих на электрическом свете каплях:
– А мы ж как?
– И вы ж так.
– Так убирайтесь!
В столовой уже накрыт ужин. Дежурный по коммуне, в новых трусиках, с красной повязкой на голой руке, спрашивает:
– Можно давать ужин?
Ах, хорошее было дело – наш московский поход! Из Москвы мы приехали новыми, иными – более сильными, уверенными, еще больше чувствуя связь со всем пролетариатом нашего Союза.
Филька
Самый молодой и самый активный член коммуны со времени ее основания – Филька Куслия.
Ему двенадцать лет. У него всегда обветренное лицо. Умные и серьезные глаза. Он напускает на себя серьезность и даже немного надувается. Это потому, что он прежде всего актер.
Среди ребят часто попадаются артисты, но большинство из них очень скоро губит свой талант, используя его как средство подыграться к «доброму дяде», изобразить что-нибудь похвальное и занимательное, подработать на милом выражении лица.
Но Филька со взрослыми всегда был недоверчив и горд.
В коммуне Филька всегда был вождем сепаратистски настроенных пацанов. Вокруг него всегда вертелись пацаны, занятые предприятиями и разговорами, в которые старшие коммунары, не говоря о взрослых, обыкновенно не посвящались.
В этом узком кругу Филька бывал всегда деятелен, стремителен и весел, его смех взрывался то там, то здесь. Его неудачные последователи, вроде Котляра или Алексюка, всегда «засыпались» и попадали в тот или другой рапорт, но сам Филька при встрече со старшими неизменно напускал на себя солидность и разговаривал только недовольным баском. При попытке ближе подойти к «душе ребенка» он бычком наклонял голову и что-то бурчал под нос.
Изменял своей тактике и делался доверчивым и ласковым Филька только во время репетиций малого драмкружка, самым активным членом которого он всегда был.
Но пионерские пьесы, упрощенные и неинтересные, Фильку не удовлетворяли. Он стремился в старший драмкружок, неизменно присутствовал на всех его заседаниях и непривычно для него смело и настойчиво требовал всегда выбора такой пьесы, в которой и для него находилась роль.
На репетициях Филька веселел и удивлял всех своей способностью точно схватывать и повторять тон, данный ему режиссером. Обращал он на себя внимание и своим мальчишеским дискантом и свежестью своей живой мордочки.
Тем не менее прямо можно было сказать, что все очарование Филькиной игры никогда не было очарованием драматического таланта. Только вот эта детская искренность и свежесть и делали Филькину игру занимательной.
Филька, однако, был иного мнения. Он еще весной стал важничать и заявлять, что если бы его пустили в киноактеры, так он показал бы, как нужно играть.
Мне уже не раз приходилось наблюдать увлечение кинокарьерой, но в таком молодом возрасте я это увидел впервые. Пожалуй, наша вина была в том, что мы слишком баловали Фильку и позволили ему слишком занестись. Пробовали Фильку уговаривать:
– Да что ты, Филя! Что там хорошего в киноартистах, что у них за игра! Немые, как рыбы…
Но разве в таких случаях можно что-нибудь доказать? Да и разве можно было убедить Фильку в том, что все его достоинство в симпатичнейшем дисканте, который Фильке дан не на долгое время.
Филька примолк.
А в Москве, во время свободных прогулок по городу, он нашел нужных ему людей и переговорил с ними. Потом заявился ко мне и по обыкновению недовольным басом забурчал:
– Вот тут есть такой человек, так он говорит, что мне можно поступить на кинофабрику.
Окружавшие нам комсомольцы рассмеялись:
– Вот смотри ты, артист какой? На что ты ему сдался? Подметать двор тебя заставит, и в лавочку будешь бегать за лаком.
– Ну что ж, и побегу, и играть буду.
– Кого ты будешь играть? – рассердился даже кто-то.
– Как кого? Пацанов буду играть.
– А потом?
– Что потом?
– А потом, когда вырастешь?
– Ну-у, – протянул, уже явно сдерживая слезы, Филька, – «когда вырастешь»!.. Потом тоже найдется. А ты что будешь потом? – вдруг разозлился Филька. – Ты, может, будешь грузчиком!
– Он уже сейчас слесарь, грузчиком не будет, а ты все-таки брось. Забили мальчишке голову, он и карежится. Артист!
Я Фильке сказал:
– Не могу я так тебя отпустить. Я считаю, что это дело пустяковое. Артистом ты не будешь, да ты еще и маленький учиться в студии. Тебя возьмут, пока у тебя рожица детская, а потом выставят, будешь ты ни артист, ни мастер.
Филька ничего не сказал. Но по приезде в Харьков отправился Филька жаловаться на меня члену правления товарищу Н.
– А если я хочу быть артистом, так что ж такое? Может, у меня талант. Нужно меня отпустить.
– Куда?
– На кинофабрику.
– Если ты хочешь быть артистом, так нужно учиться на драматических курсах, а для этого ты еще маленький. А что ж на фабрике? Нет, поживи в коммуне, а там видно будет.
И от Н. Филька не в коммуну направился, а на вокзал. Вспомнил старину: влез на крышу, поехал почему-то не в Москву, а в Одессу.
В коммуне с горестью констатировали:
– Филька убежал.
В течение дву-трех недель ничего о Фильке слышно не было, убежал – и все. Мало кому приходило в голову, что Филька поехал искать актерского счастья, – думали, просто сорвался пацан, надоела коммунарская дисциплина.
Через две недели возвратился Филька в Харьков и каким-то образом объявился в колонии имени Горького – захватили его, видно, в очередной облаве.
В коммуне о нем говорили разно. Кто – сдержанно:
– Сорвался-таки пацан, теперь уже пойдет бродить.
Другие отзывались с осуждением и обидой…
Филька тем временем спокойно сидел в колонии имени Горького и старался не попадаться нашим на глаза, когда наши ходили в гости к горьковцам. А через какого-то «корешка» передал, что он бы и пришел в коммуну, да ему стыдно. И, говорят, прибавлял:
– Чего там развозить! Убежал – и все. Проситься не приду.
У коммунаров первоначальная обида на Фильку прошла, даже жалели его, но никому в голову не приходило зазывать беглеца в коммуну. О его возвращении просто не говорили. И вдруг месяца уже через четыре пришел в коммуну Филька. Я возвращался из города и увидел его возле крыльца. Он салютнул по-нашему и улыбнулся. Ребята весело показали на него:
– Вот киноартист!
Филька отвернулся с улыбкой.
– Как же тебе живется?
– Так, ничего…
Филька сделался серьезным.
– Живется ничего… А вы на меня не сердитесь? Правда?
– Конечно, сержусь. А ты что ж думал?
– Да я ж так и думал…
– Погулять к нам пришел?
– Немножко погулять…
– Ну, погуляй.
Через час Филька вошел в кабинет, прикрыл дверь и вытянулся перед моим столом:
– Я не погулять пришел…
– Ты хочешь опять жить в коммуне?
– Хочу.
– Но ведь ты знаешь, что принять тебя может только совет командиров.
– Я знаю. Так вы попросите совет, чтобы меня приняли.
– А в колонии Горького?
– Так в колонии там все чужие, а тут свои…
– Хорошо. Позови дежурного по коммуне.
Пришел дежурный.
– Что, принимать будем киноартиста?
– Да вот же явился. Нужно совет командиров протрубить.
– Есть!
В совете командиров Фильку не терзали лишними вопросами. Попросили только рассказать, как он ездил в Одессу. Филька неохотно повествовал:
– Да что ж там… Как Н. меня не захотел отправить на кинофабрику, я и подумал: «Что ж идти в коммуну? Будут пацаны смеяться. Все равно уже поеду в Одессу. Может, что и выйдет». Пришел на вокзал и сразу полез на крышу, только в Лозовой меня оттуда прогнали… Ну, подождал следующего поезда и опять залез на крышу. Так и приехал в Одессу. Пошел к директору, а директор и говорит: «Нужно раньше учиться в школе». А пацанов у них играть – сколько угодно своих, так те живут у родных. Он говорит: «Если хочешь – играй, может, когда и подойдет тебе, только жить у нас негде». Так я пошел в помдет и попросил, что отправили меня в Харьков. Ну, меня и отправили в колонию Горького.
– А почему не к нам? – спросил кто-то.
– Так я же не сказал, что я джержинец.
– Почему же ты не пришел к нам?
– Стыдно было, да и боялся, что не примут: подержат на середине, а потом скажут: «Иди куда хочешь».
– А почему теперь пришел?
– А теперь?.. – Филька затруднился ответом. – Теперь, может, другое дело. Что ж, я четыре месяца прожил в колонии Горького.
– В колонии плохо?
Филька наклонил голову и шепнул:
– Плохо.
Сразу заговорило несколько голосов.
– Да чего вы к нему пристали?
– Вот, подумаешь, преступника нашли!..
ССК заулыбался:
– Принять, значит?
– Да ясно, в тот же самый отряд.
– Значит, нет возражений? Объявляю заседание закрытым.
Фильку кто-то схватил за шею:
– Эх ты, Гарри Пиль!
Сявки
У многих коммунаров есть в прошлом… одним словом, есть «прошлое». Не будем о нем распространяться. Сейчас в коллективе дзержинцев оно как будто совершенно забыто. Иногда только прорвется блатное слово, а некоторые слова сделались почти официальными, например: «пацан», «чепа». В этих словах уже нет ничего блатного – просто слова, как и все прочие.
Коммунары никогда не вспоминают своей беспризорной жизни, никогда они не ведут разговоров и бесед о прошлом. Оно, может быть, и не забыто, но настойчиво, упорно игнорируется. Мы также подчиняемся этому правилу. Воспитателям запрещено напоминать коммунарам о прошлом.
Благодаря этому ничто не нарушает общего нашего тона, ничто не вызывает у нас сомнений в полноценности и незапятнанности нашей жизни. Иногда только какой-нибудь бестактный приезжий говорун вдруг зальется восторгами по случаю разительных перемен, происшедших в «душах» наших коммунаров.
– Вот, вы были последними людьми, вы валялись на улицах, вам приходилось и красть…
Коммунары с хмурой деликатностью выслушивают подобные восторги, но никогда никто ни одним словом на них не отзовется.
Однако еще живые щупальцы пытаются присосаться к нашему коллективу. В такие моменты коммуна вдруг охватывается лихорадкой, она, как заболевший организм, быстро и тревожно мобилизует все силы, чтобы в опасном месте потушить развитие каких-то социальных бактерий.
Социальную инфекцию, напоминающую нам наше прошлое, приносят к нам чаще всего новенькие.
Новенький воспитанник в коммуне сильно чувствует общий тон коллектива и никогда не посмеет открыто проповедовать что-либо, напоминающее блатную идеологию, он даже никогда не осмелится иронически взглянуть на нашу жизнь. Но у него есть привычки и симпатии, вкусы и выражения, от которых он сразу не в состоянии избавиться. Часто он даже не понимает, от чего и почему ему нужно избавиться. Наиболее часто это бывает у мальчиков с пониженным интеллектом и слабой волей. Такой новенький просто неловко чувствует себя в среде подтянутых, дисциплинированных и бодрых коммунаров: он не в состоянии понять законы взаимной связи и взаимного уважения. Ему на каждом шагу мерещится несправедливость, он всегда по старой привычке считает необходимым принять защитно-угрожающую позу, в каждом слове и в движении других он видит что-то опасное и вредное для себя, и во всем коллективе он готов каждую минуту видеть чуждые и враждебные силы. В то же время, даже когда он полон желания работать, он лишен какой бы то ни было способности заставить себя пережить самое небольшое напряжение. Еще в коллекторе полный намерениями «исправиться», он рефлективно не способен пройти мимо «плохо лежащей» вещи, чтобы ее не присвоить, успокоив себя на первый раз убедительными соображениями, что «никто ни за что не узнает». Точно размеренный коммунарский день, точно указанные и настойчиво напоминаемые правила ношения одежды, гигиены, вежливости – все это с первого дня кажется ему настолько утомительным, настолько придирчивым, что уже начинается вспоминаться улица или беспорядочный, заброшенный детский дом, где каждому вольно делать что хочется.
Контраст полудикого, анархического прозябания «на воле» и свободы в организованном коллективе настолько разителен и тяжел, что каждому новенькому первые дни обязательно даются тяжело. Но большинство ребят очень быстро и активно входит в коллектив. Их подтягивает больше всего, может быть, серьезность предъявляемых требований. Обычно бывает, что ребята бунтуют только до первого «рапорта». Новенький пробует немного «побузить», нарочно толкнет девочку, уйдет с работы, возьмет чужую вещь, замахнется кулаком, ответит ненужной грубостью. На замечание другого коммунара удивится:
– А ты что? А у тебя болит?
Первый же «рапорт» производит на него совершенно ошеломляющее впечатление. Когда председатель общего собрания спокойно называет его фамилию, он еще немного топорщится, недовольно поворачивается на стуле и пробует все так же защищаться:
– Ну что?
Но у председателя уже сталь в голосе:
– Что? Иди на середину!
Неохотно поднимается с места и делает несколько шагов, развязно покачиваясь и опуская пояс пониже бедер, как это принято у холодногорских франтов. Одна рука – в бок, другая – в кармане, ноги в какой-то балетной позиции, вообще во всей фигуре достоинство и независимость.
Но весь зал вдруг гремит негодующим, железным требованием:
– Стань смирно!
Он растерянно оглядывается, но немедленно вытягивается, хотя одна рука еще в кармане.
Председатель наносит ему следующий удар:
– Вынь руку из кармана.
Наконец, он в полном порядке, и с ним можно говорить:
– Ты как обращаешься с девочками?
– Ничего подобного! Она шла…
– Как ничего подобного? В рапорте вот написано…
Он совершенно одинок и беспомощен на середине.
Последний удар наношу ему я, это моя обязанность. После суровых слов председателя, после саркастических замечаний Редько, после задирающего смеха пацанов я получаю слово. Стараюсь ничего не подчеркивать:
– Что касается Сосновского, то о нем говорить нечего. Он еще новенький и, конечно, не умеет вести себя в культурном обществе. Но он, кажется, парень способный, и я уверен, что скоро научится, тем более что и ребята ему помогут как новому товарищу.
Заканчиваю я все-таки сурово, обращаясь прямо к Сосновскому:
– А ты старайся прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в коммуне. Ты не теленок, должен сам все понять.
Когда собрание кончается и все идут к дверям, кто-нибудь берет его за плечи и смеется:
– Ну вот ты теперь настоящий коммунар, потому что уже отдувался на общем. В первый раз это действительно неприятно, а потом ничего… Только стоять нужно действительно смирно, потому, знаешь – председатель…
Самые неудачные новички никогда не доживают до выхода на середину. Поживет в коммуне три-четыре дня, полазит, понюхает, скучный, запущенный, бледный, и уйдет неизвестно когда, неизвестно куда, как будто его и не было.
Коммунары таких определяют с первого взгляда:
– Этот не жилец: сявка.
«Сявка» – старое блатное слово. Это мелкий воришка, трусливый, дохлый, готовый скорее выпросить, чем украсть, и не способный ни на какие подвиги.
Коммунары вкладывают в слово «сявка» несколько иное содержание. Сявка – это ничего не стоящий человек, не имеющий никакого достоинства, никакой чести, никакого уважения к себе, бессильное существо, которое ни за что не отвечает и на которое положиться нельзя.
У нас таких сявок было за три года очень немного, человека три всего. Коммунары о них давно забыли, и только в дневниках коммуны остался их след.
Гораздо хуже бывало, когда вдруг нам приходилось ставить вопрос о старом коммунаре, на которого все привыкли смотреть как на своего и у которого вдруг обнаруживались позорные черты.
Самый тяжелый случай был у нас с Грунским.
Грунский живет в коммуне с самого начала ее. У него красивое лицо, тонкое и выразительное. Он в старшей группе и учится прекрасно. Всегда он ко всем расположен, вежлив, в меру оживлен и активен. Его без всяких затруднений приняли в комсомол, а через год был уже он командиром первого отряда, и его всегда выбирали во все комиссии. На работе он – прямо образец, всякое дело умеет делать добросовестно и весело.
Во время московского похода обнаружилось неприятное дело: в поезде, по дороге в Москву, пропало у Волчка пять рублей. Ночью положил кошелек рядом с собой, посторонние в наши вагоны не заходили, а утром проснулся – кошелька и денег нет.
Дневальными в вагоне ночью были четыре коммунара, в том числе и Грунский.
Как только расположились в Москве в общежитии, собрали общее собрание.
В огромной спальне Транспортной школы притихли. Дело безобразное: у товарища украли последние деньги, да еще во время похода, которого так долго ждали и на который так много было надежд. Назвать прямо перед всеми фамилию подозреваемого было трудно: слишком уж тяжелое оскорбление. Четверо дневальных вышли вперед.
– Я денег этих не брал.
Так сказал каждый. Так сказал и Грунский.
В спальне было тихо. Все чувствовали себя подавленными.
Тогда попросил слово Фомичев и сказал:
– Первый отряд уверен, что деньги взял Грунский.
Еще тише стало в спальне.
Я спросил:
– А доказательства?
– Доказательств нет, но мы уверены.
Грунский вдруг заплакал.
– Я могу свои отдать деньги, но денег я не брал.
Никто ничего не прибавил, так и разошлись. Я выдал Волчку новые пять рублей.
В Москве и на обратном пути Грунский был оживлен и доволен, но я заметил, что тратит он гораздо больше, чем было ему по карману: его финансовые дела были мне известны. Он покупал конфеты, молоко, пирожные и в особенности кутил на станциях: на каждой остановке можно было видеть на подножке вагона Грунского, торгующего у бабы или мальчишки какую-нибудь снедь.
Я поручил нескольким коммунарам запомнить кое-какие его покупки. Как только мы приехали в коммуну, я собрал совет командиров и попросил Грунского объяснить некоторые арифметические неувязки. Грунский быстро запутался в цифрах. Выходило, что денег истрачено было им гораздо больше, чем допускалось наличием. Пришлось ему перестраивать защиту и придумывать небылицы о присланных какой-то родственницей в письме пяти рублях. Но это было уже безнадежно.
И пришлось Грунскому опустить свою белокурую голову и сказать:
– Это я взял деньги Волчка.
Среди командиров только Редько нашел слова для возмущения:
– Как же ты гад, взял? Тебе ж говорили, а ты еще и плакал, а потом на глазах у всех молоком заливался!
Общее собрание в тот день было похоже на траурное заседание. Грунский кое-как вышел на середину. Председатель только и нашелся спросить его:
– Как же ты?
Но ни у председателя не нашлось больше вопросов, ни у Грунского – что отвечать.
– Кто выскажется?
Тогда вышел к середине Похожай и сказал Грунскому в глаза:
– Сявка!
И только тогда заплакал Грунский по-настоящему, а председатель сказал:
– Объявляю собрание закрытым.
С тех пор прошло больше года. Грунский, как и прежде, носит по коммуне свою белокурую красивую голову, всегда он в меру оживлен и весел, всегда вежлив и прекрасно настроен, и никогда не один коммунар не напомнит Грунскому о московском случае. Но ни на одном собрании никто не назвал имени Грунского как лица, достойного получить хотя бы самое маленькое полномочие.
Будто сговорились.
Юхим
Юхим Шишко был найден коммунарами при таких обстоятельствах.
Повесили пацаны с Перским горлётную сетку на лужайке возле леса, там, где всегда разбиваются наши летние лагеря. Наша часть леса огорожена со всех сторон колючей проволокой, и селянские коровы к нам заходить не могут.
Но раз случилась оказия: даже не корова, а теленок-бычок не только прорвал проволочное препятствие, но и попал в горлётную сетку, разорвал ее всю и сам в ней безнадежно запутался.
Пока прибежали коммунары, от горлёта ничего не осталось, пропали труды целой зимы и летние надежды.
Бычка арестовали и заперли в конюшне.
Только к вечеру явился хозяин, солидный человек в городском пиджаке, и напал на коммунаров:
– Что за безобразие! Хватают скотину, запирают, голодом морят. Я к самому Петровскому пойду! Вас научат, как обращаться с трудящимися.
Но коммунары подошли к вопросу с юридической стороны:
– Заплатите сначала за сетку, тогда мы вам отдадим бычка.
– Сколько же вам заплатить? – спросил недоверчиво хозяин.
В кабинете собралось целое совещание под председательством Перского.
Перский считал:
– Нитки стоят всего полтора рубля, ну а работы там будет рублей на двадцать по самому бедному счету.
Ребята заявили:
– Вот, двадцать один рубль пятьдесят копеек.
– Да вы что, сказились? – выпалил хозяин. – За что я буду платить? Бычок того не стоит.
– Ну, так и не получите бычка.
– Я не отвечаю за потраву, это пастух пускай вам платит. Я ему плачу жалованье, он и отвечает.
Ребята оживились.
– Как пастух? Пастух у вас наемный?
– Ну, а как же! Плачу ж ему, он и отвечает.
– Ага! А сколько у вас стада?
Хозяин уклонился от искреннего ответа:
– Какое там стадо! Стадо…
– Ну, все-таки.
– Да нечего мне с вами талдычить! Давайте теленка, а то пойду просто в милицию, так вы еще и штраф заплатите.
ССК прекратил прения:
– Знаешь что, дядя, ты тут губами не шлепай, а либо давай двадцать один рубль пятьдесят копеек, либо иди куда хочешь.
– Ну, добре, – сказал хозяин. – Мы еще поговорим!
Он ушел. На другой день к вечеру ввалилось в кабинет существо первобытное, немытое со времени гражданской войны, не чесанное от рождения и совершенно не умеющее говорить.
В кабинете им заинтересовались:
– Ты откуда такой взялся?
– Га? – спросило существо.
Но звук этот был чем-то средним между «га», «ы», «а», «хе»…
– А чего тебе нужно?
– Та пышьок, хасяин касылы, витталы шьоп.
– А-а, это пастух знаменитый!
С трудом выяснили, что этот самый пастух пасет целое стадо, состоящее из трех коров, нескольких телят и жеребенка.
Сказали ему:
– Иди к хозяину, скажи: двадцать один рубль пятьдесят копеек пусть гонит.
Пастух кивнул и ушел.
Возвратился он только к общему собранию, и его вывели на середину плачущего, хныкающего и подавленного. Рот у него почему-то не закрывался, вероятно, от обилия всяких чувств. Пастух объявил:
– Хасяин попылы, касалы – иды сопи, быка, значиться, узялы, так хай и пастуха запырають.
Ситуация была настолько комической, что при всем сочувствии пастуху зал расхохотался.
Из коммунаров кто-то предложил задорно:
– А что ж, посмотрим! Давай и пастуха… Смотри, до чего довели человека!.. Побил, говоришь?
– Эхе, – попробовал сказать Юхим, не закрывая рта.
– Да что его принимать? – запротестовал Редько. – Он же совсем дикий. Ты знаешь, кто такой Ленин?
Юхим замотал головой, глядя не отрываясь на Редько:
– Ни.
Кто-то крикнул через зал:
– А може, ты чув, шо воно за революция?
Юхим снова замотал отрицательно головой с открытым ртом, но вдруг остановился.
– Цэ як с херманьцями воювалы…
В зале облегченно вздохнули. Все-таки хоть говорит по-человечески.
Многие выступали против приема Юхима, но общее решение было – принять.
Приняли-таки Юхима. А бычка на другой день зарезали и съели.
Юхима остригли, вымыли, одели – все сделали, чтобы стал он похожим на коммунара. Послали его в столярный цех, но инструктор на другой день запротестовал:
– Ну его совсем! Того и гляди, в пас запутается.
Юхим и сам отрицательно отнесся к станкам, тем более что в коммуне нашлось для него более привлекательное дело. Держали мы на откорме кабанчика. Как увидел его Юхим, задрожал даже:
– Ось я путу за ным хотыты.
– Ну ходи, что ж с тобой поделаешь.
Юхим за кабанчиком ходил, как за родным. Юхим не чувствовал себя наймитом и даже пробовал сражаться с кухонным начальством и с конюхом, отстаивая преимущественные права своего питомца. В его походке вдруг откуда-то взялись деловитость и озабоченность. В свинарне Юхим устроил настоящий райский уголок, натыкал веточек, посыпал песочку…
К счастью Юхима, его сельскохозяйственная деятельность в коммуне все-таки прекратилась.
В один прекрасный день Юхим не нашел в свинарнике своего питомца. Бросился в лес и по дороге с гневом обрушился на конюха.
Наш конюх, могучий, самоуверенный и спокойный Митько, старый мясник и селянский богатырь, добродушно рассмеялся.
Юхим унесся в лес. Бродил он в лесу и обед прозевал, пришел изморенный и к каждому служащему и коммунару приставал с вопросом:
– Дэ кабан? Чи не бачыли кабана?
И только придя на кухню обедать, он узнал истину: кабана еще на рассвете зарезал Митько. Когда Юхиму предлагала кусок свинины старшая хозяйка, ехидный и веселый Редько передразнил Юхима:
– «Дэ кабан?» Раззява несчастная! Ось кабан, кушай!
Как громом был поражен Юхим всей этой историей, не стал обедать и бросился в кабинет с жалобой. Я с большим анпряжением понял, о чем он лопочет:
– Заризалы ранком, нихто й не знав, отой Митько, крав, крав помый, насмихався…
Несколько дней коммунары спрашивали у Юхима:
– Дэ кабан?
Но у Юхима уже прошел гнев, и он отвечал, улыбаясь доверчиво:
– Заризалы.
Гибель кабана от руки Митько окончательно порвала связь Юхима со скотным двором. Сделался Юхим рабочим литейного цеха. Сейчас он работает на щетковальном станке.
Юхим – уже старый коммунар и изучает премудрости третьей группы.
Вечер
Протрубил трубач у двух углов:
Спать пора, спать пора, коммунары, День закончен, день закончен трудовой…По парадной лестнице пробежали коммунары в спальни, и уже сменился караул у парадного входа. Новый дневальный записывает в свой блокнотик, кого и когда будить, и одновременно убеждает командира сторожевого в том, что если командир отдаст ему карманные часы, они вовсе не будут испорчены.
Заведующий светом проходит по коридору и тушит электричество. Скоро только у дневального останется лампочка. У дверей одного из классов группа девочек требует:
– А если нам нужно заниматься?
– Знаю, как вы занимаетесь! – говорит грубоватый курносый, но хорошенький Козырь. – Заснете, а электричество будет гореть всю ночь.
– А мы разве засыпали когда?
– А почем я знаю, я за вами не слежу.
Но девочки получают подкрепление. Суровая Сторчакова разрешает спор молниеносно:
– Ну, убирайся!
Козырь убирается и заглядывает в «тихий» клуб, делая вид, что его авторитет ничуть не поколеблен. Однако за плечами его снова Сторчакова:
– Тут будет заседание бюро, прекрасно знаешь.
– Ну, знаю. Так что ж?
– Ну, нечего мудрить! Зажги свет.
Козырь послушно действует выключателем, но не уходит. Когда соберется бюро, он отомстит, обязательно пристанет к секретарю:
– Кто потушит свет?
– А тебе не все равно? Потушим.
– Нет, ты скажи – кто. Я должен знать, кто отвечает.
– Я потушу.
Козырь не будет спать или будет просыпаться через каждые четверть часа, спускаться в «тихий» клуб и смотреть, не забыли ли потушить свет. Надежды очень мало сегодня. Наверняка Сторчакова потушит. Уж очень она аккуратный человек. Но Козырь знает, что такое теория вероятности. Он будет и сегодня следить, и завтра, и много раз, и, наконец, настанет такой счастливый вечер, когда он на общем собрании отчеканит рапорт дежурному:
– В коммуне за сутки электроэнергии израсходовано двадцать киловатт-часов. Особое замечание: секретарь комсомольской ячейки Сторчакова после заседания бюро не выключила свет, «тихий» клуб «горел» до утра.
Сторчакова выйдет на середину и скажет:
– Да, я виновата…
Ничего Сторчаковой не будет, это верно, но Козырю ничего особенного и не нужно. Он и так получит много. Он получит право сказать секретарю:
– Знаем, как вы тушите!
В помещении коммуны появляется еще тень и ругает Володьку за то, что рано в коммуне потушен свет. Это представитель дежурного отряда. Дежурный отряд следит за порядком в клубах и отвечает за то, чтобы во всем здании, кроме, разумеется, спален, были на ночь закрыты окна.
Наконец и Володька, и дежурный отряд уходят в спальню.
В кабинете еще идет работа – какая-нибудь комиссия. В «тихом» клубе располагается бюро, а это значит, что «тихий» клуб полон.
На бюро кто-нибудь коротко отчитывается, кто-нибудь зачитывает небольшой проект, кто-нибудь «отдувается», что-нибудь организуется.
Сегодня именинник литейный цех. Производственное совещание цеха. Мастера, Соломон Борисович – всего человек двенадцать. В цехе прорыв: что-то прибавилось браку, вчера не было литья, глина оказалась неподходящей.
Коммунару полегоньку нажимают на Соломона Борисовича и основательно наседают на мастеров: мастера кивают на Соломона Борисовича и оправдываются перед коммунарами; Соломон Борисович машет руками и наседает и на тех и других. Через полчаса вопрос ясен: прорыв ликвидировать совсем не трудно, и тревога, в сущности, напрасна, но все-таки хорошо, что поговорили. Выяснилось, что коммунар Белостоцкий поленивается, что мастер Везерянский – шляпа, что Соломон Борисович должен, скрепя сердце, выложить сто рублей на новый точильный камень. Под шумок маленького спора сорвали с Соломона Борисовича обещание перевести что-то на мотор, договорились насчет новой работы и помечтали об отдельной литейной.
В кабинете тоже окончили. Председатель столовой комиссии складывает в папку бумажки и говорит:
– Конечно, нужны горчичницы. Будем нажимать.
Все расходятся.
Дневальный принимает ключи от кабинета и говорит:
– Спокойной ночи.
Во дворе неслышно прохаживается сторож. У конюшни голоса: двое коммунаров кому-то рассказывают о чудесах, совершенных Митькой-конюхом:
– Ну, так разве ж его можно взять! Раз трое на него наскочили с кольями, а у одного железный лом… Так что ж? Они на него с ломом – по голове, аж голова гудит, а он все-таки их всех поразгонял.
– Коммунары, спать пора!
– Идем уже, идем…
В последнем окне погас свет: кто-то дочитал книжку.
Заключение
Сейчас осень. Коммуна только что возвратилась из крымского похода.
Крымский поход достоин того, чтобы о нем написать книгу – книгу о новой молодости, о молодости нового общества, о радостях новых людей, сделавшихся частью живого коллектива.
Утром пятого августа в четыре часа коммуна вышла из Байдар. Впереди – проводник, разговорчивый татарин, данный нам байдарским комсомолом. Мы решили идти через Чертову лестницу, но нужно посмотреть на знаменитые Байдарские ворота.
Ахнули, посмотрели, влезли на крышу ворот и чинно уселись на барьер крыши, как будто собирались просидеть там до вечера. Слезли через минут у, сыграли «Интернационал» восходящему солнцу и пошли. Через пятьдесят шагов проводник неожиданно полез на какую-то кручу. Не успел я опомниться, как уже коммунары перегнали его, только кто-то из оркестрантов с тяжелым басом цеплялся за корни. Я разругал проводника:
– Разве это дорога? Разве можно вести по этой дороге сто пятьдесят ребят, да еще с орестром?
Но коммунары на меня смотрели с удивлением:
– А чего? Хорошая дорога!
Кое-как и мы с Тимофеем Викторовичем, ругаясь и задыхаясь, выбрались на Яйлу.
Часа через два шли с пригорка на пригорок по волнистым вершинам Яйлы и наконец подошли к Чертовой лестнице.
Смотрим вниз. Какой-то застывший поток разбросанных повсюду острых камней. По ним нужно спускаться. Ребята нас обогнали давно. От Байдар уже сделали километров двадцать, а тут еще нужно прыгать на круглую макушку камня, смотрящего откуда-то снизу в полутора метрах. Прыгаем.
Тимофей Викторович возмущается:
– Проводнику не нужно платить, мерзавцу!
Спускались мы с ним часа полтора, так, по крайней мере, нам показалось. Но как только спустились к ожидавшим нас на шоссе коммунарам, Тимофей Викторович расплывается в улыбке:
– Замечательная дорога! Какая прелесть!
Голоногие коммунары смеются, понимая, в чем дело. Тимофей Викторович на этом самом участке шоссе с радостью закончил бы переход. Но нужно идти дальше, потому что коммунары уже скрываются из виду. Им приказано остановиться только в Кикенеизе, а до Кикенеиза еще километров восемь.
В Кикенеизе маршрутная комиссия достала разрешение остановиться в школе. Обоза еще нет, и коммунары отправились купаться к морю, до которого километра четыре.
Наконец приходит обоз. Карабанов дурашливо обнимается с коммунарами, конвоирующими обоз, столовая комиссия бросается снимать с арб обед.
Я спрашиваю:
– Здесь заночуем, наверное?
– Дальше! – кричат коммунары.
В шесть часов трогаемся дальше. Уже начинает темнеть, когда мы подходим к обсерватории на горе Кошка. До Симеиза километров пять. Директор разрешает осмотреть обсерваторию, и ребята устремляются к дверям. Нам уже впору отдохнуть, и мы с Тимофеем Викторовичем усаживаемся на скамье. Хорошо бы здесь и заночевать, но Карабанов уже выстраивает колонну. Техник обсерватории предлагает показать ближайший спуск в Симеиз. Мы с ним отправляемся вперед, но через минуту нас галопом обгоняют все сто пятьдесят коммунаров. Они летят по крутому спуску, как конница Буденного, не останавливаясь на поворотах и не упираясь на кручах, просто сбегают свободным бегом, как будто для них не существует законов тяжести и инерции. Любезный техник останавливается под каким-то обрывом и показывает мне дальнейшие извилины спуска, но вдруг безнадежно машет рукой:
– Э, да вам показывать не нужно!
Впереди вся Кошка покрыта парусиновыми рубахами коммунаров.
Мы с Тимофеем Викторовичем только через полчаса добираемся до подошвы.
Еще через десять минут наш оркестр гремит на верхних террасах симеизкого шоссе. Симеиз в сверкающем ожерелье все ближе и ближе.
После сорокакилометрового перехода и двух перевалов коммунары с музыкой входят в Симеиз. Их движения так же упруги, как и утром в четыре часа в Байдарах. Так же торжественно колышется впереди знамя, по бокам его так же острятся штыки, и так же развевается флажок у флаженера левого фланга Алексюка.
Симеизская публика из квартала в квартал провожает нас аплодисментами. Кто-то любезно бросается подыскивать для нас ночлег. Через полчаса коммунары входят в великолепный клуб союза строителей, и караульный начальник разводит ночные караулы.
Тридцать первого августа в шесть утра мы вернулись домой.
Кончился наш отпуск. Перед нами – новый год и карты новых переходов.
В отрядах коммунаров уже сменились командиры. В первом отряде снова командует Волчок, а на месте ССК уже не Васька Камардинов, а Коммуна Харланова, особа выдержанная, серьезная и образованная. Теперь Соломону Борисовичу еще меньше будет свободы в совете командиров.
Соломон Борисович строится. Все площади нашего двора завалены строительными материалами, сразу в нескольких местах возводятся стены новых домов – общежитий, контор, складов и цехов. Все планы, намеченные перед отъездом в Крым, Соломоном Борисовичем выполняются, и это обстоятельство окончательно роднит его с коммунарами.
Вернувшись из крымпохода, побежали коммунары после команды «разойдись» осматривать новое строительство. Великолепный новый сборный цех длиной в семьдесят метров их совершенно удовлетворяет:
– Грубой цех будет! – говорит командир третьего.
Довольны и формовщики: новая литейная почти готова, на стропилах уже ползают кровельщики, и на траве в саду разложены масленые листки железа.
Но это еще не все. Самое главное вот что: в коммуне открывается рабфак. Настоящий рабфак Машиностроительного института. Первый и второй курсы. Это великое событие произошло чуть ли не случайно.
Бросились наши кандидаты в рабфаки – оказывается: то стипендии нет, то общежития. Возникло решение открыть собственный рабфак. И Наркомпрос и ВСНХ пошли навстречу желаниям коммунаров.
Через три дня начинаются на рабфаке занятия. Новые наши студенты продолжают оставаться коммунарами. Все чрезвычайно довольны: не нужно никуда уходить, не нужно бросать родную коммуну, можно продолжать работать на нашем производстве.
В рабфаке будет семьдесят коммунаров.
В педагогическом совете затруднялись: как быть с такими, как Панов? И по возрасту и по росту совсем мальчик, а по способностям и коммунарскому стажу заслуженный товарищ. Ребята в педсовете настояли:
– Ну так что же? Кончит рабфак, ему уже шестнадцать будет. Чем не студент? Такие нам и нужны.
Сегодня в коммуну свозят много хороших вещей: физический кабинет, химический кабинет, новые книги. Соломон Борисович измеряет комнаты: надо делать шкафы, столы, стулья для новых кабинетов.
Соломону Борисовичу теперь есть чем гордиться: в коммуне рабфак; не успеем оглянуться – будут собственные инженеры. А на текущем счету уже лежат двести тысяч рублей. Взяли мы еще в июле заказ на оборудование Энергетического института, заказ стоит полмиллиона.
ФД-1 Повесть
1 Похоже на вступление
Харьков еще спал, когда колонна коммунаров прошла через город от вокзала в коммуну. Ожидался хороший день, но солнце еще не всходило. За окнами спали люди, и мы будили их громом нашего оркестра: раздвигались занавески, и кто-то удивленный разглядывал ряды марширующих мальчиков со знаменем впереди. Знамя шло по-походному – в чехле.
По плану коммунарам полагалось бы быть уставшими. Поезд пришел в Харьков в два часа ночи. Мы до рассвета «проволынили» на вокзале, пока нашли подводы для вещей. Только вчера мы были в Севастополе[309], дышали югом, морем, кораблями, широкими, вольными глотками пили бегущие мимо нас, быстро сменяющиеся впечатления. Сейчас, ранним утром, притихшим в мальчишеской лукавой бодрости, для нас таким непривычно знакомым показался Харьков, и это было тоже ново, как будто мы продолжаем поход по новым местам. Поэтому мы не ощущали усталости.
Прошли через город, вот и белгородское шоссе, вот и лес. Фанфаристы свернули вправо на нашу дорожку в лесу. Всегда в этом месте мы распускали строй и пробирались через лес «вольно», чтобы построиться снова в поле. Но теперь нас, наверное, будут встречать, и мы держим фасон.
– Справа по одному, марш!
Коммунары вытянулись в одну линию.
Лесные дорожки родные, на них знакома каждая морщинка, каждая сломанная придорожная веточка.
Оркестр уже выбрался из леса и торопливо перестраивается «по шести». Навстречу бегут по межам, сокращая путь, обрадованные люди: рабочие, служащие, их дочки и пацаны, приятели с Шишковки. Скачут по жнивью собаки.
Волчок быстро шепчет:
– Марш Дзержинского… раз, два…
Мы салютуем встречающим нашим маршем – маршем Дзержинского.
Эту честь мы оказываем далеко не каждому.
Коммунары быстро перестраиваются. Им трудно сдержать улыбку в то время, когда кругом им машут шапками, протягивают руки и кричат:
– Васька, а Васька, черный какой…
Но коммунары держат ногу и напускают на себя серьезность.
Пыльная дорога еле-еле вмещает наш широкий строй, и поэтому нам трудно сохранять воинскую красивость. Встречающие идут рядом, разглядывая наши загорелые физиономии. Землянский впереди особенно лихо звенит тарелками, и особенно высоко передовые задирают фанфары навстречу солнцу, в удивлении выпучившему на нас единственный глаз.
Летит к нам навстречу и Соломон Борисович, наш заведующий производством, человек толстый и юношески подвижный. Он ничего не понимает в неприкосновенности строя, прямо с разбегу со страшной инерцией своей шестипудовой массы бросается мне на шею и считает обязательным по-настоящему обчмокать меня расстроенными старческими губами. Разогнавшаяся в марше знаменная бригада налетает на нас, а на нее налетает первый взвод. Первый взвод хохочет, и командир взвода Миша Долинный протестует:
– Выйдите из строя, Соломон Борисович.
Соломон Борисович протягивает к нему руки.
– Товарищ Долинный, как вы загорели, это прямо удивительно!
Он пожимает руку смущенному Мише, семенит рядом с ним и торжествует:
– Теперь вы меня ругать не будете. Есть где работать – не скажете, что Соломон Борисович ничего для вас не приготовил. Вот я Вам покажу… Вы видите крышу? Вы видите, видите? Вон за деревом…
Миша безнадежно пытается поймать ногу и сердится:
– Соломон Борисович, вы же видите, что мы идем со знаменем! Станьте сюда и держите ногу.
Как настоящий коммерсант, Соломон Борисович склонен к сентиментальности, но он слишком уважает коммунарский строй, и он послушен: он напряженно чеканит «левой, правой» и молчит. Его живот и наморщенный лоб всем окружающим возвещают, что Соломон Борисович умеет встретить коммуну, но и коммуна знает ему цену: все остальные идут сбоку, а Соломон Борисович «за знаменем».
Вот и наш серый дворец. Соломон Борисович вместе со всеми выстраивается для отдачи чести знамени, которое после месячного отсутствия вносится в наш дом.
Окончились церемонии, и коммунары побежали проверить коммуну. Соломон Борисович снова оживлен и радостен. Он берет меня под руку, и, окруженные толпой коммунаров, мы идем осматривать постройки, воздвигнутые Соломоном Борисовичем во время нашего похода в Крым.
Так окончился марш тридцатого года.
Марш тридцатого года – это было счастливое, беззаботное время для коммунаров. Это был год, когда мы на каком-то микроскопическом участке общего советского фронта делали свое маленькое дело и были счастливы. Мы много работали, учились, отшлифовали грани нашего коллектива и радовались. Коммунары одинаково светлым взглядом смотрели на солнце и на трубы завода, потому что это были непреложные элементы живой жизни. Мир в их представлении был идеально гармоничен, он состоял из неба, солнца, заводов, рабочего класса, комсомола и других хороших и ценных вещей.
Тогда мы гордились маршем тридцатого года и о нем рассказывали в полной уверенности, что это было прекрасное и сильное движение. У нас были мастерские, мы выделывали нехитрые вещи, но все же нужные людям, в школе мы учились. Одним словом, мы гордились и имели на это основания.
Но вот теперь, когда прошел тридцать первый год, оглядываясь назад, мы со снисходительной улыбкой рассматриваем наше прошлое. Прекрасный марш тридцатого года – это вовсе не был потрясающий, звенящий марш победителей, нет, это мы только учились ходить. Так это было скромно в сравнении с тем, что выпало на долю нашего коллектива в славном боевом тридцать первом году.
О, тридцать первый год – это настоящая война. Здесь было все. Был зуд нетерпения и требовательности, была язвительная улыбка умного, опытного человека, мальчишеский кипящий задор и строгая математика острого очиненного карандаша. Коммуна прошла тяжелейшие изрытые оврагами пространства, забросанные мусором площади, гудронные паркеты шоссе и Черное море.
У нас были в этом году необозримые посевы терпения, были напряжения длительные и безмолвные, когда крепко сжимаются губы и осторожно по сантиметрам расходуется драгоценная воля, когда не играет музыка и не блещет открыто коллектив в своем величии и красоте.
Были и марши и походы, полные стройности и очарования, марши юности по древним горам среди древних народов. Были широко раскрытые радостные глаза, стремящиеся схватить в дерзком усилии всю мощь Советского Союза и советской стройки, были просто человеческие дни отдыха и мобилизации новых сил.
А силы были нужны для больших и трудных операций.
Сейчас, когда я это пишу, на пятнадцать минут выйдя из строя, коммунары штурмуют высоты, о взятии которых нам не снилось еще полгода назад. Это действительно «кровавый» штурм, настойчивые удары нашей воли и дерзости, нашего знания и умения.
2 К теории мутаций[310]
Здания, воздвигнутые Соломоном Борисовичем, произвели на коммунаров сильное впечатление. Хотя они были построены из дерева и других подобных материалов, но были поразительны по своей величине и строительной смелости. Главными зданиями были: сборный цех для деревообделочной мастерской длиной в шестьдесят метров и шириной в двадцать и жилой дом, в котором строительная мудрость Соломона Борисовича вместила и квартиры для многих рабочих, и столовую, и швейную, и бухгалтерию, и кухню, и даже красный уголок.
Перед отъездом в Крым мы страдали от недостатка производственных помещений, и поэтому, когда загорелые ноги коммунаров, еще не расставшиеся с трусиками, пробежали по всем объектам строительства Соломона Борисовича, в душах коммунаров довольно основательно расположилось чувство удовлетворения.
Новый сборный цех в этот момент был еще пуст и представлял собой огромную площадь, которая еще не была тронута легкой рукой индустрии.
Коммунары прыгали по цеху, непривычно пораженные его размахом.
Соломон Борисович в этот момент испытывал наслаждение. Он был горд успехами строительства и осчастливлен довольными рожами коммунаров.
Коммунары были довольны. Им не понравилось, что весь двор был завален строительным мусором, но и раньше Соломон Борисович не отличался чрезмерной аккуратностью. В общем это было в самом деле строительство, и коммунарам можно было развернуть настоящую большую производственную работу. В ближайшие дни коммунары были увлечены другими, гораздо более сильными впечатлениями, которые были связаны с нашей школой.
Школьный вопрос у нас до сих пор обстоял очень невыразительно. Начинали мы когда-то от печки, от обычных групп трудовой школы. Но к нам приходили мальчики и девочки, которых на педагогическом языке обычно называют переростками. Мы не умели с настоящей педагогической эмоцией произносить это слово, то есть не умели вкладывать в его содержание признаков безнадежности, предрешенности и ненужности. Переросток в детском доме – это то, что никому не нужно, всем мешает, нарушает дисциплину и спутывает весь педагогический пасьянс. В борьбе с беспризорными нужно приходить на помощь и младшим, и старшим, все они одинаково нуждаются в нашей работе, всех нужно учить грамоте, всем нужно дать советское воспитание. Мы и усаживали их в первые, вторые, третьи и четвертые группы. Здесь мы их учили двум родным языкам, украинскому и русскому, арифметике, политграмоте. Кое-как обходили Сциллы и Харибды комплексной скуки, кое-как старались сделать вид, что наша учеба связана с производством и общественно полезным трудом, но втихомолку нажимали на грамотность и умение считать…[311]
Коммунары подходили к пятой, шестой группе в возрасте семнадцати-восемнадцати лет. Возиться с окончанием трудовой школы некогда и скучно. Давно мы привыкли к прекрасному выходу из нашей образовательной системы – мы отправляли коммунаров в рабфак. Все оканчивалось сравнительно благополучно, и у нас не было случая, чтобы кто-нибудь провалился на испытаниях. И летом тридцатого года в коммуне и в Крыму человек до тридцати коммунаров готовились в рабфак.
Приехав из Крыма, наши комиссии бросились искать места в рабфаках. Нас ожидало страшное разочарование. На первые курсы нам предлагали места очень неохотно, да и то без стипендий, приглашали больше на второй. Это было похоже на разгром всех наших планов: без стипендии пускаться коммунарам в студенческую жизнь было весьма опасно, оставить ребят жить в коммуне значило бы совершенно изменить ее лицо, это уже не была бы трудовая коммуна, а в значительной степени общежитие для студентов, новеньких принимать было некуда. Посылать ребят на второй курс мы боялись, вдруг срежутся на экзамене.
В полной растерянности собрались совет командиров и бюро комсомола.
Как и всегда, в заседании присутствовали все, кто хочет, кому интересно и кто случайно забрел в кабинет. Собрались почти все кандидаты в рабфак.
Секретарь совета командиров (ССК) Коммуны Харланова поставила на повестку один вопрос – как быть с рабфаковцами? Так у нас называли всегда всех кандидатов в рабфаки, настолько была у всех глубокая уверенность, что все в рабфак попадут. В заседании над «рабфаковцами» немного подшучивали:
– Рабфак ваш работает в машинном…
– Принимайтесь лучше за кроватные углы, рабфак подождет…
– А Юдину уже снилось, что он профессор…
Я кратко доложил собранию об обстоятельствах дела. Все молчали, потому что выхода как будто и не было. Харланова озабоченно оглядывала командиров:
– Ну так что же? Чего же вы молчите? Значит, на том и успокоимся – никого в этом году в рабфак не посылаем?..
Новый секретарь бюро ячейки комсомола, всегда улыбающийся Акимов, человек, не способный испортить себе настроение ни при каких обстоятельствах, спокойно и задумчиво говорит:
– Так нельзя, чтобы никого не посылать. Только чего нервничать? Надо подумать. Наверное, что-нибудь придумаем.
– Ну, так что ты придумаешь? Что придумаешь? – грубовато оборачивается к Акимову Фомичев, один из самых старших кандидатов в рабфак.
– Да что тут думать, – улыбается Акимов, – приглашают вас на второй курс, вот и идите, чего вы ломаетесь?
– Ну, какой вы чудак, а еще и секретарь, – злится серьезный Юдин. Пригалашают… Это не пригалашют, а отказывают. Они прекрасно знают, что мы все подавали на первый курс, а говорят: идите на второй, это все равно – убирайтесь на все четыре стороны.
– А вы и идите на второй, раз приглашают…
– Может, на третий идти, на третий тоже мест сколько хочешь, тоже приглашают… А экзамен?
– Ну, идите на первый, будет трудно – поможем, а там и стипендию дадут…
Харланова останавливает Акимова:
– У нас, знаешь, какое теперь положение… Себе не хватает, наша помощь будет плохая.
Юдин вдруг круто поворачивается ко мне.
– А скажите, пожайлуста, Антон Семенович, почему это такое? Идите, говорят, на второй курс. Что это такое? Выходит как будто, что в коммуне есть первый курс. Как будто мы окончили первый курс в коммуне, а теперь перейдем на второй курс куда-нибудь там, в электротехнический или еще какой?
– А в самом деле выходит так, – кричит Сопин и ерзает на стуле, что-то продолжая доказывать своему соседу.
Я задумчиво смотрю на Юдина и думаю: а ведь в самом деле так выходит, это он правильно сказал.
– А скажите, Антон Семенович, – спрашивает, улыбаясь, Акимов, – их зовут на второй курс… так ведь они не годятся еще, правда же?
– Годятся, – тихо говорит Коммуна.
– Конечно, годятся, – кричит Сопин, которому до рабфака еще очень далеко.
– Ну, чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Ты что-нибудь понимаешь в этом? – Харланова начинает сердиться на Сопина.
– А как же, понимаю.
Совет командиров хохочет.
– А чего? Что тут понимать? Понимаю: если из четвертой группы поступают на второй курс, значит, из шестой можно прямо на второй…
– Там совсем другая программа, правда же, Антон Семенович? – настойчиво требует ответа Юдин.
В совете начинается шум… Харланова насилу сдерживает собрание и уже кричит на меня:
– Кричат все… ну, Антон Семенович, говорите уже…
Все затихают и смотрят мне в рот: Юдин серьезно и так, как будто он приступает к решению математической задачи, Акимов с прежней спокойной улыбкой, Сопин страшно заинтересован и весь превратился в нервный заряд.
Я очень хорошо помню этот момент. Тогда я особенно ясно ощутил всю прелесть и чистоту этого десятка лиц, таких светлых, таких умных и таких всесильных, умеющих так спокойно и с таким веселым достоинством решать судьбы своих товарищей и тех многих сотен будущих коммунаров, которые придут им на смену. Я мысленно отсалютовал этим милым очередным командирам нашего коллектива и сказал:
– Вопрос, товарищи, совершенно ясен, и Юдин прав. Нам не нужно ничего придумывать и не нужно падать духом. Через неделю у нас будет свой рабфак, самый настоящий, со всеми правами, и в него войдут не тридцать человек, а половина коммунаров, у нас будет первый и второй курсы. Давайте пока прекратим обсуждение этого вопроса, поручите мне действовать, и через неделю я вам доложу, как обстоит дело…
В совете командиров не закричали «ура», никто не предложил меня качать. Сопин сделался серьезным, это страшно не шло к нему, и сказал:
– Правильно… Так оно и должно быть…
– Ну, что ты понимаешь? – сказала, улыбаясь, Харланова.
– Я не понимаю? – закричал Сопин, но вдруг сразу успокоился. – Это же она понимает, правда же?
Юдин положил руку на колено Сопина и улыбнулся:
– Я думаю, что тут все понимают… Если мы доросли до рабфака, то пускай рабфак будет у нас…
– А разрешат рабфак? – спросил кто-то…
Еще за десять минут перед тем самый вопрос не приходил мне в голову, а теперь я ответил:
– В этом не может быть сомнений. Мы будем хлопотать. Но уже завтра соберем педсовет и приступим к организации рабфака. Считайте это дело решенным…
Акимов осторожно спросил?
– А педагоги наши годятся?
– Годятся почти все, часть, может быть, уйдет, но ведь у нас еще будут и подготовительные группы…
– Конечно, – закричал Сопин, – довольно… Какие там четвертые группы – подготовительные к рабфаку – это правильно…
Поднялся обычный галдеж, всегда сопровождающий нарождение новых перспектив.
Харланова голосовала:
– Кто за это, поднимите руки…
– За что, за это? – спросил Акимов.
– Не понимаешь? – надул губы Сопин. – За рабфак…
Так совершилось открытие рабфака.
Я не обманывал коммунаров. Вопрос стоят с таким математически точным оформлением, что и на самом деле рабфак начал существовать на другой день. Правда, нами были предприняты шаги в соответствующих ведомствах, но сомневаться в том, что нам рабфак разрешат, ни у нас, ни у этих ведомств основания не было. Разрешение еще не было получено, но уже коммунары были разбиты по группам, были приглашены дополнительные преподаватели, составлены планы и приступлено даже к закупке физического кабинета и других пособий.
У коммунаров навсегда осталось впечатление, что рабфак был открыт советом командиров, и это верно. Только его открыли не в заседании десятого ноября 1930 года, а в очень многих напряжениях коллектива дзержинцев задолго и незадолго до этого. Наш рабфак был естественным продуктом всей нашей работы и всей нашей жизни. И так же точно, как никто не может остановить рост усов у юноши восемнадцати лет, так никакая сила не могла остановить наше развитие в рабфак осенью тридцатого года – никакая сила в Советском Союзе, ибо у нас в Союзе таких сил даже по каталогу не имеется.
Решающим обстоятельством в этом деле явилось то, что мы были совершенно независимы в финансовом отношении. Коммуна не жила на смете, мы ниоткуда не получали денежной помощи и ни от кого ее не ожидали.
Первым творческим актом нашей свободы был рабфак, делом важности ни с чем не сравнимой, дававшим нам неизменимые запасы энергии, открывающие совершенно непредвиденные горизонты. Когда мы этот рабфак открывали, мы не чувствовали никакого напряжения, и это дело было для нас естественным жестом проснувшегося сильного человека. Рабфак был открыт одним броском, в котором совершенно органически соединялись и наша воля, и наш разум, и наши стремления. В биологии тоже есть теория мутаций[312], утверждающая, что в процессе эволюционного развития незаметно и постепенно накопляется тенденция к изменению, которое вдруг реализуется в одном взрывном, революционном явлении, приводящем к новым формам жизни. Так было у нас с рабфаком.
При его открытии мы испытывали только материальные затруднения. Мы должны были все наши нужды покрывать заработком производства, а оно само еще не стояло на ногах как следует. Тогда, в сентябре, мы были еще настолько бедны, что принуждены были обратиться за помощью в ЦКПД[313] – нам дали две тысячи рублей для пополнения физического кабинета.
Мы даже не устроили вечера в честь открытия рабфака – так все это вышло естественно, мы были только очарованы, может быть, были очарованы своей собственной силой.
Очень скоро, уже через месяц, мы перешли от очарования к новым боям и к новым трудностям, сейчас, через год, мы ведем последний штурм казавшихся несокрушаемыми цитаделей, но если бы не было рабфака, мы не были бы способны на это.
Тогда, в сентябре, затрудняло только одно: рабфак – это дорогая вещь, за него нужно платить деньгами, следовательно, нашими нервами, мускулами нашей работой.
3 История производственного фона
Когда-то, в первой молодости, я написал рассказ и послал его Максиму Горькому. Получил от Горького письмо, в котором между прочим было написано:
«…рассказ написан слабо: не написан фон…»
Тогда письмо Горького отбило у меня охоту заниматься художественной выдумкой. Но и теперь, когда мне выпало на долю описывать художественную правду, я всегда со страхом вспоминаю:
– Стой… А фон? Написан ли фон?
Я начинаю рассматривать нашу советскую жизнь и ищу фон. Пробовал учиться у великих мастеров – ничего не выходит. У них все это было легко. Небеса, темные и прохладные дубравы, тихие и сонные мещанские будни. Можно накрепко укрепить мольберт на одном месте и писать, писать… Можно даже лечь, отдохнуть, проснуться и продолжать писать все тот же фон.
Попробуйте теперь подойти к окну с таким философским спокойствием. Ну, никаких небес, а есть зарево иллюминаций, курьерские скорости вихрей и облака, перемешанные с дымом заводов. Даже и слова такого нет. Наш человек если представит себе такую дубраву, то обязательно со столбиком какого-нибудь отдела пятилетки – либо лесное хозяйство, либо осушение, либо дорога. Поэтому по вопросу о фоне, на котором рисовалась коммунарская жизнь, мне приходилось говорить чрезвычайно осторожно, ибо наша жизнь совсем иная, и нельзя…
Действительно, жизнь ста пятидесяти коммунаров-дзержинцев осенью 1930 года рисовалась на определенном фоне, мы все этот фон замечали. Только этот фон не торчал отдельно на заднем плане картины, а выпирал вперед, расплывался по лицам переднего плана и вдруг начинал играть на первых ролях, оттесняя в сторону специально назначенных для этих целей персонажей.
Привез этот фон из Киева тот же Соломон Борисович.
Очень жаль, что Ильф и Петров истратили по пустякам прекрасный термин: «великий комбинатор»[314]. Их герой имел гораздо меньше права на это звание, чем Соломон Борисович, и занимался он какими-то стульями, между тем как Соломон Борисович – прежде всего производственник.
Соломон Борисович в нашей поэме играет не последнюю роль. По всем правилам нужно рассказать о нем подробно, не мешало бы даже остановиться на его предках. Но предков у Соломона Борисовича не было. Не было у него и прошлого. Соломон Борисович родился после 1917 года. Некоторые товарищи, правда, утверждали, что Соломон Борисович имел раньше в Киеве маленький заводик, жил хорошо, была у него квартирка…
По поводу таких предположений Соломон Борисович всегда говорит:
– Заводик, скажите пожайлуста, заводик… может, имел фабрику, магазин готового платья? Всем до этого дело, а никто не спросит, сколько часов в сутки спал Соломон Борисович… Подумаешь, фабриканта нашли…
После такого отзыва заводик и квартирка и в самом деле начинают представляться в далеком тумане, может быть, было, а может, и не было.
Если бы Соломон Борисович имел более спокойный характер, то и тумана никакого не было бы. Но иногда в совете командиров, когда коммунары доведут его до белого каления, раскричится в обиде:
– Вы понимаете? Много вы понимаете в производстве. Он, смотрите, носа вытереть не знает, а в производстве он все знает. Вы это говорите мне? Эти ваши мастерские, подумаешь, завод! Я имел получше дела, и спросите, как я их делал. Я не видел этой вагранки?..
Говорили также, что Соломон Борисович окончил Политехнический институт в Германии, но когда к нам приехали немцы-рабочие и на собрании в «громком» клубе просили Соломона Борисовича переводить, он сказал:
– Забыл, знаете, товарищи коммунары.
Коммунары мало интересовались его прошлым, ибо настоящее Соломона Борисовича слишком основательно было установлено перед их глазами и отвернуться от него нельзя. Вот вы отвернулись. Но Соломон Борисович, несмотря на свою толщину и некоторую бесформенность фигуры, несмотря на тяжелую седоватую голову и обрюзгшее лицо, перемещается с места на место с быстротой удивительной и при этом настойчиво избегает прямых линий. Не было случая, чтобы Соломон Борисович, желая пройти из деревянного сарая в каменный, просто прошел бы это расстояние по прямой дорожке. По пути он обязательно сворачивает несколько раз в какой-нибудь цех, обходит зачем-то вокруг сарая, снова направляется к прежней цели, но вдруг что-то вспоминает и озабоченно делает зигзаг по направлению к лесному складу, из которого не выходит в дверь, а укоризнено вылезает в одну из дыр, которыми лесной склад изобилует. И в конце концов он подходит к каменному сараю с противоположной стороны или даже вовсе к нему не подходит, а подходит к Шнейдерову в другом конце двора и кричит:
– Если будет дальше такая никелировка, то я вам спасибо не скажу. Что это вам – кустарная мастерская на еврейском базаре или государственное производство?!
И, наконец, Соломон Борисович оказывается как раз перед вами, а вы ведь только что от него отвернулись.
Соломон Борисович привез в коммуну производственный фон. До Соломона Борисовича, до марша тридцатого года, положение с фоном у нас было очень тяжелое. Специалисты об этом говорили так:
– Нет производственной базы.
И в самом деле, какая могла быть в коммуне производственная база? Было две комнаты, в которых стояли несколько деревообделочных станков, два токарных по металлу, шепинг и револьверный. В этих комнатах насилу помещалось десятка два коммунаров и никак не оставалось места для материалов и фабрикатов. На всю производственную базу было два инструктора, которые большей частью занимались составлением учебных программ. При таком положении с производственной базой коммунары хоть и работали в мастерских и даже кое-что выпускали на рынок, но больше сидели в долгах и в постоянных конфликтах с заказчиками. Размах наш в то время не достигал 10 тысяч в год. Коммуна никогда не состояла на государственном, или местном бюджете. Сотрудники ГПУ Украины, построившие наш дом, принуждены были и в дальнейшем отчислять от своего жалованья 2–3 процента для того, чтобы коммунары могли жить, питаться и одеваться. Правда, и в то время забота чекистов была достаточна, чтобы мы не испытывали особенной бедности. Коммунарский коллектив был всегда весел и полон надежд, всегда у коммунаров была хорошая дисциплина, и мы не переживали никаких страданий. Но двухлетняя совершенно безнадежная борьба за производственную базу, постоянные убытки и неприятности, вечная смена инструкторов, заведующих производством и производственных установок издергали нам нервы.
Все мы понимали, что на наших случайно собранных станках в двух комнатах никогда не родится производственная база.
К нам часто приезжали комиссии из разных специалистов, составляли планы более рациональной расстановки станков, обещали рекомендовать хорошего инструктора, при отъезде сочувствовали:
– Нельзя без оборотного капитала. Нужно не меньше десяти тысяч оборотного капитала.
Вновь назначенные старички завпроизводством привозили к нам в портфель дощечки для настольных зеркал и говорили:
– Будем выпускать вот эту продукцию – дело не трудное, и на рынке есть спрос.
– Что, зеркала? – удивленно спрашивали коммунары.
– Нет, зачем же зеркала, вот досточки…
Мы уже совсем потеряли надежду выбраться на производственную дорогу. И в этот самый момент появился на горизонте Соломон Борисович…
Горизонт тогда помещался приблизительно на линии нашего Правления в ГПУ УССР. Соломон Борисович пришел в Правление, показал короткий доклад с приложением калькуляции и сказал:
– Я там был, в коммуне, такие хорошие мальчики, очень хотят разработать, почему им не делать замки?
– Замки? Почему именно замки?
– Разве я сказал, что нужно обязательно замки? Можно делать и что-нибудь другое. Нужно что-нибудь делать и продавать государственным организациям. Зачем давать деньги коммунарам, когда они могут давать деньги Правлению.
– Как это?
– А вот видите – калькуляция? Вы же видите, что здесь показано сто тысяч рублей чистой прибыли?
Соломона Борисовича просили зайти вечерком. Вечером в заседании Правления, где были я и два коммунара, и родился Соломон Борисович послереволюционный, не имеющий предков и прошлого.
Калькуляция Соломона Борисовича не вызывала у нас доверия, но нам понравилась глубокая уверенность в возможности нашего производственного оздоровления.
– На чем же будем делать замки?
– Не замки, а французские замки. Важно, чтобы вы решили их делать, а потом вы дадите мне командировку в Киев, и я привезу вам станки и все оборудование по последнему достижению техники.
– Почему в Киев?
– В Киеве меня всякая собака знает, а здесь меня никто не знает.
– Но… видите ли, у нас нет денег ни на станки, ни для оборотного капитала…
– Если бы у вас был оборотный капитал, чего бы я к вам приходил? Разве приятно человеку, когда его выгоняют через двери и через порог? Но нельзя же спокойно смотреть на такое дело: это – детское учреждение, налогов не платит, все для мальчиков, а не делается никакого дела… Нам не нужно денег, нам нужно работать, а когда люди работают, у них бывает много денег, и у нас будут. А какая у мальчиков будет квалификация, ах! Токаря, слесаря, никелировщики, сборщики…
В Правлении разрешили Соломону Борисовичу съездить в Киев и использовать знакомых «собак» для приобретения в кредит оборудования и материалов. Список всего этого Соломон Борисович прочитал нам с совершенно артистической дикцией. Для коммунарского уха музыкой были такие нерифмованные строки:
Это целое богатство после наших двух токарных и шепинга. Мы возвратились домой, во всяком случае, в приподнятом настроении, однако наш доклад в совете командиров встретили с недоверием:
– Замки? Буза какая-то…
– Замки, наверное, такие будут, что только собачники запирать.
– Это вроде как тот чудак приехал: досточки для зеркал, на рынке сейчас спрос!
– А черт с ним, пускай хоть станки привезет, а там видно будет. Только зачем столько токарных станков, что ж замки на токарных будем делать?
Через три недели в коммуну влетел Соломон Борисович, оживленный и по-прежнему уверенный в себе. В моем кабинете в окружении всего коммунарского актива он разложил на столе какие-то блестящие штучки и сказал:
– Вот! Мы будем делать не французские замки, а кроватные углы, имейте в виду, мы их сами будем никелировать, а спрос? С руками оторвут…
Начало тридцатого года было до краев напихано непривычными для коммунаров событиями. Соломон Борисович с четырех часов утра убегал в город и потом в течение целого дня свозил в коммуну разные вещи… Сначала были привезены Шнейдеров, Свет, Ганкевич, Островский и два Каневских. Для них в коммуне не было свободных помещений, и Соломон Борисович сказал:
– Ничего, они поживут у меня, пока жена приедет…
– Но ведь у вас только одна комната…
– Это ничего, не пропадать же людям… Ах, вот вы узнаете, какие это мастера…
Вслед за мастерами начали прибывать станки. Их свозили к нам во двор крестьянские подводы и сваливали у дверей нашего столярного цеха. По некоторым признакам можно было догадаться, что это токарные станки, мастер Шевченко смог даже определить их возраст:
– Эти станки, хлопцы, старше меня с вами. Им лет по семьдесят.
Вместе со станками был привезен и знаменитый литейный барабан, составивший эпоху в истории коммуны имени Дзержинского. Наконец, два грузовика высыпали посреди нашего двора целую кучу чрезвычайно странных вещей: между различными решеточками, обрезками, пластинками, подсвечниками, шайбочками торчали церковные кресты, исконные ризы и даже венчальные короны, в которых наши пацаны несколько дней гуляли по коммуне, вызывая осуждение Соломона Борисовича:
– Вам все играться… Это же не игрушки, это медь, вы думаете, мне легко было достать это в Киеве?
Прибыл из Киева и вагон глины и несколько возов железных рамок. Все это увенчивалось множеством всякого лома, назначение которого было покрыто мраком неизвестности. Была здесь между прочим и небольшая железная бочка, но с одним только колесом – она, кажется, и до сих пор где-то валяется в коммуне, никуда ее не пристроил Соломон Борисович, хотя и говорил мне:
– Это же дорогая вещь!.. Попробуйте сделать такую бочку!..
Соломон Борисович не был сторонником строго письма – фон наносился на полотно широкими мазками, и иногда даже трудно было разобрать отдельные его подробности. В течение двух недель мастера Соломона Борисовича перетаскивали и устанавливали на новых местах различные приспособления. Соломон Борисович одобрительно отнесся к нашей столярной и швейной, и вообще он не был склонен к пессимизму и придирчивости:
– Столярная? Разве это плохо?
– Вы еще не знаете, что можно делать в швейной мастерской? Можно делать трусики, не нужно никаких платьев, трусики всем нужны, и каждый может их купить.
Все это богатство трудно было разместить в наших производственных помещениях, и по этому вопросу Соломону Борисовичу пришлось часто ссориться с советом командиров, но он оказался большим мастером находить уголки, щели и закоулки, которые через два-три дня называл уже цехами и обставлял привезенным из Киева оборудованием.
Две комнаты в главном доме, от природы назначенные под производство, он занял деревообделочной мастерской, в красном кирпичном доме расположил токарные по металлу, подвесив к шаткому потолку длинную трансмиссию. Рядом пристроил небольшой деревянный сарайчик – это литейная. В подвальном помещении он разыскал три вентиляционные камеры и, убедив всех, что у нас и без того воздух хороший, организовал в них никелировочный и шлифовальный цехи, перепутав их привезенными из Киева эксгаустерами, целой системой труб длиной в несколько метров. Эта сложная система, впрочем, с первого дня отказалась вытягивать опилки и пыль, как было ей положено по должности.
В один прекрасный день зашумел барабан в литейной, и желтый тяжелый дым повалил из низенькой жестяной трубы, полез в окна классов и спален, квартир служащих. Мы закашляли и зачихали, кто-то выругался, старушки в квартирах потеряли сознание на десять минут, коммунары хохотали и вертели головами в знак восхищения:
– Вот это так химия!..
В это время в коммуне уже работал доктор Вершнев, один из лицедеев горьковской истории, получивший медобразование с нашей помощью, наш общий корешок, именуемый обычно Колькой.
Колька Вершнев в ужасе хватал термометр и тыкал его литейщикам под мышку, что-то штудировал в словаре о литейной лихорадке. Но Соломон Борисович был весел и доволен:
– У вас что, санаторий или производство? Скажите, пожайлуста, – вредно для здоровья. Поезжайте в Ялту и кушайте виноград – тогда будет полезно для здоровья, а всякое производство для здоровья вредно. Никто не умер?
– Не умер, так заболеет.
– Ну, когда заболеет, тогда будем говорить.
Два Каневских, Шнейдеров, Свет и Ганкевич летали по коммуне, развевая полами пиджаков, кричали в кладовых, распоряжались в цехах, доказывали Соломону Борисовичу, что они больше его понимают, иногда вступали с ним в настоящую перебранку и в таких случаях переходили даже на еврейский язык. После этого Соломон Борисович прибегал ко мне и кричал:
– Разве с этим барахлом можно работать? Они привыкли к своей кустарной мастерской и никак не могут понять, что такое большое производство…
– Надо выгнать…
– Выгнать! Легко сказать… А с кем я буду работать… А как же я их выгоню, если станки ихние, барабан ихний, даже медь ихняя?
Коммунары сначала не очень ссорились с Соломоном Борисовичем, только смеялись много. Все же много внес Соломон Борисович нового в коммуну: всем нашлось место у станка, всех захватили наполненная материалом и фабрикатом работа, понравилось, что коммунары получают зарплату.
Отряды коммунаров: машинистов, сборщиков, формовщиков, токарей, никелировщиков, шлифовальщиков – в две смены проходили рабочий день, вечером на собраниях осторожно говорили о недостатках и пустых местах, но на другой день убегали в цехи и радостно ныряли в волнах непривычных предметов и терминов: опока, суппорт, оправка, анод, катод, шкив, вагранка…
Еще в самый первый день, как только Соломон Борисович положил на мой стол никелированный кроватный угол, его спросили в совете командиров?
– А на Крым заработаем?
– А сколько вам нужно на Крым?
– Пять тысяч, – с трудом выдохнул кто-то…
– Так это же пустяки, – сказал Соломон Борисович. – Пять тысяч, разве это деньги?
Кто-то отвернул листки моего настолько календаря и сказал Соломону Борисовичу:
– Напишите, вот – первого июля: «Даю пять тысяч на Крым».
– Хе-хе… давайте и напишу…
– Нет, вы и распишитесь…
Коммунары долго собирались в Крым… Это было венцом нашего трудового года, это было непривычно восхитительно – всей коммуной в Крым. Ежедневно к моему столу на переменах и вечером подходили коммунары и перелистывали мой календарь, чтоб не прочитать, а полюбоваться надписью красным карандашом…
С трудом собрал Соломон Борисович пять тысяч… Это было первое наше достижение, достаточно нас восхитившее…
А теперь рабфак бросил наши ряды на неожиданно заблестевшие просторы. Кроватный угол, меднолитейный дым и мастера Соломона Борисовича шли рядом с нами на каком-то фланге, уже явно отставая от нашего движения.
4 Арифметическая поэзия
Осень тридцатого года мы начали бодро. Коммунарские дни звенели смехом, как и раньше, в коммуне все было привинчено, прилажено, все блестело и тоже смеялось. Подтянутые, умытые, причесанные коммунары, как и раньше, умели с мальчишеской грацией складывать из напряженных трудовых дней просторные, светлые и радостные пятидневки и месяцы. Напористые, удачливые и ловкие командиры вели наш коллектив к каким-то несомненным ценностям, а когда командиры сдавали, общее собрание коммунаров двумя ехидными репликами вливало в них новую энергию, энергию высокого качества.
Коммуна жила во дворце, не будем греха таить. Дворец блестел паркетом, зеркалами, высокими, пронизанными солнцем комнатами, а наши лестничные клетки были похожи на «царство будущего» в «Синей птице» Художественного театра. Дворцом этим нам кололи глаза наробразовские диогены[315]. По утверждению завистливых педагогов, мы были богаты, но наше богатство только и заключалось в одном этом доме. Вокруг него расположился Соломон Борисович со своим производством, и общий вид напоминал старую Москву на картинах Рериха. А вместе с тем мы были бедны, просто бедны, гораздо беднее даже Наробраза.
Здесь нужны цифры. Старая эстетика запрещала в художественном произведении цифры. Вот странно, почему? Цифры – это замечательно художественная вещь. В какой-нибудь такой двузначной или пятизначной штуке заключается больше поэзии, чем в целой дивизии пастушков и пастушек, чем во всем семействе Лариных. Разве это не поэтично, слушайте…
Для того, чтобы жить «по-человечески», нашей коммуне нужно было в месяц тратить шесть тысяч рублей, сотрудники ГПУ отчисляли из своего жалованья на содержание коммуны до лета тридцатого года некоторую сумму. С появлением у нас текущего счета, с появлением зарплаты и прибылей коммунары поблагодарили чекистов за помощь и просили их прекратить дотации. Соломон Борисович хотя и обещал нам богатство, но к осени 1930 года, кое-как выполнив свое обязательство относительно пяти тысяч на крымский поход, он вконец выдохся. Постройка всех его сооружений, запасы материалов и инструментов требовали много денег, а выпуск продукции его цехов был в то время еще невелик. Соломон Борисович производил операции, по гениальности неповторимые, могущие ввергнуть в зависть даже Наполеона I. Именно в эту эпоху произошло нечто, напоминающее Ваграм[316], с энным институтом. Но гениальные фланговые марши Соломона Борисовича только и позволяли ему держаться на производственном фронте, для коммуны же не приносили облегчения. Огромные авансы, полученные Соломоном Борисовичем в результате его стратегии, все были вложены в дело, все обратилось в основной и оборотный капитал. Двести тысяч рублей, однажды задержавшиеся на текущем счету, вдруг исчезли, как дым, в результате какой-то сложной операции. Уже к нашему горлу прикасались лезвия ножей нетерпеливых заказчиков, доверивших нам свои капиталы, а свободных денег у нас все еще не было.
Совет командиров после многих дум и наморщенных лбов, после многократных упражнений в решении ребусов, в которых участвовали изодранные ботинки, недостаток белья, плохие шинели и даже слабоватый стол, нашел было основание приступить к Соломону Борисовичу с иском:
– Занимает швейная класс – платите, яблоки оборвали ваши рабочие, когда мы были в Крыму, – платите, подвал заняли под никелировочную – платите…
Соломон Борисович презрительно выпячивал губы и говорил:
– Скажите пожайлуста, я им должен платить! Вы же хозяева, зачем я буду платить? Сделайте постановление, чтобы вам отдать всю кассу, и покупайте себе ботинки и шелковые чулки. А если остановится цех, тогда вы все закричите на общем собрании: «Куда смотрит Соломон Борисович?» Потерпите немножко, будете иметь деньги, вот…
Соломон Борисович с трудом поднял руку выше головы, и это понравилось коммунарам. Командир первого отряда Волчок улыбнулся, глядя в окно на золотую осень, и сказал:
– Да мы эту бузу затеяли шутя, какие там мы кассы будем брать. А вот плохо, что даже на нотную бумагу денег нет…
Волчок – командир оркестра и смотрит с музыкальной колокольни. Командир двенадцатого Конисевич более беспристрастен:
– Ничего страшного нет, терпеть нам не надо учиться, а нужно вот прибрать к рукам кое-кого из коммунаров. А то у нас есть такие, как Корниенко, так ему, гаду, ничего не нужно, а только чтобы пожрать.
В совете командиров насчитали несколько человек, страдающих излишней приверженностью к земным благам.
– Не только Корниенко, Корниенко – это уже известно, это разве коммунар, грак всегда был граком…
Граками в коммуне называют людей чрезвычайно сложного состава. Грак – это человек прежде всего деревенский, не умеющий ни сказать, ни повернуться, грубый с товарищами и вообще первобытный. Но в понятие грака входило и начало личной жадности, зависти, чревоугодия, а кроме того, грак еще и внешним образом несимпатичен: немного жирный, немного заспанный…
– Не только Корниенко, а возьмите Гарбузова. Дай ему три порции, сожрет и еще оглядывается, может, и четвертую дадут.
– Э, нет, Гарбузова не равняйте с Корниенко. Ну что же, аппетит такой, за аппетит нельзя обвинять человека, за то он и на производстве другому не уступит…
Гарбузова обвиняли в других грехах. У этого человека шестнадцати лет была привычка брать кого-нибудь за плечи и пытаться повалить на землю. Сам он неловкий, тяжелый, с туповатым лицом, мог рассчитывать только на свою силу, но обычно бывало, что сила его не могла устоять против ловкости коммунаров, и Гарбузов всегда заканчивал тем, что его ноги взлетали вверх и опускались на самые неподходящие места: стены, столы, стулья, шкафы. Поэтому спина Гарбузова всегда испачкана, костюм всегда в беспорядке, а окружающие его предметы всегда изломаны и побиты. На общих собраниях неизменно отмеченный в рапорте Гарбузов выходил на середину и безнадежным жестом старался вправить в штаны рубаху, а штаны кое-как зацепить за неловкую, негнущуюся лошадиную талию.
Гарбузова упрекали, не жалея выражения и гнева:
– Когда, наконец, он сделается коммунаром? Ничего ему не жалко, где ни пройдет, все к черту летит. Его нужно в упаковке водить по коммуне.
– И упаковка не поможет… человек не понимает. Слова никакого не понимает… что же, тебе обязательно бубну нужно выбить, чтобы ты понял? После тебя нужно всё ремонтировать и поправлять, а ведь знаешь, что у нас сейчас и копейки лишней нету. В командировку идешь, и то на трамвай нет десяти копеек.
Гарбузов тяжело поворачивается в сторону оратора и улыбается виновато красивыми карими глазами.
– Да что же вы пристали, – говорит он грубоватым, обиженно-беспризорным голосом. – Вот уже сказал… ремонтировать из-за меня… и без меня ремонтировали бы…
Ораторы махали на него руками… Но его в коммуне любили за хороший, покладистый характер, за прекрасную работу токаря, за замечательный аппетит. В школе он тянулся изо всех сил и подавал надежды. Это, конечно, не Корниенко.
Корниенко в своем роде единственный в коммуне. Бывали и еще ребята, способные изобразить страдающего, но до Корниенко им далеко.
Только он мог с настоящим вкусом на вопрос председателя: «Какие еще есть вопросы у коммунаров?» – солидно откашлявшись и открыто неприязненно повернувшись к начхозу, спросить:
– А когда нам будут давать новые ботинки?
Из каких-то детских домов он принес вот это самое третье лицо: «будут давать», вызывающее насмешку коммунаров.
– Видали беспризорного? Ему будут давать. Сколько человек?
– А шо ж… А как по-вашему: подметок нет и верха нет, а спросишь Степана Акимовича, так у него один ответ: а ты заработал? Конешно ж, заработал…
В зале шум улыбок и нетерпения. Всем нужно положить на обе лопатки этого грака.
– Ты еще что придумай! Тебе ничего не понятно! Может, просить пойдем на улицу? Или с производства возьмем? Потерпишь, не большой барин.
– А производство разве его? Какое ему дело до производства!
– Производство казенное…
– И коммуна казенная.
Сопин в таких случаях нарушает все законы демократии и общих собраний. Он сначала протягивает к Корниенко кулак, а потом и сам выходит, выходит почти на середину… Слов он не может найти от возмущения и презрения…
– Вот… вот… вот же… понимаешь, вот ей-ей я его сейчас отлуплю…
Зал заливается – Сопин вдвое меньше Корниенко. Смущенно улыбается и Сопин.
– Ну, чего смеетесь, а что ж тут делать?.. Вы ж понимаете…
Общий хохот покрывает его последние слова. Корниенко густо краснеет…
Общее собрание расходилось с хохотом и шутками. Сопина окружала толпа любителей. Многие любили смотреть, как он «парится».
Уходил с собрания и я со сложным чувством восторга перед коммунарами и беспомощности перед их нуждой.
Дело, видите ли, в том, что коммунары уходили с собрания почти голодные. Сплошь и рядом у нас было так мало пищи, что даже самые неутомимые шутники и зубоскалы туже затягивали пояса и старались больше налечь на работу.
– За работой не так есть хочется.
Наши обеды и ужины на глаз были недостаточны для трудящегося человека, а если этот человек еще учится, да еще и растет, и на коньках катается, то совсем плохо. Только обилие в наших полях свежего воздуха да запасы крымские кое-как поддерживали нас на поверхности. Но многие коммунары уже начинали бледнеть, худеть и уставать на производстве.
Это было время неприятное для педагога и еще неприятнее для заведующего коммуной. У нас по неделям не бывало ни копейки…
Служащим тоже задерживали жалованье, и бывали дни, когда и одолжить рубль в коммуне было невозможно.
Капиталы Соломона Борисовича выражались не в рублях, а в кубометрах, тоннах и полуфабрикатах.
Однажды с большим трудом я раздобыл пятьдесят рублей, до зарезу нужных, чтобы завтра оплатить какой-то крайний счет. Возвратился я в коммуну из города и нарвался на неприятность. Временная фельдшерица встретила меня кислым сообщением:
– А у нас Коломийцев заболел…
Фельдшерица в панике показывала мне термометр.
– Сорок… понимаете…
Куда-то позвонили, через час приехал доктор, молодой и нерешительный. Он тоже заразился паникой:
– Надо немедленно отправить в больницу… Знаете, сорок это все-таки… Вы мне дайте мальчика какого-нибудь, пусть он со мной проедет в город, мы устроим место в больнице, а там вы как-нибудь его отправите…
– В больницу? А может, подождать, знаете, в больнице уход…
– Нет, нет, я не могу отвечать…
Сергей Фролов поехал с доктором в город на его извозчике, а перед отъездом я заплатил этому извозчику шесть рублей, и Вася Камардинов, возвращаясь со мной к парадному входу, улыбаясь и грустно глядя на меня, сказал:
– Вот еще, болеть начинают… Шесть рублей – это деньги… А отчего вы не поторговались?
За всякой работой у себя в кабинете я уже было успокоился, а тут же в кабинете Ленька Алексюк смотрит в окно на дорогу и подымается вдруг на цыпочки:
– О, кто-то едет на машине!..
Кто же может ездить на машине в коммуну? Гости или начальство… Но Ленька кричит удивленно:
– О, смотри, Сережка приехал… на такси приехал…
Смотрю и я в окошко: действительно, Сергей Фролов дает какие-то распоряжения шоферу. Я сразу догадался – Фролов такси нанял, наверное, доктор дал хороший совет…
Сережка вошел в кабинет румяный и довольный…
– Место есть, я привел такси, доктор говорит, недорого и спокойно… А я думал, что на нашей линейке плохо…
– Ну что ж? Иди к фельдшерице… такси… Если так будем болеть, то и жрать скоро нечего будет…
Сережка серьезно сказал:
– Есть.
И удалился.
Через три минуты в рамке той же двери стоит белобрысая, веснушчатая фельдшерица и улыбается радостно:
– А знаете, больной выздоровел…
– Как выздоровел? А температура?
– Температура сейчас почти нормальная…
– А чтоб вас!
Перепуганная фельдшерица уселась на стул и рот открыла от оскорбления… Я даже воротник рубашки расстегнул от обиды.
– Ну, все равно, везите в больницу.
Фельдшерица в недоумении раскрыла глаза и смотрит на меня, как на удава, оторваться не может.
– Так он же здоров…
Каюсь, я потерял всякое уважение к женщине, закричал на нее, загремел стулом:
– Наплевать! Здоров! Все равно везите, черт вас там разберет, здоров или болен. Сейчас у него нормальная, а через час опять температура… Что у меня, наркомфин? Такси будет для вашего удовольствия писать мне счета?
Фельдшерица больше не сидит на стуле и не торчит в рамке двери, она исчезла.
Вышел я на крыльцо. Стоит такси, и ребята с восторгом наблюдают, как «цокают» пятачки за простой машины.
– Ступай, скажи там, чтоб не копались.
Вышел Коломийцев Алешка, веселый и аккуратный. Веселый потому, что такое приятное событие: на такси поедет… Залезла фельдшерица в такси, а за ней юркнул и Алешка и заулыбался в окно:
Я достал из кармана деньги:
– Сколько?
Заплатил двенадцать рублей. Алешка возвратился из города пешком.
5 Дело при Ваграме и другие дела
Производство Соломона Борисовича было фоном не в переносном смысле, а настоящим физическим фоном. Наш прекрасный дом-дворец глядел на поле, чистенькое, просторное поле. За полем был Харьков. Таким образом, выходило, что публика рассматривает нас из Харькова прямо в упор, и ясно, что на первом плане для нее рисовался наш фасад со всеми коммунами. В представлении этой публики фон должен помещаться на втором плане. Так оно и было. Второй план – это производство Соломона Борисовича, на фоне которого и было все нарисовано. Был еще и третий план. Но поскольку это был обыкновенный молодой лес, следовательно, явление природное, то нам до него никакого дела нет.
Дом наш двухэтажный, серый, изящный и вполне современный. Он покрыт терезитовой штукатркой и на солнце поблескивает искорками. Крыша на доме красной черепицы. Над фронтоном сетчатая большая вывеска, на ней написано золотыми буквами:
«Детская трудовая коммуна имени Ф. Э. Дзержинского».
Перед домом – широкие цветники и упомянутое выше поле. Слева от дома фруктовый сад с дорожками, усыпанными песком, а посреди сада небольшая деревянная эстрада для оркестра. Еще дальше влево площадка для лагерей, а еще дальше пустая природа – поле и заворачивающий в обход нашего правого фланга лес, отрезывающий нас от белгородского шоссе на Харьков.
Дайте вашу руку, любезный читатель, и проникнем в промежуток между нашим дворцом и кирпичным домом Соломона Борисовича. Пройдем этот промежуток и остановимся. Вы поражены, вы восхищены, вы подавлены. Это потому, что вы увидели производство Соломона Борисовича во всем его великолепии.
Картина, прежде всего, неимоверно сложная. Коммунарка Брыженко, прибывшая к нам из Кобеляк, стоя на этом самом наблюдательном посту, долго разглядывала пораженными серыми очами эту картину и, наконец, кончила тем, что не нашла ни русского, ни украинского слова для выражения. Она произнесла слово неизвестного нам языка:
– Чортишо!
В производстве Соломона Борисовича не было ни одного кирпичного мазка – все было писано деревянными красками – никаких других красок, например, акварельных или масляных, здесь не было: Соломон Борисович всегда считал, что расход на разные покраски – это фигели-мигели.
Деревянные краски были когда-то свежими, отливающими золотистыми улыбками только что оструганной еще сыроватой, еще пахнущей смолой сосны. Потом они подчинились законам времени, и производство Соломона Борисовича приобрело тона, не встречающиеся в природе, тона, не имеющие никакого отношения к солнечному спектру – не то серые, не то черновато-серые, не то желтовато-серые.
Только построенный в последнюю эпоху сборочный цех, о котором уже упоминалось не раз, был франтоватее и улыбчатее – это была пора его молодости, впрочем рано увядшей.
Сборный цех – это тоже один из героев нашего повествования.
Даже и сейчас, когда мы заканчиваем наш замечательный штурм, он еще стоит на месте, и даже ночью мы о нем не забываем. Только к двадцать пятой главе мы надеемся его разрушить, если его не угораздит сгореть раньше времени.
В предыдущей главе мы упомянули о Ваграме Соломона Борисовича. Не помню, Наполеон I после Ваграма взял с врагов контрибуцию? Соломон Борисович контрибуцию взял и не мог не взять, ибо без контрибуции для Соломона Борисовича не было никакого смысла в Ваграме. Наполеон был такой человек, что не мог удовлетвориться и славой, а для Соломона Борисовича слава – это тоже фигели-мигели.
Сборный цех – это и есть контрибуция после Ваграма.
Соломон Борисович, как и Наполеон, стоял посреди поля, пустого нашего двора, на котором ничего не было выстроено, иначе говоря, не было основного капитала. У Правления не было денег, ни основных, ни оборотных. Единственным выходом для Соломона Борисовича было вести агрессивную политику. Первой жертвой он избрал энный институт.
Читатель, не выносящий кровавых картин, обязательно запротестует: как можно было жить с таким человеком, как можно было допустить повторение наполеоновских ужасов?
Ничего нельзя было поделать, история – она катится по своим рельсам, и никакие силы не могли предотвратить поражения энного института. А кроме того, как и у Наполеона, дело начиналось с дипломатических трюков, и никто не мог предсказать, что оно придет к кровавой развязке. Разница была только в том, что у Наполеона был Талейран, а Соломон Борисович был в единственном лице. Немного виноваты, конечно, и мы: Соломон Борисович, наряженный в дипломатический фрак, не давал никаких оснований для беспокойства, а мы непростительно выпустили из виду, что всякая кровавая история непременно начинается с фрака.
События эти происходили еще до нашего похода в Крым. Находясь без денег и капиталов, Соломон Борисович наткнулся на энный институт, у которого были деньги, но не было аудиторной мебели. Первой нотой Соломона Борисовича было предложение изготовить мебель для энного института. Основанием для избрания именно этой жертвы послужило то обстоятельство, что у энного института не было еще и зданий и мебель не было куда складывать. Поэтому институт искал такую организацию, которая обладала бы складами. Такой организацией оказался Соломон Борисович, хотя у него не только не складов, но и мастерских не было. Во второй ноте ничего не было написано, потому что она была произнесена хриплым голосом Соломона Борисовича, а по содержанию была невинна, как работник соцвоса с десятилетним стажем:
– Вы нам дайте сто пятьдесят тысяч аванса, а мы построим складочные помещения и сложим туда вашу мебель.
Энный институт накинулся на наживку и потребовал только, чтобы в договоре было написано: «Для постройки складочных помещений энный институт выдает коммуне аванс в счет уплаты за мебель сто пятьдесят тысяч рублей». Соломон Борисович на эти деньги накупил материалов – дубовый лес, инструменты, кое-какие станки, наконец, выстроил сборный цех.
Забежим немного вперед: потом, уже в тридцать первом году, когда мебель для энного института была сделана коммунарами, Соломон Борисович послал третью ноту, написанную на бумаге и совершенно недвусмысленную:
«Благоволите немедленно получить вашу мебель, так как складывать в коммуне негде, а за порчу мебели коммуна на себя ответственности не принимает. Если мебель не будет вывезена, мы продадим ее другой организации».
Противник выстрелил из всей своей артиллерии:
«…по договору вам была передана сумма на постройку складочных помещений, следовательно, вы обязаны хранить мебель на своих складах…»
Но что артиллерия? У австрийцев при Ваграме тоже была артиллерия.
Соломон Борисович обошел противника с тыла:
– Скажите, пожайлуста, – договоры, разговоры, строительный институт называется, а не понимает, что написано, а чего не написано… Написано, что вы даете деньги на постройку складочных помещений, а разве написано где-нибудь, что коммуна обязывается строить какие-то там склады? Что такое коммуна? Вы думаете, что это место для сараев энного института? Так вы ошибаетесь. Это образцовое воспитательное учреждение, и как я мог строить какие-то сараи, чтобы они сгорели, а я за них буду отвечать…
Мебель была продана «другим организациям». Второй комплект такой же мебели – тоже «другим организациям», третий – тоже. Соломон Борисович оборудовал мебелью все вузы Харькова, и Тракторный завод, и Наркомздрав, и Институт рационализации…
Энный институт отступил в полном беспорядке, бросив артиллерию. Соломон Борисович въехал в оборотный капитал, увенчанный славой победителя, а маршалы его преследовали деморализованного противника: маршал Лейтес, агент по снабжению и поручениям, предъявил энному институту счет:
«За хранение мебели в течение года следует получить… рублей».
Только в конце 1931 года энный институт получил свою мебель и уплатил за хранение ее сколько полагается. При заключении мирного договора дипломаты этого института спросили:
– Так как же вы получаете за хранение, если у вас негде было хранить и даже сараев не было?
Но дипломатам ответили уже без всякой дипломатии:
– Ваше дело получить мебель и уплатить за хранение, а сараи – это наше дело, может быть, я ее в кармане хранил…
Так окончилась эта победоносная война, принесшая Соломону Борисовичу славу и богатство. И самое главное, был выстроен сборный цех… Строился он во время нашего крымского похода, а крымский поход продолжался ровно месяц.
Сборный цех был длиною больше шестидесяти метров и в ширину не меньше двадцати. Стены его были сделаны из горбылей и засыпаны внутри стружками. Двери были сделаны из дикта и скреплены обрезками деревообделочного производства. Крыша была покрыта толем. Пол был из хорошо выструганных обрезков разного сорта, но не в этом было его главное очарование. Этот пол имел чрезвычайно важное достоинство – его нельзя было обвинить в беспочвенности. А так как почва в коммуне довольно круто спускается к оврагу, то и пол в сборном цехе спускается в том же направлении.
Соломон Борисович не признавал никаких архитектурных тонкостей и считал всегда, что эстетика в производственном цехе – вещь совершенно излишняя. Поэтому весь сборный цех и имел разницу в высоте над уровнем моря в своих концах на несколько метров. Пусть читатель, впрочем, не думает, что это наклонное состояние сборного цеха угрожало жизни коммунаров. Небольшая опасность заключалась в том, что деталь, сорвавшаяся с верстака, могла покатиться вниз к оврагу и за ней придется гоняться. Но Соломон Борисович доказывал, что это предположение просто недиалектично. Ведь сборных цех назначен для работы, а не для пустых прогулок. Поэтому в сборном цехе всегда будет находиться материал, и отдельные части мебели, и готовая мебель, и, наконец, верстаки, и коммунары, вообще много таких вещей, за которые упавшая деталь должна будет зацепиться. И он оказался глубоко прав. Упавшая деталь не только никуда не катилась и не катится, но вообще ей продвинуться довольно трудно в цехе. Да что делать? Человеку и тому пройти из конца в конец пути почти невозможно из-за множества предметов, расположившихся на пути.
Коммунары и приезжие посетители-производственники много насмехались над Соломоном Борисовичем по случаю разных уровней сборного цеха. Соломон Борисович даже иногда сердился и говорил:
– Нужно делать мебель? Аудиторные столы, чертежные столы? Так вам нужно устраивать тут какой-то бильярд, чтобы никто никуда не покатился? Что это за такие разговоры? Мы делаем серьезное дело или мы игрушками играемся? Вам нужны каменные цехи, а деньги у вас есть? Что у вас есть? Может, у вас кирпич есть или железо, а может, есть снаряды на материалы? Так отчего вы не вынимаете их из кармана? Ага! У вас только язык есть? На языке будем собирать мебель? Какие все умные, когда мешают другому работать!..
Печей в цехе не было. Так как коммунары в отпуске были в июле, то и сборный цех строился в июле. Приехали коммунары из отпуска в августе. Кому придет в голову в августе топить? В сборном цехе без отопления можно работать до ноября месяца. Если печи в сборном цехе поставить в июле, то неопытному человеку покажется, что это хорошо. А на самом деле это значит иметь мертвый капитал полторы тысячи рублей в течение четырех-пяти месяцев, ибо печи топиться не будут, никакой пользы от них не будет, а капитал вложи. Соломон Борисович не ставил печей до тех пор, пока коммунары не заговорили на общих собраниях, что в такой температуре работать нельзя. Соломон Борисович попробовал возразить:
– Конечно, когда ты не работаешь, а смотришь на термометр, то тебе холодно. А человеку, который работает, никогда не бывает холодно…
И против воли Соломона Борисовича мы решили поставить несколько утермарковок, оградить их специальными решетками и установить возле них суточное дежурство. Соломон Борисович волосы на себе рвал, но когда печи были поставлены, он даже был доволен – утермарковки были широкие и основательные, и Соломон Борисович использовал эти качества: он прислонял к печам доски, дощечки, царги и прочее добро и таким образом высушивал их, вместо того чтобы топить дорогостоящую сушилку.
Но сборный цех представлял только главную часть картины, кроме него на всем пространстве, расположенном перед зрителем, находилось много других построек. Большинство их было пристроено к сборному цеху с разных сторон. Сначала пристраивалось одно помещение, к нему другое, ко второму третье. Соломон Борисович это делал для того, чтобы не тратить лишних денег на четвертые стены – это давало двадцать пять процентов экономии. По вполне понятным конструктивным законам каждое новое строение воздвигалось немножко ниже ростом, чем материнское. От этого все сооружения здесь располагались, как ягоды в гроздьях винограда, все уменьшаясь и уменьшаясь. Были здания, выстроенные отдельно от сборного цеха, но у них также были дети и внуки и даже правнуки.
По совести говоря, не могу сказать на память, для чего предназначено то или другое сооружение. Был там машинный цех, было помещение для полуфабрикатов, было для готовой мебели, было для обрезков годных, для обрезков негодных, конюшня, какой-то сарай, еще какой-то сарайчик. Была даже кузница. В настоящее время многие из строений разрушены частью от ветров и бурь, частью по причине природной слабости, так как каждый лишний гвоздь представляется Соломону Борисовичу мертвым капиталом.
Мы не имеем намерения преувеличивать заслуги Соломона Борисовича. Часть построек была произведена в порядке личной инициативы его мастерами, привезенными из Киева. Они жили в старых хатенках, оставшихся еще от помещика, но никаких помещений для дров и своего хозяйства не имели. Они по примеру своего вождя избегали расходов на четвертую стену, прилеплялись то с той, то с другой стороны к комбинату Соломона Борисовича, украшая его и придавая ему еще более живописный вид.
В эти постройки нам и вовсе не пришлось заглядывать, кажется, самым последним из них расположилась собачья будка.
Все пространство двора между разными постройками было всегда завалено… Завалено массой, состоящей из очень многих элементов: старых досок, новых досок, стружек, опилок, обрезков, чернозема и глины, рогож, тряпок, ящиков, соломы… попадались и банки от консервов и некоторые другие предметы, не имеющие непосредственного отношения к производству. В значительной мере и в помещениях находилась эта масса, изобретение которой не известно ни автору, ни Соломону Борисовичу, который в совете командиров об этом говорил так:
– Ах, что за народ… вы же знаете, какой народ…
Приблизительно мы нарисовали картину, хронологически следующую за возвращением коммунаров из Крыма и за открытием рабфака. События начали развертываться как раз в это время.
Толчки для событий были разнообразные. Первые колебания почвы были произведены пожарным инспектором, но они не произвели заметного действия, – правда, кузница была выведена из общего производственного фронта и перенесена на площадку впереди кирпичного дома и, значит, впереди всей нашей фасадной линии. Одновременно с этим Соломон Борисович начал что-то пристраивать деревянное и впереди самого красного дома по тому же принципу: долой четвертую стену. Скоро и к кузнице была прилеплена какая-то халабудка. Коммунары это отметили как весьма симптоматическое знамение…
В это самое время в коммуну приехал председатель Правления коммуны, но это было уже в ноябре, пятая глава не имела в виду описывать это событие…
6 В пучине педагогики
Сложное производство Соломона Борисовича отвлекло нас от проблем педагогических. А ребячий коллектив – это прежде всего коллектив, который воспитуется. Следовательно, мы обязаны рассказать, как у нас организуется педагогический процесс и какое место занимают в нем элементы социальные и биологические. Осенью тридцатого года наш коллектив подвергался очень сложным влияниям, которые определили и его поведение в целом и поведение отдельных коммунаров.
Мы были дружны, здоровы, дисциплинированы… но у нас были и недостатки, и несимпатичные характеры, и жили среди нас маленькие дикари, воображающие, что они одиноки и что они враги нашей культуры, Кое-кто топорщился против железных обручей коллектива, но у коллектива не было сомнений – через полгода он перестанет топорщиться и сам при случае сильной рукой придет на помощь этим обручам.
Были у нас и биологические элементы. У наших правоверных соцвосников вошло в моду недавно смешивать биологические элементы с ведьмами и водяными и доказывать, что этой нечисти просто не существует.
Биологические элементы существуют: мы, например, серьезно подозреваем, что у Болотова не все благополучно с биологией.
Болотов – первый коммунар. Еще не закончено наше здание в 1927 году, а он уже сидел в соседнем совхозе и поджидал нашего открытия, привезенный откуда-то с курорта председателем нашего Правления, которому понравился своей беспризорной выдержанностью. Болотову тогда было двенадцать лет, а теперь шестнадцать. С той поры много коммунаров пришло в коммуну, порядочно и вышло. Каждый принес с собой не только вшей и отрепья. У каждого было много и привычек, и рефлексов, довольно непривлекательных, умели ребята и похулиганить и «стырить», если что плохо лежит, умели щегольнуть анархистской логикой по привычной формуле:
– А что ты мне сделаешь?..
Но почти не бывало, чтобы через три-четыре месяца пацан не признал могучего авторитета коллектива и не покорился ему открыто и бесповоротно. Оставались привычки, но не было у них корней, и с ними он первый начинал борьбу.
Один Болотов каким пришел, таким и посейчас выпирается в коллективе, беспокоит его то в том, то в другом месте и всегда стоит как тема в коммуне.
Болтов никогда не крал и не способен украсть, ему как-то это и в голову не приходит, но он пакостник, всегда упорный, терпеливый и изобретательный. В коммуне ему живется хорошо, и он это знает и никогда не уйдет из коммуны, если его не выгонят, но он всегда враждебен коммуне, всегда стоит на дороге. Его не увлекают ни штурмы, ни марши, ни развлечения, он никого не любит, и нет у него товарищей, но он ко всякому лезет с улыбками и усмешками, а где можно, в каком-нибудь темном углу, то и с кулаками. Ущипнуть, толкнуть, испортить пищу, написать скабрезную записку девочке, сочинить и пустить самую мерзкую сплетню – на все это он великий мастер. За четыре года он единственный занялся надписями в уборной, единственный раз и сразу же попался. Он угрюм, хоть и улыбается, умен и развит, много читает и много разговаривает с учителями, но ни к чему у него нет искреннего интереса, ко всему он подходит с каким-то гаденьким планом, мелким и легкомысленным.
Он давно привык подрабатывать на ханжестве и выражении преданности, и даже теперь, когда его все знают и никто ему не верит, он старается понравиться старшим.
Четыре года сварившийся в стальную пружину коллектив дзержинцев бил по этому характеру и… безнадежно. Алеша Землянский, один из замечательных людей, отважный, прямой, честный и всегда просто и искренно пылающий каким-то ароматнейшим человеческим благородством, умеющий видеть насквозь каждого нового пацана, на совете командиров один раз сказал:
– Дайте мне Болотова. Я с ним повожусь.
Сколько было целых отрядов, развалившихся, склочных и неверных, которые отдавались Алеше в работу, которые принимали его несмотря на это с восторгом, всегда эти отряды через месяц уже были впереди и гордились своим командиром. Сколько было пацанов, малость свернувших с коммунарской дороги, и Алеша незаметно для глаза творил с ними чудеса. А с Болотовым ничего не вышло.
В какой-то мере личность свободна в проявлении своих биологических особенностей, в какой-то не свободна. Там, где биологические аппетиты идут против линии коллектива, там начинается борьба.
Плохо это или хорошо, но это должно делаться даже бессознательно – коллектив отталкивает всякое поведение, социально не ценное.
Нам поэтому нет никакого дела до болотовских биологических предрасположений, мы не будем с ними считаться и равняться по ним. Болтов отбрасывается коллективом в каждом моменте, где он является вредителем. Мы ничего не изменим в его биологической структуре, но мы сообщим этой структуре привычку встречать сопротивление в определенных местах. Если эта привычка не достигнет достаточно крепкого выражения, Болотов погибнет во взрослом состоянии – ничего не поделаешь. Но наш путь единственный – упражнение в поведении, и наш коллектив – гимнастический зал для такой гимнастики. Биологические элементы, даже самые несимпатичные, в течение целого дня тренируются, и Болотов вместе со всеми.
При этом мы не склонны придавать так называемому сознанию какое-то особенное, превалирующее значение – сознание не должно предшествовать опыту. Самое упорное натаскивание человека на похвальных мыслях и знаниях – пустое занятие, в лучшем случае получится ханжа или граммофон. Сознание должно прийти в результате опыта, в результате многочисленных социальных упражнений, только тогда оно ценно.
По нашему глубокому убеждению, широко принятое у нас словесное воспитание, то есть бесконечное разглагольствование о разных хороших вещах, без сопровождающей гимнастики поведения, есть самое преступное вредительство. Сознание, не построенное на опыте, хотя и выражается в многословных формах, на деле прежде всего слабосильно, во-вторых, одиноко, не способно творить никакую практику – это то, что для нашего общества наиболее опасно.
Поэтому мы не будем придираться к болотовскому сознанию до тех пор, пока не организуем его опыт.
Как никакое сознание о необходимости чистоты не принесет пользы, если не создана привычка к чистоте и умение ее поддерживать, так невозможно никакое сознание о дисциплине, если не было никогда самой дисциплины.
Приведенное длинное рассуждение имело целью подготовить читателя к восприятию истории нашего коллектива в 1931 году.
Обстановка, в которую иногда попадал наш коллектив, приводила сплошь и рядом к неудобным и даже тяжелым условиям, и тогда биологические элементы становились сильнее, а сила коллектива теряла свою общепризнанную мощность, останавливающую вредные движения в самом их начале.
Таким тяжелым временем оказалась для нас осень 1930 года. Необходимо было пристальное внимание, чтобы заметить, что у нас не все ладно. Мы возвратились из Крыма с бодрым настроением, поздоровевшие и отдохнувшие. Внешним образом в коллективе было все благополучно, как всегда, вставали в шесть часов, убирали коммуну, завтракали и расходились к работе в школу и цехи. В пять часов вечера заканчивали рабочий день и набрасывались на новую работу: политическую, клубную, книжную… Было мало событий, мало потрясений, такие, как Болотов, переварились, так сказать, в порядке плана и никого и не удивляли.
Но уже в это время явно ощущались какие-то неправильности в нашем кровообращении. Рабфак, такой новый и такой увлекательный, еще не сделался привычным, многие коммунары еще не приспособились к положению студентов. Производство Соломона Борисовича, наполненное стандартным трудом с массой материала, тоже как будто увлекало коммунаров. Это была непривычно дельная разрядка энергии, но у многих коммунаров она переживалась как погоня за заработком. Коммунары отмечали появление так называемых хищников, которые приходили в цех за полчаса до сигнала на работу и угрюмо начинали отбрасывать с верстака деталь за деталью, однообразно, механически, упорно, совершенно не интересуясь, что за деталь, какого она выходит качества и что рядом делает товарищ.
Жизнь коммуны катилась, как совершенно налаженный механизм, без хрипов и перебоев, но где-то в воздухе ощущались признаки приближающейся непривычной слабости. Коммунары доверчиво и приветливо встречали меня утром и прощались вечером, но днем и после работы меня все время подмывало узнать, а что делает Петька Романов или Гришка Соколов, а какое самочувствие у Фомичева? Оказывалось, что Петька с Гришкой сидят на крыше, приделывают антенну. Этих антенн в виде разнообразной величины палок, палочек и даже прутиков на крыше стояло видимо-невидимо. К зиме завхоз насчитал их до семидесяти. Они придавали нашей крыше оригинальный вид какого-то странного огорода. В каждой спальне было несколько радиоаппаратов, у многих были дорогие – двухламповые, трехламповые.
Петька Романов к этому времени подрос и стал смелее, выявляя черты будущего боевого работника, но иногда с ним случались истории, приводящие его по-прежнему на середину в общем собрании. Поводом к этому было большей частью вмешательство в личную жизнь того или другого коммунара, выраженное при помощи кулаков или подножки. Петька был драчун по природе – только его двенадцать лет спасали нас от серьезных драм.
Фомичев – теперь уже студент второго курса рабфака – далеко ушел вперед и начал заметно для всех играть в коллективе роль вождя. Только привычка спать до «без четверти поверка» у него осталась, да в оркестре его дела были очень плохи. Коммунары про него говорили:
– Был два раза в оркестре и оба раза ушел только по усиленным просьбам Левшакова (капельмейстера).
Итак, и с Фомичевым все было благополучно; в оркестре его заменил Стреляный, приведший Левшакова в восторг несравненными баритонными способностями.
С кем же было неблагополучно?
Как будто все хорошо. Все работали, все умели отдыхать, и каждый чем-нибудь развлекался – почти у всех были билеты Автодора, и все мечтали о грандиозных выигрышах, во всяком случае, не меньше мотоцикла.
В кружке природников тоже теплилась жизнь. В то время он имел у нас рыбоведческий уклон, тон задавал Гуляев. Гуляев почти не покидал помещения кружка. Сопин объяснял так:
– Боится расстаться с африканским циклозоном, чтобы кто-нибудь не съел циклозона…
Я, наконец, понял, что мне не нравится. Это было явно обозначившееся стремление к личной игре, к обособлению и копанию в своем уголке. Каждый это делал с веселой рожей, что-то напевая, с прекрасным настроением. Не было никакой угрюмости, никакой враждебности к товарищу, но это было все же превалирование личной жизни. Радиозайцы располагались по своим уголкам и наслаждались какими-то звуками, Гуляев по целым часам наблюдал африканского циклозона, в изокружке каждый копался над своей моделью, ничем не связанной с моделями других. В бибкружке просто «кохались» в книжке, зачитывались до одурения и ходили сонные, обращаясь в объекты физкультурных упражнений даже девочек. Миша Борисов, человек серьезный, с лицом средневекового философа, назначенный советом командиров заведовать лыжами и коньками, устроил на верхней площадке черной лестницы отдельное жилище и три раза строил печку, регулярно разрушаемую по постановлению совета командиров.
После чая в пять часов все вдруг куда-то исчезали и проваливались по своим делам, даже таким хорошим, как приготовление уроков. На общее собрание сходились немного неохотно, и по всему было видно – во время собрания мечтали тоже о циклозонах, мотоциклах, пятиламповых приемниках.
Первого октября были перевыборы совета командиров. Результаты показались мне симптоматичными. Старый совет, комплект энергичных, бодрых и ехидных коммунаров, проведших крымский поход и открытие рабфака, ушел почти целиком. На его места пришла новая группа, состоявшая большей частью из так называемых интеллигентов – людей, преданных книге и литературному и драматическому кружкам. Старики-командиры откровенно предоставили командные места представителям демократического принципа. В совет командиров вошли: Шура Агеев, единственный коммунар в очках, «Гарри Ллойд», в самом деле похожий на этого артиста, председатель литкружка и поэт Ваня Григорьев – первый любовник, на самом деле отнюдь не склонный к донжуанству, человек, в свои шестнадцать лет впитавший уже какую-то житейскую мудрость, немного вялый, но всегда приветливый и вежливый. Стреляный – человек, играющий на баритоне и, кроме баритона, пока что не признающий иных ценностей.
Шмигалев – страстный и неудачный футболист, всей своей недлинной жизнью доказавший страшный вред физкультуры, ибо всегда ходил с какой-нибудь перевязкой – то на голове, то на руке, то на ноге. Борисов Миша, о котором уже говорилось по поводу печей…
Каплуновский – единственный коммунар, употреблявший тогда бритву, будущий инженер, добросовестный и точный, преданный науке и книжке. Вехова Женя – самая горластая девочка в коммуне, но употребляющая свой голос исключительно в борьбе с преобладающим влиянием хлопцев. Миша Долинный самый сильный, самый добрый и самый покладистый коммунар, тип славянского богатыря в мирное время.
Увенчал эту группу секретарь совета командиров Дорошенко, при выборах которого всем было ясно, что выбирают его специально для того, чтобы было спокойнее. Вася Дорошенко – прекрасный формовщик, но не ему было суждено формовать коммуну имени Дзержинского.
Всякое явление он сопровождал несколько запоздалым вздохом удивления – как это так вышло, что оно случилось! Провалы в дисциплине вызывали у Васи пассивное страдание и тоже удивление:
– Ну, смотри ты!.. Ну, кто ж мог такое подумать?
Демократический состав совета командиров позволил зато восстановить пацанью власть в их отрядах. Никому не пришло в голову проследить за соблюдением старой конвенции, по которой у пацанов командиры были старшие. Неожиданно в одиннадцатом и двенадцатом отряде оказались на командирских постах Филька и Васька Бородков – сторонники пацаньей автономии. Это были люди убежденные и сильные волей, доктрина пацаньей свободы была ими давно закреплена в борьбе хотя и полной поражений, но славной. Эпоха Дорошенко поэтому сделалась эпохой вольности пацанов, не верящих ни в сон, ни в чох и в глубине души не признающих никаких авторитетов. Изодранные костюмы, испачканные физиономии, поломанная мебель, всякие проявления анархизма сразу омрачили наши дни, и дежурства по коммуне сделались чрезвычайно хлопотливым делом.
Только пятерка дежурных по коммуне сохранила волю и не бросала коммунарский руль. Между ними выделялся Воленко, выдвинувшийся еще до похода на первое место и открыто сейчас перехвативший власть у слабого и вялого секретаря совета командиров.
7 Часы и дни
Воленко в коммуне выдвинулся неожиданно быстро. В двадцать девятом году он был прислан к нам из коллектора в очередном пополнении и пришел к нам пацаном, но и среди этого легкомысленного и радостного племени он сразу выделился своей серьезностью и сдержанностью. На наших глазах он стал быстро расти.
Такие случаи у нас бывают часто. Смотришь на такого – совсем ребенок, нельзя дать больше одиннадцати лет, а через два года это уже юноша шестнадцати-семнадцати лет. Коммунары метрики с собою не приносят, не приносят и других документов, вообще к ЗАГСу не имеют никакого отношения. Через месяц после прихода в коммуну они часто меняют фамилию, это у нас делается тоже без ЗАГСа, совет командиров достаточно для этого авторитетен, а самое дело тоже совершенно ясное:
– Моя настоящая фамилия не Баранов, а Лазарев – на «воле» переменил…
И совет командиров в приказе по коммуне объявляет: считать Баранова Лазаревым.
«Воля» дается пацанам нелегко; она подменяет у них не только фамилии: румянец юности, блестящие глаза, выражение спокойной человеческой мысли, искренняя и прелестная игра детского лица – все это тоже подменяется изможденной маской запущенного и озлобленного звереныша. Внешний вид беспризорного, приходящего в коммуну, очень плох, неприятны и непривычны для культурного глаза и его социальные ухватки.
Но и то, и другое, как легкая корочка, очень быстро отмывается в здоровом коллективе.
Иногда такого «изверга» нужно только постричь, искупать и переодеть для того, чтобы от корки не осталось никаких воспоминаний и перед вами оказался прелестный ребенок.
Два-три месяца хорошего питания, и уже блестят глаза и играет румянец.
И жизнь на улице, и предшествующая неудачная семейная биография очень отражается на росте. Поэтому приходящие в коммуну пополнения почти всегда малорослы. И так же точно, как оживляется остальное, оживает и рост. Не успеешь оглянуться, уже пацана нужно переводить в строю из четвертого взвода в третий, а через год он украшает уже первую шеренгу.
Воленко был одним из таких восстановленных коммуной юношей. Вытягиваясь вверх физически, он так же быстро восстанавливался и социально. Уже зимой тридцатого года он составлял одно из самых главных звеньев коммунарского самоуправления. Ему в это время было не больше шестнадцати лет, и по возрасту он кое-кому уступал, но выгодно выделялся из всего коллектива своей серьезностью. Умное и деловое выражение его лица замечательно выгодно подчеркивалось тем, что он был красив, строен и вежлив. Его черные локоны были всегда коротко подстрижены, он всегда причесан, подтянут, вычищен и собран. И так как он был лучшим токарем в коммуне, так как он всегда активно высказывался на производственных совещаниях, никто не ставил ему в вину внешнюю вылощенность и несколько подчеркнутую интеллигентность его вида. Он и в цехе в спецовке мог быть образцом аккуратности и прилежности. В этом отношении ему очень многие подражали, а в качестве дежурного по коммуне он и в порядке официального нажима добивался подражания.
По отношению к коллективу коммунаров он вел несколько двойную игру: с одной стороны, он был требователен и настойчив, с другой – всегда выступал против слишком суровых взысканий, накладываемых общим собранием, и был присяжным защитником наиболее разболтанных и недисциплинированных коммунаров. Это создавало ему большую популярность среди отсталых элементов в коммуне и несколько настраивало против него весь коммунарский актив. Старшие коммунары немного недолюбливали Воленко за его гордый вид и излишнюю вежливость, истолковывая эти качества как напускную таинственность.
Что-то тайное действительно носил с собой Воленко по коммуне. Был он когда-то смертельно оскорблен, не мог забыть этого оскорбления, был поэтому недоверчив и сдержан. Мы знали, что в Ташкенте живет его мать, от которой он иногда получал письма, но он ни с кем не делился никакими воспоминаниями. Какая история выбила его из материнских объятий, никто в коммуне не знал.
Непонятным было и его отношение к комсомолу. Он бывал на всех комсомольских собраниях, часто брал слово и высказывался, как всегда, очень серьезно и дельно, всегда блистал знанием коммунарских традиций и коммунарских законов и всегда был по обыкновению прав, но не вступал в комсомол и не подавал никакой надежды на вступление.
Комсомольцы проводили его регулярно в органы самоуправления и поручали ему самые ответственные посты в коммуне, но в общем держались по отношению к нему с некоторым предубеждением.
Осенью тридцатого года Воленко один из немногих вел открытую и настойчивую политику сбережения коллектива. Он упрекал коммунаров на общих собраниях в обособлении, преследовал пацанов за всякие проказы, работал в клубном совете и много делал в развитии кружковой работы. Он сознательно делал большое и полезное дело, в ценности которого у него сомнений как будто не было. С открытием рабфака он попал на второй курс и шел в нем одним из первых.
И как раз на Воленко упали первые удары судьбы, вздумавшей бить по коммуне имени Дзержинского. О, нет, мы не верим ни в какую судьбу. Но слово такое удобное, оно прекрасно итожит невидимые и непонятные с первого взгляда предрасположения.
В жизни нашего коллектива в то время были неизбежны заболевания, но об этом можно с уверенностью говорить только теперь, а тогда немногим из нас было понятно, что мы не совсем здоровы.
…
8 Чудеса техники
…
Коммунары смотрели на Соломона Борисовича, как на музейный экспонат, и спрашивали:
– А как делают хорошие хозяева?
Во время таких мирных разговоров Соломон Борисович умел иногда отбросить брюзжащий тон скупого и обиженного человека и делался мудрым и проникновенным проповедником. Его массивная фигура в эти моменты прочно укоренялась на пьедестале какой-то незнакомой для нас философии, глаза и прочие приспособления на его голове приобретали тоже более крепкую установку. Это несколько противоречило его невысокому росту, но не мешало ему говорить с таким же приблизительно выражением, с каким львы и тигры разговаривали с ягнятами и телятами в эдеме.
– Хороший хозяин должен иметь в банке сто тысяч рублей, не меньше. Нет у вас ста тысяч рублей, вы себе сидите тихо…
– А сколько сейчас в банке?
Но Соломон Борисович терпеть не мог выдавать секреты госбанка:
– Ну, сколько там, сколько там… – передразнивал он коммунаров. Сколько там в банке… Чепуха… Вам если сказать пять тысяч, десять тысяч, так вы сейчас же: давайте их сюда – мы себе новые спецовки пошьем…
Коснувшись спецовок, Соломон Борисович совершил неосторожность. Это было больное место у коммунаров, ибо ни в каком другом месте так не просвечивала их душа, как в вопросе о спецовках. А часто вместе с душой просвечивало и белое коммунарское тело.
– А как же, – кричали коммунары на присмиревшего Соломона Борисовича. – Что это, спецовки? Да, спецовки?
Представители младшего поколения при этом обязательно задирали ноги и показывали Соломону Борисовичу нижние части брючных клешей или тыкали ему в живот истрепанные и промасленные рукава.
Спецовка – это костюм из самой дешевой материи, которую только способен был придумать гений Соломона Борисовича. Соломон Борисович нежно именовал эту материю – «рубчик». «Рубчик» был мало приспособлен к роли, навязываемой ему режиссером. Это была действительно дрянь – жиденькая, прозрачная ткань, не способная ни к какому серьезному делу. В токарном цехе она в первый же день промасливалась до самых глубин своего существа, так как коммунарам Соломон Борисович не выдавал ни тряпок, ни концов и заменял все эти вещи правом вытирать руки о собственный живот и колени. Наступал момент, когда старшее поколение добивалось перемены спецовки, но разве мог Соломон Борисович выбросить пару штанов и рубашку? Отвергнутая старшими спецовка после стирки переходила к пацанам. Пацаны и сами по себе не отличались чрезмерной требовательностью, а, кроме того, спецовка Соломона Борисовича имела и некоторые особые достоинства, реализуемые исключительно пацанами. Рукава рубашек, шитых для старшего поколения, были на полметра длиннее, чем нужно, и это было чрезвычайно удобно. Именно этими излишествами вытирали пацаны свои станки и агрегаты. К сожалению, почти невозможно было использовать с таким же производственным эффектом дополнительные части брюшных колош, и они, сложившись на пацаньих ногах в некоторое подобие гармонии, без пользы увядали на наших глазах.
Но и эта сносная конъюнктура подверглась действию времени: концы рукавов и брюк очень быстро истрепывались, вся спецовка украшалась дырами, и пацаны начинали приобретать определенно кружевной стиль, не соответствующий ни нашей эпохе, ни нашим гигиеническим капризам.
Соломон Борисович, впрочем, был другого мнения.
– Скажите, пожайлуста, – дырочка там… Ну что ты на меня тыкаешь своими рукавами! Длинные – это совсем неплохо. Короткие – это плохо, а длинные, что такое? Возьми и подверни, вот так…
Соломон Борисович собственноручно подвертывает на руках пацанов промасленное кружево рукава, но пацан только хохочет и пищит:
– Э, ой и хитрый же Соломон Борисович!..
Ни пацаны, ни старшие никогда не были склонны к разоружению, и война из-за спецовок то затихала, то вспыхивала, но никогда не прекращалось. Периодически наступал момент, когда на фронте раздавались залпы совета командиров или общего собрания, и тогда сильно страдал Соломон Борисович – шил новую партию спецовок для старших. Старшие ходили в швейную мастерскую и торопили девочек, пацаны с вожделением поглядывали на спецовки старших, а Соломон Борисович страдал:
– Двести пятьдесят метров рубчика, вы подумайте, сколько это стоит?
В такие моменты даже я начинал злобиться на Соломона Борисовича, несмотря на мое постоянное перед ним преклонение:
– Ну как вам не стыдно, сколько стоит двести пятьдесят метров – сто рублей?
Соломон Борисович взрывается оскорблением и болью:
– Двести пятьдесят метров – сто рублей? Как вы дешево привыкли жить… сто рублей. Что же, по-вашему, рубчик стоит по сорок копеек метр?
– Ну, не по сорок, так по сорок пять. Материя дрянь, что она там стоит?
– Дрянь? Я бы хотел иметь этой дряни миллионы метров… Дрянь. Может быть, шить для коммунаров спецовки из чертовой кожи? Или, может быть, из сукна? Так чертова кожа стоит полтора рубля, к вашему сведению…
Сколько стоит сукно, не знал никогда Соломон Борисович, ибо он никогда не имел дела с этой роскошной тканью. Он и сам одевался в костюмы, сшитые из рубчика, а на сукно смотрел с презрением, как Франциск Ассизкий на бутылку шампанского.
Мне становилось жаль Соломона Борисовича, и я продолжал с ним ласково:
– Все-таки нужно не пожалеть ребят. Вы видите, в чем они ходят на работу. И белье у них в масле, и тело. И некрасиво, вы же все это прекрасно понимаете…
Соломон Борисович был всегда склонен к сентиментальности. Он смотрит на меня дружелюбно-понимающим взглядом:
– Чудак вы, разве я что-нибудь говорю? Я же понимаю, и они хорошие мальчики и хорошо работают. Ну, что же, пошьем им спецовки, можно пошить, можно истратить и триста метров рубчика, что, это мое все? Это все ваше, шейте, можно шить…
Он уходит от меня, расстроенный и своей любовью к пацанам и трагической необходимостью тратить деньги и метры. А деньги – это всегда сумма копеек, а каждая копеечка рождается с мучением на производстве Соломона Борисовича.
Глубокая осень тридцатого года. Ни снега, ни мороза. К белгородскому шоссе на Харьков мы добираемся через море грязи, через разъезженное, распаханное подводами поле. Это море разжиженного чернозема плещет о самый цоколь коммуны и блестящими затоками и рукавами разливается между цехами Соломона Борисовича. Только пристальная настойчивость нашего часового у парадного хода не пускает его в наш дом, но в цехах Соломона Борисовича нет часовых, и поэтому в цехах пол покрыт еще свежими морскими отложениями, станки забрызганы и стены измазаны.
В литейном цехе, пристроенном еще летом из ненужных для деревообделочной мастерской материалов, в углу огромной кучей насыпано сырье – старые медные патроны. При помощи каких хитроумных комбинаций доставал это сырье Соломон Борисович, никто не знает. Коммунары отрицательно относились к патронам. По их словам выходило, что парторганы – самое негодное сырье, медь в них плохая, и в каждом патроне кроме меди много еще посторонних примесей – свинец, порох, грязь. Коммунары именно патроны винили в том, что дым, выходящий из трубы литейной, слишком удушлив. Соломон Борисович был другого мнения… Коммунары готовы были примириться с патронами, если бы литейный дым действительно выходил в трубу и отравлял только окрестное население, ибо население держится все-таки ближе к земной поверхности, а дым, даже самый нахальный, все-таки подымается к небесам. В том-то и дело, что дым этот не очень выходил в трубу, а больше пребывал в самой литейной и отравлял самих литейщиков.
Соломон Борисович по этому поводу много перестрадал. Даже ночью его преследовали кошмары – снились ему кирпичные трубы, протянувшиеся до облаков, целый лес труб, целая вакханалия мертвых капиталов.
Одного из подчиненных ему чернорабочих Соломон Борисович сделал кровельным мастером, и из старого железа, оставшегося от разобранного сарая, этот мастер в течение двух недель приготовил нечто, напоминающее самоварную трубу, и водрузил ее над литейным цехом под аккомпанемент ехидных замечаний коммунаров, утверждающих, что труба делу не поможет. Действительно, она не помогла, и Колька-доктор ежедневно писал протоколы, удостоверяющие, что в коммуне свирепствует литейная лихорадка. Тогда Соломон Борисович прибавил к трубе еще одно колено. Труба вышла довольно высокая и стройная. Единственный ее недостаток – слабое сопротивление ветрам – был уничтожен при помощи проволок, которыми она была привязана к крыше литейной.
На некоторое время Колька прекратил писание протоколов, ибо дым стал направляться туда, куда ему и полагается, но коммунары-литейщики и теперь предсказывали, что установившееся благополучие долго не протянется. В самом деле, крыша литейной была сделана только для того, чтобы литейщиков не мочил дождь. Ее скелет был слишком нежен и не подготовлен для тяжелой службы – удерживать высокую трубу. Коммунары предсказывали, что во время бури труба упадет вместе с крышей. Соломон Борисович презрительно выпячивал губы:
– Сейчас упадет, как вы все хорошо знаете вместе с вашим доктором… и крыша упадет, и вся литейная развалится… От бури развалится. Какие-то бури придумали… подумаешь, какой Атлантический океан!
На этот раз коммунары ошиблись – крыша осталась на месте, литейная тоже не развалилась, и даже нижняя часть трубы еще и до сих пор торчит на фоне украинского неба, только верхняя ее часть надломилась и повисла на железной жилке, но в это время у коммунаров появились более серьезные заботы, и на трубу не обратили внимания. Только доктор снова принялся за протоколы, да старик Шеретин, математик рабфака, комната которого была недалеко от литейной, уверял, что во время ветра труба стучит, трепещет и мешает ему спать…
В литейной помещался барабан. Это был горизонтально установленный цилиндр с круглым отверстием на боку. В это отверстие и набрасывались патроны, и из этого же отверстия выливалась расплавленная медь. К барабану была приделана форсунка, на стене бак с нефтью – на первый взгляд все просто, и нет ничего таинственного. На самом деле барабан был самым таинственным существом в коммуне. Он очень стар, продырявлен и проржавлен, форсунка тоже не первой молодости. Вся эта система накопила за это время своей долгой жизни у киевского кустаря так много характерных черт и привычек, что только бывший хозяин, наш мастер Ганкевич, мог с ними справляться. Во всяком случае, обыкновенные смертные могли взирать на барабан и даже подходить к нему только до того момента, когда он начинал действовать. Когда же наступал этот момент, Ганкевич всех удалял из литейной и оставался наедине с барабаном. Через полчаса отворялись двери и присутствующие приглашались удостовериться, что медь готова, Ганкевич жив и барабан на месте. Даже Соломон Борисович не решался нарушить жреческую неприкосновенность Ганкевича и терпеливо гулял по формовочной, пока в литейной совершалось таинство претворения патронов в расплавленную медь.
Вообще Соломон Борисович очень уважал Ганкевича и боялся больше всего на свете его ухода с производства.
Много было в литейной и других вопросов и производственных тайн, но не все сразу они были нами замечены.
Рядом с литейной формовочная. На двух машинах коммунары формовали кроватные углы, в соседней каморке пацаны делали шишки. В формовочной уже начинало складываться небольшое общество коммунаров-специалистов – Миша Бондаренко, Могилин, Прасов, Илюшечкин, Терентюк и другие. Они уже формовали по тридцать пар опок в день и начинали разбираться в производственных тайнах Ганкевича. Ганкевич старался ладить с ними и кое-как мириться по вопросу о глине.
Глина – это не просто глина, а проблема. Глина перевозилась к нам вагонами из Киева. Соломон Борисович уплачивал за доставку глины большие деньги и каждый раз после такой уплаты приходил ко мне и грустил:
– Опять заплатил за вагон глины семьсот рублей. Ну, что ты будешь делать? Ганкевич не хочет признавать никакой другой глины, подавай ему киевскую…
Только в токарном цехе отдыхала душа Соломона Борисовича. На пятнадцати токарных станках работали токари-коммунары и точили кроватные углы. Привешанная к потолку трансмиссия вместе с потолком сотрясалась и визжала, коммунары к трансмиссии относились с предубеждением и боялись ее. И сама трансмиссия, и ее шкивы, и все токарные станки часто останавливались от старческой лени, старенькие пасы рвались и растягивались, но все это мелочи жизни, и они не требовали больших расходов. Правда, наш рабочий день весь был украшен нарывами конфликтов и споров, но эти вещи ничего не стоят, а нервы у Соломона Борисовича крепкие.
Соломон Борисович в цехе был похож на домашнюю хозяйку. Сколько забот, сколько мелких дел и сколько экономии! Был в цехе мастер Шевченко. По плану он должен инструктировать коммунаров, но одно дело план, а другое – жизнь. На самом деле он в течение целого дня занимался разным ремонтом – все станки требовали ремонта. Ремонт – понятие растяжимое. В нашем цехе оно не было растяжимым и выражалось точной формулой: один Шевченко на пятнадцать станков и на тридцать метров трансмиссии. Корректировалась эта формула самим Соломоном Борисовичем – его указания были категоричны и целесообразны.
– Тебе что нужно? Тебе нужно точить кроватный угол? Так чего ты пристал с капитальным ремонтом? Пускай Шевченко возьмет гаечку и навинтит…
– Как гаечку? – кричит коммунар. – Здесь все расшатано, суппорт испорчен, станина истерлась…
– Не ты один в цехе, пускай Шевченко найдет там в ящике гаечку, и будешь работать…
Шевченко роется в дырявом ящике и ищет гаечку, но Соломон Борисович уже нарвался на другого коммунара и уже кричит на Шевченко:
– Что вы там возитесь с какой-то гайкой, разве вы не видите, что в трансмиссии не работает шкив? По-вашему, шкив будет стоять, коммунар будет стоять, а я вам буду платить жалованье…
– Тот шкив давно нужно выбросить, – хмуро говорит Шевченко…
– Как это выбросить? Выбросить этот шкив, какие вы богатые!.. Этот шкив будут работать еще десять лет, полезьте сейчас же и вставьте шпоночку…
– Да он все равно болтает…
– Это вы болтаете… Болтает… Пускай себе болтает, нам нужно, чтоб станок работал… Поставьте шпоночку, как я вам говорю…
– Да вчера уже ставили…
– То было вчера, а то сегодня… Вы вчера получали ваше жалованье и сегодня получаете…
Шевченко лезет к потолку, Соломон Борисович задирает голову, но за рукав его уже дергает коммунар:
– Так что ж?
– Ну, что тебе, я же сказал, тебе поставят гаечку…
– Да как же он поставит, он же полез туда…
– Так подождешь, твой станок работает?
Откуда-то из-за угла душу раздирающий крик…
– Опять пас лопнул, черт его знает, не могут пригласить мастера…
Соломон Борисович поднимает перчатку:
– Был же шорник, я же сказал, исправить все пасы, где вы тогда были?
– Он зашивал, а сегодня в другом месте порвался… Надо иметь постоянного шорника, а то на два дня…
– Очень нужно, чтобы человек гулял по мастерской… Шорник вам нужен, завтра вам смазчик понадобится, а потом подавай убиральницу.
Возмущенный коммунар швыряет в угол ключи или молоток и отходит в сторону, пожимая плечами.
Соломон Борисович вдруг соображает, что пас все-таки не сшит и станок не работает. Соломон Борисович гонится за коммунаром:
– Куда же ты пошел? Что же ты уходишь?
– А что же мне делать? Буду ждать, пока придет шорник…
– Это трудное дело, сшить пас?.. Ты не можешь сам сшить пас, это какая специальность или, может, технология…
– Соломон Борисович, – пищит удивленный коммунар, – как же это сшить?.. Это же не ботинок, а пас…
Но Соломон Борисович уже покраснел и уже рассердился. Он с жадностью набрасывается на шило и кусочек ремешка, валяющийся на подоконнике, и торжествует:
– Ты не можешь сшить пас, а я могу?
Он по-стариковски тычет шилом в гнилой пас. Коммунары улыбаются и с сомнением смотрят на сшитый пас. У Соломона Борисовича тоже сомнение – пас не сшит, а кое-как связан неровным некрепким швом. Соломон Борисович, отнюдь не имея торжествующего вида, спешит удалиться из цеха, а коммунары уже вечером в совете командиров ругаются.
– Что такое, в самом деле. Пас порвался, шорника нет, Соломон Борисович сам берется за шило, а разве он может сшить, это тоже специальное дело… И все равно через пять минут станок стоит…
Соломон Борисович в таком случае помалкивает или пускается в самую непритязательную дипломатию:
– Что ты говоришь? Ты говоришь так, как будто я шорник и плохо сшил. Что я буду заведовать производством и еще пасы сшивать? Я тебе только показал, как можно сшить, а если бы ты захотел и постарался, ты бы сшил лучше, у тебя и глаза лучше…
Коммунары заливаются смехом и от того, что дипломатия Соломона Борисовича слишком наивна, и от того, что Соломон Борисович выкрутился, и даже хорошо выкрутился, приходиться коммунарам даже защищаться:
– Когда же нам сшивать? Если сшивать, все равно станок стоять будет.
Соломон Борисович молчит и вытирает вспотевшую лысину. Настоящей своей мысли он не скажет, настоящую мысль он скажет только мне, когда разойдется совет командиров спать, а Соломон Борисович смотрит, как я убираю свой стол, курит и говорит дружески доверчиво:
– Эх, разве так надо работать? Разве такой молодой человек не может остаться после работы и сшить себе пас… Что там полчаса, а шорнику нужно заплатить семьдесят пять рублей в месяц.
Я молчу – все равно спор имеет академический характер.
Но иногда и мне приходится идти огнем и мечом на Соломона Борисовича. Утро, из классов еле слышен прибой науки. В мастерских шумят станки, в моем кабинете никого – вся коммуна рассыпалась по трудовым позициям. Вдруг открывается дверь. К моему столу быстро подходит Коля Пащенко, мальчик пятнадцати лет, смуглый, стройный коммунар. Сейчас Коля плачет. Он пытается удержать слезы и говорит неплаксивным, спокойным голосом, но слезы падают на спецовку, и на его руках целые лужи слез, смешанных с машинным маслом и медными опилками.
Он протягивает ко мне руки:
– Смотрите, Антон Семенович, что же это такое… прямо… шкив испорчен… я говорил, все равно никакого внимания…
– Ты говорил Соломону Борисовичу, чтоб исправили шкив? Чего же ты так волнуешься…
– Я пришел, чтобы вы посмотрели сами… Пусть бы там не исправляли, пусть бы там прогул или как там… простой… а он говорит – работай… Как же я могу работать… я боюсь работать.
Я знаю Колю как смелого мальчика. Это живой, способный и энергичный человек, он в коммуне с самого начала и всегда умел прямо в глаза смотреть всяким неприятностям. Поэтому меня очень удивили его слезы.
– Я все-таки не понимаю, в чем дело… Ну, идем…
Мы входим в цех. Коля обгоняет меня в дверях и спешит к токарному станку. Он уже не плачет, но в борьбе со слезами он уже успел свой нос выкрасить в черный цвет.
– Вот, смотрите…
Он пускает свой станок, потом отводит вправо приводную ручку шкива, деревянную палку, свисающую с потолка. Станок останавливается. Коля левой рукой отталкивает меня подальше от суппорта, на который я оперся.
– Смотрите.
Я смотрю. Смотрю и ничего не вижу. Вдруг станок завертелся, зашипел, застонал, заверещал, как все станки в токарном цехе. Я ошеломлен. Подымаю голову и вижу: палка уже опустилась и передвинулась влево, шкив включен. Я смеюсь и гляжу на Кольку. Но Колька не смеется. Он снова чуть не плачет:
– Как же я могу работать? Остановишь станок, станешь вставлять угол в патрон, а станок вдруг начинает работать… Что ж, руку оторвать или как?..
За нашими плечами Соломон Борисович.
– Соломон Борисович, надо же как-нибудь все-таки… Ведь так нельзя.
– Ну, что такое, придет мастер завтра, исправит шкив, так что? Сегодня нужно гулять?.. Я ж тебе сделал, можно работать…
– Ну, смотрите, Антон Семенович, разве можно так?
Колька лезет куда-то под станок и достает оттуда кусочек ржавой проволоки, на концах ее две петли. Одну – он надевает на конец приводной палки, а другую – цепляет за угол статины. Станок перестает вертеться, палка крепко привязана проволокой. Колька смотрит на меня и смеется. Смеется и Фомичев, подошедший к нашему станку:
– Последнее достижение техники, здравствуйте, Антон Семенович…
– А что? – говорит Соломон Борисович. – Чем это плохо?
Ребята хохочут…
– Нет, вы скажите, чем это плохо?
Колька безнадежно машет рукой. Фомичев, спокойно, с улыбкой объясняет, глядя сверху на Соломона Борисовича:
– Ему нужно станок останавливать раз пять в минуту, как же он может все время привязывать проволоку, а вы посмотрите. – Он снимает петлю с угла станины. Станок завертелся, но петля бегает перед глазами, цепляется за резец.
– Ну, и что ж?
– Как, что же, разве вы не видите?
Я приглашаю Соломона Борисовича к себе, но уже на дворе говорю, сжимая кулаки:
– Вы что, с ума сошли? Что это за безобразие? Вы еще веревками будете регулировать станки, к чему вы приучаете ребят… это простая халтура, просто мошенничество…
Соломон Борисович терпеть не может моего гнева и говорит:
– Ну, хорошо, хорошо… ничего страшного не случилось… завтра привезу мастера, начнем капитальный ремонт…
Вы думаете, завтра Соломон Борисович привез мастера?
– Я не привез? Ну, конечно, он не поехал, потому разве теперь люди? Он хочет заработать двадцать рублей в день. Я ему дам двадцать рублей, а Шевченко на что, а Шевченко будет гулять…
9 Трагедия
Кроватный угол, выпускаемый Соломоном Борисовичем на рынок, представлял собой очень несложную штуковину: в литейной он отливался почти в совершенном виде – с узорами. На токарных станках ребята только очищали резцами его цилиндрические плечики, и после этого, он поступал в никелировочную. Поэтому мы выпускали этих кроватных углов множество. По сложности работы кроватный угол немногим отличался от трусиков, которые изготовляла швейная мастерская. В столярной мастерской производились более сложные и громоздкие вещи: аудиторные и чертежные столы и стулья, но и здесь особенной техникой не пахло. Отдельные детали выходили из машинного цеха с шипами и пазами, в сборном нужно было их привести в более блестящий вид и собрать в целую вещь.
В самом содержании производственной работы было очень мало интересного для коммунаров. Их увлекла только заработная плата, постоянная война с производственными «злыднями» и, пожалуй, еще общий размах производства – вот это обилие вещей, горы полуфабрикатов и фабрикатов и ежедневные отправки готовой продукции в город.
По вечерам коммунары заходили иногда в кабинет покалякать и посмеяться. Уже никакой злобы и огорчения к этому времени у них не оставалось. Посмеивались всегда над производством Соломона Борисовича и говорили:
– А все-таки удивительно: не производство, а барахло, куча какая-то старья всякого, а смотришь, все везут и везут в город.
В это время давно исчезло то удовлетворение, которое было вызвано постройками Соломона Борисовича. Всем уже начинало надоедать сарайное богатство Соломона Борисовича, приелись вечные споры о печах и зимних рамах, надоело говорить о засоренности производственного двора, о плохих станках и плохом материале. Коммуна стояла оазисом среди производственного беспорядка и грязи, и у коммунаров начинало складываться отношение к производству, как к чему-то постороннему.
В это время к нам очень редко приезжали члены Правления, в самом Правлении происходили перемены. Стихия Соломона Борисовича разливалась вокруг коммуны безудержно, все шире и шире, захватывая территорию, и уже располагалася перед фасадом, заваливала цветники обрезками и бросовым материалом.
Коммунары знали цену своей коммуне, любили чекистов и были благодарны им за свой дом, и за порядок, и за рабфак. На производство же они смотрели несколько иронически, как на необъяснимое недоразумение в общей гармонии коммуны. Сборный цех коммуны «сборным стадионом», отражая в этом названии и его грандиозные размеры и его неприспособленность к цеховому назначению.
Соломон Борисович очень обижался за это название и даже просил меня запретить его приказом по коммуне:
– Обязательно отдать нужно в приказе. Скажите, пожайлуста, «сборный стадион»… А где они работают?
Соломон Борисович гордился стадионом до приезда в коммуну председателя Правления[317]. Он приехал в счастливый день, когда немного подмерзла жижица грязи на производственном дворе и до стадиона можно было легко добраться, остановился пораженный в центре стадиона и спросил Соломона Борисовича:
– Это, что же, вы выстроили?
Соломон Борисович выкатился вперед и с гордостью сказал:
– Да, это я конструировал. Деревянное, конечно, строение, но оно будет долго стоять…
Председатель но это ничего не сказал, а обратился к коммунарам с вопросом, никакого отношения не имеющим к стадиону:
– Понравилось вам в Крыму?
– Ого, – сказали коммунары.
– Что ж, на лето еще куда-нибудь поедем?
– На Кавказ, – сказали коммунары…
– На Кавказ – это хорошо. Только нужно выполнить промфинплан…
– Выполним…
– Да, на Кавказ хорошо. Поезжайте на Кавказ. Ну, до свидания.
Председатель уехал, а Соломон Борисович пришел ко мне и спросил:
– Как вы думаете, какое впечатление произвел на него сборный цех? Он так посмотрел…
Васька Камардинов не дал мне ответить:
– Какое же впечатление? Вы думаете, он не понимает. Отвратительное впечатление.
– Вы еще молодой человек, – сказал Соломон Борисович, покрасневший от гнева, – а обо всем беретесь рассуждать.
Но через два дня к нам дошли сухи, что действительно стадион произвел впечатление отвратительное. Соломон Борисович загрустил:
– Так кто виноват? Виноват Левенсон? А где деньги? Правление, может, думает, что нужно построить каменные цехи, так почему оно не строит? А все Соломон Борисович должен строить: и литейный цех, и сборный, и квартиры.
В это время заканчивается триместр, и у коммунара головы были забиты зачетами. Кроме того, в коммуне происходили события печальные и непонятные. В середине ноября командир третьего отряда поразил всех рапортом:
– У Орлова пропало пальто с вешалки.
Коммунары во время разбора рапорта сказали:
– Поискать надо лучше. Кто-нибудь захватил нечаянно или не на свою вешалку Орлов повесил…
– Ты поищи лучше, – сказал я Орлову.
– Да где я буду искать? Я уже всю вешалку перерыл и у всех смотрел – моего пальто нигде нет…
– Поищи все-таки.
Через день пропало пальто в седьмом отряде. Делали общий сбор и приказали всем коммунарам надеть пальто и выстроиться во дворе. На вешалке не осталось ни одного пальто, а Орлов и Кравченко все же своих пальто не нашли.
Опросили весь сторожевой отряд, но он ничем помочь не мог. На вешалке висит сто пятьдесят пальто, разве разберешь, какое пальто берет коммунар с вешалки – свое или чужое.
На общем собрании Фомичев предложил:
– Надо пока что пальто держать в спальне. Ясное дело, между нами завелся гад. Он и теперь сидит здесь и притаился, а завтра еще что-нибудь утащит.
Харланова возмутилась:
– Вот тебе и раз. У нас завелся вор, так мы будем от него прятаться, все будем в спальни тащить. Это безобразие, и нужно сейчас же поднять с этим борьбу.
– Да как ты поднимешь борьбу, если мы не знаем, на кого и думать. Кто может у нас взять?
– Раз взяли, значит, всякий может…
– Как это всякий?.. Я вот не возьму, например…
– А кто тебя знает? На тебя нельзя думать, а на какого коммунара можно думать? Покажи, на кого?
– Так что же делать?
– Надо найти вора.
– Найди…
– Надо собаку привести в коммуну, – предложил кто-то. – Вот как она на этого гада бросится, тогда уж мы будем знать, что делать.
В собрании закричали:
– Вот еще, собак тут не хватало. Сами найдем.
– Найдите.
Редько взял слово:
– Найдем. Все равно найдем. И если я найду, он у меня все равно не вырвется. Так пуская и знает. А вешалку, действительно, нечего переносить в спальню. Да больше он и не возьмет. Я его все равно поймаю…
Коммунары улыбнулись.
Через неделю в кабинет вошел Миша Нарский. Совет командиров три месяца назад командировал его на шоферские курсы, которые он регулярно посещает и о которых каждый вечер отзывается с восторгом. Живет он в коммуне в одном из отрядов и болеет коммунарскими делами по-прежнему.
Миша Нарский ввел в кабинет Оршановича и Столяренко и сказал:
– Вот они, голубчики, видите?
Миша Нарский, несмотря на многие годы, проведенные в колонии Горького и в коммуне Дзержинского, остался прежним: чудаковатым, по-детски искренним, неладно одетым. Он по-прежнему причесывается только по выходным дням и лучшим украшением для человеческого лица считает машинное масло. Он сейчас горд и от гордости на ногах не держится.
– В чем дело?
– Да вот вы их спросите…
– Ну, рассказывайте…
Оршанович грубовато отворачивается:
– А что я буду рассказывать? Я ничего не знаю.
Столяренко молчит.
– Видите, он не знает… А как пальто продавать, так он знает.
Полдесятка коммунаров, находившихся в кабинете, соскочили со стульев и окружили нас…
– Пальто? Что? Оршанович? Здорово…
Оршанович с недовольным видом усаживается на стул, но Миша сильной рукой металлиста берет его за воротник:
– Что? Ты еще будешь тут рассиживаться? Постоишь…
– Чего ты пристал? Чего ты пристал? Пальто какое-то…
– Ишь ты, какое-то… Смотрите… Субчик…
В кабинете уже не полдесятка коммунаров, а целая толпа, и кто…
…
[10 И трагедии и комедии (…)]
…
11 Праздник
…
Пацаны бегают по всей лестнице – ужасно оживленные и храбрые, но только до дверей «громкого» клуба, а здесь хвосты поджали и тихонько, бочком пробираются в клуб мимо председателя Правления и еще тише салют:
– Раст…
А потом все собрались и смотрят на гостя, глаз не сводят и молчат.
Правда, нужно сказать, что главные пацаньи силы в это время намазывались всеми возможными красками и наряжались в каморке за нашей сценой – готовились к постановке. Перский, на что уж человек изобретательный, а и тот «запарился»:
– Да сколько вас играет?
– Ого, еще Колька придет, Шурка, две девчонки, Петька и Соколов, да еще ни один кустарь не гримировался, а кустарей трудно будет, правда ж?
Коммуна украшена: везде протянулись плакаты, столовая, сцена и бюст Дзержинского в живых цветах. Много потрудились художественная комиссия. Много поработали и остальные. Все-таки наиболее поражает всех Миша Долинный, который со всей комиссией – человек двадцать, кажется, и праздника не видели – протолкались на дворе до часу ночи. Зато ни один гость не заблудился. На повороте к нашим тропинкам на белгородском шоссе стоял Мишин пикет и спрашивал публику:
– Вам в коммуну Дзержинского? Так сюда.
И указывал на линию огней, протянувшихся через лес и через поле до самой коммуны. Огни были сделаны самым разнообразным образом: здесь были и электрические фонари, и факелы, и разложенные на поворотах и трудных местах костры. Вся Мишина территория курилась дымом и пахла разными запахами наподобие украинского пекла.
Коммуна была тоже в огнях, а над главным входом в огненной рамке портрет Дзержинского.
В семь часов всех гостей пригласили в клуб, коммунары расположились под стенками. Когда все собрались, команда:
– Под знамя встать! Товарищи коммунары – салют!
Левшаков загремел салют. Может быть, читатели еще не знают, что такое знаменный салют коммунаров. Это наш сигнал на работу, обыкновенный будничный сигнал, который играется в коммуне два раза в день. Он оркестрован Левшаковым еще в 1926 году в колонии Горького и сейчас и у нас и у них является не только призывом к труду, но и салютным маршем, который мы играем, когда выносим наше знамя, когда проходим мимо ЦК партии, ВУЦИКа, когда встречаем очень дорогого гостя и когда встречаемся в городе с колонией Горького…
Дежурный по коммуне идет впереди, подняв руку над головой, за ним знаменная бригада шестого отряда – три девочки. Шестой отряд уже второй месяц владеет знаменем. Гости стоя встречают наше знамя…
Началась торжественная часть. Нас приветствовали с тремя годами работы, нам желали дальнейших успехов…
После торжественной части концерт оркестра. Левшаков сыграл гостям:
1. Марш Дзержинского – музыка Левшакова.
2. Торжество революции – увертюра.
3. Увертюра из «Кармен».
4. Кавказские этюды Ипполитова-Иванова.
5. Военный марш Шуберта.
Закончил он шуткой. Вышел к гостям и сказал:
– Быть хорошим капельмейстером очень трудное дело. Нужно иметь замечательное ухо, нельзя пропустить ни одной ошибки. Чуть кто сфальшивит, я сейчас же услышу, и поэтому я могу управлять оркестром, стоя к нему спиной. Вот послушайте.
Он обратился к музыкантам:
– Краснознаменный.
У музыкантов заволынили:
– Довольно уж.
– Уморились…
– Праздник так праздник, а то играй и играй…
– В самом деле…
У публики недоумение. Мало кто понял сразу, что здесь какой-то подвох. В зале отдельные замечания:
– Ого, дисциплинка!..
Левшаков стучит палочкой по пюпитру и говорит:
– Хочется в совете командиров разговаривать? Краснознаменный… Наконец волынка в оркестре понемногу утихает и музыканты подносят мундштуки к губам. Раздается один из громких и веселых советских маршей. Левшаков дирижирует стоя спиной к оркестру. Но уже на третьем такте часть корнетов поднимается с мест, машет руками и уходит за кулисы. Марш продолжается, но за корнетами удаляются альты, тенора, валторны и так далее. Остаются: Волчок с первым корнетом, Грушев с басом, Петька Романов с пиколкой и барабаны… Левшаков продолжает дирижировать, стоя лицом к публике, и даже строит какие-то нежные рожи, показывающие, что он переживает музыку. Но вот убежал и Волчок, последний раз ухнул Грушев, наконец, и Петька пробирается в зал, пролезая под рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь рукой Левшакова. Остался один Могилин на большом барабане. Только теперь Левшаков «понимает», как его подвели музыканты, и сам убегает. «Булька» последний раз гремит барабаном и хохочет. Хохочет и публика, все довольны, что это простая шутка и что с дисциплиной у дзержинцев не так уж плохо.
Настало время и пацанам показать, к чему они так долго и так таинственно готовились. Оркестр, их союзник, усаживается в соседнем классе, из класса дверь в зал открыта, и Левшаков уже с кем-то перемигивался у сцены.
Открывается занавес. В зале кто-то из коммунаров громко говорит:
– Ой, и вредные пацаны, дали им волю…
На сцене Филька в коммунарском парадном костюме. Он говорит:
– Сперва пойдет пролог.
…
Все гонят, все клянут меня, Мучителей толпа, Правителей несправедливых И мальчиков неукротимых… Безумным вы меня прославили всем хором И от начальства до юнца Покрыли детище мое позором. Вы правы, тут не разберешь конца: И строить вредно, и не строить плохо, Построил вот, а теперь охай. Я в Кисловодск теперь ездок, Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок… Каре… Эй, Топчий, запрягай, пожайлуста, до автобуса…Левенсон удаляется, а на сцену выходят три пацана с фанфарами, играют какой-то сигнал и объявляют, что феерия «Постройка стадиона» окончена.
Их место занимают три коммунарки в белых передниках и просят гостей ужинать, за их спиной Волчок играет наш призыв «все в столовую».
Гости расходятся только часам к двенадцати. Дежурные отряда коммунаров приступают к уборке всего здания, в кабинете делятся впечатлениями.
Соломон Борисович взбешен пацаньей проделкой:
– Разве я могу теперь работать в коммуне? Какой у меня будет авторитет?
– При чем тут ваш авторитет, Соломон Борисович? – спрашивает Клюшнев.
– Как при чем? Как при чем? Что это за заведующий производством, когда он освещается каким-то синими фонарями, а руки складывает, как Демон? Бегает по сцене и кричит, как сумасшедший? После этого будет авторитет?
– Вот вы, значит, не поняли, в чем тут дело. Эту пьеску пацаны здорово сделали. Теперь Правление задумается…
Действительно, феерия пацанов била не столько по Соломону Борисовичу, сколько по Правлению. Как ни комичен был Соломон Борисович, перемешанный с Борисом Годуновым, Демоном и Ленским, но его комизм был показан как необходимое следствие нашей производственной заброшенности. Жалкие цехи, размещенные по подвалам и квартирам, жалкие диктовые постройки, засилие кустарей и кустарщины были представлены пацанами в неприкрашенном виде. И председатель Правления, уезжая от нас в этот вечер, сказал:
– Молодцы коммунары, это они здорово сегодня критикнули…
12 Пожары и слабости
Не успели ребята отдохнуть после праздника, убрать цветы, снять иллюминационные лампочки и спрятать плакаты, как приехал в коммуну Крейцер и сказал в кабинете:
– Ну, товарищи, кажется, с весны начнем строиться…
Дорошенко сонно ответил:
– Давно пора.
Сопин не поверил:
– А долго так будет казаться? Строиться, строиться, а потом скажут денег нет. За какие деньги строиться?
– Да что вы, объелись чего? – сказал Крейцер. – У нас сейчас на текущем счету тысяч триста есть?
– Ну, есть, так это ж мало, смотря что строить…
– А вот об этом подумаем. А что, по-вашему, нужно строить…
– Мало ли чего, – сказал Фомичев. – Вот это все расчистить нужно, а на чистом месте построить завод. Новый завод…
Соломон Борисович из-за спины Крейцера моргал всем коммунарам. Это значило: построятся, как же… Но вслух он сказал:
– Надо строить маленький заводик, чтобы производить токарные станочки. Хорошая вещь, а спрос? Ух!..
– Токарные не выйдут, – сказал Фомичев. – Какой это завод на сто пятьдесят коммунаров? Нужно что-нибудь помельче…
– Надо прибавить коммунаров, – протянул Крейцер, усаживаясь за столом ССК.
– Ой, сколько же прибавить? – спросил Дорошенко.
– А сколько ж? Удвоить нужно.
Сопин задрал голову и показал на Крейцера пальцем:
– О, сказали, и все за триста тысяч: завод построить, новые спальни и классы ж нужно, а столовая наша тоже, выходит, тесная будет, а клуб?
– Так вы же работаете?
– На этом бузовом производстве много не заработаем, а тут, видно, миллионом пахнет…
Но вечером Сопин рассказывал пацанам уже в другом освещении:
– И что? И можно, конечно, построить, тут тебе такое будет – завод, во! И не то, что сто пятьдесят коммунаров, а триста, во! Это дело я понимаю.
– Вот обрадовался: триста… – кивает на Сопина Болотов, – как придут новенькие, от коммуны ничего не останется…
– Чего не останется? Ты думаешь, если беспризорные, так и не останется? Это ты такой…
– Я такой… скажи, пожайлуста. А вот ваш актив – Григорьев – вот хороший оказался.
– И то лучше тебя, – сказал Сопин.
– А я теперь что? Я теперь ничего, никто не обижается, – надувшись окончательно, сказал Болотов, и Сопину стало жалко его; он потрепал Болотова по плечу:
– Как придут сто пятьдесят новых, мы тебя обязательно ССК выберем.
Болотов улыбнулся неохотно:
– Выберем, как же!
Весть о том, что на лето предполагается постройка, в коммуне никого не взволновала – мало верили словам коммунары. Но все же появилась серьезная задача – надо побольше собрать денег.
Соломон Борисович предъявил одному из общих собраний промфинплан первого квартала. Коммунары о нем недолго думали:
– Это выполнить можно, если в цехах хоть немного наладится. А если выполним, то сколько у нас денег будет?
Соломон Борисович считал такие вопросы неприличными:
– Вы сделайте, а деньги будут.
– Не забудьте ж, и на Кавказ поехать нужно.
– И на Кавказ поедете.
– А все-таки, сколько будет денег, если выполним план?
Соломон Борисович развел руками:
– Ну, что им говорить?
– Тысяч сто прибавим на текущий счет, – сказал я коммунарам.
Промфинплан обсудили на цеховых собраниях. Встречный выдвигали без большого разгона – цифры Соломона Борисовича были без того жесткими; встречный план коммунаров на первый квартал был такой:
Металлисты наши очень обрадовались, что выбросили из плана эти отвратительные кроватные углы. Их не любили коммунары:
– Это что за такая продукция? Кроватный угол… Это самая легкая индустрия, какая только есть. Подумаешь, кому нужен кроватный угол? Покрась себе кровать хорошей краской и спи. А то: никелированный кроватный угол. Всякая, понимаете, охота пропадает…
– Масленка – это, действительно, груба! Это для машины для всякой нужная вещь. Это уже не такая легкая индустрия: масленка Штауфера. Видите – не сразу даже придумали, Штауфер такой нашелся…
– Серьезно, – говорили уважающие себя токари, – в масленке и резьбу нужно сделать, и все так пригнать, чтобы крышка правильно навинчивалась, и дырочку просверлить.
Колька Вершнев торжествовал – закрывали-таки никелировочный цех. Колька считал, что ничего вреднее для пацанов быть не может.
С первых дней января работа сразу пошла веселее в цехах, да и весной запахло – коммунары умеют на большом расстоянии чувствовать весну и ее запахи.
Соломон Борисович часто заходил ко мне и радовался:
– Молодцы коммунары, хорошо взялись! А я им план закатил, ой, будут меня ругать. Ну, ничего, все будет хорошо.
Соломон Борисович оживился в январе, забыл громы Декина и сарказмы пацанов в «Постройке стадиона». Его поднимало сознание, что коммуна нуждается в больших деньгах, что эти деньги коммунары заработают только под его руководством. Соломон Борисович прибавил стремительности в своих достижениях и до позднего вечера летал по производственной арене. Одно его смущало со времени приезда Декина – боялся Соломон Борисович пожара. Пожар ему мерещился ежеминутно, он не мог спокойно лечь спать и приходил ко мне иногда часов в двенадцать ночи, извинялся, что мешает, о чем-нибудь заговаривал, как будто спешном, а потом сидит и молчит.
– Чего ты не спишь? – спрашиваю его: мы с ним перешли на «ты» после праздника.
– По правде сказать, так боюсь ложиться – пожара боюсь.
– Вот глупости, – говорю ему, – откуда пожар возьмется, все уже спят.
– Там же, в стадионе, печки еще топятся, – с трудом выговаривает Соломон Борисович, – я вот подожду, пока закроют трубы, и пойду спать.
Он уже и сейчас почти спит, голова его все падает на лацканы пиджака, он тяжело отдувается и протирает глаза:
– Уф… Уф…
– Да иди спать, вот придумал человек занятие – пожара ожидать.
В дверях стоит с винтовкой дневальный, которому веселее с нами, чем в одиночестве скучать у денежного ящика. Дневальный улыбается:
– Пожар никогда не бывает по заказу. Вы ждете пожара, а он загорится в другое время, когда спать будете…
– Почему ты думаешь, что он обязательно загорится? – спрашивает Соломон Борисович.
– А как же? Это и не я один думаю, а все пацаны так говорят…
– Что говорят?
– Что стадион непременно сгорит, ему так уже от природы назначено…
Дневальный решил, что довольно для него развлечений, и побрел к своему посту. Соломон Борисович кивает головой в его сторону:
– Пацаны говорят! Они все знают!.. Загорится стадион, пропало все дело: будет гореть, а мы будем смотреть, это правильно сказал Декин. Все ж дерево, сухое дерево, сколько там дуба, сколько там лесу, ай-ай-ай, пока пожарная приедет…
В первом часу я отправляюсь домой. Бредет рядом со мной и Соломон Борисович и просит:
– Зайди в стадион, скажи этим истопникам, чтобы были осторожнее, они тебя больше боятся… зайди, скажи…
Однажды рано утром, только что взошло солнце, наш одноглазый сторож Юхин поднял крик:
– Пожар!
Прибежали кто поближе, никакого пожара нет, солнце размалево окна стадиона в такой пожарный стиль. Посмеялись над Юхиным, но в квартире Соломона Борисовича обошлось не так просто: услышал Соломон Борисович о пожаре – и в обморок, даже Колька бегал приводить его в чувство. Дня три ходил после этого Соломон Борисович с палочкой и говорил всем:
– Если загорится, я погиб – сердце мое не выдержит, так и доктор сказал: в случае пожара у вас будут чреватые последствия.
И вот настал момент: только что проиграли спать, кто-то влетел в вестибюль и заорал как резаный:
– В стадионе пожар! Пожар в стадионе!..
Захлопали двери, пронеслись по коммуне сквозняки, залился трубач тревожным сигналом, сначала оглушительно громко здесь, в коридоре, потом далеко в спальнях. Как лавина слетели коммунары по лестницам, дробь каблуков, крик и какие-то приказы вырвались в распахнувшуюся настежь парадную дверь – снова тихо в коммуне. Соломон Борисович тяжело опустил голову на бочок дивана и застонал.
Я поспешил в стадион. Подбегаю к его темной массе, а навстречу мне галдящая веселая толпа коммунаров.
– Потушили! – размахивает пустым огнетушителем Землянский.
Он хохочет раскатисто и аппетитно:
– Как налетели, только шипит, как не было!
– Что горело?
– Стружки возле печки. Это раззява Степанов в кочегарку пошел «воды попить», у них в стадионе и воды нет…
Говорливой торжествующей толпой ввалились мы в кабинет. Соломон Борисович изнемог на диване. Он с большим напряжением усаживается и стонущим голосом спрашивает:
– Потушили? Какие это замечательные люди – коммунары… Стружки, говорите? Большой огонь?
– Да нет, только начиналось, ну, так, половина кабинета костерчик, говорит Землянский. – А куда теперь эти банки девать? – показывает он на разряженные огнетушители, выстроившиеся в шеренгу в кабинете.
Соломон Борисович поднимается с дивана.
– Сколько вы разрядили?
Он начинает пальцем считать.
– Да кто их знает, штук двенадцать…
– Двенадцать штук? Двенадцать штук? Нет, в самом деле? – вертится сердитый Соломон Борисович во все стороны. Он протягивает ко мне обе руки:
– Это же безобразие, разве это куда-нибудь годится! Это же… Двенадцать на такой маленький пожар. Ты им скажи, разве можно так делать? Где я могу набрать столько огнетушителей, это разве дешевая вещь?
Коммунары притихли и виновато поглядывают на шеренгу огнетушителей.
– Нет, в самом деле… – даже раскраснелся Соломон Борисович.
Я серьезно говорю коммунарам:
– Слышите? Больше одного огнетушителя в случае пожара не тратить.
Коммунары хохочут:
– Есть! Соломон Борисович, пропал ваш стадион… Сегодня разве потушили бы одним?..
– Как ты сказал! Как ты сказал! – пораженный, обращается ко мне Соломон Борисович.
– Я исполнил твою просьбу…
– Разве я говорил – один? Я же не сказал один. Надо с расчетом делать…
После этого Соломон Борисович стал бояться всякого крика, всякого бега по коммуне. Только с приходом весны он несколько успокоился и стал смотреть веселее на мир.
Принимал Соломон Борисович разные противопожарные меры. Ему сказали:
– Полагается в цехе держать бочки с водой и швабры при них.
Соломон Борисович выпросил у заведующего хозяйством несколько старых бочек и действительно налил их водой. Это ничего не стоило. Но швабры оказались дорогой вещью, и Соломон Борисович втихомолку заменил их палками, на концы которых были привязаны пучки рогожи. Когда приехал пожарный инспектор, Соломон Борисович с гордостью повел его к кадушкам, но здесь он был незаслуженно посрамлен.
– И швабры есть, как же, – говорит он пожарному инспектору.
Он с гордым видом вынимает палку из бочки и видит, что на конце ее нет ничего, торчат одни хвостики рогожные.
Когда уехал пожарный инспектор, Соломон Борисович произвел расследование, и оказалось: бабы-мазальницы, которым поручил Соломон Борисович что-то выбелить в системе своих цехов, отрезали рогожные пучки от пожарных приспособлений и обратили их в щетки.
– Разве это люди? – сказал Соломон Борисович. – Это звери, это некультурные звери.
Много страдал Соломон Борисович от пожарной безопасности, и, наверное, его сердце не выдержало бы всех волнений, если бы не коммунары. Коммунары не позволяли Соломону Борисовичу сосредоточиваться…
…
…
– Вы посмотрите, что утром делается! Не успели окончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки и ударники, а кто придет позже, тому уже ничего не остается, жди утренней отливки, пока она остынет.
– Соломону Борисовичу жалко истратить тысячу рублей на новые опоки, а сколько он тратит на доставку глины из Киева? Сколько стоит вагон глины? А формовочный песок возле самой коммуны, сколько хочешь, и сушить формовку не надо, не то, что эта глина.
Соломон Борисович обещал, оправдывался, снова обещал, придумывал разные причины, говорил, что нет железа, что опоки будут тяжелые, что коммунары их не поднимут.
– Поднимем, вы сделайте…
На одном собрании он, наконец, взмолился?
– Что вы мне покоя не даете с этой глиной? Что, я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро сделаны.
– Когда? Срок? – шумят в зале.
Через две недели…
Редько с места:
– Значит, будут сделаны к первому февраля?
– Я говорю, через две недели, значит – к двадцать пятому января.
– Значит, к первому февраля будут обязательно?
– Да, к двадцать пятому января обязательно, – гордо и неприязненно говорит Соломон Борисович.
Он становится в позу, протягивает руку вперед и торжественно произносит:
– К двадцать пятому января – ручаюсь моим словом.
В зале припадок смеха. Хохочет даже председатель.
Соломон Борисович краснеет, надувается, плюется, размахивает руками. Он уже на середине зала:
– Вы меня оскорбляете. Вы имеет право оскорблять меня, старика? Вы? Мальчишки?
Хохот стихает, но вежливый румяный и веселый Клюшнев говорит негромко:
– Никто вас не хочет оскорблять. Но я перед всем собранием утверждаю: вы говорите, что новые опоки будут готовы к двадцать пятому января, а я утверждаю, что они не будут готовы и к двадцать пятому февраля.
В собрании тишина внимания: что ответит Соломон Борисович? Но он молча поворачивается и уходит. Все смущены. Кто-то говорит Клюшневу:
– Ты все-таки чересчур. Разве так можно с человеком? Он ручается словом.
Клюшнев спокойно:
– И я ручаюсь словом. Если я окажусь неправ, выгоните меня из коммуны.
В первых числах февраля на мой стол оперся локтями Синенький, поставил щеки на собственные кулачки, долго молча наблюдает, чем я занимаюсь, и, наконец, осторожно пищит:
– Сегодня ж шестое февраля?
– Да, шестое.
– А новых опок еще не сделали…
Я улыбаюсь и смотрю на него.
– Не сделали.
– Значит, Клюшнев Вася правильно говорил…
– Выходит, так.
Синенький срывается с места и вылетает. Только в дверях он оборачивается и делает мне глазки:
– А Соломон Борисович, значит, не сдержал слова…
Но Синенький произвел эту рекогносцировку неофициально. Ни в общем собрании, ни в совете командиров не вспоминают о состязании Соломона Борисовича и Клюшнева. Соломон Борисович недолго обижается. Он оживлен и энергичен и первого марта с торжеством говорит общему собранию:
– Ваше желание, коммунары, выполнено: сегодня готовы новые опоки, и мы переходим на формовку в песке…
Коммунары шумно аплодируют Соломону Борисовичу Я ищу в зале Клюшнева. Он прячется от меня и за чьей-то головой и хохочет, хохочет. Перед ним стоит Синенький и быстро бьет ладонью о ладонь, широко отставив пальцы. Смотрю – и многие коммунары заливаются, но так, чтобы не видел Соломон Борисович.
А Соломон Борисович высоко поднял руку и говорил звонко:
– Видите, что нужно и что можно сделать для производства, я всегда сделаю.
В зале взрыв аплодисментов и уже откровенный взрыв смеха. Смеется и Соломон Борисович.
13 На дороге
Несмотря на холод в цехах, плохой материал и полное изнеможение станков, без всякого сомнения заканчивающих свою земную жизнь, коммунары подходили к концу первого квартала без больших поражений.
Тридцать первого марта мы просидели до 12 часов ночи в общем собрании – дела были серьезные.
Промфинплан первого квартала был выполнен:
Всего выпущено продукции по себестоимости на сумму 174 000 рублей.
Напали на металлистов:
– Так мы и говорили, что вы подкачаете… Вот у нас прорыв, где еще 14 % плана гуляют? А ведь у вас собрались самые квалифицированные коммунары.
Металлисты были очень смущены. В особенности был огорчен четвертый отряд, в котором были и Юдин, и Клюшнев, и Грунский, и Скребнев, и Козырь. По выполнению своих отрядных норм отряд шел впереди всех отрядов коммуны, уступая только одиннадцатому отряду девочек (после закрытия никелировочного цеха у нас была произведена реорганизация отрядов, и девочки получили номера десятый и одиннадцатый). Но другие отряды токарей далеко отстали от четвертого, а особенно отставали литейщики. За литейщиков и взялось общее собрание.
– Два месяца держались за киевскую глину, выпускали больше брака, чем дельного литья.
– Зайдешь к ним в цех – не литейная, а аптека; это не трогай, а на это нельзя смотреть, а это секрет какой-то, а на самом деле саботажники. А командиры-литейщики? Хоть один был рапорт за квартал?
– Чего, хоть один рапорт? – вскакивает задетый за живое командир девятого. – Мало было рапортов?
– А за мастером вы смотрели? Вы, вот, посадили токарей на «декохт»… Что мы не знаем, как они гонялись за масленками? Каждое утро у них в очереди стоят. Как это годится такое?..
– А где Ганкевич, почему его нет на собрании?
Председатель немедленно посылает за Ганкевичем пацана. Ганкевич приходит смущенный и злой.
– Я работал двенадцать часов в сутки, разве я отдыхал когда…
…
В левом здании будут спальни на триста человек, больничка, вешалка и кое-какие подвалы. В правом здании расположится в двух этажах новый завод – завод ручных электросверлилок.
Центральное здание все придется перестроить: кухню опустить в подвал, за счет классов внизу и коридора расширить столовую, спальни второго этажа обратить в аудитории, из теперешнего «тихого» клуба и спальни девочек сделать театр на пятьсот человек, в теперешнем «громком» клубе устроить «тихий». Придется в центральном здании передвинуть почти все переборки.
Косалевич добивался на Правлении:
– Нельзя ли коммунаров раньше отправить куда-нибудь, чтобы раньше начать перестройку?
Но в Правлении сказали: нельзя никуда отправлять, нужны большие средства, нужно сейчас работать, уедут коммунары только пятнадцатого июля.
В этом проекте самым увлекательным был завод электросверлилок.
Мы видели уже эту электросверлилку, инженеры достали где-то заграничную: аллюминевый кожух, ручка, собачка, все вместе немного похоже на револьвер, только больше – сантиметров сорок в длину и цилиндричнее. Внутри моторчик, механизм, шестеренки – внутренность еще мало понятная, но говорили инженеры, что в работе нужна точность до одной сотой миллиметра. Если эту сверлилку разобрать, получается много деталей. Одних названий деталей сто одно.
До сих пор сверлилки эти привозились к нам из Америки, Австрии, платили за них золотом. Коммунары на сверлилку смотрели со страхом и уважением:
– Это тебе не масленка, тут тебя один моторчик слопает с потрохами. Одная сотая миллиметра – какие очки надевать нужно?
– Правда, что у нас мастеров таких пока что нету, а все-таки сделаем, вот увидите, сделаем, еще как…
Все это дело: и новые здания, и новый завод, и новые коммунары, все это представлялось в далеком тумане, но не туманом уже были ряды кирпича, обступившие коммуну со всех сторон, пирамиды песка, сосновые бараки для рабочих, начальник строительства Вастонович. А в конце марта пришли люди с топорами и хватили ими по нашему милому саду. Из пацанов кто-то ахнул:
– Сад? Ой, жалко ж…
– Чего ты трепыхаешься? – сказал кто-то из старших. – Яблок жалко? Так яблоки, это что? Яблоки – это баловство, а тут тебе электросверлилка…
Пацаны не успевали, впрочем, переживать как следует все, что им выпало на долю в это время. Слишком много было потрясающих впечатлений, а впереди еще поднимались кавказкие горы. Не успели вырубить сад, как начали копать котлованы для фундаментов, а в начале апреля на нас навалилось новое дело: постройка дороги.
О дороге к белгородскому шоссе мы хлопотали давно. Нужно было проложить мостовую длиной в километр с четвертью, а сейчас мы положительно изнемогали от бездорожья. Даже пешеходы добирались до шоссе ценою великих страданий и сложной обходной стратегии. Ведь вы знаете, что такая старая российская дорога? Это такое место, которое меньше всего приспособлено быть дорогой. Так вот именно такая дорога отделяла нас от белгородского гудронного шоссе.
В течение зимы совет командиров отправил несколько делегаций в Коммунхоз. Совет командиров писал Коммунхозу, что для перевозки двадцати пяти пудов груза нужно запрягать трех лошадей, что извозчики отказываются вообще к нам ездить, а о проезде машиной нечего и думать.
И к весне Коммунхоз, наконец, сжалился над нами и приступил к прокладке дороги. Начались земляные работы, свозили камень. С земляными работами сразу обернулось очень плохо. Нужно было сделать выемку длиной до полуверсты – для этой работы наняли даниловских и шишковских крестьян и платили им по поденному расчету, а по сдельному они ни за что не хотели работать – слишком для них подозрительным показался кубический метр.
Посмотрели мы с недельку на эти земляные работы и головы повесили: при таких темпах дорогу окончат не раньше конца пятилетки. Еще прошла неделя. В общем собрании заговорили:
– С такой работой нечего возиться. Либо бросить все дело, либо искать новых рабочих.
– А где ты их найдешь?
Пришел в собрание и десятник с дороги и сказал:
– С дорогой плохо, прямо вам говорю.
Кто-то из коммунаров спросил:
– А если бы нам взяться за дело?
Десятник улыбнулся высокомерно:
– Что вы, разве это детская работа?
– Какие мы дети! – обиделся Грунский. – Хорошие дети…
– Сколько там у вас больших, а малышам будет трудно. Знаете, земляная работа, она…
Так собрание и кончилось ничем. У себя я сказал десятнику:
– Жалко, разумеется, отрывать ребят от производства, но вы знаете, если бы ребята взялись, за шесть дней выемку бы окончили.
Десятник и теперь не поверил, а через три дня снова пришел ко мне и сказал:
– Что ж, надо прекращать работу. Это волынка обходится дорого, и к осени дорогу не окончим.
– А не потрубить ли нам, Василь, совет? – спросил я Дорошенко.
Дорошенко подумал, подумал:
– Насчет дороги? А как же с промфинпланом будет? На дорогу нужно не меньше десяти дней.
– Десять дней? – удивился десятник. – Голубчики мои, да это ж прямо чудо… Давайте…
– Потрубить можно, что ж, – сказал Василь.
Потрубили. Командиры задумались:
– Десять не десять, а на неделю придется закрыть производство.
Соломон Борисович разволновался до истерики:
– И что вам в голову приходит? Откуда такое приходит в голову? Десять дней, это по себестоимости на сорок тысяч рублей продукции. Что такое? Вы соображаете своей головой?
– А если останетесь совсем без дороги? – сказал десятник.
– Как без дороги? Без дороги нельзя…
– Соломон Борисович, – сказал кто-то, – если мы не выполним промфинплан, тогда можно будет в июле лишний час прибавить, да мы и так выполним…
– Надо не выполнить, а перевыполнить…
– И перевыполним…
– Ну, делайте как хотите, – сказал Соломон Борисович.
Совет командиров постановил: отдать на дорогу одну пятидневку за счет производства и за счет учебы, – значит, по 8 часов в день. В школе у нас дела шли хорошо.
– А лопаты будут? – спросил я десятника. – На сто пятьдесят человек!
– Да я вам не только лопаты, я вам черта достану, только помогите.
Совет командиров немедленно отправился на дорогу и разделил всю выемку на двенадцать частей – по числу отрядов, пацанам и девочкам дали более мелкие части выемки, кто постарше – глубокие. Вышло на каждый отряд по сорок с чем-то метров погонных.
Филька посмотрел на свой участок и сообразил:
– По два с половиной метра на пацана, а глубина тут сантиметров тридцать… Ого…
В следующие дни линия дороги была похожа на какой-то фейерверк земляных бросков. По сторонам линии все росли и росли земляные валы, коммунарские головы все глубже и глубже уходили в землю. Через три дня четвертый отряд окончил свой участок и перешел на участок девочек, а девочек упросили отправиться на помощь пацанам.
– Там вам легче, здесь высоко бросать нужно…
Все-таки за пятидневку не окончили, пришлось истратить и выходного дня половину.
Но к вечеру в выходной пришел ко мне десятник и сказал, захлебываясь:
– Это же замечательно, честное слово, я никогда такого в жизни не видел… Это же замечательно, ей-Богу, это прямо замечательно!..
Был тихий и теплый вечер. Коммунары прогуливались по вырытой выемке, и Сопин декламировал:
– Пацаны – это тебе кадры! Это не какая-нибудь мелкая буржуазия из Даниловки…
В первых числах апреля еще волнения – перевыборы совета командиров.
За месяц вперед началась кампания по перевыборам. Комсомольское бюро часто и ужин пропускало за этим трудным вопросом. А вопрос был действительно трудным: новому совету командиров предстояли большие дела – тяжелый промфинплан, постройка, конец учебного года, кавказкий поход. Дорошенковский созыв, по мнению бюро, растрепал коммуну: воров завели, потеряли Воленко, разбаловали пацанов, не сумели крепче связаться с инженерами, проектировавшими новое производство. Только и заслуг было, что приступили к дороге. И в бюро и среди актива все высказывались за крепкий состав совета:
– Надо выбирать таких, чтоб корешкам не смотрели в зубы.
В некоторых отрядах не нравились такие идеи. Литейщики и кузнецы доказывали:
– У нас все одинаковы. Кого отряд выдвинет, тому и будем подчиняться.
На избирательном общем собрании споров не было.
Бюро выдвинуло еще одно предложение: не избирать отдельно дежурных по коммуне, а дежурить командирам по очереди:
– А то у нас так: дежурный на части разрывается, а командиры смотрят – пускай себе. А вот когда он будет знать: сегодня этот дежурит, а завтра я, так у него другой порядок в отряде будет.
Против этого никто не возражал – в самом деле – да и начальства меньше. Это постановление имело в дальнейшем огромное значение. Коммунары в коллективе сделались с тех пор действительными руководителями нашего коллектива.
Собрание выбрало таких кандидатов:
Первого отряда – Землянский
Второго отряда – Швыдкий
Третьего отряда – Ширявский
Четвертого отряда – Клюшнев
Пятого отряда – Похожай
Шестого отряда – Кравченко
Седьмого отряда – Дорохов
Восьмого отряда – Студецкий
Девятого отряда – Сергиенко
Десятого отряда – Вехова
Одиннадцатого отряда – Пихоцкая
Секретарем совета командиров выбрали Никитина, подчеркивая этим избранием большие задачи нашего самоуправления. Никитин – самый старый коммунар, пребывавший командиром несколько раз. Он до сих пор находился как бы в покое, и выбирали его только в самые ответственные комиссии. Никитин – человек, прежде всего, суровый, во-вторых, Никитин знает все…
…
…
[14 Положение на фронте (…)]
…
15 Четырнадцатое июля
…
…напихал Колька всякого добра: бинтов, йоду, каких-то капель, английской соли…
Было много мороки со всеми этими мелочами. Уже с июля стали собирать ребята старые газеты, чтобы выложить ими в корзинах.
Совет командиров мобилизовал всех женщин в коммуне научить ребят складывать костюмы так, чтобы они не мялись и не мешали друг другу. Это оказалось довольно сложной наукой, и многие пацаны с трудом постигали ее теоремы. Командирам по горло было забот с общевзводным имуществом: ведра, топоры, гвозди, веники, фонари. Фонарей «летучая мышь» полагалось на каждый взвод три штуки. А для фонарей нужен был керосин, а для керосина банки.
В особенности много повозились мы с лагерями. Сначала думали взять палатки с собой в поход. По этому вопросу долго спорили на общем собрании. Маршрутная комиссия требовала, чтобы палатки сопровождали нас по Военно-Грузинской дороге. Панов говорил на собрании:
– Вы не думайте, что там для вас везде приготовлена хорошая погода. А если дождь, куда вы денетесь на дороге?
– Дождь не страшно, – говорили на собрании, – ну что ж, помокнем немного. А ты говоришь: палатки. Ну хорошо, возьмем палатки. Вот пришли мы на ночлег, а тут на тебе: дождь… что ты будешь делать?
– Как что? Разобьем лагерь!..
– Разобьешь, какой ты скорый! Во-первых, чтобы развернуть палатку и натянуть, нужно не меньше как полчаса, и ты измокнешь, и палатка вся мокрая, а во-вторых, на каком же месте ты ее разобьешь?
– Как на каком? Мало ли на каком? На каком удобнее…
– А я тебе скажу, на каком…
– А ну, скажи…
– На мокром…
Общее собрание взрывается смехом.
– Верно, на мокром…
– И придется ложиться все равно на сырую землю. А на другой день ты палатку должен свернуть? Должен?
– Ну, должен, – говорит уже сбитый с толку член маршрутной комиссии.
– А как ты ее свернешь, если она мокрая, ее сушить надо? А если дождь не перестал?
– Верно, – закричали в собрании, – не надо палаток… возиться с ними.
Но маршрутник не сдается.
– Вы так говорите, как будто вы маленькие или дурачками прикидываетесь. Смотри ты: пошел дождь, а он полчаса палатку натягивает, и он, бедный, измокнет, и палатка измокнет, все пропало. А разве так делается? Видим, туча находит, значит, стой, разбивай лагерь, пока там дождь…
Редько перебивает:
– А туча прошла, опять свертывай, так перед каждой тучей и будем, как на ярмарке, развертывать и свертывать…
Собрание снова хохочет, хохочет и маршрутная комиссия.
– Ну хорошо, мокните, нам все равно, а вот другое – вы знаете, что такое Крестовый перевал?
– А что там страшного?
– Мы вот ехали с Антоном Семеновичем, так прямо по снегу три километра над уровнем моря, а там ночевать придется или близко оттуда, а где ты согреешься?
– В палатке?
– Ну да, в палатке…
– И в палатке не согреешься…
Крестовый перевал все же не дождь, и над ним коммунары задумались. Потом решили удлинить марш через перевал: пройти за один день верст пятьдесят и таким образом избавиться от ночевки в самом холодном месте. А на всякий случай согласились:
– Ну и померзнем, не большая беда, как-нибудь друг друга нагреем.
Лагери решили отправить прямо в Сочи товарным грузом, а для постройки лагерей командировать в Сочи Панова – он знает место для лагерей, а Военно-Грузинскую он все равно уже видел. Панову только пятнадцать лет, но он уже на втором курсе. Славится он постоянной бодростью, очень малым ростом и великими математическими способностями. Вместе с Пановым посылаем Семена Моисеевича Марголина.
Марголин – фигура последней формации. Ему лет тридцать, и официальное положение его в коммуне – киномеханик. В коммуне он должен бывать раза два в пятидневку, пропустить фильм, и за это он получает сто восемь рублей в месяц.
Но коммунары уже давно усовершенствовали Марголина. Чего только Марголин не делает: он и ремонтирует проводку, и чинит моторы, и устраивает иллюминацию, и достает билеты для культпохода, и покупает мазь для оркестра, он «и швец, и жнец, и в дуду игрец». И если Марголин какое-нибудь поручение выполнит плохо, на него сердятся и кричат:
– Сенька, ты опять напутал? Как тебе говорили, ты чем слушал?
Сенька всегда весел и доволен жизнью – он влюблен в коммуну. Из-за коммуны он забыл дом, семью, жену, семейное счастье. Жена Сенькина, маленькая изящная женщина, иногда приходит в коммуну, улыбается сквозь слезы и жалуется:
– Что это такое? Четыре дня не было дома…
Тогда Сеньке говорят:
– Ты что ж, и дома путаешь все!.. Ступай домой да смотри, не забудь завтра зайти узнать, как там фанфарные занавески, готовы?
Сенька сейчас возится с лагерями: надо запаковать доски, колья, веревки, надо достать вагоны, приготовить инструмент…
Посторонний человек, приехавший в коммуну, не заметил бы никаких приготовлений к походу. Так же чисто в коммуне, так же расцветает день сигналами, так же шумят мастерские и журчит наука в классах. Только где-то глубоко в подвалах, кладовках, на черных дворах рассчитывают, измеряют, закапывают наши будущие походные дни. По вечерам коммунары толпятся на стройке, спорят с Делем и Степаном Акимовичем, и только немногие возятся со своими корзинами. У пацанов дела больше всего. На их плечах прощальный вечер в клубе ГПУ. Кружок пацанов, поставивший в свое время «Постройку стадиона», не разошелся. Он ставит обозрения на какие угодно темы. Он уже поставил «Дзержинцы в Европе» и «Паровоз», а теперь готовит сложную политическую сатиру под названием «Red Army». Чего только нет в этой сатире: Пуанкаре, Бриан, Макдональд, Пилсудский, китайские генералы, рабочие и, самое интересное, Красная Армия. Постановка – дело сложное. Не только нужно знать текст, не только играть, но и костюмы приготовить и все художественное оформление. И все это должны сделать пацаны.
В последние дни коммунары смеются, прыгают, радуются, а посмотришь на них внимательнее, и так ясно видно: устали ребята до последней степени – побледнели, похудели. Стали попадаться в совете командиров заявления:
– Прошу перевести меня в какой-нибудь другой цех, так как я здесь очень уморился.
В совете командиров не потворствовали малодушным:
– Все уморились, отдохнешь в Сочи.
В последний раз собрался совет командиров 10 июля, чтобы разрешить много последних мелочей. Пристал строитель Вастонович:
– Надо приступать к перестройке главного дома – убирайте все ваше добро.
Убрать не так легко: мебель, гардины, портреты, книги, кровати. Насилу нашли такое помещение, перестройку которого согласился Вастонович отложить до нашего возвращения.
И еще вопрос: кому передается переходящий приз – знамя коммуны? Девочки выполнили промфинплан лучше всех цехов, а у девочек лучший отряд одиннадцатый. Но у металлистов лучший отряд четвертый, и по выполнению норм он первый в коммуне. Оба отряда заявили свое право на знамя. Помирить их совет командиров не мог и решил на время похода выбрать специальную знаменную бригаду. Общее собрание выбрало знаменщиками Конисевича и Салько, ассистентами – Похожая и Сергея Соколова.
Наконец, настали последние дни. Закрыли школу. Опустошили все комнаты коммуны – попрятали все подальше, свернули лагери и отправились на вокзал.
13-го вечером расформировали отряды и ночевали уже в походном порядке – по взводам, а 14-го уже и делать нечего. Пацаны что-то заканчивают к постановке, хозкомиссия раздала последний багаж по взводам. Командир четвертого отряда Клюшнев один оказался в маленьком прорыве:
– Как я сдам знамя? Кисти такие старые, одни кулачки остались. Сколько раз говорил Степану Акимовичу…
В четыре часа дня послали кого-то в город за кистями.
За обедом прочитали приказ:
«Коммуне имени Дзержинского с 14-го числа считаться в походе. Заведование коммуной на месте передается товарищу Левенсону. В пять часов вечера всем построиться в парадных костюмах для марша в клуб ГПУ. После вечера в клубе всем переодеться в походные костюмы и строиться для марша на вокзал. Обоз все время при колонне».
В пять часов проиграл Волчок общий сбор. В сторонке уже стояли нагруженные доверху восемь возов обоза. Выстроились в одну шеренгу против фасада коммуны, на правом фланге заблестели трубы оркестра, засмеялись на солнце занавески фанфар. Белый строй коммунаров незабываемо красив, свеж, совершенно необычным мажорным мотивом врезывается в память. На макушках коммунаров золотые шапочки, только командиры в фуражках с белым верхом.
Пробежали последние деловые пацаны. Кто-то поправил завязку на ногах, кто-то потуже затянул пояс, девочка отряхнула последнюю нитку с юбки и, улыбаясь, смотрит на меня:
– Ох, и хорошо ж!..
– Под знамя смирно!
Вынес четвертый отряд знамя в чехле и замер перед фронтом. С правого фланга отделилась знаменная бригада, под салют оркестра приняла знамя, и вот оно уже на правом фланге во главе нашей белоснежной колонны, чтобы быть там полтора месяца. Высоко подбрасывая пятки, стремглав пролетел Алексюк со своим флагом на место.[318]
Против нашего строя собрались служащие и рабочие коммуны, строители, техники, на стройке затихли стуки и опустели леса. Многие идут с нами в клуб на прощальный вечер.
Как будто все готово. Несколько прощальных слов остающимся, несколько пожеланий с их стороны.
Соломон Борисович смотрит на нас и волнуется, на глазах у него слезы:
– Эх, поехал бы с вами… хорошие мальчики и девочки, мне трудно без них… Ах, как они работали, как звери, как звери!
– Соломон Борисович, станки ж, смотрите! – кричат из третьего взвода.
– Хорошо, хорошо, ты не бойся…
– Ну, пора.
– Колонна, смирно!
Но кто-то прорвался сквозь строй и дышит так, как будто у него все цилиндры лопнули.
– Что такое? Где ты был?
– Кисти!..
– Ах, кисти!..
Склонилось знамя, и несколько человек занялось его украшением.
– Ну? Больше ничего не будет?
– Ничего, можно трогать…
– Колонна, смирно! Справа по шести, шагом марш!
Тронулся, зазвенев, оркестр, тронулось знамя, ряд за рядом перестраивались коммунары, проходя мимо заулыбавшихся родных пацанов левого фланга.
16 Первые километры
Рано утром пятнадцатого июля коммунары уже сидели в вагонах. В первом поместился оркестр, во втором – первый и третий взводы, в третьем – второй и четвертый – пацаны и девчата. Поместился и я с этой компанией, наиболее предприимчивой и опасной в пути.
Ожидая посадки на вокзале, истомились без сна, и поэтому, как только распределили командиры места, открыли ребята корзинки, достали одеяла и завалились спать. Даже самое замечательное наслаждение, о котором все мечтали за месяц до похода – смотреть из окна вагона, было отложено до будущего времени. Только в Донбассе выставили ребята любопытные носы в окна и засыпали друг друга вопросами:
– Ты, наверное, не знаешь, что это за такие кучи?
– Я знаю.
– Ты, наверное, думаешь, что это уголь? Ха, ха, ха…
– А по-твоему, это дрова?
– Это – порода. Понимаешь? Порода, земля…
– А ты все понимаешь? Это, по-твоему, доменные печи?
– Нет, не доменные.
– А что?
– А тебе какое дело, что?
– Это тоже порода?
– Вот народ какой, эти пацаны!.. – говорит Сопин, командир четвертого взвода. – Ну вот, из-за чего они ссорятся?
– Мы разве ссоримся? Мы разговариваем.
– Знаю, какие эти разговоры. Это разговор, а через минуту начинают драться. У меня во взводе чтобы этого не было!
В переднем вагоне заиграл сигнал. Пацаны прислушались.
– Хлопцы, на завтрак!..
Из-под одеял высунулись головы.
– Странно, как-то, вставать не играли, поверки не играли, а прямо в столовую…
В вагон входит Кравченко, член хозкомиссии и ее признанная душа.
– Командир, давай пацанов, получить по фунту хлеба, по два яйца и по яблоку.
– Мы в хлебе не нуждаемся, – говорит Сопин.
– Отправишь двадцать буханок в средний вагон, там разрежем.
По вагону проходит Клюшнев. Сегодня он дежурный командир.
– Чтобы в вагоне не было скорлупы, крошек, санобход будет после завтрака.
Они с Кравченко удаляются, преисполненные важности, – они имеют право переходить из вагона в вагон. За ними отправляется несколько пацанов за завтраком. В отделении девочек тоже зашевелились. Прибежали старшие за буханками и тоже в зависти.
– Вот здорово, у них какие окна, по три человека может смотреть…
Снова в вагоне Кравченко.
– Если у кого попадется плохое яйцо, скажи командиру – обменяем.
Кравченко великий специалист своего дела. Он провел хозкомиссию в крымском походе и теперь, когда его выбирали, чуть не плакал:
– Пожалейте, хлопцы, никогда покою нету, и день и ночи паришься.
Но хлопцы его не пожалели:
– Не ври, чего там паришься! А у нас поход серьезный, сам понимаешь! А тебе что? Мы пёхом жарим, а ты в обозе едешь, и пищи у тебя хоть завались…
– Та на ту пищу дывытысь протывно…
В крымском походе с ним случилась смешная история, которую никогда коммунары не забудут. Колонна коммунаров спустилась в Симеиз прямо от обсерватории через Кошку, а обоз пошел по шоссе. На каком-то повороте слез Кравченко с воза и присел на дороге переобуться, потом на что-то загляделся и потерял обоз из виду. Бросился вдогонку, попал не на ту дорогу и совсем заблудился. Обоз вошел в Симеиз, присоединился к колонне, а Кравченко нет. Ждали, ждали и забеспокоились. Уже стемнело. Послали трубачей в горы и сказали:
– Играйте сбор, не поможет – играйте на обед, обязательно прибежит.
Но и «на обед» не помогло. Так Кравченко и не нашли и без него на другой день отправили обоз в Ялту, а сами погрузились на катер. Большинство было опечалено трагической гибелью Кравченко, но опытные коммунары говорили:
– Найдется старый, не бойтесь…
Действительно, в Ялте на набережной, когда мы сходили с катера, нас встречал Кравченко, измазанный и потертый.
– Где тебя черт носил? – спрашивают у него.
– Да где ж? Я ото отстал от обоза, черт его знает, куда оно повернуло, ходил, ходил, та й пришел в Симеиз отой самый. Спрашивал, кого только не спрашивал, чи не видел кто обоза, так никто и не видел, как сквозь землю провалился. Так я й пошел прямо в Ялту, денег со мной же не было…
Коммунары, пораженные, выслушали эту исповедь.
– Да слушай ты, халява!
– Ну, чего же я халява? – спросил Кравченко обиженно.
– Халява! А чего ж ты не спросил, чи не бачылы тут хлопцив з музыкою?
– Та на що мени музыка ваша, – разозлился Кравченко, – когда мени обоз був нужный!.. А дэ ж вин зараз?
– Кто?
– Та обоз же, от ище дурень…
– Обоз в пять часов отправился в Ялту.
Кравченко бегом бросился в город… Так и не разобрал он, почему его назвали халявой.
Теперь Кравченко опытнее и, пожалуй, не потеряется, но и теперь он умеет ограничить свои действия формулами самой ближайшей задачи.
После завтрака культкомиссия притащила газеты и журналы, купленные на узловой станции. Но недолго коммунары предавались политике, завязались разговоры. Они были на границе двух эпох, совершенно не похожих одна на другую: они только что оставили свои станки и развороченную в стройке коммуну, но еще не вступили в сложные переплеты похода. Говорили все-таки больше о коммуне.
– А интересно, чи отремонтирует станки Соломон Борисович?
– А на что тебе станки эти? Там, брат, будут такие машины!..
– Не успеют к нашему приезду…
– Успеют!..
– А здорово дорога вышла, красота!..
– А вот хлопцы, сто пятьдесят новеньких как напрут, ой-ой-ой… Напрасно мы позадавались перед Правлением.
Дело в том, что в Правлении все-таки побаивались – новенькие разнесут. Но коммунары в Правлении говорили:
– Вот увидите, как тепленькие на места станут…
– Все-таки лучше пригласить двух-трех воспитателей.
– Хуже, гораздо хуже, волынка будет. Вот увидите: срок четыре месяца, через четыре месяца не отличите, где старый, где новый, мы уже это знаем.
Это положение – обработать новых за четыре месяца без помощи воспитателей – без всякого формального постановления сделалось почему-то обязательством коммунаров, его признавали как обязательство и коммунары и Правление и о нем часто вспоминали. Большинство коммунаров считало, что вопрос о новых вообще – вопрос пустяковый, гораздо труднее в их глазах был вопрос о заводе.
Только подъезжая к Владикавказу, мы стали больше предаваться перспективам ближайшего будущего. На Минеральных Водах на секундочку задержались с воспоминаниями: многие ребята в свое время посетили Минеральные Воды и не имели командировки Курупра[319]. Вспоминали сдержанно и недолго:
– Тут летом жить можно…
Владикавказ встретил нас проливным дождем. Из вагонов не вышли, думали: вот перестанет. Но дождь у них какой-то странный: жарит и жарит с одинаковой силой, без всякого воодушевления, ровно, упорно, и самому ему как будто скучно так однообразно поливать землю, а он все-таки поливает и поливает. Просидели час в вагонах и пришли в полное недоумение. Собрали совет командиров взводов.
Никитин председательствует в совете. Степан Акимович зло смотрит на станционное здание, поливаемое дождем.
– Вот дьявол заладил. Так вот, товарищи. Под таким дождем погрузиться на подводы, достать хлеба, выступить невозможно.
– Уже и поздно, – говорит Никитин, председатель маршрутной комиссии. – Нам полагалось выйти из города в 10 часов, а сейчас уже два. Опоздали, а теперь дождь этот, пока соберемся и нагрузимся, будет уже вечер, куда же идти под дождем. Давайте ночевать…
С нами сидит и думает представитель ОПТЭ[320].
– А как же обед? Мы для вас обед приготовили. А ночевать где вы будете?
– А нельзя в вагонах?
– А пожалуй, что и можно…
– А обедать как-нибудь проберемся позже…
На том и решили. Начальник станции разрешил переночевать в вагонах. Коммунары занялись уборкой, часть отправилась на поиски фруктов, и через пятнадцать минут весь базарчик на площади перед вокзалом был прикончен. Под вечер кое-как пробрались в город и пообедали.
Представитель ОПТЭ говорил нам:
– На дождь не смотри, дождь три дня, четыре дня будет. Ты иди, там дождя не будет…
Решили завтра выступать во что бы то ни стало. До вечера спорили и торговались с возчиками, договорились о шести парных арбах за пятьсот рублей до Тифлиса. Помогло то обстоятельство, что мы захватили с собой из Харькова несколько мешков овса.
Утром проснулись – к окнам: дождя нет, но небо несимпатичное – все равно дождь будет. Хозкомиссия наскоро выдала по куску колбасы. Объявили приказ:
«Немедленно погрузить обоз. Строиться на площади в обычном порядке, форма одежды летняя (выходные трусики и парусовки). Караул при обозе от первого взвода».
Пробежали командиры на площадь, распределили между собой арбы. Потянулись коммунары через рельсы с корзинками, ящиками, трубами. Обоз грузили долго и мучительно. Осетины завидовали друг другу и не признавали нашей взводной организации, перебрасывали ящики и корзинки с воза на воз, упрекали нас в обилии багажа. Коммунары уговаривали их:
– Ты кушать будышь?
– Кушать будым, – смеется старик с обкуренной сединой в бороде.
– И мы будым.
– Зачем так много кушать брал?
– Про тыбэ все думал.
Старик смеется. Смеется и коммунар и уже по-русски доказывает:
– Ты не бойся, тут еды на сто пятьдесят человек. Вот в Балте подзаложим, легче станет, а в Тифлис придем – пустые арбы будут. Все поедим.
Теперь уже старик шутит:
– Ты и корзынка поедыш?
– Корзынка не-э-э-эт, – хохочут коммунары.
Осетины постепенно делались добрее и сговорчивее. Но обнаружилась другая беда: веревок у осетин нет, шины на колесах еле держатся, ободья тоже «живут на ладане», как говорит Соломон Борисович.
– Как мы доедем? – спрашивает Степан Акимович.
– А чиво?
– Как чиво? Двести километров…
– Доедым, не бойся…
– А веревка?
– А веревка нужный, это верно…
Начинается дождик. Веревок нет, и за хлебом только что уехал Кравченко на пустой арбе. Решили выступать и подождать обоз при выходе из города. Три арбы, впрочем, готовы выступать с нами.
Построились, вынесли знамя.
– Шагом марш!
С музыкой пошли через город. Нигде я не видел таких ужасных мостовых, как во Владикавказе. То взбираешься, на неожиданно выплывший каменный зуб, то проваливаешься в ущелье, наполненное дождевой водой. Вышли в центр города. Левшаков впереди размахивает руками, потерял человек всякую парадность. Обгоняю оркестр, подхожу к нему.
– Не спеши, пацанам трудно.
– Надо же окончить поскорее эту каторгу!
Нагоняет меня и пацан из четвертого.
– Одна арба рассыпалась!
Посылаю тройку из первого взвода. Наконец переходим через Терек, проходим еще около километра, и мы на краю города. Останавливаемся около верстового столба, на котором стоит цифра 1. Мы уже на Военно-Грузинской, впереди нас горы, покрытые сеткой мелкого дождя. С нами пришла только одна арба, остальные отстали. Выясняется, что со второй арбы свалилось два ящика.
– С чем ящики? – тревожно спрашивает Левшаков.
– С яйцами, кажется.
– Ну, будет дело, – говорит Левшаков.
Распускаем колонну, но дождь все усиливается, а спрятаться негде. Около часа терпеливо мокнем, наконец надоело. Прибежал гонец от Степана Акимовича:
– С хлебом и веревками еще задержимся немного.
Посылаю гонца обратно:
– Скажи: колонна ушла, ожидаем обоз на восьмом километре.
Я дал приказ двигаться дальше «вольно». Знамя привязали к арбе, очередные разобрали басы. Еще в коммуне был составлен план переноски басов, каждый коммунар знает, от какого километра до какого он несет бас, от кого принимает и кому сдает – вышло в среднем по десять километров на человека, девочкам поменьше.
Пошли «вольно» и сразу быстро. Человек восемь взялись под руки: я, Акимов, Клюшнев, Камардинов, Харланова и еще кто-то – и широкой шеренгой двинулись вперед. Через минуту нас вприпрыжку обогнала стайка пацанов и скрылась за поворотом. Кто-то из них обернулся, крикнул:
– На восьмом километре?
Мне с коммунарами идти трудно: я в сапогах, а они в трусиках и в легких спортсменках, но нужно держать фасон. Идем очень быстро, за нами растянулась вся коммуна, далеко позади темнеет громада единственной арбы, следующей за нами.
Подошли к Тереку. Справа поднимается уже какая-то гора. Есть коммунары, изучившие Анисимова[321] на ять. Они называют имя этой горы и что-то разглядывают на ее склонах. Но дождь еще поливает нас, и никому не хочется заниматься геологией. Нас все обгоняют и обгоняют, и мы уже слышим за собой понукание нашего возчика.
Только на шестом километре вышли мы под ясное небо. Задержали шаг и окунулись в тепло и солнце. Громче защебетали девочки, заиграл смех, кто-то за кем-то уже погнался. Прошли мимо каких-то хаток и впереди нас спускающейся вниз дороге видим: на каменном парапете сидят все коммунары, как воробьи на проволоке, длинной белой лентой отделяют бурный Терек от линейки шоссе. Догадались – это и есть восьмой километр. Подошли и мы и тоже уселись на парапет.
Фотокружок уже наладил на нас аппараты: рыжий Боярчук, Левка Салько и Козырь имеют в обозе целый ящик с пластинками.
Отдыхали недолго. Через четверть часа кто-то уже полез на ближайшую кручу, а пацаны уже бродят в отмелях Терека, и на них кричит ДЧСК:
– Ты же в выходных трусиках, что же ты их купаешь?
– Я не купаю… А смотри, какая вода холодная, а купаться негде.
Терек сейчас невиданно полноводен, грязен и бурлив. Он плюется сердито на пацанов и не дает им купаться. Пацаны тоже недовольны Тереком:
– Терек, Терек! Что за речка такая – замазура!
Группа с Филькой во главе потеряла терпение и замелькала пятками по дороге к городу.
– Куда вы?
– Обоз встречать…
Через полчаса они представили обоз в полном составе. Целая корзинная оргия на арбах, а рядом с возчиками наши караульные и держат в руках винтовки. Примостился с ними и Степан Акимович, и пацаны упрекают его:
– Хитрый какой!..
– Чудак, чего ты ругаешься? Я ж тебя скоро обедом кормить буду. Увидев обоз, пацаны вдруг спрыгнули с парапета и поскакали вперед по дороге, потом вдруг остановились:
– А где будем обедать?
– На пятнадцатом километре, – говорит Никитин.
За первым поворотом открылись новые пейзажи, новые ласковые мохнатые горы. Золотые шапочки коммунаров рассыпались и по дороге, и по откосам гор, и на берегу Терека. Мы бредем сзади с Левшаковым. Прошли маленькую деревушку Балту. За последней хатой через дорогу течет целая река прозрачной воды и падает водопадом с края дороги в балочку: высота водопада метров шесть. На дне балочки идет пир горой. Коммунары быстро сбрасывают легкие одежды и бегом слетают на дно под оглушительный удар водопада. Их с силой швыряет на дно, они перекатываются в шипящем потоке и снова в атаку. Один Миша Долинный стоит под самой стенкой и только покряхтывает. Левшаков без разговоров снимает рубашку и штаны. Левшакову шестьдесят лет, но он крепок и румян.
– А трусики что же не снимаешь?
– Купаться полагается в трусиках, – говорит Левшаков ехидно. – Это только граки без трусиков купаются…
Коммунары защищаются:
– Вам хорошо, как у вас, какие надел трусики, в таких и есть, а у нас сегодня выходные. Кто это такой приказ придумал, Никитин все…
Левшаков лезет под водопад. Миша протягивает ему руку, но с Левшакова уже сбило трусики, и они путаются у него в ногах. Через секунду и сам Тимофей Викторович летит на дно и сваливается в одну кучу с пацанами…
– Ох, и хорошо же! – кричит он. – Вот это я понимаю – пляж!
Десяток пацанов облепил грузное тело Левшакова и катит его снова под стенку – визг, хохот, кутерьма и хаос… Девочки осторожно обходят эту неприличную кашу, и сняв спортсменки, бредут через реку на дороге. Над водопадом стоит Колька и бубнит:
– Х-х-х-олодная в-в-вода, п-п-п-ростудитесь, черти, г-г-де лечить в-в-вас…
– А вы, Николай Флорович, померяйте температуру, может, она, и не холодная…
Где-то далеко впереди пищит сигнал на обед.
– Ой, лышенько ж! – вскрикивает Кравченко и вылетает из водопада. На пятнадцатом километре расположился бивуак, и хозкомиссия делит обед. Хозкомиссия в затруднении – свинины хватает только на четыре взвода, так щедро разрезали. Левшаков держит в руках пять спичек – одна без головки.
– Всегда нам так выпадает, – говорит обиженно командир второго Красная.
– В свинине не везет, в любви повезет, – говорит Левшаков.
Девочки надуваются и молча сидят на камнях.
Кравченко смущенно держит перед ними нарезанную колбасу:
– Та чого ты, дывысь, що там доброго в тий свыни…
Но через минуту девочки уже торжествуют: свинина оказалась с небольшим запахом.
В семь часов мы подходим к деревне Ларс у самого входа в Дарьяльское ущелье. Снова брызгает дождик – на дворе спать нельзя. У самой дороги школа, а в школе две маленькие комнатки. Командиры двигали, двигали плечами, а ничего не поделаешь – нужно размещаться. Для девочек сделали загородку из парт, корзинки поставили высокими стенками и кое-как, один на другом, улеглись. Вдруг открытие: рядом казарма, там почти никого нет, есть нары…
– И клопы, – говорит Левшаков.
Часть хлопцев перебирается в казарму. Левшаков начинает здесь крупную операцию, достает из чемодана примус, на примус ставит чайник. Пока закипает чай, хозкомиссия втаскивает два ящика с яйцами, и Левшаков с увлечением приступает к работе во главе хозкомиссии. Нужно перебрать два ящика яиц. Скоро казарма наполняется невыносимым запахом тухлого яйца, но Левшаков неумолим:
– Нельзя, иначе все завоняется.
Целую ночь они работают, а мы с Дидоренко пьем чай и иногда выходим к обозу. Под брезентами стоят арбы, а сторожевые коммунары мокнут под дождем.
Только в два часа ночи вошел в казарму Конисевич и сказал:
– Хорошо… Дождик перестал, уже одна звезда светит…
17 Тоже первые километры
Утром проснулись рано. Всех обрадовал ясный день и знакомый со вчерашнего дня шум Терека. Побежали на горку к ключу и через полчаса уже построились. Проиграли один марш, и снова «вольно» замелькали тюбетейки по Военно-Грузинской. Сегодня особенно радостно на душе, на каждое впечатление отзываются коммунары бесконечным птичьим гомоном, писком удивления и стремительным бегом. Природа здесь как будто нарочно построилась в нарядные цепи, чтобы встретить дзержинцев, прибежавших сюда побаловаться после утомительных скрипов и визгов ржавого производства Соломона Борисовича. Вот нашли старую дорогу и минутку постояли возле нее, вот влезли в какую-то поперечную речушку, благо сегодня трусики не выходные, вот остановились возле коровы, спустившейся к воде с зеленого склона.
– Ну и корова же, как коза, а не как корова, – говорит Алексюк, и вокруг него на мгновение замирают пацаньи голоса, чтобы немедленно разразиться:
– Отчего, как коза? Это такая у них и есть корова. А ты лучше посмотри на вымя. Ты видишь, сколько молока?
– Ну и что же? Сколько молока? Три кувшина!
– Три кувшина? Как бы не так. Здесь кувшинов десять будет, а то – три!
– Десять, какой ты скорый!
Старшие идут небольшими группами и солидно делятся впечатлениями. Только такие, как Землянский, не могут идти по дороге, а карабкаются по кручам и откуда-то из-за кустов перекликаются.
Скоро вошли в Дарьяльское ущелье. Оно не поразило ребят ничем грандиозным, но здесь все сложнее, и Терек сердитее.
Остановились возле замка Тамары.
– Так что? Она здесь жила, Тамара эта самая?
– Не жила, называется так…
– Нет, жила!..
– Да как же тут жить? С голоду сдохнешь…
– Чудак ты какой! Она же была царица!..
– Это ты чудак! Если царица, так чего ей сюда забираться? А может, она была того… Без одного винтика? Ну, тогда может быть…
Навстречу по шоссе грузовик, и на нем толпа рабочих. Нам вдруг бросают записку:
«Дальше ходу нету, размыло дорогу, остановляйсь, десятник».
Оглянулись, а грузовика и след простыл. Через два километра натыкаемся на целое проишествие: автомобили, группы туристов сидят на краю дороги и скучают. Коммунары облепили всю горку над дорогой. Расталкиваем толпу и видим: карниз шоссе вдруг прерывается сажени на две и зияет пустотой. Вниз в метрах десяти Терек. Через разрыв переброшена доска, и по ней бегают наши пацаны. К нам подходит человек в замасленном пиджаке и говорит:
– Я дорожный инженер. Вы заведующий этой детской колонией?
– Я.
– Дорогу мы восстановим только дня через три. Но я уже говорил с вашими мальчиками. Можно перебраться по досточке, только, вот, говорят, у вас обоз…
– Да, что же делать с обозом? Другой дороги нет?
– Другой дороги нет.
– А вот что сделаем, – говорит из-за моего плеча Фомичев, – разберем возы, разберем обоз и все перенесем…
– Как же вы возы перенесете? – спрашивает инженер.
– Да как? Колеса отдельно, оси отдельно, а лошадей переведем, у нас еще доски найдутся.
Подошел и наш обоз, вмешались в разговор возчики:
– Вэрна говорит маладой чилавэк…
– Это вам на день работы, – улыбается инженер.
– На день? – поднял брови Фомичев. – Через час уже пойдем дальше…
Думать долго не приходится. Я уже хотел трубить сбор командиров, чтобы распределить работу, как на меня налетел вспотевший и взлохмаченный грузин.
– Ты будешь начальник? Коммуна Дзержинского? Ты телеграмму давал, чтобы хлеб был и обед был?
– А ты кто такой? – спрашиваю.
– Я заведующий базой Казбек! Пойдем поговорим!
– Куда пойдем?
– Иди сюда, чтобы народ не слышал! Тебе нужно назад! Я тебя через Баку отправлю, на Тифлис нельзя идти…
– Да брось, товарищ, мы здесь переберемся.
– Здесь переберешься, дальше не переберешься. А тебе чего надо? – набросился он на коммунаров, уже обступивших нас.
– Да это свои, говори.
– На Тифлис не дойдешь. Это что? Это пустяк. За Млетами Арагва, ай, что наделала, что наделала! Пассанаур нет, Пассанаур поплыл, дороги нет тридцать километров, я оттуда бегом прибежал…
– Да врешь ты все…
– Зачем мне врать? Какой ты чудак! Вот смотри. Видишь, вот люди, видишь? Эй, иди сюда! Вот пускай он тебе расскажет.
Четыре человека подошли к нам. Это артисты из Ростова. Они тоже отправились пешком по Военно-Грузинской. Они рассказали, что чудовищный разлив Арагвы не только размыл дорогу, но и совершенно изменил карту местности. Арагва идет по новому руслу, частью покрывая шоссе. Пассанаур значительно пострадал. Горы во многих местах подмыты и завалены проходы. Они не могли пройти пешком, возвращаются во Владикавказ. О колесном обозе нечего и думать.
Мы с Дидоренко задумались: что делать?
– Да врет, может, черт чернявый.
– Так вот же артисты!..
– А артисты откуда, может, тоже из Казбека?
– Из Ростова.
Все-таки Диоренко попробовал:
– Может, у тебя обед не готов, так и выбрехиваешься! И хлеба, наверное, не приготовил!..
– Хлеба не приготовил? А ты думаешь, можно приготовить хлеб? Когда такое горе? Ты знаешь, сколько народу пострадало? А откуда я хлеб привезу? здесь, видишь, какое дело? А в Пассанауре Арагва, какой тебе хлеб?
– Что же делать?
– Иди назад! Я тебя отправлю через Баку! Я тебя не пущу, я не имею права!
– Как же ты меня через Баку отправишь?
– Я тебе дам бумажку.
– А печать у тебя есть?
– Печати нет…
– Ну, так и убирайся!.. Он меня через Баку отправит.
Я распорядился: всем коммунарам возвращаться обратно. Но коммунары в крик:
– Это все брехня! Наши возчики говорят.
Возчики что-то горячо доказывали в толпе коммунаров.
– Что вы тут говорите?
– Ны правда назад! Впырод можно, назад нэ нада.
– А вы откуда знаете?
– Наш чилавэк пришол, наш чилавэк гаварыл.
– Когда пришел? Когда говорил?
– Тры дня прышол.
– А чего ж ты молчал? – спрашивает Дидоренко.
– Нечиво гаварыть. Впырод можна…
Колька Вершнев подбегает красный, заикается до полного изнеможения.
– В-в-в-верно, н-н-н-адо идти!
Ребята взбудоражены, взволнованы, никому не верят и готовы лезть в какие угодно пропасти. Кто-то разговаривает с заведующим базой в таких горячих выражениях, что я посылаю туда дежурного командира. На Кольку я прикрикнул:
– Ты доктор, черт тебя заьери, а поднимаешь глупую волынку.
– А я г-г-г-говорю…
– Ничего не смей говорить, молчи!
– А к-к-к-как же?
Я приказываю Волчку трубить общий сбор. Когда все сбегаются, я приказываю:
– Становись!
– Куда становись?
– Стройся по шести лицом в городу.
Неохотно, надутые, злые коммунары разыскивают свои места в строю, оглядываются и все спорят, но я даю уже следующую команду:
– Равняйся! В оркестре!..
Удивленный Левшаков подымает палочку.
– Шагом марш!
Мы проходим с музыкой километра полтора до замка Тамары. Здесь на полянке, обставленной огромными камнями, у самого Терека, мы устраиваем общее собрание. Председательствует дежурный командир – Роза Красная.
Я доложил собранию, как обстоит дело. Как быть?
Высказывались почти исключительно сторонники продолжения похода. Кампанию проводят Колька и Землянский. Колька несколько успокоился и уже не так заикается.
– Сколько будет стоить дорога в Тифлис через Баку? Четыре тысячи рублей – это раз. Военно-Грузинской не увидим – это два, а провизии зачем набрали на десять дней – три. А пройти наверняка можно. Не пройдем по Военно-Грузинской, пройдем по какой-нибудь другой. Нужно идти – и все. А то через Баку. А как мы в поезд сядем – сто пятьдесят человек, а? А вагоны кто нам даст?
Ребята одобрительно галдят. Все в один голос:
– Врет этот заведующий, наши осетины говорят: можно пройти. И пройдем, вот увидите, пройдем!
Мы с Дидоренко почти в одиночестве – сторонники отступления почти не высказываются.
Я, наконец, попросил слова.
– Не могу, по совести, не могу вести коммуну на такой риск. Я верю заведующему и верю артистам. А что будет, если мы заберемся к Пассанауру, а оттуда ни вперед, ни назад? Хлеба мы сейчас нигде не достанем, потому что сообщение прервано. С нами пацаны и девочки. Можно разобрать обоз и перенести на расстояние пяти сажен, но это невозможно сделать на протяжении нескольких километров. Продолжают идти дожди, и мы не знаем, какие еще будут размывы завтра. Может быть, и сейчас мы еще будем отрезаны от Владикавказа. Возвращаются все туристы, у которых нет обоза, а вы хотите идти к Пассанауру, до которого шестьдесят километров, а там засесть на месяц или возвращаться обратно, только время потратим. Мы прошли пятьдесят километров, видели Военно-Грузинскую, не такая большая беда, если вернемся. Зато увидим Баку.
Коммунары недовольно бурчат:
– Опять в вагоны!
– А нарзаны, значит, улыбнулись.
Они мечтали об этих нарзанах как о каком-то необыкновенном счастье – нарзаны ожидали нас почти на перевале.
– А на что вам эти нарзаны?
– А как же? Панов говорил, аж кипят…
– Зато увидим нефтяные промыслы…
– Ну, голосуем, – говорит Красная.
Мы с Дидоренко со страхом ожидаем голосования. Если постановят идти вперед, придется нарушить конституцию и отменить постановление общего собрания.
– За «вперед» 76 голосов, за «назад» 78 голосов, – говорит Красная.
– Что же? Поровну, – говорит Колька.
– Ну, так что же?
Колькина компания вносит предложение:
– Голоса разделились. А может быть, мы правы. Пускай колонна идет к городу, а нас отправьте на разведку. Нас вот пять человек, мы проберемся в Казбек, там всё узнаем подробно. Где вы будете ночевать?
– Наверно, у деревни Чми – двадцать пятый километр.
– Мы к ночи вас нагоним. Если окажется, что в Пассанауре ничего страшного нет, вся коммуна пойдет снова в Тифлис.
Кое-кто протестует: до Чми нужно пройти двадцать пять километров… Давайте здесь ожидать разведку.
Я на это не согласился. Все равно из разведки ничего не выйдет, даром потеряем день. Есть постановление, и кончено. Можете идти в разведку, мы вас ожидаем у Чми.
Колька с компанией быстро собрались, взяли у меня несколько рублей и побежали к прорыву.
Через час после обеда мы двинулись на север. Еще через час последние клочки подавленного настроения слетели с коммунаров, и они снова засмеялись, завозились, запрыгали.
Солнце заходило, когда мы в строю и с музыкой подходили к деревне Чми. При входе в деревню небольшая площадка и немного повыше ключ. Здесь расположились на ночлег: распределили площадку между взводами, расставили корзинки, разостлали одеяла. Загорелось пять костров, каждый взвод варил на ужин яйца и чай. Пацаны верхом поскакали поить лошадей.
Все жители деревни сошлись к нашему лагерю. В деревне Чми большинство русских, между ними оказался и дорожный техник. Он подтвердил сведения о пассанаурской катастрофе и сказал, что идти на Тифлис ни в каком случае нельзя и что Военно-Грузинскую дорогу придется закрыть месяца на два.
Уже отдали рапорты командиры и проиграли «спать», когда вернулись наши разведчики из Казбека с опущенными носами:
– Такое делается в Казбеке!.. Народу тысячи, вертаются все. Идти нельзя – это правильно…
С первых проходящим грузовиком ремонтной организации Дидоренко уехал во Владикавказ. Завтра он должен устроить вагоны и возвратиться к нам.
Утром на другой день коммунары занялись приведением в порядок своих корзин, стиркой носовых платков и полотенец. Часть полезла на горы.
Левшаков вызвал охотников перебирать яйца – из ящиков шел сильный запах. Охотников набралось человек двадцать.
На лужайке в сторонке настоящий хоровод. Каждое яйцо идет по кругу, его рассматривают на свет, пробуют на нюх и определяют, куда оно годится. Совершенно исправные укладываются в чистый ящик и пересыпаются опилками, совсем плохие отбрасываются в другой ящик… Свежие, но разбитые сливаются в кружки, таких кружек стоит на горбике целая линия.
– Это наши трофеи, – говорит Левшаков. – Достанем сковородку и зажарим яичницу.
Над нами развернулся в полном блеске тихий жаркий день. Далеко видна дорога на Владикавказ, и по ней бродят пацаны, ожидая Дидоренко.
Дидоренко приехал на извозчике в двенадцать часов.
– Поезд есть на Баку в шесть часов вечера. Я звонил в Ростов и Грозный, сговорился, может быть, уже сегодня для нас приготовят вагоны. Нужно спешить, а я поеду еще звонить…
Он уехал в город. Нам нужно пройти двадцать пять километров и к пяти быть в городе, чтобы успеть погрузиться.
Обоз уже готов, построились молниеносно, коммунары уже знают, что волынить нельзя. Местные жители выскочили из своих хат и стоят в дверях, предвкушают музыкальное наслаждение.
– Шагом марш!
Всегда после этой команды ожидаешь удары оркестра, но сейчас моя команда повисла пустым словом в жарком воздухе…
– В чем дело, Тимофей?
Левшаков показывает на бабу, стоящую на пороге первой хаты:
– Сковородки пожалела… буду я для нее играть!
Баба метнула подолом и скрылась в сенях.
Коммунары хохочут, смеются и жители. Левшаков подымает руку:
– Раз, два…
Мы покрываем Чми раздольным полнокровным маршем – у нас в оркестре все-таки сорок пять человек.
Прошли деревню, распустили строй и бросились в город быстрым шагом. Это был очень тяжелый марш – по всей дороге ни капельки тени. Шеи, руки, носы, ноги пацанов здорово подгорели за сегодняшний день. Забавляться по сторонам дороги теперь некогда, коммунары идут, как будто работают: упорно, настойчиво и почти молча. Только пацаны пролетают мимо нас и занимают авангардные места, чтобы через полчаса снова оказаться в арьергарде.
Особенно тяжелы последние пять километров, прямая, как луч, дорога и безлюдные скучные площади предгорий по сторонам. Вот, наконец, и первый километр. Строимся и принимаем в строй знамя. Через город проходим таким же быстрым маршем, почти не замечая тротуаров и только раздраженно отмахиваясь от тучи мальчиков, налетевших на нашу колонну, как комары, влезающих в ряды, галдящих невыносимо.
К вокзалу подошли ровно в пять часов, молча и устало замерли. У Дидоренко нет ничего утешительного – вагонов сегодня не будет, может быть, завтра.
Маршрутная комиссия предложила место для ночлега – сад начальника станции. Сад не сад, но есть и деревья, и травка, и весь он обнесен каменным забором с решеткой. Расстались с возчиками и потащили в сад ящики с консервами, с яйцами, с колбасой… Устроились, приготовили постели, можно отдыхать, обедать, пить чай. Славный теплый вечер, и решетка забора до самого верха забита зрителями.
– Мы – как в зверинце, – говорят коммунары.
По углам сада стали часовые.
Следующий день весь истратили на телефонные разговоры. Только к пяти часам добились толку. Телефонограмма из Грозного гласила, что три вагона прицепят для нас к поезду, который пойдет через Беслан в девять часов вечера, – к поезду № 72.
Я заплатил в кассе за 156 билетов до Тифлиса 4037 рублей.
Беслан – станция на линии Ростов – Баку, а от Беслана к Владикавказу – ветка в двадцать один километр. До Беслана нам нужно дотащиться дачным поездом. Это целая история. Снова грузимся в вагоны, а в Беслане снова выгружаемся. Станция Беслан забита пассажирами, всех согнала сюда Арагва своим истерическим припадком.
Уже темно. Нашли отдельную площадку, на которой еле-еле можем поместиться стоя. Но коммунары умеют очень быстро навести порядок. Через пять минут уже можно жить: у каждого взвода некоторое подобие квартиры, ящики изображают квартирный уют, корзинки сложены правильными стопочками, коммунары беседуют, улыбаются, что-то рассматривают и совершенно спокойны. Хозкомиссия в углу раздает ужин. Дидоренко приносит потрясающее известие.
В телефонограмме Грозного была ошибка: три вагона для коммунаров были прицеплены к поезду № 42, который прошел два часа назад, а к поезду № 72 никаких вагонов не прицеплено, и поезд идет переполненный…
– Так…
Надо все-таки садиться…
Никто не верит такой возможности.
Начальник станции в панике. Он может дать телеграмму в Минеральные Воды, чтобы для нас освободили один вагон, а остальным придется следующим поездом.
– А когда следующий поезд?
– Завтра утром. Но он тоже будет переполненный…
Если бы не бесчисленное количество наших вещей, если бы не оркестр, если бы не тяжелые ящики…
Командиры взводов высказываются единодушно: разделяться нам нельзя, надо всем вместе ехать.
– Сядем, только нужно, чтобы не было паники.
– А долго стоит поезд?
– Десять минут.
Собираем всех. Я говорю коммунарам:
– Товарищи, нам нужно сесть в переполненный поезд в течение десяти минут. С этого момента никаких разговоров, никакого галдежа. Слушать только команду. Никаких движений без команды. Считайте себя, как будто вы в бою.
– Есть! – кричит все собрание.
На темном перроне все забито людьми, сундуками, чемоданами, мешками. Я вывожу взвод за взводом и выстраиваю коммуну в одну шеренгу по всему краю перрона. Возле каждого коммунара – корзинка, а кроме того, ящик, или труба, или сверток. Публика начало было ворчать, но наша суровая решимость и на нее произвела впечатление. Она состояла почти исключительно из туристов, а это народ настолько культурный, что не будет драться с коммунарами. По всему фронту начинаются знакомства и разговоры.
Через десять минут, обходя фронт, я слышу сочувственные призывы:
– Нет, товарищи, пусть они усаживаются, а мы подождем. Они сами не хотят разбрасываться по всему поезду, это правильно, им нужно три-четыре вагона, и нам останется.
Тем не менее в некоторых точках фронта давление на нашу тонкую линию довольно тяжелое, здесь становится несколько стрелков охраны. Дидоренко взял на себя левый фланг. Он в форме и это сейчас имеет значение.
Хуже всего то, что мы не знаем, какие вагоны будут менее наполнены и где будет вагон, оставленный для нас в Минеральных водах. Выделяем разведку из пяти человек: Акимов, Землянский, Оршанович, Семенов и Гуляев. Разведка должна быстро пробежать по вагонам и приблизительно установить наиболее выгодные пункты.
Разведчики сказали: «Есть!» – и исчезли. Я догадался – побежали навстречу поезду, хотел погнаться за ними, но потом махнул рукой – народ бывалый.
Наконец показались фонари паровоза. Коммунары спокойны, пацаны даже о чем-то мирно беседуют, почти шепотом. На станции торжественный порядок, даже публика загипнотизирована и не колышется, не бросается никуда. Поезд подходит медленно, мимо нас мелькают окна вагонов, перерезанные поднятыми полками и спящими телами.
Подошел Дидоренко:
– Плохо, поезд полон…
Поезд остановился, но и мы стоим, совершенно невозможно сообразить, куда бросаться. Начальник станции топчется возле нас:
– Это очень трудное, это невозможное дело…
Подбегает ко мне Акимов.
– Задний вагон свободен…
Теперь уж можно давать команду.
– Второй, четвертый взводы, басы, тенора, баритоны, барабан – в задний вагон.
Второй взвод повернулся и гуськом двинулся к хвосту поезда. Но девочки еле-еле поднимают ящики и корзинки.
– Из первого взвода десять человек в помощь второму!
Бегом прибежали десять коммунаров: сильные, пружинные, ловкие. Я их узнаю – два первых ряда. Второй взвод исчез в тумане едва мерцающих станционных фонарей. Ага, хорошо, вот и пацаны прочапали туда же, у каждого в родной руке корзинка, в другой буханка хлеба, последний – Алексюк, у этого еще и флаг с золотой надписью, значит, все благополучно – взвод в порядке…
– Акимов, наблюдать за посадкой в заднем вагоне!
– Есть!
У Степана Акимовича какая-то новость. Он спешит ко мне с Землянским.
– В пятом вагоне можно кое-как человек двадцать.
– Берите оркестр.
Землянский бросился на далекий правый фланг. Через полминуты музыканты уже у пятого вагона. Эти проклятые вещи страшно замедляют наши движения. Я вижу, что посадка в пятый вагон происходит с трудом, и радуюсь, что отправил с девочками громоздкие инструменты.
Начальник станции гоняет по перрону, как на ристалищах:
– Во втором вагоне можно немного…
Но у Оршановича сведения более точные:
– Во второй вагон можно половину третьего…
– Есть, забирай половину.
Ну, думаю, как будто налаживается. Что там в последнем вагоне делается? Вот и вторая половина третьего убежала к вагонам. Я спешу к голове поезда, посадка здесь страшно трудна, ребята проникают больше через переходные площадки. Когда у ступеньки вагона остается три-четыре коммунара, можно вздохнуть свободно. Свободно вздыхает и начальник станции.
– Кажется, можно давать второй?
Мне и самому так кажется, только и скребет в душе:
– А как там девочки и пацаны?
Я бегу к хвосту поезда. Ударил второй звонок, и вместе с его звуком я с разбегу налетаю на кошмарное видение: первый взвод стоит нетронутый, окруженный тяжелейшими ящиками, а над ним еле поблескивает верхушка знамени. Клюшнев улыбается:
– Как там, все благополучно?
Налетают на первый взвод и начальник станции и Дидоренко. Начальник станции кому-то истерически орет:
– Стой, стой, подожди!
Но возле нас запыхавшийся, маленький Гуляев.
– В первый вагон, там никто не садился, там все спят, там можно.
Начальник станции орет:
– В первый вагон, в первый вагон!..
– Идем, – спокойно говорит Дидоренко.
Разрезая толпу пассажиров, бросившихся к вагонам, первый взвод начинает движение: но у каждого корзинка, а ящик с консервами в одну руку не возьмешь. Клюшнев нагружает одних корзинками, а на более сильных взваливает тяжелые ящики. Но уже завертелись между первовзводниками явно посторонние фигурки… прибежали коммунары из третьего взвода на помощь… Здесь можно спать спокойно. Я бегу к пацанам. Девочки и пацаны все в вагоне, но войти в него невозможно. Кое-как проталкиваюсь и соображаю: здесь восемьдесят человек. Колька-доктор навстречу мне и ругается:
– Б-б-б-узовый в-в-вагон, к-к-к-какое-то к-к-купе…
В вагоне шесть купе. Коридор заполнен корзинками, басами, хлебом, ящиками.
Поезд тронулся.
18 Почти туристы
До Дербента коммунары – мученики в поезде. В нашем вагоне хоть то хорошо, что нет посторонней публики, – коммунары установили очередь и спали каждый по четыре часа в течение ночи. В других вагонах мы встретили враждебное отношение пассажиров, и оно было заслужено нами: мы натащили в вагон ящики и корзины, пройти по вагону нельзя. Первый взвод особенно настрадался в эту ночь, всем пришлось стоять в тамбурах, кое-как поддерживая разваливающиеся кучи вещей и отбиваясь от пассажиров и проводников, требующих выполнения разных правил.
В Дербенте многие пассажиры «слезли», и наши расположились вольнее, а главное – кое-как пораспихали свое имущество. В Дербенте поезд стоит час, и коммунары побежали купаться в Каспийское море.
Возвратившись оттуда, забегали в буфет и покупали вишню и редьку. В Дербенте много редьки. Из-за этого российского фрукта и пострадал Швед – вытащили у него кошелек с деньгами. Швед пришел в вагон подавленный и оскорбленный, но Камардинов только улыбнулся:
– Не жалко денег, а жалко, что я тебя никак не воспитаю.
Швед и Камардинов почти одно существо. Трудно представить себе более тесную дружбу, чем у Шведа и Камардинова. Они жить один без другого не могут, всегда вместе, о чем-то шепчутся, чему-то смеются. Если и видишь иногда в одиночку Шведа, то он всегда в таком случае спрашивает:
– Не видели Васьки?
Они оба страдают от того, что Швед на втором курсе, а Васька на первом, Швед в машинном цехе, а Васька в сборном. Тем более они стараются наверстать эту временную разлуку в других местах коммунарской жизни.
У Шведа и у Васьки общий капитал, который они, подобно почти всем коммунарам, хранят у меня. Деньги записаны на одного Камардинова, но я имею разрешение выдавать любому из них по первому требованию. То берет Васька, то берет Швед. Я рассмотрел ближе их денежные отношения и поразился степени доверчивости этих людей. Каждый из них берет деньги, сколько ему нужно, и тратит их, куда хочет, не спрашивая и не советуясь с товарищем. Я им говорил:
– Смотрите, поссоритесь из-за этих денег.
Но они улыбаются:
– Никогда в жизни.
– Вася, – спрашиваю, – а что бы ты сказал, если бы Швед взял все ваши восемьдесят рублей и истратил на себя?
– Ничего не сказал бы. Значит, ему нужно…
– Ты все-таки обижался бы на него, почему не спросил…
– Да что ж он будет меня спрашивать? Я не папаша ему.
Весть о том, что обокрали Шведа в Дербенте, распостранилась по всему поезду, и на Шведа приходили смотреть. Коммунары с осуждением относились к тому, кто дал себя обокрасть. Швед поэтому в большом смущении, хотя пропало у него всего пять рублей.
Скучна, невыносима скучна дорога на Баку.
К вечеру на другой день увидели мы вышки бакинских промыслов и между ними огромный столб черного дыма – ясно, нефтяной пожар.
Началась самая тяжелая для нас неделя: два дня в Баку, три дня в Тифлисе, один день в Батуми, две ночи в поезде.
Несмотря на совершенно различные индивидуальности этих городов, несмотря на многообразие коммунарских впечатлений, они слились для нас в один огромный город, разделенный на шесть дневных отрезков неудобными короткими ночами. Все эти дни были до отказа полны умственным и физическим напряжением, невиданными новыми образами и тяжелыми маршами по асфальту и мостовым. Биби-Эйбат, перегонные заводы, Каспийское море, рабочие клубы, столовые, грязные полы пристанищ ОПТЭ, Загэс, Мцхет, молочные и птичьи совхозы, новые и старые улицы, снова столовые и снова ОПТЭ, музеи и рабочие клубы – все это сложилось в чрезвычайно сложную ленту переживаний, в общем глубоко прекрасную, но иногда утомительную до последней степени.
Здесь мы были похожи на туристов, роль для коммунаров мало знакомая.
Турист – это особое существо, снабженное специальными органами и специальной психологией, а коммунары так и оставались коммунарами, ни разу не показав готовности приобрести все эти специальные приспособления.
Турист – это прежде всего существо вьючное: таскать за собой мешок, набитый всякой пыльной дрянью, это не только необходимость для туриста, это и общепризнанная честь и обязательная эстетика. Турист без мешка – это уже не настоящий турист, а помесь человека и туриста, метис. Коммунар для экскурсии выбегает в самом легком вооружении, какое только возможно на свете, – в трусиках и в легкой парусовке, он занимает свое место в строю и не имеет права даже держать что-либо в руках.
Строй коммунаров по шести в ряд, просторный и свободный, со знаменем впереди и с оркестром, требует для себя дороги и уважения, для него собираются толпы на тротуарах, и милиционеры останавливают движение на перекрестках. Туристы же бродят по тесным тротуарам, толкают мешками прохожих, возмущают и вызывают сожаление сердобольных.
У туриста нет своей воли, своего времени, своей скорости и своих вкусов. Это несчастное существо с момента выезда в экскурсию теряет все гражданские, человеческие и даже зоологические права. Оно спит, где ему прикажут, встает, когда прикажут, бежит, куда укажут, выражает восхищение, сожаление, грусть, удивление только по расписанию. Подобно загнанной лошади, оно вообще не трусливо, ему нечего терять и нечего бояться, и оно не боится ни автомобилей, ни криков, ни паразитов. Оно боится только одного – отстать от группы.
Чтобы утолить свой голод, туристы обязаны в течение часа или двух сидеть на земле возле столовой, потом в течение часа давить друг друга в дверях столовой и царапать взаимно туристские физиономии мешками, а затем в течение получаса стоять за стулом одного из обедающих, напирать на его мешок своим животом и ожидать, пока освободится стул.
В одном из городок на коммунаров пытались распространить все законы жизни туристов. Назначили для нас обед в три часа. Наша маршрутная комиссия еще и переспросила:
– В три или в четверть четвертого?
– Нет, как можно, обязательно в три?
Столовая будет свободна в три? Нам нужно, чтобы коммунары сразу вошли в столовую и пообедали.
– В три, в три, будьте покойны…
Ровно в три подошли к столовой – картина знакомая: на земле сидят, в дверях смертный бой, в столовой каша.
– Вы обещали в три.
– Ну, что мы можем сделать? Понимаете, подошла группа, которая… через полчаса будет готово.
– Через полчаса или через час?
– Через полчаса, через полчаса…
– Если через полчаса не будет готово, мы уходим.
– Что вы… обязательно…
Ровно через полчаса мы построили колонну и увели с музыкой, а за нами бежали организаторы и умоляли возвратиться.
Дидоренко умеет с ними разговаривать:
– Вы можете назначить для нас любой час, но ни пяти минут мы торчать на улице не будем.
И мы научили их уважать точность. Мы приходили в назначенное время, и уже не спрашивая, прямо с марша, команда:
– Справа по одному в столовую.
Туристы в это время сидели на травке и щелкали на нас зубами от зависти.
В плане экскурсий и посещений коммунары с первого дня захватили инициативу в свои руки и ходили, куда хотели и как хотели.
На нефтяном промысле Биби-Эйбат нас сначала приняли равнодушно, как, вероятно, принимают и все экскурсии: по себе знаем – это штука довольно надоедливая. Но коммунары, разбежавшись по промыслу десятками групп, через полчаса уже со всеми перезнакомились и успели залезть во все щели и закоулки и расспросить о самых таинственных деталях. Рядом горел еще нефтяной фонтан, и не было конца расспросам о нефтяных фонтанах.
Биби-Эйбат – один из первых промыслов Баку, выполнивших пятилетку в два с половиной года, и это обстоятельство вызывало со стороны коммунаров особенный к нему интерес.
Когда все группы снова сошлись на центральной площадке, возле нас собралась половина промысла. Бакинский горсовет соревнуется с Харьковским, в прошлом году была в Харькове делегация бакинских рабочих, между прочим была и в коммуне. Нашлись сразу и знакомые, у коммунаров память на лица замечательная. Оживленные лица коммунаров уже неофициально заморгали в лица старых рабочих, улыбающихся и освеженных этим общением с юностью. Целыми вениками золотые шапочки обступили группы рабочих в пропитанных нефтью спецовках и рассказывали им о своих коммунарских делах. Вдруг целая сенсация:
– У них знамя Харьковского горсовета, переходящий приз!
– Знамя Харьковского горсовета? Здорово.
– У Вас наше знамя?
– Ваше, ваше, как же… харьковское.
– Покажите.
– Что?
– Покажите знамя, которое вам прислал Харьков…
Предфабзавкома даже немного смутился от такого требования:
– Показать знамя? Пойдем, показать можно.
– Нам всем идти не годится… давайте сюда.
Рабочие заулыбались, завертели головами:
– Вот, смотри ты, народ какой… Ну, что ж…
Перекинулись они между собой по секрету, и трое рабочих направились к воротам.
– Они за знаменем пошли?
– За знаменем.
– Надо салют, – заволновались в оркестре.
– Коммунары, становись! Равняйся!
Похожай и Соколов, наши ассистенты при знамени, с винтовками побежали к воротам. Показалось знамя Биби-Эйбата.
– Коммунары, под знамя смирно!
Оркестр и коммунары салютуют, наши ассистенты приняли охрану дружеского знамени и торжественно провели его к дружескому строю.
Товарищу Шведу слово.
Швед умеет найти горячие и искренние слова:
– Рабочие Биби-Эйбата! Это знамя – знак вашей победы на фронте индустриализации. Ваша победа привела в восторг весь Союз, всех рабочих мира. Мы считаем своим счастьем, что нам пришлось отдать честь вашему знамени, вашим огромным победам, вашей работе. Мы на вас смотрим с восхищением, мы будем брать с вас пример, мы будем у вас учиться побеждать…
Коммунары закричали «ура». Бибиэйбатовцы разволновались, разволновались и мы, трудно было без горячего чувства быть участником этого события.
Мы пригласили знамя в наш строй и под эскортом всей коммуны проводили его до небольшого серенького домика, в котором оно помещается. И сразу же домой. Рабочие машут руками и шапками и кричат:
– Приходите в наш парк, парк культуры и отдыха!
– Приедем!
– Приходите! Когда придете?
– Завтра!
– Приходите же завтра! Будем ожидать!
На другой день были мы в парке культуры и отдыха. Нас действительно ожидали и встретили у ворот. Перед эстрадой собралось тысячи две народу. Камардинов рассказал рабочим о нашей жизни, о нашей работе на производстве, о будущем заводе. Он еще выразил наше преклонение перед героической работой нефтяников. Отвечали нам многие. Здесь не было сказано ни одного натянутого слова, это было действительно собрание близких людей, близких по своей общей, пролетарской сущности.
После собрания наш оркестр сыграл несколько номеров из революционной и украинской музыки. Потом разбрелись по саду тесными группами. Легкие и стройные коммунары, приветливые и бодрые, видно, понравились бакинцам. Многие рабочие подходили ко мне, расспрашивали о разных подробностях, уходя, пожимали руку и говорили:
– Хороший народ растет, хороший народ…
Один подсел ко мне и поговорил основательно. Он тоже рабочий с Биби-Эйбата, говорит правильным языком, и его особенно занимает одна мысль:
– Вот эти мальчики, когда сразу посмотришь, так чистенько одеты, шапочки эти и все такое, подумаешь, барчуки, что ли, а потом сразу же и видно: нет, наши, рабочие дети, все у них наше, а может, и лучше нашего. И, знаете, так приятно, что это такая культура, знаете, это уже культура новая…
Это были хорошие часы в Баку. А вообще Баку коммунарам не понравился – очень жарко. И в самом деле, в эти дни жара доходила до шестидесяти градусов, и во время одного из нашей маршей были солнечные удары. Не понравилось и Каспийское море – грязное и неприветливое. Не понравилась и наша стоянка – прямо на асфальтовом полу базы ОПТЭ.
В Тифлисе нас встретили с музыкой пионерская организация, комсомол и наши шефы.
Три дня в Тифлисе пролетели страшно быстро. Один из них истратили на Мцхет. В Мцхет поехали грузовиками. Загэс вылазили как следует, обижался только фотокружок, предложили ему все свои орудия сложить при входе на станцию…
В один из вечеров коммуна отправилась с визитом в клуб ГПУ. Первый раз в походе надели белые парадные костюмы. Наши парусовки уже поиспачкались. Проблема стирки вдруг вынырнула перед нашими очами. Прачечные требовали две недели сроку и две сотни рублей. Мы думали, думали. В Тифлисе мы стояли во дворе какой-то школы, спали на полу в классах. Квадратный довольно чистый двор школы был украшен в центре водообразной колонкой. Мы и отдали в приказе от 27 июля:
«Предлагается всем коммунарам к вечеру 28 июля постирать парусовки, выгладить и приготовить к дороге на Батум».
Коммунары заволновались после приказа:
– Чем стирать? Чем гладить? Где стирать?
Но приказ есть приказ.
Сразу же после приказа закипела во дворе лихорадочная деятельность. С парусовками расположились вокруг колонки и отдельных камней двора, вместо мыла песок, а вместо утюга чугунные столбы балкона. На ночь уложили парусовки под одеяла, а вместо пресса – собственные тела. И вечером 28 июля по сигналу «сбор» все построились в свежих, элегантно выглаженных парусовках.
В клуб ГПУ пошли в парадных белых костюмах. Белоснежный строй коммунаров на проспекте Руставели – зрелище совершенно исключительное. Вокруг нас завертелись фотографы и кинооператоры.
Чекисты Грузии приняли нас как родных братьев. После первых официальных приветствий разбрелись по клубу, завязались матчи и разговоры. Потом концерт, ужин, танцы. Коммунары не захотели посрамить украинскую культуру и ахнули гопака. Шмигалев понесся в присядку, замахнувшись рукой до самого затылка. Оркестр неожиданно перешел на лезгинку, и Шмигалев исчез в толпе под аккомпанемент аплодисментов, а на его месте черненьким жучком завертелся перед Наташей Мельниковой новый танцор. Наташа зарумянилась, но она никогда не танцевала лезгинку, и вообще, причем тут Наташа? Танцор принужден был плавать в кругу в одиночку, но через минуту он снова выплясывает перед ней. Наташа в панике скрылась за подругами. Кончились танцы, а танцор уже беседует с Наташей. Поздно вечером строимся домой, а танцор печально смотрит на Наташу, стоящую во втором взводе.
На другой вечер мы уже выглядываем из окон вагонов на тифлисском перроне. Нас провожает группа тифлисских друзей. Между ними и вчерашний танцор, прячется за спинами товарищей, а Наташа в окне – далеко. Коммунары моментально решили этот ребус. Из первого вагона выбежали музыканты, а коммунары под руки потащили танцора к Наташиному окну:
– Танцуй лезгинку, а то не позволим попрощаться…
Три вагона и перрон заливаются смехом, танцор, краснея, отплясывает и в изнеможении останавливается. Тогда из вагона вышла Наташа и под общие аплодисменты пожала влюбленному руку.
Второй звонок.
– По вагонам.
Тронулись. Закричали коммунары «ура». Влюбленный печально помахивает папахой, а Наташа в девичьем вагоне умирает от хохота.
Еще один день в Батуми: парки, марши, столовые, бессонная ночь на пристани, – и мы на борту «Абхазии», которая должна доставить нас в Сочи.
19 Лагери
Коммунары уже успели выспаться в каютах, а «Абхазия» все еще стояла в Батуми. Только после полудня мы отчалили. Пацаны украсили тюбетейками оба борта и радовались, что море тихое, потому что в глубине души пацаны здорово боялись морской болезни. Девочки боялись не только в глубине [души], а совершенно откровенно, и пищали даже тогда, когда море походило на отполированную верхнюю крышку аудиторного стола. Пацаны, отразив свои физиономии в этой крышке, стали презрительно относиться к сухопутным пискам девчат и говорили:
– Вот чудаки! Всегда эти женщины боятся морской болезни.
Но полированная крышка имеет свои границы. Как только мы вышли из батумской бухты, пацаны эту границу почувствовали, побледнели, притихли и незаметно перешли на чтение книг в каютах, спрятавшись подальше от взоров и девчат и старших коммунаров.
А между тем Дидоренко приготовил для коммунаров сюрприз – заказал обед в столовой второго класса. Если читатели ездили на теплоходах крымско-кавказкой линии, они знают, что столовые этих теплоходов замечательно уютные и нарядные штуки: большие круглые столы, мягкие кресла, чисто, красиво и просторно. Коммунарам было предложено явиться на обед в парусовках, в первую смену девочкам и музыкантам, а остальным во вторую. Все начали готовиться к обеду, а пацаны и девчата еще больше побледнели: морская болезнь обязательно нападает по дороге в столовую. Спасибо, кто-то пустил слух, что лучшее средство от морской болезни – хорошо пообедать. По сигналу сошлись все, но девчата сидели за столом бледные и испуганные, а Наташа Мельникова, так недавно и неустрашимо победившая горячее сердце человека в папахе, сейчас совсем оскандалилась, заплакала и выскочила на палубу. Колька заходил между коммунарами с бутылкой и стаканчиком. К сожалению, я не знал, что он в роли знахаря, и напал на него:
– Ты что это – босиком и без пояса…
– От м-м-морской болезни, п-п-понимаете…
Дежурный командир Васька Камардинов спросил у Кольки:
– А ты имеешь право без халата капли прописывать? Иди надень хоть халат, а потом приходи с каплями.
Неудача доктора сильно отвлекла внимание коммунаров от морской болезни, даже девочки выдержали испытание геройски. А пацаны, прослышав о таком замечательном влиянии столовой на морскую болезнь, прибежали на свою смену розовыми и радостными и не оставили ни крошки на своих столах. Васька хохочет:
– Вот пацаны, это они, знаете, от морской болезни лечатся – побольше есть, им один матрос сказал.
Колька пришел уже в халате и предлагает пацанам капли, но они гордо отказываются:
– Что мы, женщины, что ли?
После обеда они уже спокойно лазили по теплоходу и заводили между собой мирные обычные беседы:
– Ты думаешь, что это такое?
– Это веревочная лестница.
– Веревочная лестница, ха-ха-ха-ха!
– Веревочная, а какая же?..
– Ванты! Это ванты, а не веревочная лестница.
– Ох, важность какая, а можно сказать и веревочная лестница, тоже будет правильно. А вот скажи, что это?
– Это?
– Ага.
– Ну, и радуйся…
– Бушприт.
К вечеру хлопцы на теплоходе свои люди. Море совершенно утихло, и все вообще соответствовало тем мирным мелодиям, которые разливал над Черным морем Левшаков с верхней палубы, по уверению пацанов называемой спардеком.
Утром следующего дня мы остановились у берегов Сочи.
Я показал коммунарам маяк, возле которого должны расположиться наши лагери. Синенький посмотрел пристально и закричал:
– О, палатки наши видно! Смотрите, смотрите!
Ребята бросились к борту и обрадовались:
– Вот здорово, наши лагери!
Заинтересованные пассажиры тоже радовались:
– В самом деле, замечательно, они еще здесь, а там уже квартиры готовы. Вы, наверное, никогда не боитесь квартирного кризиса.
Посмотрел и Левшаков и сказал серьезно:
– Конечно, это наши лагери, вон и Марголин ходит по берегу.
Старшие засмеялись, а пацаны даже обалдели от удивления. Они воззрились на Левшакова, а он прислонил два кулака к глазам и подтвердил:
– Конечно, Сенька, я же его по глазам узнал…
Только тогда пацаны пришли в восхищение.
– Хитрый какой, за три километра и глаза увидел…
На лодки коммунары грузились первые.
– Четвертый взвод, в лодку!
Не лодка, а большая корзина голоногих пацанов, как будто на рынок их вывезли. Поплыли со своими корзинками и малым флагом. С ними и дежурный командир для порядка на берегу.
С последней лодкой оркестр и знамя. Как ни тесно в лодке, а нельзя ехать без марша. На теплоходе закричали «ура» и замахали платками.
На деревянной площадке пристани начинается длинная цепь, ребята передают на высокий берег вещи, мы давно уже привыкли в таком случае обезличивать груз – бери, что попадется. Я иду по цепи и в конце ее вдруг наталкиваюсь на Крейцера[322].
– Коммуна имени Дзержинского прибыла благополучно. В строю сто пятьдесят коммунаров, больных нет!
Ребята рады Крейцеру, как родному отцу, держат его за пояс и спрашивают:
– Вы тоже в лагерях с нами?
– Чудак, разве ты не видишь, я больной, мне лечиться нужно.
– Мы вас вылечим, вот увидите.
А вот и Сенька. Он в каких-то петлицах и с револьвером на боку.
– Ты чего это таким Александром Македонским?
Крейцер смеется:
– Да, Сеня имеет вид воинственный…
– Нельзя иначе, понимаете, тут столько бандитов…
Вещи все уже наверху, и маршрутная комиссия побежала за грузовиками.
– У коммунаров и здесь свои правила, – показывает Крейцер.
На берегу столб с надписью: «Купаться строго запрещается», а море кипит от коммунарских тел.
Через полчаса нагрузили машины и сами тронулись с развернутым знаменем. Оркестр гремит марш за маршем, почти не отдыхая. В Сочи переполох, духовая музыка, да еще какая: с фанфарами, тромбонами и целой шеренгой корнетистов. Коммунары, как завоеватели, занимают всю ширину улицы. Автомобили сзади нас кричат и просят. Пацаны в этом случае беспощадны. Сопин, дежурный командир, с которым я иду рядом в строю, говорит мне:
– В Харькове трамваев не пускали, а тут какой-то автомобиль.
На расширенной части улицы одна машина обгоняет нас, и кто-то стоя протестует, ему отвечают смехом:
– Чудак…
Навстречу нам по улице на велосипеде Панов. Он в трусиках и еле-еле достает до педалей. Слез, отдал салют знамени и снова в машину – поехал впереди в качества гида.
Наконец мы свернули в раскрытые ворота в легкой изгороди и вошли на широкую площадку, заросшую травой, обставленную лимонными деревьями и пальмами. Справа церковь, слева за оврагом школа, а прямо синеет над линией берега море. К берегу тянется в две линии лагерь. Деревянные клетки уже готовы, на них наброшены палатки. Их остается только натянуть и укрепить.
– Стой! Товарищи командиры взводов!
Вышли командиры. Панов вынырнул откуда-то с блокнотом.
– Три палатки оркестра. Палатка для инструмента, три палатки второго взвода…
– Разойдись…
И сразу же застучали молотки, завертелись коммунары в работе. Мы с Крейцером опустились на травку, хватит начальства и без нас. К нам долетают распоряжения Сопина:
– На постройку штабной палатки по два человека от каждого взвода.
– На помощь девочка от оркестра три человека.
Против нас как раз строятся девочки. У нас не хватает сил натянуть бечеву и выровнять все крылья палатки. Прибежал Редько из оркестра и с ним двое.
– Без нас пропадете!
Первый взвод уже расставил часовых по краям лагеря. На часовых наседает публика, заинтересовавшаяся лагерем завоевателей.
Начался месяц в Сочи.
Жить в лагере с коммунарами – мало сказать, наслаждение. В коммунарском лагере есть какая-то особенная прелесть, не похожая ни на какую другую. Нас живет здесь сто пятьдесят шесть человек, наша жизнь вся построена на стальном скелете дисциплины, много правил, обязанностей, само собой понятных положений. Но этот скелет для нас привычен, так привычно удобен, так органично связан с нами, что мы его почти не замечаем или замечаем только тогда, когда гордимся им. Молодой радостный коллектив живет так, как не умеют жить взрослые. Наша жизнь лишена всякого трения и взаимного царапания мы здесь действительно сливаемся с природой, с морем, с пальмами, с жарким солнцем, но сливаемся легко и просто, без литературных судорог и интеллигентского анализа и не переставая помнить, что мы дзержинцы, что нас в Харькове ожидают новые напряжения и новые заботы.
Я помещаюсь в штабной палатке с Дидоренко, Колькой и Марголиным. Мне отведена четвертая часть нар. На нарах стоит пишущая машинка, ящик с печатью и бумагой, лежит портфель с деньгами и небольшая библиотечка. В первый же день Марголин и Боярчуе провели по всему лагерю электрическое освещение, шнур и лампочки предусмотрительно были привезены из Харькова. Жить можно.
Сигнал «вставать» играют в лагере в семь часов. Через пять минут после сигнала наш физкультурник Бобров уже командует:
– Становись!
Начинается зарядка. После зарядки мальчики галопом летят в море, девочки еще повозятся с купальными костюмами.
Нельзя сказать, что коммунары умеют плавать. Быть в воде для них такое же естественное состояние, как для утки. Они могут сидеть в море целый день, укладываться спать на самых далеких волнах, разговаривать, спорить, играть, смеяться, петь и не умеют, кажется, только тонуть.
В первый же день их неприятно поразила плоская доска, поставленная на якоре для обозначения границы купальной зоны. Дальше этого знака плавать нельзя – от берега метров тридцать. Пробовали не обращать внимания на эту доску, но за нею ездит на лодке дед, уполномоченный идеи спасения на водах, и возвращает хлопцев к берегу. Коммунары произвели героические усилия, чтобы переставить знак подальше. Они всем первым взводом старались выдернуть якорь, но это оказалось трудным делом, главное, не во что упереться, нет той самой знаменитой точки опоры, отсутствие которой не нравилось еще Архимеду. Провозившись несколько часов над этим пустяшным препятствием, кончили тем, что привязали к нему камень и утопили его. На душе стало легче, но на деле проиграли. Спасительная станция обозлилась за уничтожение знака и почти все свои лодки поставила против нашего берега. Началась война, которая окончилась и моральной и материальной победой коммунаров. Иначе и быть не могло.
До самого горизонта море покрыто коммунарскими головами. Раздраженный спасатель гоняется за ними и приказывает:
– Полезай в лодку!
Коммунары охотно взбираются на спасательное судно и тихонько сидят. Дед выгребает к берегу и начинает злиться:
– Что, я нанялся, возить нас? На весла, греби!
Коммунар, улыбаясь, садится на весла. Через пять минут его сосед шепчет:
– Петька, дай я погребу.
Но лодочник не может перенести такой профанации идеи спасения на водах и орет:
– Кататься вам здесь? Прыгай все в море!..
Коммунары, улыбаясь, прыгают и плывут к горизонту.
Дело кончилось тем, что спасательные деды предоставили коммунарам лодки и право заниматься спасением утопающих и просили только об одном: посторонних не пускайте в море. Посторонние – это все остальные люди, кроме дедов и коммунаров.
С этого момента коммунары разъезжали на спасательных лодках и спасали посторонних. Впрочем, посторонние не весьма стремились в запретные воды, и хлопот с ними было немного. Поэтому коммунары могли на свободе заняться усовершенствованием спасательного флота. Несколько дней Левшаков в компании с Грунским, Козырем, Землянским сидели на корточках возле разостланных на траве простынь и готовили парус. В один прекрасный день они и уехали на парусе.
Изо всех коммунаров не могли плавать только двое: Швед и Крейцер. Шведом занялась вся коммуна, а Крейцером – четвертый взвод.
Шведа скоро перестали дразнить, вероятно, он приобрел нужные знания.
Крейцера пацаны поймали, окружили плотным кольцом и потащили к морю. Крейцер уверял, что он и сам может научиться, что не считает пацанов хорошими учителями, но они показывали Крейцеру старую автомобильную камеру и уверяли, что такого хорошего приспособления он нигде не найдет. Несмотря на энергичные протесты, Крейцера ввергли в море и заставили лечь на надутую камеру.
– Теперь руками и ногами… руками и ногами…
Но Крейцер не имел времени думать о руках и ногах, потому что его внимание было сосредоточено на голове. Увлеченные добрыми намерениями пацаны, собравшиеся вокруг камеры в полном составе, действовали довольно несогласованно, поэтому голова Крейцера все время опускается в воду. Не успеет он прийти в себя, его снова окунули и напоили морской водой. Наконец, он взбеленился и потребовал, чтобы его тащили к берегу. Пацаны послушались, но потом очень жалели:
– Так никогда и не научитесь плавать. Поучились полчаса и струсили…
Крейцер от дальнейшего учения отказался.
– Так и запишите: я не умею плавать.
– Теперь будет так: вы едете на пароходе, а пароход тонет, вот тогда пожалеете…
– Надеюсь на то, что такая катастрофа на пароходе еще не скоро будет, а так вы меня завтра утопите. Не хочу!
– Не утопим… Вот увидите!
– Нет, спасибо!
Так Крейцера и не выучили плавать.
Утром ребятам долго купаться нельзя. В половине восьмого с высокого берега трубач трубит «в столовую». Это означает, что все коммунары могут свободно отправляться в городской парк, где нас ожидает завтрак. До парка от лагерей нужно пройти километра полтора, но если идти прямо с пляжа, то гораздо ближе.
В городском парке – открытый павильон столовой и при нем небольшая кухня. Этим учреждением пользуемся только мы по договору с северокавказким ГОРТом, поэтому нас не пугают никакие очереди и никакая толпа. В павильоне может поместиться сразу не больше восьмидесяти человек, поэтому мы едим в две смены. Сигнал, который играли на берегу, – сигнал предупредительный, коммунары располагаются на скамейках и откосах парка. Между ребятами считается дурным тоном заглядывать в столовую и стоять у входа в нее. В столовой вертится только дежурный командир со своим трубачом. Когда накрыты столы и все готово, трубач играет, и по этому сигналу собираются в столовую коммунары. Вторая смена будет приглашена приблизительно через полчаса, поэтому взводы второй смены могут дольше купаться или бродить по лагерю. В столовой каждый коммунар имеет свое закрепленное за ним место. Есть свое место и у меня в «левофланговой смене». Со мной сидят Синенький, Лазарева и Харланова.
Лазарева одна из младших девочек, но она с большим трудом доставалась нашему коллективу. Года два назад она жила в детском городке. За плохое поведение и разлагающее влияние педагогический совет детского городка отправил ее в комиссию по делам несовершеннолетних правонарушителей, а эта комиссия прислала Лазареву к нам.
Лазаревой сейчас тринадцать лет. Это черноглазая девочка, серьезная и неглупая, но с капризами. Дисциплина для нее понятие абсолютно не священное, поэтому она всякое распоряжение и всякое правило считает себя обязательным только в том случае, если оно ей нравится. А если не нравится, она за словом в карман не полезет. Слово же у Лазаревой смелое и ядовитое. Вот уже два года Лазарева в постоянной войне с советом командиров, с общим собранием и со мной. В совете она грубиянит, поворачивается спиной и вспоминает отдельные проступки самих командиров. В общем собрании отмалчивается, а в разговорах со мной плачет и говорит:
– Вы меня почему-то не любите и все придираетесь. Для вас инструкторша что ни скажет, то правильно.
Я ей говорю:
– Да помилуй, ты же и сама не отрицаешь, что работу бросила и ушла из мастерской…
– Бросила потому, что она мне нарочно дает все петли метать, все петли да петли…
– Ты должна об этом заявить в совете командиров, а не бросать работу.
– Вот еще, буду в совет командиров с петлями… А в совете командиров что ни скажи, все не так…
Совет командиров иногда обрушивается на Лазареву со всей силой власти, отстраняет ее от работы, назначает в распоряжение дежурного командира, лишает отпуска, парадного костюма. Но я давно заметил, что репрессии для Лазаревой вредны, они только укрепляют ее протестантскую позицию. Нужно подождать, пока с возрастом у нее придет забвение о каких-то причудах первого детства, а может быть, и детского городка. Дело в том, что Лазарева очень мила, добра и послушна, пока ее что-нибудь не раздразнит. И еще у нее очень хорошая черта: она быстро забывает все обиды и все угрозы совета командиров.
Я подружился с ней еще в крымском походе. В пешем марше «вольно» мы с нею всегда идем рядом, и она может болтать о чем угодно, не уставая и не требуя от меня особенно глубокомысленных реплик. Она охотно вступает в спор и в таком положении, но это…
…
20 Люди и медведи
В Сочи мы застали целую кучу писем. Больше всех писал Соломон Борисович, и его письма мы читали на общем собрании. Собрание собиралось вокруг памятника Фабрициусу, погибшему в этой части побережья.
Соломон Борисович сообщал важные новости.
Первая: на строительстве не хватает людей, часть рабочих строительная организация перебросила на работу в совхоз. Корпус спален накрыт, но к внутренней отделке еще не приступили, главный дом разворочен, а дальше ничего не делается, производственный корпус сделан только до крыши, литейный цех только начинают…
Вторая: в Правлении, выделен товарищ, которому поручено помочь коммуне в покупке станков, он уже выехал в Москву и в другие города.
Третья: начальником нового завода назначен инженер Василевский, а Соломон Борисович остается коммерческим директором; в коммуне работает группа инженеров в пять человек, они занимаются конструированием электросверлилки.
Четвертая: станки для завода достаем везде, где можно, выспрашиваем на харьковских заводах, в Одессе и Николаеве, в Москве, в Самаре, в Егорьевске… Соломон Борисович прилагал список станков:
Универсальный револьверный Гассе и Вреде, Четырехшпиндельный автомат Гильдемейстер, Револьверный Гильдемейстер П-40, Прецизионный токарный Лерхе и Шмидт, Вертикально-фрезерный Вандерер Д-1, Зуборезный автомат Марат, Зуборезный автомат Рейнекер, Плоскошлифовальный Самсон Верке, Круглошлифовальный Коленбергер, Радиально-сверлильный Арчдейль… (всего в списке Соломона Борисовича было до ста станков, считая и токарные).Пятая: к закупке оборудования для новых спален и одежды для новых коммунаров еще не приступали, отложено до того времени, когда возвратится коммуна.
Шестая: ремонт старых станков производится, но нужно прострогать почти все станины, и мало надежды, что эта работа будет закончена к 1 сентября.
Седьмая: в коммуне уже имеется легковой автомобиль, а шофером ездит Миша Нарский, автомобиль куплен в Автопромторге, скоро прибудет и грузовой автомобиль.
Восьмая: денег нужно много, получаем большой заказ на десять тысяч деревянных кроватей для Наркомздрава, но нет коммунаров и некому деньги зарабатывать и заказ этот выполнить.
Девятая: мало надежд, что перестройка главного корпуса будет закончена к 1 сентября, и поэтому коммунарам некуда приехать: нет спален, нет столовой, кухни, уборных – одним словом, ничего нет…
Коммунары были положительно придавлены этими новостями.
– Как это, к 1 сентября некуда приехать? Почему не перестраивается главный корпус?
– Они там просто волынят и саботируют!..
– Наверное, будет так, что завод окончат к следующей осени…
Скребнев особенно нервничал:
– Дела не будет, уже видно. Приедем домой – жить негде, учиться негде, работать тоже негде, а новеньких как принимать? Мы еще можем поваляться где-нибудь, а новенький валяться не будет, а дернет на улицу. Да еще и одеть не во что, ни постели, ни одеяла, а если со станками будут такие темпы, так совсем буза: «вандерер», «вандерер», а на поверку те же козы и соломорезки останутся.
Радовал только автомобиль в коммуне.
– Автомобиль – это груба, только, наверное, форд…
– А тебе что нужно?
– Мерседес, фиат, паккард!..
– Подождешь!
– Подожду.
Через день получили телеграмму: председатель Правления коммуны товарищ Б. уезжает в Москву на новую работу.
– Крышка коммуне!
– Чего крышка?
– Крышка, уже видно.
– Вот, понимаешь, терпеть не могу вот таких шляп. Крышка! У тебя так, честное слово, и крышки нет. Ты посуди, чего б стоило наша коммуна, если бы председатель Правления уехал, а коммуны нет!..
– Ну?
– Чего ну? Вот теперь, товарищи, докажите всем, и товарищу Б., что сделано ими настоящее дело. Поставили на ноги, и должны жить!.. А сколько остается в Харькове чекистов и других людей!
Председателя Правления любили в коммуне как живого человека. Он редко бывал в коммуне, но умел это сделать так, что все ясно чувствовали – коммуна для него своя, родная. И сейчас ребята жалели о нем больше, чем о родном, близком живом человеке.
В Харьков отправили делегацию: Торскую и Анисимова.
Тем временем жизнь в коммуне шла своим чередом – купались, отдыхали, читали. В нашу размеренную и точную жизнь все больше вплетались новые обстоятельства, новые люди, новые впечатления.
Рядом с нами в школе примостился на лето какой-то ростовский детский сад, и каждое утро рыженькая воспитательница приводила к нам в гости строй малюток. Они вытаращивали глаза на палатки, на коммунаров и на часовых, вдруг улыбались и заливались писком, потом так же неожиданно напускали на себя серьезность и начинали что-то лепетать о делах ростовских. Коммунары с первого же дня назвали это учреждение инкубатором и очень обидели рыженькую воспитательницу таким сравнением.
Приходили к нам и взрослые – в этот сезон в Сочи сделалось просто неприличным не побывать в коммуне. Мы принимали гостей и в одиночку и партиями, знакомились с отдельными людьми и заводили дружбу с целыми домами отдыха и санаториями. Иногда лагерь наполнялся до отказа, и нам было довольно трудно придумать, чем гостей занять. Усаживали оркестр и играли кое-что, устраивали состязания в волейбол и в городки. Гости постепенно оживлялись, заражались ребячьим прыганьем и смехом. Перед уходом они строились в колонну и кричали хором:
При-хо-ди-те к нам се-год-ня!..
Коммунары и сами выстраивались и тоже хором отвечали:
– А что у вас бу-дет на у-жин?
Гости хохочут и любезно выдумывают:
– Жа-ре-ный по-ро-се-нок…
– Хо-ро-шо, при-дем о-бя-за-тель-но, – отвечают коммунары.
Пока происходит такой обмен любезностями, мимо гостей галопом проскакивают музыканты в самых разнообразных костюмах: кто в черном, кто в голошейке, а кто и в одних трусиках, впереди колонны они выстраиваются и ахают марш. Мы провожаем гостей до центральной площади и там прощаемся.
Чаще было иначе. Приходили в лагерь представители какого-нибудь санатория и приглашали коммунаров на вечер. В такой день перед вечером не играл трубач «в столовую», а играл «общий сбор». Коммунары прибегали с берега и в три минуты решали: идти. Потом бросались к палаткам, и через десять минут они уже в парадных костюмах строятся на улице. Выносили знамя, подтягивались, равнялись, наводили полный строевой лоск и шли маршем по улицам, вдребезги разбивая мертвые часы, ужины и развлечения санаторных жителей радостными разрядами оркестра…
– Куда вы?
– В санаторий Фрунзе…
– И мы с вами!..
– Пристраивайтесь!..
Рабочие, интеллигенты, старички и женщины пристраиваются сзади четвертого взвода и стараются попасть в ногу с Алексюком, по-прежнему несущий малый флаг. Когда отдыхает оркестр, они затягивают «попа Сергея» или «Молодую гвардию», мы немедленно подбавляем к ним дискантов из наших запасов.
Хозяева встречают нас на улице, улыбаются, кивают, что-то кричат. Коммунары против таких вольностей в строю и ожидают знака:
– Товарищи коммунары, салют!
Сто пятьдесят рук с непередаваемой юношеской грацией взлетают над строем, но лица коммунаров серьезны – салют это не шутка. Тогда хозяева орут «ура» и бегут за нашей колонной в свой…
…
…время. Думали, что общение со всей коммуной поможет заведующему стать добрее, да и сами отдыхающие возьмут его в работу.
Вышло не совсем так, как ожидали: отдыхающие, правда, пристали к заведующему:
– Отдай медведей коммунарам, чего ты за них держишься?
Заведующий весьма дружелюбно выслушивал настойчивые домогательства коммунаров и своих подопечных, но медведей все-таки не отдал:
– Осенью приезжайте.
А в это время в нашем лагере уже появился Мишка – полугодовалый медвежонок очень симпатичного нрава и забавной наружности. Достался он коммунарам случайно. Стоял в Сочи какой-то приезжий пионерский отряд, и у них жил медвежонок, которого, по данным нашей разведки, они купили у охотников из Красной Поляны за пятьдесят рублей. Пионеры гордо отвергли наши предложения продать нам медведя за семьдесят рублей. Наши разведчики доставляли и другие сведения, которые в особенности усиливали наши устремления именно к этому Мишке. По словам разведчиков, пионеры Мишку плохо кормили и дразнили палками…
И вдруг мы узнали: пионерский лагерь снялся и уехал, а в момент их отъезда Мишка вырвался и удрал. Обнаружили Мишку в городском парке. Он чувствовал себя прекрасно, и ему не угрожала никакая опасность, потому что публика при встрече с Мишкой в панике разбегалась… Два дня коммунары охотились за Мишкой и все неудачно. Мишка взбирался на высокие сосны и оттуда смотрел на коммунаров с насмешкой. Кое-кто пробовал взбираться на дерево вслед за Мишкой, но это был прием безнадежный: силой Мишку с дерева не стащишь, а Мишка был достаточно силен, чтобы сбросить с дерева любого охотника.
Победил Мишку Боярчук: против всего Мишкиного фронта он произвел сильную демонстрацию, отправил десяток коммунаров на дерево. Коммунары облепили ствол и покрикивали на Мишку. Мишка, переступая потихоньку, подобрался выше, не спуская глаз с преследователей, но, видимо, не придавал серьезного значения всей этой армии. А тем временем Боярчук по стволу соседнего дерева совершал обходное движение. В нужный момент он перебрался на Мишкину сосну и оказался выше его метра на два. Этого удара с тыла Мишка не ожидал и не приготовился к нему. Он начал стремительное отступление вниз, настолько стремительное, что сидящие на дереве коммунары уже не могли спускаться по всем правилам, а должны были в самом срочном порядке прыгать на землю и просто валиться как попало, чтобы не принять Мишку себе на голову. Окружающая место охоты толпа хохотала во все горло, поднимая с земли ушибленных и исцарапанных охотников. Мишка слез с сосны и пытался прорваться сквозь строй, но на шее у него ошейник, а с ошейника болтается цепочка, за эту цепочку Мишку и ухватили. Он спорить не стал и покорно побрел в коммуну.
Мишку поселили на краю лагеря. Совет командиров передал попечение о Мишке Боярчуку и Гуляеву, остальным коммунарам запретил даже разговаривать с Мишкой, а тем более играть с ним или кормить его. Мишка жил довольно хорошо: он был еще молод и весел, пищи у него было достаточно, душевный покой обеспечивался советом командиров, а кроме того, ему была предоставлена автомобильная шина для физкультурных упражнений.
Тем не менее совнаркомовские медведи не перестали быть предметом коммунарских мечтаний. Все решили, что осенью за медведями нужно прислать, и тогда в коммуне будет три медведя.
Рядом с медведем как развлечение нужно поставить церковь. Церковь стояла почти в самом нашем лагере. Время от времени возле церкви собирались старушки, старички, парочки и вообще потребители «опиума». Приходил старенький сморщенный попик, собирался хор и начиналось священнодействие.
Коммунары, слышавшие о религии только на антирелигиозных вечерах, обратились ко мне с вопросом:
– Ведь можно же пойти посмотреть, что они там делают в церкви?
– А чего же? Пойди посмотри.
Акимов предупредил:
– Только смотри, не хулиганить. Мы боремся с религией убеждением и перестройкой жизни, а не хулиганством.
– Да что мы, хулиганы, что ли?
– И вообще нужно, понимаешь, чтобы не оскорблять никого… там как-нибудь так… понимаешь… деликатнее так…
Хотя Акимов делал это распоряжение больше при помощи пальцев, но коммунары его поняли.
– Да, да, это мы понимаем, все будет благополучно.
Но через неделю ко мне пришел попик и просил:
– Нельзя ничего сказать, ваши мальчики ничего такого не делают, только, знаете, все-таки соблазн для верующих, все-таки неудобно. Они, правда, и стараются, Боже сохрани, ничего плохого не можем сказать, а все-таки скажите им, чтобы, знаете, не ходили в церковь…
– Хулиганят, значит, понемножку?
– Нет, Боже сохрани, Боже сохрани, не хулиганят, нет. Ну, а приходят в трусиках, в шапочках этих, как они… а некоторые крестятся, только, знаете, левой рукой крестятся и вообще не умеют. И смотрят в разные стороны, не знают, в какую сторону смотреть, повернется, понимаете, то боком к алтарю, то спиной. Ему, конечно, интересно, но все-таки дом молитвы, а мальчики, они же не знают, как это молитва, и благолепие, и все. В алтарь заходят, скромно, конечно, смотрят, ходят, иконы рассматривают, на престоле все наблюдают, неудобно, знаете.
Я успокоил попика, сказал, что мешать ему больше не будут. На собрании коммунаров я объявил:
– Вы, ребята, в церковь все-таки не ходите, поп жалуется.
Ребята обиделись.
– Что? Ничего не было. Кто заходил, не хулиганил, молча пройдет по церкви и домой…
– А кто там из вас крестился левой рукой и зачем понадобилось креститься, что, ты верующий, что ли?
– Так говорили же, чтобы не оскорблять. А кто их знает, как с ними нужно. Там все стоят, стоят, потом бах на колени, все крестятся. Ну, и наши думают, чтобы не оскорблять, как умеют, конечно…
– Так вот, не ходите, не надо…
– Да что ж? Мы и не пойдем… А и смешно же там: говорят как-то чудно, и все стоят, и чего стоят? А в этой загородке, как она? Ага – алтарь, там так чисто, ковры, пахнет так… а только, ха-ха-ха-ха, поп там здорово работает, руки вверх так задирает, представляется здорово, ха-ха-ха-ха…
– А ты и в алтаре был?
– Я так зашел, а поп как раз задрал руки и что-то лопочет. Я смотрю и не мешаю ему вовсе, а он говорит: иди, иди, мальчик, не мешай, ну, я и ушел, что мне…
Во второй половине августа начались групповые экскурсии в горы. Собирались по пять-шесть человек, выпрашивали у хозкомиссии хлеба и консервов, на плечи навешивали спортивные винтовки для защиты от «бандитов и медведей» и уходили на несколько дней. Возвращались уставшие и оживленные, рассказывали о чудесных происшествиях, страшных обвалах, ночевках в горах, о медвежьих следах и о заброшенных черкесских садах. Одна из групп привела с собой беспризорного Кольку Шаровского. Колька в горах свой человек, знает тропинки и селения, но готов променять вольную жизнь казака на коммунарский строй… Коммунары исследовали Кольку со всех сторон, а главное, не идиот ли, но воспреемники расхваливали его наперебой:
– Грубой пацан. С нами был все время, грамоте знает, разумный пацан, не симулянт, сразу видно…
Колька на собрании держится с достоинством. Он сидит на камне и веточкой похлопывает по голой пятке, то и дело поправляя на голове выцветший измятый картуз.
– А не сорвешься?
– У вас хорошие ребята, не сорвусь…
Приняли и немедленно зачислили в третий взвод. Мне оставалось позвать Ваську, командира взвода:
– Отведи, пусть Николай Флорович посмотрит, выкупайте и к парикмахеру, вот деньги…
– Есть, а костюмы?
– Трусики у нас найдутся и парусовки, а без парадного обойдется, да он в строй все равно еще не годится.
– Есть, – сказал Камардинов, беря пацана за плечо. – Ну, идем к… а вот и он. Колька, вот тебе работа, а то жалко на тебя смотреть…
Вершнев остановился и в пол-оборота на Ваську:
– Сколько р-р-раз тебе г-г-говорил, не К-к-колька, не К-к-колька…
– Извиняюсь, Николай Флорович…
– Ну, хоть К-к-коля, а то ч-ч-черт з-з-знает…
– Да брось, Колечка, Коленька, осмотри вот пацана новенького, нет ли у него, знаешь, чего такого…
У Кольки Вершнева «кабинет» за штабной палаткой: шкафчик со всякой ерундой медицинской, небольшая скамейка, умывальник. Но лечить Кольке некого, и он принужден пробавляться всякой профилактикой: проверяет фрукты, гоняет пацанов за уборкой, придирается к постелям, пытается ограничить купание, а самое важное – мертвый час. Коммунары признают его авторитет, но купание ограничивать и не думают, фрукты лопают немытые, а против мертвого часа уже не возражают. Впрочем, и сам Колька не всегда строго соблюдает капризы науки.
Утром он подходит к Дидоренко и почти плачет:
– Сколько раз я г-г-говорил, что же мне, ж-ж-жаловаться? Никакого внимания, это ч-ч-черт его з-з-знает…
Мы сидим над морем, и вокруг нас, как полагается, ребята.
– Ну, чего ты? Что случилось?
– Опять немытые г-г-груши раздали, сколько я г-говорил?
– Ах, черт, – улыбается Дидоренко виновато, вскакивает, направляется к штабной палатке. Нам слышно, как он разделывает хозкомиссию:
– Душа с вас вон, я вам сколько раз говорил. Опять Колька ругается. Груши мыть перед раздачей если вам лень, так скажите мне, я помою.
– Да на черта их мыть, – оправдывается голос Кравченко, – що воны з базару, чы як? Яка там зараза? Грушы з саду, якого йому нужно биса, тому Кольке. Понимаешь, ничого робыть – груши мый…
Колька, удовлетворенный, скрывается в своем «кабинете». Но через полчаса в лагере гомерический хохот. Слышу голоса Кравченко, Дорохова, Ефименко, Дидоренко, всей хозкомиссии и самого Вершнева. Его тащат ко мне, а он упирается, покрасневший, как пацан, но не смеяться не может. В руках у него начатая груша.
– Ось дывиться: доктор, а груши исть не помывши – прямо з ящыка…
Колька крутит головой и оправдывается:
– Т-т-тебе к-к-какое дело. Я, может, п-п-попробовать хочу: в-в-вредно или не в-в-вредно?
– Наложить на него два наряда, наложить, Антон Семенович.
Я шутя говорю:
– Конечно, два наряда.
– Есть, – салютует Колька недоеденной грушей и вырывается из объятий хозкомиссии.
Дня через два я вижу Кольку с метлой у клубной палатки.
– Что ты здесь делаешь?
– Два наряда за ним, – серьезно говорит командир Красная.
– Это з-за два наряда с-с-считается? – спрашивает Колька придирчиво…
…
21 В Харьков
…
…все, что поддается стирке, снова воскресла маршрутная комиссия, хлопотала о вагонах для отправки палаток в Харьков, о пароходных билетах.
30 августа на море начались бури, пришлось прекратить купание, в Сочи не заходил ни один пароход. 2 сентября мы свернули лагерь и погрузили его в товарные вагоны. Половину вагона отвели для Мишки и для его провожатого Боярчука. Ночевали на открытом воздухе, вспоминали Владикавказ и Военно-Грузинскую. Назавтра был назначен прощальный вечер, а послезавтра выезжать. Сегодня нас чествовали в доме отдыха ТООГПУ, в котором мы наиболее часто бывали. В доме ТООГПУ собралось много гостей из разных санаториев. Коммунаров встретили особенно приветливо, угощали ужином, Хенкиным, выслушали наш концерт. В заключение принесли огромный торт, похожий на вавилонскую башню, и разыграли его «на оборону». Долго прибавляли единоличники по трешнице и по пятишнице. Когда набросали к Хенкину в тарелку больше четырехсот рублей, перешли на состязание целыми коллективами. Коммунары дергали меня за рукав и шептали:
– А мы что ж?
Когда я сказал (уже забыл, в каком арифметическом ансамбле) «двести один рубль», коммунары зааплодировали, и никто не решился после нас испытывать счастье. Торт поднесли при звуках туша Леньке Алексюку и уволокли в наш тыл. В тылу мы все задумались:
– Куда же его девать? Делить на сто пятьдесят частей не годится.
– Отдать оркестру.
– Верно, оркестру.
Волчок, улыбаясь, принял торт, ему только крикнули:
– Алексюка ж не забудьте…
– Не забудем, не бойся.
После вечера принесли торт в лагерь. Музыканты о чем-то совещались, потом вытребовали к себе Левшакова и с прочувственным словом вручили ему торт, а потом схватились за трубы и проиграли туш. Левшаков кланялся и благодарил, говорил, что никогда в жизни не мог ожидать такого большого подарка, что он теперь понимает, какое хорошее влияние оказывает музыка на человеческую душу, что он и в дальнейшем надеется, что ему будут подносить такие торты.
Ребята с блестящими глазами наблюдали за всей этой церемонией. Левшаков кончил, сделал вид, будто он вытирает слезы, и, сгорбившись до самой земли, потащил торт к скамейке. Здесь, вооружившись огромным хлебным ножом, он спросил просто:
– Сколько вас в оркестре? Сорок пять?
– Сорок пять.
– Становись в очередь, да смотри, не забудь, что на каждого из вас приходится по два с половиной коммунара, у которых слюнки текут уже два с половиной часа.
– Что вы, Тимофей Викторович, мы же вам поднесли.
– Знаю я вас, разрезать не умеете сами, и вот…
Музыканты застеснялись, а Левшаков кричит:
– Довольно дурака валять, что же вы думаете: я буду таскать его за собою или слопаю?.. Становись!
Музыканты получили по огромной порции, так что хватило и для корешков, рассыпанных по всем взводам.
На следующий день прощальный вечер. Мы пригласили всех своих сочинских знакомых. В нашей столовой в городском парке мы устроили настоящий пир: закуска, икра, жаркое, мороженое и даже (ох, отвернитесь, кто там из наробраза) по стакану столового вина. Персонал столовой восседал за столами, а подавали и хозяйничали коммунары. Были гости из всех санаториев и домов отдыха, были сочинские комсомольцы, а самые дорогие гости – старые большевики с Шелгуновым.
После ужина раздвинули столы и пустились в пляс. Вино хоть и слабое, а развязало ноги пацанам. Нашлись танцоры из гостей и даже из глазеющей публики…
Пора и оканчивать вечер. Оркестр грянул гопака. Из нашего круга выскочил Петька Романов и по кавказкому обычаю начал вытанцовывать перед Шелгуновым. Ничего не оставалось делать старику, передал он кому-то свою палочку и вспомнил молодость, пристукнул каблуками и пошел в присядку. А Петька после этого уже в настоящем восторге завертелся перед ним, как бесенок.
В три часа четвертого сентября мы построились против дома ТООГПУ в походном порядке: знамя в чехле, на боках баклажки, в строю санитары. Провожала нас целая колонна наших друзей.
После небольшого митинга на пристани провожающие разошлись, а мы стали ждать теплохода. «Армения» пришла только в девять часов вечера.
По причине бури уже шесть дней не заходили в Сочи теплоходы, и поэтому пассажиров собралось на пристани сверх всякой меры. Перед деревянным помостом, выдвинутым в море, стоит не меньше пятисот человек, все больше туристы, но есть и женщины с ребятами. У каждого не только мешок, но еще и чемодан и какая-нибудь бутылка. «Армения» стоит в двух километрах, блестит и играет огнями, а между нами и «Арменией» болтается по морю широкая нескладная лодка, которую тащит на веревке моторный катерок. В лодку можно посадить не больше сорока человек. Публика начинает давить друг друга еще за час до прибытия парохода, а когда он подошел и остановился на рейде, то из публики уже выматывались последние внутренности и взаимные любезности дошли до последней степени совершенства.
Капитан порта приказал в первую очередь «грузить» коммунаров. Первой лодкой отправили девочек, но когда стали выводить на помост четвертый взвод, публика не выдержала давления сзади, запищала, застонала, закричала, заругалась. Какая-то компактная группа туристов, раздавив несколько детей, вылезла на помост и потребовала от капитана объяснений: «почему эти беспризорные в первую очередь?» Мы возвратили четвертый взвод на берег и стали ожидать выяснения конъюнктуры. На помосте крики и ругань.
Спор был разрешен неожиданным образом. Наши музыканты, потеряв терпение, взяли трубы и обрушили на головы туристов… звуки туша. Раз, другой… остановились, прислушались, третий. Капитан порта смеется в лицо туристам, а туристы уходят с помоста. Четвертый взвод пробегает к лодке.
Вот мы и на «Армении». Никаких мест нет, и нам предоставляют кормовую палубу. Тем лучше. Клюшнев разделил ее на пять частей, получилось довольно просторно, еще и проходы останутся.
На краю палубы наши часовые от первого взвода, а снизу на них поглядывают те же туристы.
Зашумели винты, поехали.
После полуторасуточного самого счастливого плавания, наполненного солнцем, пением моря, дельфинами, новыми людьми, мы в Одессе. Нас встречают: оркестр пограничников, комсомольцы, чекисты и между ними такое приятное видение: Крейцер смеется в лицо нашему строю на палубе и салютует нашему знамени. После приветствий и парада мы окружили Крейцера.
– Как дела в коммуне?
– Да что дела? – щурится Крейцер на солнце. – Без вас там дела нет, а ехать вам некуда, что вы будете делать, а?
– Все равно поедем, а здесь что делать?
– Да и я так думаю, вот я еду в Харьков. А и завод же у вас будет, ай и завод… Станки какие, поломайте только мне…
А мы ломали? Что говорить?
– Ну, ну, это я так…
Дидоренко отвоевал для нашей стоянки какой-то физкультурный зал. В Одессе коммунары прожили девять дней. Обедали в кооперативной столовой. Целый день у коммунаров заполнен маршами и экскурсиями, а по вечерам разговоры только об одном – о коммуне. Из коммуны по-прежнему сообщали, что ехать некуда, что нет ни спален, ни столовой, ни кухни, ни классов, ни мастерских.
Коммунарские собрания собирались бурные и нетерпеливые. Доходили до разговоров неприличных:
– Нечего ждать разрешения Правления. Заказывайте вагоны и едем, чем тут валяться, лучше там валяться…
– Нам сейчас нужно быть в коммуне. Что мы за коммунары, почему мы здесь сидим, когда там прорыв на прорыве?
– Вот возьмем и разбалуемся в Одессе, – шутит Похожай, – что вы тогда будете говорить? Как ту не разбаловаться? Делать нечего, смотреть нечего, гулять надоело, ой, и надоело же, если бы вы знали…
Коммунары угрожали развалом коллектива и другими страхами. Но стоило трубачу заиграть «общий сбор», они быстро и по-прежнему ловко выбегают на улицу и строятся для очередного похода. По улицам проходят с прежним строевым лоском, но ни приветствия, ни тысячные толпы, идущие за коммуной по тротуарам, уже не занимают их и не радуют.
Вечером то же самое:
– Вот увидите, пешком будем расходиться в коммуну.
Наконец 14 сентября получили распоряжение Правления:
– Коммуне выезжать в Харьков.
Закричали «ура», подбросили вверх потемневшие тюбетейки и бросились к корзинкам складываться. Маршрутники побежали на вокзал.
22 Кое-что о коэффициентах
Поезд с коммунарами прибыл в Харьков 16 сентября в одиннадцать часов утра. На перроне вокзала собралось все Правление во главе с председателем, и пока поезд останавливался, коммунары уже пожимали руки чекистам, перевесившись через окна.
Через полминуты они уже выстраивались на перроне, имея на правом фланге оркестр и знамя.
– К рапорту смирно!
Дежурный командир Васька Камардинов отдал рапорт председателю Правления:
– Коммуна имени Дзержинского прибыла с похода благополучно, коммунаров строю сто пятьдесят один, больных нет, коммунары приветствуют свое Правление и уверены, что они с новыми силами пойдут на новую работу и закончат ее с победой.
Председатель Правления сказал коммунарам:
– Правление поздравляет вас с возвращением. Коммунары, в строительстве коммуны прорыв, вам даже остановиться негде, но Правление знает, что вы быстро приведете коммуну в порядок, своевременно окончите строительство, пустите завод и приступите к выполнению нового промфинплана вместе с новыми товарищами, которых вы примете в свой состав.
Я глянул в лицо нашего строя. Старшие немного суровы, пацаны же, как всегда, радостны и улыбаются – для пацанов нет ничего невозможного на свете: завод пустить? Отчего не пустить? Они пустят…
Через два часа коммунары с развернутым знаменем подошли к коммуне. Уже издали мы видели новые корпуса, вытянувшиеся в одну линию с нашим главным. Они еще в лесах и со всех сторон обставлены бараками и сараями. Впереди, у самой дороги, вытянулась темная гряда – это встречают коммуну строители, наши рабочие и служащие. Соломон Борисович в том же пиджаке стоит впереди, а вокруг него незнакомая нам группа людей – мы догадываемся, что это инженеры. И Соломон Борисович и инженеры держат «под козырек», только Соломон Борисович подчеркнуто лихо и высоко, а инженеры неловко и неуверенно.
Колонна остановилась. Никто нас не приветствовал, и мы ни к кому не обращались с речами. Для того чтобы дать дорогу знамени, толпа расступилась, и мы увидели, что вся площадь перед всеми тремя корпусами завалена мусором, ящиками, бочонками, изрыта ямами и колеями грузовиков; от наших клумб и следа не осталось. Прямо в глаза нашему строю глядят парадные двери и окна фасада, забрызганные известью и обставленные какими-то примостками, распахнутые настежь и искалеченные.
– Под знамя смирно!
Васька повел знамя. Проходя мимо меня, он шепчет:
– Куда знамя?
– Найди где-нибудь…
Я обратился к коммунарам с самым коротким словом:
– Товарищи, я не поздравляю вас с окончанием похода, поход продолжается, но отдых наш окончен. С завтрашнего дня всю волю и весь разум дзержинцев мы должны бросить на большую, тяжелую и длительную работу. Разойдитесь!
Коммунары не разбежались с шумом и смехом, как это они делали всегда. Мне даже показалось, что на некоторую долю минуты строй не потерял положения «смирно». Только постепенно он давал трещины, и коммунары между бочками и ящиками стали пробираться к зданиям коммуны.
В главном здании все комнаты завалены подмостками, отбитой штукатуркой, дранью. Стены кое-где только побелены, большей же частью они изгрызаны, исцарапаны, а то и совсем первобытны, пестреют обрешеткой и свежими досками. Бывшие спальни второго этажа расширены в пять просторных аудиторий классов, но все это живет еще в строительном хаосе. Внизу уже готова огромная столовая, осталось только помыть окна и смыть с паркета «вековые» залежи грязи и извести.
Правый корпус – новые спальни коммунаров – как будто готов: в каждом этаже двадцать три спальни, одни маленькие – на четыре кровати, другие побольше – на восемь, а есть и большие – на двенадцать, пятнадцать человек. Но в спальнях нет еще проводки электричества, еще не покрашены двери, не готов паркет, вовсе не поставлено отопление. Сразу видно, что на строительстве не хватает рабочей силы. Кое-где только можно встретить маляра или паркетчика за работой. И в главном корпусе и в спальнях свободно гуляют ветры, так как стекла в окнах наполовину выбиты, а наружные двери настежь.
Производственный корпус даже и вчерне не готов. Стоят высокие кирпичные стены, и укладываются балки и стропильные фермы крыши, вот и все. Еле-еле намечены контуры балконного второго этажа, но к бетонированию еще и не приступали, только что привезли бетономешалку и устанавливают ее снаружи. Зияют пустые оконные просветы, вместо пола какие-то провалы и спуски – здесь потребуется громадная высыпка. Дальний фланг корпуса еще только работается каменщиками и весь перепутан кладками и лесами.
Задний двор коммуны засыпан пирамидами земли и глины, осколками строительного материала, и между всем этим добром восседает возле врытой в землю ванны привезенный Боярчуком Мишка. На фасадной площадке, на фоне такого же хаоса, торчат высокими кубами несколько ящиков – это прибывшие недавно станки.
Только что мы распустили строй, подошел к коммуне недлинный кильватер ломовиков, а меня поймал на крыше Соломон Борисович и смущенно зашептал…
…
…да нас и немного. Мы усаживаемся кто на чем может.
Никитин открывает совет простыми словами:
– Ну, с чего начинать?
Командир первого взвода говорит:
– Надо прежде всего устроить коммунаров. Спать придется, конечно, на полу. Для хлопцев можно столовую, там уже все готово, только полы помыть, а для девочек можно на втором этаже, там есть, кажется, такая комната.
– А я думаю, что это не нам решать, – говорит Волчок, – пускай выступают командиры отрядов.
– Какие там отряды, – машет рукой Никитин, – да вот и тебя взять, куда ты инструменты сложишь? Рядом с пацанами на полу. Значит, уже оркестр нельзя разбивать. Раз по-походному, значит, по-походному. Я думаю так, что, пока не будет спален, продолжать по взводам.
– Пожалуй, – соглашается Волчок.
– А теперь насчет столовой. Степан Акимович, где нам кушать?
Степан Акимович смеется:
– Черт его знает?! У нас ведь кухни нет. Новая кухня внизу, будет готова не раньше, чем через три недели… придется с рабочими.
Соломон Борисович отрицательно вертит головой:
– Это невозможно. Наши мастера и рабочие – это одна очередь, потом две очереди строителей, потом две очереди коммунаров, значит, пять очередей…
– Ну, а что ты будешь делать?
– И потом там грязно, ах, эти строители…
Камардинов страстно:
– Ну, насчет грязи, так это мы быстро наладим, а что же делать?
– Ну, раз больше нечего делать, так что ж? – соглашается Соломон Борисович.
– Это мы наладим, – говорит Дидоренко.
– Значит, с этим кончено. Надо сегодня разделить ребят по сменам и столы разделить.
– На смены нечего делить. Как было в Сочи, так и здесь будет.
– Верно.
– А теперь насчет работы, Соломон Борисович?
Соломон Борисович торжественно произносит:
– Для работы коммунаров все готово, как я и говорил, а вы мне не верили. Станки в полной исправности, станины исправлены, меди сколько угодно, лес есть… Ах, какой заказ мы имеем для Наркмоздрава: кроватки для детских больничек, десять тысяч штук!
Командиры аплодируют Соломону Борисовичу, а Соломон Борисович горд и радуется:
– Эти самые масленки, о, вы еще увидите, масленка еще нас вывезет, электросверлилка еще далеко…
– Работать по старым места?
– По старым, где кто был.
– А теперь самое главное, теперь насчет строительства, – говорит Никитин.
Командиры задумались, молчат. В строительном беспорядке, в целой куче прорывов не видать того конца, за который можно ухватиться совету командиров. Молчит и Соломон Борисович и толкает меня по секрету, это значит: а ну, интересно, как командиры за дело возьмутся?
…
23 Первые атаки
…
…младшие группы и, значит, сократить выпуск ближайших лет. Поэтому мы решили часть ребят взять из детских домов. Неудобство в этом было только одно: нас уже начинали упрекать.
– Хорошо вам работать, если будете брать из детских домов, берите прямо с улицы.
Коммунары – высококвалифированные специалисты во всех вопросах, касающихся беспризорности. Коммунары говорили:
– Ребята и на улице и в детских домах одинаковые. Сегодня он в детском доме, а завтра на улице, а потом опять в детском доме. Какая разница?
– С улицы – те труднее.
– Не труднее. И на улице ребята хорошие, и в детских домах есть хорошие.
Наркомпрос Украины не возражал против этой операции. Она была интересна для нас и в другом отношении: мы надеялись познакомиться с положением и работой детских домов в нашей республике.
К детским домам приходилось обращаться и еще по одной причине.
Правление решило увеличить в коммуне процент девочек. До сих пор у нас было тридцать девочек, теперь нужно было это число довести до девяноста. На улице мы могли найти только единицы. Все эти соображения рисовали картину нового пополнения приблизительно так:
с улицы пять девочек и семьдесят мальчиков,
из детских домов пятьдесят пять девочек и двадцать мальчиков.
По возвращении из похода мы получили от Наркомпроса разверстку семидесяти пяти мест между детскими домами, большей…
…
24 На боевых участках
…
…сделана планировка, и уже вскапывались цветники, но против производственного корпуса все еще валяются доски и стоит бетономешалка, которая очень мешает коммунарам. На Деля кричат:
– Когда вы уберете свою мясорубку?
Дель обещал, что уберет через четыре дня, а через пять дней говорит:
– Как же уберу мясорубку, как вы говорите, если еще фундаменты не бетонируются?..
Чем ближе подходил к концу октябрь, тем страшнее становилось – не успеем. В последние дни бросились за помощью к рабочим и служащим коммуны. Местком дал помощь на несколько дней, но этим нельзя было злоупотреблять: были срочные заказы, многое делалось и для себя. Все же педагоги, бухгалтеры, столяры, литейщики поработали с коммунарами.
В пять часов работа в мастерских и на строительстве заканчивается, но для коммунаров не наступает отдых. В коммуне все еще не устроено, не довершено, не поставлено на место. Кое-как заморивши червяка после работы, коммунары разбегаются по новым делам. Бюро и совет командиров в это время собирались каждый вечер и часто засиживались долго. И в комсомоле запарка: богатырским ростом вдруг стала расти ячейка, уже редкие коммунары не входят в комсомол. Наседает и учебный год, который мы поневоле должны начинать с опозданием. Постановление ЦК партии о школе, новые учебные планы и новые программы, новые увязки – все это нужно проработать к началу занятий. Положение в рабфаке к этому времени усложнилось чрезвычайно. У нас проектировалось пять курсовых групп, народился третий курс, который в своем учебном плане оказался запутанным до последней степени.
Наш новый завод, завод электросверлилок, является заводом машиностроительным, наш институт тоже машиностроительный – это открыло совершенно невиданные горизонты в области отношения производства и учебы. В комсомоле и в педагогическом совете мы не особенно надеялись на пресловутую увязку. До сих пор проблемы этой увязки нигде не решены и по своей сущности недалеко ушли от проблемы комплекса. Поэтому у нас решили ввести в план дополнительные предметы: технологию, электромеханику, станки, организацию производства и литейное дело. Комиссии комсомола с этими вопросами еле-еле управлялись, несмотря на большую помощь педагогов.
Рабочее напряжение после первого ужина было даже более сложным, чем на строительстве, так как здесь мы то и дело встречались со стыками: нужно идти и в комиссию, и в бюро, и в совет командиров, активу было впору разорваться.
А тут еще и новенькие. Они пропитывали коммуну все больше и больше, и штабы новых отрядов были загружены буквально до отказа.
Наши вербовочные комиссии возвратились уже давно. В разных детских домах набор был произведен почти по плану. В каждом доме были оставлены новые коммунары до нашего приказа о выезде в коммуну. Сначала мы предполагали, что будем вызывать их постепенно, чтобы не сразу разбавлять коммуну новыми элементами. Дело в том, что во многих детских домах нашим комиссиям очень не понравилось. Нашли и полное отсутствие дисциплины, и потребительские тенденции, и везде нашли плохую грамотность и слабую культуру быта. Осторожность вербовочных комиссий встретила сопротивление со стороны нашего комсомола.
Комсомольцы доказывали:
– Угробим коммуну, вот увидите, угробим. Одних обработаем, на тебе: другие приехали, начинай с этими, только и будем знать, что возиться с ними. Пускай приезжают все сразу, отделаемся, и квит!
Приводили и еще одно дельное соображение:
– Сразу взять, сразу начнем и занятия, а то что ж? Опять будем в классах сидеть, поджидать: вот скоро приедут.
Поэтому мы с начала октября начали форсировать приезд новеньких. Почти каждый день мы отправляли куда-нибудь телеграмму с приказом о выезде, и через день-два в кабинет вваливаются гости. Оглушенные шумом строительства, чистотой и порядком внутри коммуны, самым видом раскаленного в работе нашего коллектива, они смирнехонько усаживаются на стульях и вытаращенными глазами рассматривают все окружающее. Нужен опытный глаз, чтобы в каждом измятом, бледном и неподвижном лице увидеть будущего настоящего коммунара.
Правобережье присылает ребят в высоких шапках и в новых блестящих ватных пиджаках. Ситцевая в горошек рубашка, подпоясанная свеженькой тесемкой, тоже сияет невинностью, и по всему видно, что пацан от рождения не переживал такой полноты жизни и ее новизны, как сейчас. Он неподвижно сидит на стуле в ряду таких же ошеломленных фигур и молчит.
Коммунары поминутно забегают в кабинет посмотреть на новеньких:
– Смотри, граченята какие!..
Но входит штаб отряда и уволакивает прибывших на первоначальную обработку: к доктору, в баню, в одежную кладовку. Все великолепие новых шапок, пиджаков и рубашек безжалостно сдается в кладовую, и через час новые коммунары уже сияют другим сиянием: щеки румянятся от бани, круглые головы блестят после стрижки, поясок охватывает похудевшую сразу фигуру, открытый воротник новой коммунарской спецовки создает впечатление новой человеческой культуры.
Похожай вводит их и напутствует басом:
– Это вам спецовки, а форму получите, когда вся эта буза пройдет. Да и ходить к тому времени научитесь.
Вечером в отряде штаб собирает новеньких в кружок и рассказывает им о порядке коммунарской жизни.
– Сигнал «вставать» в шесть часов. Значит, снится там тебе или не снится что, а вставай и за уборку. Дам тебе щетку, тряпку, и действуй. Да смотри, чтобы мне из-за тебя вечером не отдуваться…
– На всякое приказание, понимаешь? Начальник или командир, скажем я, – никаких разговоров, «есть» и все! А ну, покажи, умеешь ли ты салют? Ну, что ты ноги расставил, как теленок. Ты коммунар, должен быть во! Выше, выше руку нужно!.. Вот молодец!..
Новичок радуется первому успеху.
– Да, ну конечно, если какое распоряжение неправильное, можешь в общем собрании взять слово и крой, не стесняйся! Но только на общем собрании, понимаешь? В газету можешь написать. Ты пионер? Нет? Не годится! Вот я тебя познакомлю со Звягинцем, вожатым.
– Э, нет, нос так не годится. У тебя же платок!.. Так что же ты теперь платком? Это как покойнику кадило… Руки измазал, а потом уже платок вынул…
– Стенки не подпирать, стенка, она, знаешь, не для того. У тебя, понимаешь, есть вот тут позвоночный столб называется, так ты больше на него напирай, тогда будешь молодец! А когда сходишь по лестнице, тоже не держись ни за что, ни за перила, ни за что другое…
– А как же?
– Чудак, да что ты, старик, что ли?.. Вот так просто и иди, как по ровному.
Пацан перед последним пунктом стоит пораженный и улыбается.
Из детских домов нам все-таки не пришлось набрать требуемое число.
Многие приезжали с чесоткой и стригущим лишаем. Таких мы со стесненным сердцем отправляли обратно – лечить их было некогда.
С улицы был хороший самотек с первых дней октября и усиливался с каждым днем. Уже с утра в вестибюле, завернувшись в изможденные клифты или в остатки пальто, сидят три-четыре пацана и блестят белками глаз на измазанной физиономии. Они пялятся на дневального и сначала помалкивают, а потом начинают приставать ко мне, к дежурному командиру, к каждому старшему коммунару, к Дидоренко.
Дидоренко особенно любит с нами поговорить:
– Тебя принять? Ты же убежишь завтра…
– Дядя, честное слово, буду работать и слушаться. Дядя, примите, вот увидите!..
– А ты это откуда убежал на прошлой неделе?
– Дядя, ниоткуда я не убежал, я от матки как ушел, так и жил на воле все время.
– Вот посуди, на что нам принимать таких брехунов?
– Дядя, честное слово!..
– Ну, сиди пока здесь, просохнешь немного, вечером совет командиров будет, может, и примут.
В дальнейшем новые пацаны уже и сами знали, что нужно ожидать совета командиров. Они поуютнее устраиваются в вестибюле и наполняют его тем своеобразным горячим и ржавым духом, от которого, как известно, плодятся вши и разводится сыпняк. Дневальный не пускает их дальше вестибюля, только после обеда дежурный командир придет и спросит:
– Вы как? Обедать привыкли?
Пацаны неловко улыбаются.
– Два дня ничего не ели.
– Ну, это ты, положим, врешь, а обедать все-таки пойдем.
Для них уже заведен постоянный стол, который после обеда внимательно осматривается ДЧСК, не осталась ли на нем «блондинка».
Вечером в совет командиров их вводят поодиночке.
Коммунары их видят насквозь и обычно долго не возятся.
– Это свой… В какой отряд?
– Давайте мне, что ли, – говорит Долинный.
– Забирай, сейчас же к Кольке тащи!..
Долинный поднимается с места.
– Вот твой командир, понимаешь?
– А как же… командир, знаю.
Но бывают случаи и неясные.
Посредине нашего тесного временного кабинета, заставленного неразвешанными портретами и зеркалами, вертится малорослый пацанок. Матерчатый козырек светлой кепки оторван, но у него умненькое лицо, бледное, но умытое. Он не знает, в какую сторону повернуться лицом командиры со всех сторон, а с разных краев кабинета на него сморят явные начальники: Швед – председатель, я – тоже как будто важное лицо, а сбоку Крейцер, случайно попавший на заседание.
Швед энергично приступает к делу:
– Ну, рассказывай, откуда ты взялся.
– Откуда я взялся? – несмело переспрашивает пацан. – Я родился…
– Ну, это понятно, что родился, а дальше что было?
– Дальше? Папа и мама умерли, а я жил я дяди. Дядя меня выгнал, говорил, иди, сам проживешь… Ну… я и жил.
Остановка.
– Где же ты жил?
– Жил… у тетки, а потом тетка уехала в Ростов, а я жил в экономии… там, в экономии заработал четыре рубля, четыре рубля заработал, пошел в Харьков, хотел поступить в авторемонтную школу, так сказали – маленький…
– На улице, что ли, жил в Харькове?
– На улице жил три недели…
Пацан говорит дохлым дискантом и чисто по-русски, ни одного блатного слова.
Командиры вопрошают его наперебой:
– А что ты ел?
– А я покупал.
– Все на четыре рубля?
– На четыре рубля… я еще зарабатывал, – говорит пацан совсем шепотом.
– Как зарабатывал?
– Папиросы продавал.
– Ну, разве на этом деле много заработаешь?
– А я продавал разве коробками? Я по штукам. По пять копеек штука продавал.
Из противоположного угла кабинета:
– Где же ты брал папиросы?
Пацан поворачивается в противоположную сторону.
– Покупал.
– Почем?
– А по рублю тридцать.
Каплуновский серьезно и несмело произнесет:
– Чистый убыток входит…
Все смеются…
Швед говорит:
– Ты все это наврал… Ты, наверное, прямо от мамы.
Пацан в слезы:
– Примите, честное слово, у меня никого нет… Я жил у тетки, а тетка говорит: пойди погуляй, а я пришел, а хозяйка говорит: твоя уехала с новым мужем в Ростов…
– С каким новым мужем?
– А я не знаю…
– Это было в каком городе?
– В Таганроге…
– Ну?
– Уехала с новым мужем и больше не приедет, а ты, говорит, иди. Так я приехал в Харьков…
– С кем?
– Там мальчики ехали…
– Это они тебе такое пальто обменяли?
– Угу. Один говорит: давай твой пиджачок…
– Сколько дней был в Харькове, говори правду!..
– Вчера приехал, а тут на вокзале мальчики говорят, в коммуне этого… как его…
– Дзержинского?
– Угу… так говорят принимают, так я и пришел, тут еще один мальчик пришел… Колесников его фамилия… он там стоит.
– Ну, хорошо. Сколько двенадцать на двенадцать? Ты учился? В какой группе?
– Учился в пятой группе…
Со всех сторон один и тот же вопрос:
– А кто ж тебя учил? Где ты учился?
Но Крейцер останавливает командиров:
– Да бросьте, мучители, вам не все равно!.. Пускай говорит, сколько двенадцать на двенадцать…
– Сто четыре, – улыбнулся более мажорно пацан.
– Та-а-ак. А кто такой Дзержинский?
Молчание.
– А Ворошилов кто?
– Ворошилов?.. Главный… этот… вот, как генерал…
– Главный, значит?
– Угу…
Теперь уже и Крейцер заливается хохотом, покрывая басовым восторгом смех командиров.
Пацан молчит.
– Ну что? – обращается Швед к совету.
– Принять, – говорит Крейцер.
– Голосую. Кто за?
Не успели принять этого, врывается в совет Синенький.
– Там еще один, из Одессы, приехал…
– Ну, чего ты, как угорелый… давай его сюда!..
Входит. Длиннейшая шинелишка. Заплаканные глаза.
– Рассказывай.
Начинает рассказывать быстро, видно, что заранее обдуманную речь произносит:
– Я жил в одном дворе в Одессе, где вы останавливались. Просил вот их, – показывает на меня глазами, – отец у меня пьет, безработный, и каждый день бьет и бьет. Я и приехал…
– Где взял денег на дорогу?
Сначала деньги взяты у отца. Потом выясняется, что деньги украдены у соседей.
– Для чего ты украл?
– А я раньше поехал без денег, это, как его…
– Зайцем?
– Зайцем, а меня на третьей станции высадили, так я и вернулся, а потом взял эти деньги… на дорогу.
Коммунары вспоминают, что видели этого мальчишку в Одессе, он занимался кражей арбузов с подвод… Коммунары говорят:
– Пацан балованный, а потом папа у него есть… Пускай в Одессу едет, дать денег на дорогу…
Сопин другого мнения:
– Вот, что он не беспризорный, так это что ж? Он, конечно, ночует дома, а днем, так он все равно арбузы таскает, так это разве не беспризорный? А ночью, конечно, ночует… А что? Принять. Он, конечно… и так и так. Две должности занимает…
Большинство за отправку в Одессу.
– Завтра поедешь, – говорит Швед, – дадут тебе билет…
Одессит громко ревет и срывает с себя рубашку…
– Не поеду, все равно не поеду, смотрите, как бьет… вот!.. вот!..
Кое-кто и синякам не верит.
– Да это не папаша, это кондуктор.
И вдруг горячую речь произносит Синенький, торчащий до сих пор в кабинете:
– Мы знаем, пацан этот хороший… А мы знаем, как отец его бил, и тогда все видели!.. А что он украл, так что, он не на что-нибудь, а на дорогу, а к отцу он все равно не поедет. Надо принять, потому что пропал он тогда совсем!..
И таки добился своего одессит – приняли. Крейцер махнул рукой:
– Правильно, правильно сделали, что приняли…
Наконец, и третий в сегодняшнем совете – Колесников. Этого сразу видно. Его физиономия свидетельствует о породе, слагающейся обыкновенно на Тверских, Ришельевских и улицах Руставели.
– Сколько времени на улице?
– Три года.
Колесникову уже лет шестнадцать, он держится в совете прямо и видно старается не оскандалиться.
Крейцер по неопытности задает вопрос, который в подобном случае никогда не зададут коммунары:
– Чем жил на улице?
– Чем жил? – добродушно серьезен кандидат. – Да так, как придется.
– Красть приходилось?
– Да так вообще. Разное бывало. Ну, на благбазе не без этого… Но только в редких случаях…
Командиры улыбаются, улыбается и Колесников – через одну минуту новый член пятнадцатого отряда.
А в один из вечеров две небольшие девочки, у каждой аккуратный сверсток, и сами они аккуратистки, видно. Совета командиров в этот вечер не ожидалось, а в кабинете, по обыкновению, народ.
Спрашиваю:
– Чего вам?
– Примите нас в коммуну.
– Откуда же вы?
– Из Сочи.
– Откуда?
– Из Сочи приехали.
Мы все удивлены, переспрашиваем. Действительно, приехали из Сочи.
– Как же вы приехали?
– Нас посадил начальник станции.
– А билет?
– Мы собрали пятьдесят рублей. Мы жили у людей с ребенками… А Настя и говорит: поедем, так мы и поехали…
– Пятьдесят рублей?
– Нам хозяева были должны, мы долго не брали денег, а как коммунары жили в Сочи, так мы и сказали хозяину, что поедем…
– Что за хозяева?
– Ее не пускали, а мои – хорошие, сказали «поезжайте» и даже попросили начальника станции…
– А назад как поедете? – спрашивает Камардинов.
– Не знаем.
Мы молчим, пораженные этим происшествием. А они стоят рядом и молча моргают глазами.
Пришлось трубить совет. В совете смеющееся удивление. Сопин предлагает:
– За их боевой подвиг – принять!
Так и сделали.
Но были и отказы. Вваливается в кабинет бородатый парень и сразу усаживается на стул:
– Примите в коммуну.
– А сколько вам лет?
– Семнадцать.
– В каком году родились?
– В тысяча девятьсот девятом.
– Уходите.
– Что?
– Уходите!
– Других можно, а я что ж…
И уходит, цепляясь за дверь…
25 Симфония Шуберта
Ужин, как обычно, был в шесть часов.
За ужином секретарь совета бригадиров Виктор Торский прочитал приказ:
«Несмотря на героическую штурмовую работу колонистских бригад, остается еще много дела. Поэтому совет бригадиров постановил: сегодня время с восьми часов вечера до трех часов ночи считается как рабочий день с перерывом на обед в одиннадцать часов. Рапорты бригадиров – в три часа пятнадцать минут, спать – в три двадцать. Завтра встать в девять, построиться к первомайскому параду в десять часов.
Заведующий колонией – Захаров,ССК – Торский»Производственный корпус новенький, двухэтажный, с балконом… На свежеокрашенном полу ничего нет, кроме блеска, у порога распростертый мешок приглашает вытирать ноги. Под левой стеной выровнялись в длинной шеренге токарные «красные пролетарии», а справа во всю длину цеха протянулись солидные фрезерные «цинциннати» и «вандереры», перемежаемые высокими худыми сверлильными станками. А между этими рядами разместилась сложная семья зуборезных и долбежных станков. Четыре ряда фонарей, еще без абажуров, заливают ровным светом стены, потолки и станки. Колонисты по одному, по два пробираются на балкон и любуются этим великолепным итогом многолетних своих трудов – новым советским заводом, настоящим заводом, который завтра будет торжественно открыт.
Зато в самой колонии не управились. И в главном здании, и в литере «А», где расположились спальни, успели постелить, но не успели устроиться. В колонии сейчас точно после погрома. По всем комнатам, по коридорам разбросана мебель, валяются клочки бумаги, куски фанеры, стоят у стены рамы, лестницы, щетки…
Торский – в кабинете Захарова. В кабинете, как в боевой рубке. Против Торского сидит садовник и просит:
– Это ничего, что ночь, вы все равно будете работать… А цветы кто приготовит? Вы же мне обещали давать по десять человек, а давали по пять.
Торский смотрит на садовника и бурчит:
– Днем вам дал сорок человек, днем мы решили все кончить, а ночь оставили для себя. А теперь вы опять просите. Это же ночь, поймите, это – наше время!
– Товарищи, так и розы ваши и гвоздики ваши… Я же не успею…
– Сколько вам?
– Десять человек.
– Три. Похожай, дашь из твоей бригады троих?
– Виктор… Да откуда же я возьму? У меня театр!
– У тебя все комсомольцы. Управишься. Давай.
– Ну, есть, – недовольно тянет Похожай и вытаскивает из кармана блокнот, чтобы выбрать для садовника самый слабый рабочий комплект. Садовник все же облизывается от удовольствия. Торский напоминает ему:
– Только с восьми! Алексей Степанович сказал: до восьми – полный отдых.
Дирижер оркестра толстый краснолицый Левшаков прослушал этот драматический отрывок и исчез потихоньку. Через пять минут откуда-то донесся слабый сигнал. Заведующий колонией Захаров, подняв голову от бумаг, спросил удивленно:
– Почему сигнал?
Дежурный бригадир маленький Руднев сорвался со стула:
– Да кто же это играет?.. Сигналка – вон лежит!
На маленьком столике лежала длинная труба с белой лентой. Никто в колонии не имел права давать сигнал, кроме дежурного трубача по приказу дежурного бригадира.
– Это они сами… сами играют… Нахально играют «сбор оркестра»! Руднев смеется и вопросительно смотрит на Захарова:
– Разогнать?
– Жаль… Знаешь что… пусть они… поиграют, ведь у них завтра концерт.
* * *
Захаров вышел в коридор. У окна стоял главный инженер Василевский, сухой, строгий, прямой, как всегда. Еще осенью он не верил ни в колонию, ни в колонистов… По коридору пробегали озабоченные малыши: они спешили закончить личные дела к восьми часам. Увидев Захарова, Василевский отошел от окна:
– Пойдемте послушаем музыкантов, они разучивают прекрасную вещь, я уже два раза слушал: симфонию Шуберта.
В будущей физической аудитории, где уже стоят стеклянные шкафы, за столами музыканты. Кажется, что их страшно много. Дирижер отделывает симфонию Шуберта. Захаров и Василевский присели в сторонке.
Захаров устал, но нужно приготовиться к еще большей усталости, и поэтому хорошо прислониться головой к холодной стене и слушать. Он различает в сложном течении звуков то улыбки, то капризы, то восторженную песнь, то заразительный хохот, то торжествующий звон. Пять лет назад он создавал этот замечательный оркестр, который считается теперь одним из лучших в стране.
Сорок мальчиков, сорок бывших бродяжек, играют Шуберта. Они поглядывают на Захарова и, вероятно, волнуются…
Дирижер кривится и бессильно опускает руки и голову – музыка нестройно обрывается.
Дирижер смотрит на Головина – большой барабан. Захаров еле заметно улыбнулся: он знает, сколько мучений испытал дирижер, пока нашел охотника на этот инструмент.
– Сколько у тебя пауза? – страдальчески-вяло спрашивает дирижер.
– Семь, – отвечает Головин.
– Семь! Понимаешь, семь? Это значит шесть плюс один, или пять плюс два, но не три, не три, понимаешь, не три! Надо считать!
– Я считаю.
– Наконец, надо на меня смотреть.
– И на вас смотреть, и в ноты смотреть… – говорит Головин недовольным баском.
– Чего тебе в ноты смотреть? Написано семь, сколько ни смотри, так и останется семь.
– Вам хорошо говорить, а мне делать нужно.
Мальчики хохочут, смеется дирижер, смеется и Головин.
– Чем вы его накормили сегодня? Сначала!
* * *
В восемь часов вышел на площадку лестницы Володька Бегунок и проиграл сигнал на работу. С лестницы спускаются девочки в красных косынках. Сегодня у них геройская задача – навести блеск на все окна, на все стекла шкафов, на все ручки.
Первая бригада Зырянского развешивает по аудиториям, спальням и залам портреты и зеркала – этой работы хватит на всю ночь. Не меньше работы досталось и третьей бригаде: на всех дверях надо прикрепить стеклянные голубые таблички, на которых золотом написаны названия комнат. Шестнадцатая бригада девочек приводит в порядок столовую. Шестая натирает паркет. У каждой бригады своя задача и – задача большая.
По всем коридорам и залам рассыпала свою агентуру четвертая комсомольская бригада, пользующаяся сегодня монопольным правом переносить мебель из помещения в помещение. Уже в начале вечера бригаду назвали «Союзтрансом». «Союзтранс» доставляет грузы по указанию дежурного бригадира и об их дальнейшей участи не заботится. Вот принесли из столярной огромные шкафы для химической лаборатории, вот притащили из подвала несколько зеркал, доставили в классы и десятки столов… И вот уже весь «Союзтранс» отдыхает в кабинете, и бригадир Скребнев говорит, усмехаясь:
– Биржа труда!..
В кабинете же сидят пять-шесть малышей, несущих службу связи. Этим сегодня придется побегать. Для связи малыши незаменимы.
– Володька, – говорит Захаров, – срочно Зырянского!
Володька очень хорошо знает, насколько было бы неприличным спросить, где может находиться Зырянский. Володька дрыгает рукой (это значит салют), шепчет «есть» и вырывается в коридор. В коридоре он нюхает воздух и бросается к дверям «тихого» клуба, потом останавливается и вдруг летит в противоположную сторону, перескакивает по ступенькам лестницы, проносится по коридору второго этажа, перелетает через мостик, съезжает на перилах, и вот он уже в спальне № 39 дергает за рукав Зырянского:
– Алешка, в кабинет!
Алеша спешит в кабинет, а Володя не спеша бредет за ним, и по дороге его зоркие, памятливые глаза замечают, где расположились бригадиры и другие нужные люди.
В «тихом» клубе сосредоточены главные силы малышей. Здесь они под руководством учителя Маленького устраивают уголки: Ленина, 1 мая…
Ах, сколько здесь дела, сколько дела! Сколько метров материи, сколько картин, рамок, портретов, букв, гвоздей, кнопок, картона, золотой, серебряной и красной бумаги. Весь «тихий» клуб в обрезках бумаги, везде стоят банки с клеем, стучат молотки и стрекочут ножницы. Малыши то сосредоточенно работают, то щебечут и спорят, то в мире с Маленьким, то в конфликте, но дело все же подвигается.
Здесь же работают и два пацана из Кролевца: Волончук и Коленко. Они прибыли в наш город неделю назад, специально в колонию имени Первого мая. В совете бригадиров они заявили, что желают жить в колонии. Совет бригадиров долго распрашивал их о разных семейных обстоятельствах, но мест в колонии все равно нет. Дежурный накормил кролевецких парнишек обедом, а после обеда они поплакали и куда-то исчезли. На другой день малыши снова явились, сидят на крыльце и ждут. Захаров увидел их и сказал Торскому:
– Чего сидят? Отведите их в приемник.
– Они уже там были.
– И что же?
– Да вот опять пришли…
– Идите в приемник, вас в колонию не приняли.
Они скрылись, а сегодня к вечеру снова пришли, улыбнулись Торскому и отправились прямо на работу в «тихий» клуб. Один из них – курносый, круглоголовый, с умными серыми глазами, второй – дурашливее и похитрее. В «тихом» клубе они что-то прибивают маленькими молоточками и рассказывают:
– Батьки и мамы давно нет… Ни… Мы городяны. Та у мене бабка есть, а у Волончука никого, так вин пас… Там коровы у городян у кажного… Про колонию давно прочулы, наши плотныки тут робылы… Чого бабкы жалко? Бабка не пропадэ, ей люды помохуть…
Малыши к этой паре относятся сочувственно, иначе не дали бы молотков в руки.
К обеду много работы было уже сделано, и Захаров с Торским пошли проверять. Зашли и в «тихий» клуб. Уголки почти готовы, остались последние мазки, по полу уже прыгают члены шестой бригады: натирают полы. Кролевецкие парнишки что-то вырезают ножницами.
– А эти чего здесь?
Кролевецкие задрали головы и молчат. Только у Коленко в одном глазу задрожала маленькая слеза. Торский взял Захарова за пуговицу:
– Да пусть они уже остаются… для праздника.
Захаров положил руку на круглую голову мальчугана:
– Добре. Тащи их к доктору.
– Да доктор спит, наверное.
– Ничего не спит. Колька в больничке пол натирает.
В коридоре заиграли сигнал на обед. Колонисты потянулись в столовую. «Союзтранс» пронес на плечах несколько спящих малышей…
* * *
В десять часов утра отдохнувшие, розовые, в парадном блеске, с вензелями на рукавах колонисты выстроились против цветников. За цветниками сверкали вымытые окна их колонии. Площадка перед новым заводом была посыпана песком.
– Под знамя смирно!
Вытянулись, подняли руки в салюте.
Оркестр загремел знаменный марш. Взволнованные и строгие вышли из главного входа знаменщики. Еще через минуту пятьсот членов колонии имени Первого мая, по восьми в ряд, играя на солнце всеми красками радости и молодости, маршем пошли в город. Сейчас у них нет никаких долгов перед людьми: все сделано, все поставлено на место.
Вышли на шоссе. Справа строятся к параду рабочие машиностроительного завода. Люди уступают дорогу колонистам. Между рядами мужчин и женщин, разрывая воздух вздохами оркестра, гордо проходят пятьсот юношей.
– Машиностроительному заводу салют!
Пятьсот рук вспорхнули над головами. Лица у рабочих розовеют под солнцем. Они смеются и аплодируют.
[26 Поворот оверштаг[323] (…)]
…
27 Похоже на эпилог
…
…прошлом году работали праздничные комиссии, только дорожной комиссии не было. Теперь уже не пацаны готовили в тайне праздничную каверзу, а все триста коммунаров готовили к пуску свой завод.
В день праздника вечером двери завода закрыты, и коммунары показывают гостям спальни, аудитории, классы и клубы.
В семь часов приехал председатель ВУЦИКа Григорий Иванович Петровский и пошел в толпе коммунаров осматривать коммуну. В одной из спален ему представили братьев Братчиных и пояснили, что Петька старше Кольки только на пять минут.
В одной из аудиторий Григорий Иванович увидал глобус и сказал одному из пацанов:
– А покажи Украину.
Пацан не опозорил звания коммунара-дзержинца:
– Вот Украина.
В это время вышел на площадку лестницы трубач и заиграл сбор. Пробежали на завод коммунары и выстроились в нижнем этаже. Гостей пригласили на балкон, на балконе же расположился Левшаков со своим оркестром.
У каждого станка стал коммунар, а у распределительной доски, где красным бантом связан рубильник, часовые: Синенький и Ворончук. На заводе дежурное освещение – мерцают только лампочки на стенах.
Председатель ВУЦИКа поздравил коммунаров с новым заводом и взялся за ножницы.
Фанфаристы развернули над перилами балкона свои занавески и заиграли сигнал «на работу». Марголин двинул выключателями, и четыре линии фонарей ослепительно загорелись над нами.
Председатель ВУЦИКа перерезал ленту рубильника и сказал:
– Объявляю завод открытым.
Оркестр грянул «Интернационал», коммунары замерли в салюте.
И тишина.
И вот первый звук: завертелся шкив у Грунского, и сейчас же за ним круглым гулом пошло по заводу. Все больше и больше в общую гармонию прибавляется звуков: зашипели шлифовальные, замурлыкали револьверные, запищали сверлилки, зазвенели молоточки в сборном на балконе, завертелись шкафы и патроны, заходили шепинги широким шагом, затанцевали долбежные, и в вихре вальса завертелись «вандереры» – бал, торжественный бал. В каждом патроне деталь, угощение для советского хорошего гостя, ибо деталь новой советской машинки лучше пирожного и бутерброда.
Григорий Иванович и гости пошли между станками и коммунарами.
На втором этаже последние винтики завинчивают девчата в первую сверлилку, вытирают на ней последнее пятнышко, смахивают последнюю пылинку с вензеля на крышке ФД-1, что значит: электросверлилка завода коммуны имени Феликса Дзержинского, модель первая.
С того момента прошло три месяца. Наш корабль быстро мчится вперед, не отставая от развевающихся впереди красных вымпелов и почти не имея крена. На корабле снова идеальная чистота, четкий ритм марша двадцати девяти отрядов коммунаров.
Двадцать первым отрядом заготовщиков, в котором двенадцать пацанов, командует коммунар Томов.
Швейной мастерской нет: есть фрезеровщицы, сверловщицы, сборщицы, контролеры.
Стадион еще стоит и ожидает весны, чтобы перейти в загробную жизнь в виду хороших сухих дров. Но в стадионе уже не слышно писка пацанов, шарканья рубанков, визга пилы: все коммунары уже работают на новом заводе, ибо промфинплан семь тысяч машин в год. Уже выполнен план первого квартала – двести пятьдесят машин. В коммуне то и дело сидят представители советских заводов: всем до зарезу нужны электросверлилки. Нет, не напрасно коммунары подставили ножку Петравицу в Австрии и Блек и Деккеру в Америке.
В рабфаке коммунары добивают последние остатки осеннего прорыва, но и без прорыва работы здесь по макушку: улучшаются программы, выбрасываются последние хвостики, торчащие еще из советского текста, находятся новые формы, новые ухватки в работе.
В комсомоле сто семьдесят человек, наша ячейка одна из самых сильных в Харькове.
И у комсомола, как и раньше, в руках чуткий руль коммуны…
Впереди еще много жизни и много борьбы. Много коммунаров уйдет в жизнь взрослых людей, много придет новых пацанов, из них будет складываться коллектив дзержинцев, коллектив живых людей. Коммунары уверены, что через три года коммунаров уже будет не триста, а тысяча и будет огромный завод электроинструмента, из которого выйдут наши будущие марки ФД-2, ФД-3, ФД-4…
Педагоги пожимают плечами[324] Статья
Педагоги – самые уважаемые работники у нас в Союзе. Задача педагогов самая почетная – создавать людские кадры для всех отраслей нашей жизни. Нашей педагогикой, советской педагогикой, мы уже можем гордиться.
И всё-таки пожимали плечами по поводу работы нашей коммуны, представьте себе, педагоги!
Пожимали плечами не все педагоги. О, нет! В подавляющем своем большинстве это народ смелый, чуткий, интересующийся всяким хорошим почином. В таком же подавляющем большинстве это народ героический, во всяком случае, работу он проделывает трудную и большую, и поэтому пожимать плечами по случаю нашего хорошего дела они никогда бы не стали.
Пожимала плечами небольшая кучка, самая маленькая. Эта кучка обитает на Олимпе. Эта кучка состоит из людей, которые, может быть, не воспитали ни одного живого, даже собственного ребёнка, но которые зато сочинили много педагогических принципов.
Практика невозможна без теории, теория невозможна без практики. Но пожимавшие плечами педагоги на существующую практику смотрели с презрением и осуждением и поэтому старались завести свою собственную, так сказать, клиническую практику. С другой стороны, и презираемая педагогическая практика волей-неволей должна была теоретизировать как-то свой опыт и выводы, должна была таким образом создаваться особая, так сказать, партизанская теория.
И недаром ЦК партии пришлось взять на себя и теоретическую и практическую заботу о нашем деле[325].
У нас в теории дошло, например, до того, что, с одной стороны, отрицали всякую биологическую предрасположенность моральной сферы, считали, что все от среды и воспитания, и одновременно с этим, с другой стороны, все воспитание человека хотели подпереть рефлексологией и рассчитывали дать нового человека исключительно на основании изучения условных рефлексов. У одного из подобных теоретиков коллектив, например, определяется так: «Коллектив есть группа взаимодействующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные раздражения». Для всякого непредубеждённого человека очевидно, что это определение коллектива лягушек, обезьян, моллюсков, полипов, кого хотите, но только не коллектива людей.
Но и практика не всегда была лучше. Пролетарская педагогическая установка с боями прокладывала себе дорогу, пробивалась в жизнь, откликаясь на живые требования и потребности нашей промышленности нашей новой культурой. Разве не характерно, что лучшей школой воспитания является комсомол, производство, армия? Здесь пролегают пути подлинного классового воспитания – здесь и в школе; так были созданы фабзавучи и рабфаки, многочисленные и разнообразные курсы. Здесь дело делалось самыми быстрыми темпами, часто без специально разработанного теоретического фундамента, без практических кадров, ощупью, со многими ошибками, но спасали классовое чутье и живые требования жизни. Но в области собственно воспитания не было такой сильной живой струи. Кроме того, воспитательная область, так сказать, нежнее и неуловимее. А в нашей рабочей, комсомольской и партийной интеллигенции много еще существует воспитательных предрассудков, на веру воспринятых от старой педагогической теории и просто от бродячей интеллигентской мысли, от литературных образов и идеалов. Путь нового ленинского воспитания, путь воспитания коммунистического – это путь напряженной борьбы со многими врагами. Враги эти: осколки старой российско-интеллигентской идеологии, сильные толщи буржуазного индивидуализма. Эти враги на каждом шагу окружали нас, новых работников просвещения, стремящихся воплотить требования, предъявленные к нам нашей эпохой и революцией, в живом, настоящем деле.
Самым удобным местом для борьбы был детский дом. Во-первых, это был действительно новый тип детского учреждения, где меньше всего можно было бояться остатков старой практики; во-вторых, здесь не вмешивалась родительская власть. Это были выгодные стороны детского дома. Но были и неудобства. Первое: именно в детском доме оторванная от жизни, начётническая теория старалась организовать свою собственную «новую практику»; во-вторых, детский дом предлагал невероятно трудный состав детей, почти сплошь воспитанный улицей. Поэтому работа в детском доме всегда обращалась в боевой фронт.
В дни начала коммуны им. Дзержинского было уже много товарищей, знающих цену новой воспитательной пролетарской практике, много было людей, на опыте убедившихся в возможности большого прямого опыта, – поэтому коммуна начинала жить смелее, чем ее предшественники. Но бороться приходилось и тогда, а больше всего пришлось наблюдать недоверие и вот этого самого пожимания плечами.
Сейчас коммуна победоносно закончила пятилетие. Теперь нужно говорить о принципах нашего воспитательного опыта. Это именно те принципы, по поводу которых были пожимания плечами.
В 1927 г. мы явились перед педагогическим Олимпом со своим скромным идеалом культурного советского рабочего. Нам ответили:
– Культурного рабочего?.. А как?
Самое главное: как? Мы изложили свои взгляды на педагогическую технику, которую уже нам удалось испробовать в одном из медвежьих углов, далеком от больших педагогических дорог.
– Мы желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным членом рабочего класса, комсомольцем, большевиком. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря – он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он должен ощущать свои обязательства перед классом. Он должен уметь подчиниться товарищу и должен уметь приказать товарищу. Он должен уметь быть вежливым, суровым, добрым и беспощадным – в зависимости от условий его жизни и борьбы. Он должен быть активным организатором. Он должен быть настойчив и закален, он должен владеть собой и влиять на других; если его накажет коллектив, он должен уважать и коллектив, и наказание. Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день.
«Олимпийцы» ужаснулись:
Наказание? Наказание воспитывает раба!
Долг – буржуазная категория!
Честь – офицерская привилегия!!
Это – не советское воспитание!!!
Это происходило действительно так: у нас сохранился стенографический отчет.
Мы работали пять лет. Вместе с нами почти не работали педагоги, но с нами работали коммунары-дзержинцы. Они делали стулья, арматуру, сверлилки, новую свою жизнь, нового человека, – и они еще делали новую, советскую педагогику. На нашем небольшом участке мы были не в состоянии сделать много, и с нашим небольшим «участковым» опытом нас не пускали на страницы педагогических журналов. Но то, что мы сделали, – уже не страница журнала.
Коммуна им. Дзержинского за пятилетие «отточила» свои методы до достаточной точности. Только еще небольшие остатки идеализма и индивидуалистической педагогики до сих пор отравляют наше торжество. Но и с ними мы рассчитываем справиться в кратчайшее время.
Коммуна им. Дзержинского не знает пропасти между умственным и физическим трудом. Рабфак машиностроительного института подводит нашего коммунара непосредственно к втузу, но он входит в него не только подготовленным студентом – он уже и мастер высокой квалификации.
Поэтому вступление во втуз для коммунара может быть и необязательным. Уже сейчас на коммунарском заводе работает несколько инструкторов-коммунаров, путь которых, очевидно, путь младшего комсостава промышленности. Давая коммунарам высокую квалификацию, связанную со средним образованием, мы в то же время сообщаем ему многие и разнообразные качества хозяина и организатора. Нужно побывать на коммунарском общем собрании, чтобы в этом убедиться. Вопросы промфинплана, технологического процесса, снабжения, работы отдельных деталей, приспособлений, рационализации и контроля, норм и расценок, штатов и качества персонала ежедневно проходят перед коммунарами, проходят не как перед зрителями, а как перед распорядителями, которые не могут отмахнуться ни от какого вопроса, иначе их дело на другой же день начнет давать перебои. В решении этих вопросов для коммунаров находится прежде всего место приложения их общественной энергии, но это не энергия людей, отказывающихся от личной жизни, это не жертва подвижников, это разумная общественная деятельность людей, понимающих, что общественный интерес – это есть и интерес личный.
В этой общей установке, подчеркнутой во многих деталях нашего дела (например, в сдельной зарплате), мы находим все точки отправления и для принципов нашей педагогической техники.
В чём эти принципы?
Прежде всего мы отстраняем воспитательную работу специально над отдельным лицом, над пресловутым «ребенком», составляющим заботу педагогики. Мы считаем, что влияние отдельной личности на отдельную личность есть фактор узкий и ограниченный. Объектом нашего воспитания мы считаем целый коллектив и по адресу коллектива направляем организованное педагогическое влияние. Мы при этом уверены, что самой реальной формой работы по отношению к личности является удержание личности в коллективе, такое удержание, чтобы эта личность считала, что она в коллективе находится по своему желанию – добровольно, и, во-вторых, чтобы коллектив добровольно вмещал эту личность.
Коллектив является воспитателем личности. В практике коммуны им. Дзержинского, например, проступки отдельной личности, какие бы они ни были, не должны вызывать реагирования педагога предпочтительно реагированию коллектива. Педагог в коммуне постольку может влиять на отдельную личность, поскольку он сам член коллектива, и не больше, чем всякий другой член коллектива.
Это вовсе не значит, что мы, педагоги и вообще взрослые руководители коллектива, стоим в стороне и только наблюдаем. Как раз нам приходится каждую минуту мобилизовывать нашу мысль и опыт, наш такт и волю, чтобы разобраться в многообразных проявлениях, желаниях, стремлениях коллектива и помочь ему советом, влиянием, мнением, а иногда даже и нашей волей. Это очень сложный комплекс рабочих напряжений. Но как бы много мы ни работали, мы никогда не можем стать педагогическими авгурами[326], изрекающими законы воспитания. Законы эти вытекают из общей жизни Советского Союза и, в частности, из жизни нашего коллектива, и они настолько сами по себе убедительны, что мудрить над ними нам уже не может быть дано.
Таким образом, педагогическая установка коммуны в общем формулируется так: создание правильного коллектива, создание правильного влияния коллектива на личность.
Разрешая вопрос жизни коллектива, мы не можем рассматривать коллектив как «группу взаимодействующих и совокупно реагирующих индивидов». Мы видим не «совокупность» и не отвлеченный коллектив, а конкретный живой коллектив мальчиков и девочек – часть советского рабочего общества в эпоху строительства социализма, классовой борьбы и перехода нашего к бесклассовому обществу. И мы видим прежде всего, что наш детский коллектив решительно не хочет жить подготовительной жизнью к какой-то будущей жизни, он не хочет быть явлением только педагогическим, он хочет быть полноправным явлением общественной жизни, как и каждый другой коллектив.
Отдельные члены коллектива не рассматривают себя как «зародыш будущих личностей». Естественно и нам стать на такую точку зрения и считать наших воспитанников полноправными гражданами советских республик. Как полноправные граждане, они имеют право на участие в общественном труде – по своим силам. Они и участвуют, и участвуют не в педагогическом порядке, а в рабочем, т. е. не портят материал, а производят нужные вещи не из идеалистических соображений альтруизма и нестяжания, а из стремления к заработку и своего, и коллектива, и за свою работу они отвечают по всей строгости производства – отвечают прежде всего перед коллективом, который является поглотителем и частного вреда, и частной пользы.
Из этого основного нашего взгляда на детский коллектив проистекают и все наши методы. Мы даем детскому или юношескому коллективу рабфак, завод, инженеров, промфинплан, зарплату, обязанности, работу и правоответственности. А это значит – даем дисциплину.
Пожимающие плечами «олимпийцы» могут много говорить о необходимости дисциплины, могут с радостью наблюдать уже готовую дисциплину и даже умиляться по поводу ее красот, но совершенно не в состоянии без истошного крика наблюдать процесс дисциплинирования. Дзержинцы же ничего особенного в самой дисциплине не видят, по их мнению, это естественное и необходимое состояние каждого коллектива. В самом факте дисциплины нет для них никакой проблемы. Они видят только процесс дисциплинирования и считают, что проблема именно в этом процессе.
Если коммунар не убрал станок и он покрылся ржавчиной, коммунарское собрание, пожалуй, даже не подумает о том, что виновника нужно дисциплинировать, но все будут говорить и кричать:
– Ты испортил станок, понимаешь? Ты знаешь, сколько станок этот стоит? А что завтра будем делать, если из-за тебя не хватит детали пятнадцатой? На тебя будем смотреть – какой красивый, да?
И вовсе не решая проблемы наказания, а только оберегая заводское оборудование как общий коллективный интерес, такого коммунара снимут со станка и поставят на простую работу.
Это, может быть, и жестоко, но это жестокость необходимая. И только потому, что коллектив от нее не отказывается, нам почти не приходится ее применять.
Точно так же в коммуне почти не бывает воровства, потому что всем хорошо известен закон коммуны: украсть нельзя, за кражу можно в полчаса очутиться за бортом коммуны. Для коммуны это вовсе не проблема воспитания личности, это проблема жизни каждого коллектива, и иначе жить коллектив не может.
Педагогические теории, доказывающие, что хулигана нельзя выгнать в коридор, а вора нельзя выгнать из коммуны («вы должны его исправлять, а не выгонять»), – это разглагольствования буржуазного индивидуализма, привыкшего к драмам и «переживаниям» личности и не видящего, как из-за этого гибнут сотни коллективов, как будто эти коллективы не состоят из тех же личностей!
Коммуна им. Дзержинского запрещает воровство совершенно категорически, и каждая личность это хорошо знает и не станет рисковать ни интересами коллектива, ни своими собственными. Поэтому в коммуне почти не бывает воровства, во всяком случае, за воровство у нас уже не наказывают. Если случай воровства происходит с новичком, еще не способным ощущать интересы коллектива как свои собственные, новенькому скажут: «Смотри, чтобы это было в последний раз». А если воровство случится еще раз, коллектив обязательно поставит вопрос об увольнении. Эта суровость есть самая большая гуманность, какую можно предъявить к человеку. Эта проблема решается с арифметической точностью. Оставить вора в коллективе – это значит обязательно развить воровство, это значит во много раз увеличить случаи краж, увеличить бесконечные конфликты, связанные с подозрениями на невинных товарищей, это значит заставить всех членов коллектива запирать свои вещи и подозрительно посматривать на соседа, это значит уничтожить свободу в коллективе, не говоря уже о том, что это означает еще и растаскивание материальных ценностей.
Насколько падает и разлагается коллектив при узаконенном и допущенном воровстве, настолько он крепнет в другом случае, крепнет только от одного общего переживания силы коллектива и его права.
Тот мальчик, который хоть один раз голосовал за изгнание товарища за воровство, с большим трудом сам идет на воровство. Обращаем внимание и еще на одно обстоятельство: те, кого коллектив выбросил из своих рядов, испытывают чрезвычайно могучую моральную встряску. Обыкновенно коллектив не выгоняет в буквальном смысле на улицу, а отправляет в коллектор. И мы знаем очень много случаев, когда такой «изгой» приходил к положительным установкам в вопросах социальной нормы [поведения]. Бывали случаи, когда он вторично присылался в коммуну и уже навсегда забывал о своем воровском опыте.
Категорическое требование коллектива применяется не только по отношению к воровству. В коммуне им. Дзержинского такое же категорическое требование предъявляется и к выпивке, и к картежной игре. За выпивку – безусловное изгнание. И именно поэтому, несмотря на то что в коммуне есть много ребят 18 и 19 лет, что большинство из них имеет довольно большие карманные деньги, коммунары никогда не пьют и чрезвычайно нетерпимо относятся к пьянству взрослых.
Такая дисциплина вытекает как осознанная необходимость, из условий всей жизни коллектива, из того основного принципа, что коллектив детей не готовится к будущей жизни, а уже живет. В каждом отдельном случае нарушения дисциплины коллектив только защищает свои интересы. Эта логика совершенно недоступна пониманию «олимпийцев» и вызывает с их стороны наибольший протест. А между тем эта логика больше направлена в защиту интересов личности, чем всякая другая.
Защищая коллектив во всех точках его соприкосновения с эгоизмом личности, коллектив тем самым защищает и каждую личность и обеспечивает для неё наиболее благоприятные условия развития. Требования коллектива являются воспитывающими главным образом по отношению к тем, кто участвует в требовании. Здесь личность выступает в новой позиции воспитания – она не объект воспитательного влияния, а его носитель – субъект, но субъектом она становится, только выражая интересы всего коллектива.
Это замечательно выгодная педагогическая конъюнктура. Защищая каждого члена коллектива, общее требование в то же время от каждого члена ожидает посильного участия в общей коллективной борьбе и тем самым воспитывает в нем волю, закаленность, гордость. Уже без всякой специальной педагогической инструментовки в коллективе развивается понятие о ценности коллектива, о его достоинстве. Именно в этом пункте лежит начало политического воспитания. Коллектив дзержинцев осознает себя как часть великого классового пролетарского коллектива, связанную с ним в каждом своем движении. Это и есть политическое воспитание, отличное от политического образования.
В этом же ощущении ценности коллектива заключается и начало понятий чести и долга – категорий, которые «олимпийцами» назывались соответственно «офицерской» и «буржуазной привилегией».
Наше воспитание дает стране квалифицированного культурного рабочего, способного быть командиром в любой отрасли нашей работы, но способного и подчиниться товарищу. Еще не так давно «олимпийцы» описывали ужасы, проистекающие от нашего командира (отряда, группы), который, по их мнению, обязательно душит инициативу, обязательно насильничает. А наш командир только выборный единоначальник, правда обладающий большой властью и влиянием, но связанный по рукам и ногам во всех тех случаях, когда он начинает представлять [узко]личное начало. Отряд командиров – это тоже коллектив, и командир есть только его уполномоченный.
Насчет инициативы коммунары никогда не станут слушать пустую болтовню, какой бы она ни казалась заманчивой, но без лишних слов примут всякое предложение, которое даёт путь к решению поставленной общей задачи.
Мы также протестуем против воспитания деятельностью, построенной только на «интересности». Любопытно послушать прения в совете командиров, когда разбирается заявление какого-нибудь новичка:
– Мне в этом цехе работать не интересно, переведите меня в механический.
Такому «ребенку» сурово отвечают:
Может, собрать оркестр? Может быть, для тебя интересно послушать музыку?
Где ты был, когда мы строили завод и целый месяц носили землю на носилках? Думаешь, нам было очень интересно?
Может быть, для тебя и уборные убирать не интересно?
Новый коммунар, впрочем, скоро начинает понимать, в чём дело. Он приобщается к «буржуазной категории» долга. Коллектив требует отличности определенного взноса в общую трудовую и жизненную копилку. Рабочий класс, великая Советская страна собирают личности не по договору, не по найму, не по [узколичному] интересу. И коммунары к вопросам долга относятся просто и уверенно – это естественная позиция пролетария по отношению к своему классу.
И если этот класс, и наш коллектив, и сам индивид представляются человеку ценностями, в которых он не сомневается, возникает понятие о классовой пролетарской чести.
Нам остается коснуться одного вопроса, наиболее жгучего в наших педагогических спорах; а как же педагог? Выходит, что все делает коллектив, а педагог для чего? И что может гарантировать, что коллектив будет поступать как раз так, как нужно?
Вопрос уместный. Коммуна им. Дзержинского в 1930 г. вовсе отказалась от воспитателей, но это не значит, что у нас их нет. Только здесь мы будем говорить о коллективе педагогов. Нашим воспитательским коллективом являются учителя, инженеры, мастера и инструкторы, чекисты, члены нашего правления и в первую очередь и главным образом – партийная и комсомольская ячейки.
И воспитание коммунаров достигается не путем чьей-нибудь проповеди или нравоучений, а исключительно из жизни, работы, стремления самого коллектива. Эта работа и стремления определяются тем, чем живет коллектив, т. е. нашей революцией, нашими пятилетками, нашей борьбой за экономическую независимость, нашим стремлением к знаниям, нашим рабфаком, нашим упорядоченным, вымытым, вычищенным коммунарным бытом, нашей дисциплиной, каждой минутой нашего напряженного, полного усилия, смеха, бодрости, мысли дня. И поэтому – пусть педагоги пожимают плечами! Эта «физкультура» уже немного запоздала.
Мы смело глядим в будущее. Образованный, знающий, умеющий мастер-коммунар, сознательный хозяин Советской страны, комсомолец и большевик, организатор и командир, умеющий подчиняться и приказывать, умеющий бороться и строить, умеющий жить и любить жизнь, – вот наше будущее, наш вклад в грядущие кадры, какой вносит коммуна им. Дзержинского.
А если нам еще удастся перевоспитать нескольких педагогов – это уже дополнительная, внеплановая победа…
Примечания
1
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. / Сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов, М. Д. Виноградова. Т.6 – М.: Педагогика, 1983. С.101.
(обратно)2
Литературный современник, 1938, № 12. С.226–227.
(обратно)3
Литературное обозрение, 1939, № 1. С. 9–14.
(обратно)4
См.: Литературная газета, 1938 г., 15 декабря.
(обратно)5
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.7. С. 204–205.
(обратно)6
Там же. С. 200.
(обратно)7
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.6. С. 98.
(обратно)8
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 1. С.262.
(обратно)9
Там же. С. 265.
(обратно)10
Там же. С.266.
(обратно)11
Ты научила меня плакать… (переписка А. С. Макаренко с женой. 1927–1939). В 2-х томах /Составление и комментарии Г. Хиллига и С. Невской. Т.2. – М.: Издательский центр «Витязь», 1994. (Серия «Неизвестный Макаренко). С. 194, 195.
(обратно)12
Там же. С. 200.
(обратно)13
Там же. С. 208.
(обратно)14
Там же. С. 196.
(обратно)15
«Береги себя!!!» Переписка Г. С. и А. С. Макаренко с сыном (1927–1939 гг.) // Составители С. Невская, Г. Хиллиг. – Марбург, 2001. С.40.
(обратно)16
Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким //Под ред. Г. Хиллига, при участии С. Невской. – Марбург, 1990. С. 76.
(обратно)17
Там же. С. 74–75.
(обратно)18
Там же. С. 73–74. В письме речь идет о пьесе «Мажор», которая летом 1933 года во время похода будет потеряна навсегда.
(обратно)19
Там же. С. 74–75.
(обратно)20
Ты научила меня плакать… (переписка А. С. Макаренко с женой. 1927–1939). В 2-х томах / Составление и комментарии Г. Хиллига и С. Невской. Т.2. – М.: Издательский центр «Витязь», 1994. (Серия «Неизвестный Макаренко). С. 209.
(обратно)21
Там же. С. 210.
(обратно)22
Там же. С. 218.
(обратно)23
Там же. С. 220.
(обратно)24
Там же. С. 222.
(обратно)25
Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким // Под ред. Г. Хиллига, при участии С. Невской. – Марбург, 1990. С.90.
(обратно)26
Там же. С. 91–92.
(обратно)27
Там же. С. 94–95.
(обратно)28
Там же. С. 95.
(обратно)29
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.8. С.70–71.
(обратно)30
Там же. С. 72.
(обратно)31
Там же. С. 83.
(обратно)32
Там же. С. 98.
(обратно)33
Там же. С.50.
(обратно)34
Там же. С. 49.
(обратно)35
Там же. С. 47–48.
(обратно)36
Там же. С. 96.
(обратно)37
Там же. Т. 7. С. 191–192.
(обратно)38
РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 487, л. 123.
(обратно)39
РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 487, лл. 97–98, 108, 124.
(обратно)40
Терский В. Н. Великий педагог // Сб. А. С. Макаренко. – Львов, 1956. С.135–136.
(обратно)41
Архив ЦВР им. А. С. Макаренко.
(обратно)42
На разных берегах… Судьба братьев Макаренко. / Сост. и коммент. Г. Хиллиг. М.: Издательский центр «Витязь», 1998. С. 51–53.
(обратно)43
Там же. С. 53.
(обратно)44
Там же. С. 54.
(обратно)45
Там же.
(обратно)46
РГАЛИ, ф. 332, оп. 5, ед. хр. 104.
(обратно)47
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.2. С.80.
(обратно)48
Там же. С.161.
(обратно)49
Там же. С.83.
(обратно)50
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.8. С. 139.
(обратно)51
Там же. С. 183.
(обратно)52
Там же. Т. 6. С.288.
(обратно)53
Там же.
(обратно)54
Там же. С. 172.
(обратно)55
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.2. С. 38.
(обратно)56
Лукин Ю. Вступительная статья //Макаренко А. С. Флаги на башнях. – М.: ГИХЛ, 1958.
(обратно)57
Макаренко А. С. Флаги на башнях. – М.: ГИХЛ, 1939. С.5–6.
(обратно)58
Там же.
(обратно)59
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. / Сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов, М. Д. Виноградова. Т. 7. М.: Педагогика, 1983. С.292.
(обратно)60
Журнал «Красная новь», № 6–8, 1938. Тексты проверены также по рукописям. См.: РГАЛИ, фонд 332, опись 1, ед. хр. 15–17.
(обратно)61
Здесь и далее текст, выделенный курсивом, был исключен из отдельного прижизненного издания книги.
(обратно)62
В оригинале «на солнышке».
(обратно)63
В оригинале «У Вани чистое, бледное личико. По натуре он человек веселый и живой, но сейчас подошла трудная минута».
(обратно)64
В оригинале «парнишка».
(обратно)65
В оригинале «-У тебя нечего пошамать?»
(обратно)66
В оригинале «-Это твои деньги».
(обратно)67
В оригинале «рот».
(обратно)68
В оригинале «подскочил».
(обратно)69
В оригинале «глазенки».
(обратно)70
В оригинале «малые».
(обратно)71
В оригинале «отдает».
(обратно)72
В оригинале «вывернул свою».
(обратно)73
В оригинале «пропал».
(обратно)74
В оригинале «Какое имя!»
(обратно)75
В оригинале «Мне некуда ехать».
(обратно)76
Редакторская правка: «Но Ванда посмотрела на Игоря испуганно:».
(обратно)77
Редакторская правка: «замолчала».
(обратно)78
В оригинале «неудача».
(обратно)79
Редакторская правка «конечно».
(обратно)80
Далее редакторская правка «– Люди все работают, – с края платформы отозвался Ваня».
(обратно)81
В оригинале «замолчи».
(обратно)82
В оригинале «не дал».
(обратно)83
В оригинале «– Ты чего зубы показываешь? Он тебя защищать не будет».
(обратно)84
Редакторская правка «Ты…»
(обратно)85
Далее редакторская правка «Игорь подошел к Ванде. Глядя в пол платформы, спросил: – Верно?»
(обратно)86
Далее редакторская правка «Ну и что ж, верно! А твое какое дело?»
(обратно)87
Редакторская правка «Она плачет?»
(обратно)88
Редакторская правка «Неважно!»
(обратно)89
В оригинале «заканчивая присядку».
(обратно)90
В оригинале «его».
(обратно)91
Редакторская правка «осмотрелся».
(обратно)92
Редакторская правка «– сказал клиент».
(обратно)93
Редакторская правка «– Молодец.»
(обратно)94
В оригинале «Такие порядки, да? Такие порядки?»
(обратно)95
Редакторская правка «Всегда…»
(обратно)96
В оригинале «хорошо».
(обратно)97
В оригинале «– Я тебе дам сорок пять копеек. Тебе сорок пять копеек и мне сорок пять копеек. Хорошо?»
(обратно)98
В оригинале «дедушка».
(обратно)99
Первоначальное название «Только одна слеза».
(обратно)100
В оригинале «на горбике».
(обратно)101
В оригинале «за ними».
(обратно)102
Вариант диалога: «– Несовершеннолетний! Считается, что он, значит, ничего не понимает. Чудаки там… сидят…
– А где они сидят?
– Кто?
– А эти… чудаки?
Рыжиков потянулся сладко, зевнул:
По закону, где полагается, там и сидят… больше бабы. Они ничего… так себе… а есть и злые.
Ваня под самым стогом, наклонившись, устраивал для себя гнездышко.
– А я пойду в колонию.
– Ну, иди… ложись уже!
– И буду там жить. У нас на станции сторож такой… так он умер, а тот, Мишкой его зовут, так он тоже в колонии Первое мая. И он писал письмо.
– Первое мая. – Рыжиков разгреб солому, помял ее ногами, растянулся. – Ложись лучше!
– Я ложусь.
Ваня замолчал и долго думал о чем-то. Потом улегся уютнее. На небе горели звезды, соломенные пряди по ним казались черными, большими конструкциями».
(обратно)103
В оригинале «много соломинок».
(обратно)104
Редакторская правка «надо идти».
(обратно)105
В оригинале «новеньким».
(обратно)106
Редакторская правка «раньше».
(обратно)107
Далее редакторская правка: «– Неудобное устройство! – Что неудобное?»
(обратно)108
В оригинале «Козел имел».
(обратно)109
В оригинале «ранги».
(обратно)110
Корреляция – взаимосвязь. По утверждению педологов, между различными психологическими функциями ребенка существует постоянная предопределенная связь, данная раз и навсегда.
(обратно)111
Редакторская правка «над крышей».
(обратно)112
В оригинале «парнишек».
(обратно)113
В оригинале «строго».
(обратно)114
В оригинале «прямоугольную».
(обратно)115
В оригинале «прошептал».
(обратно)116
В оригинале «строгие».
(обратно)117
В оригинале «Витя обладал быстрым, острым, сдержанно насмешливым взглядом».
(обратно)118
В оригинале «заключалось».
(обратно)119
Далее редакторская правка «огляделся».
(обратно)120
Первоначальное название «Почему он такой?»
(обратно)121
В оригинале «крылечко».
(обратно)122
Далее редакционная правка «-Где колония Первого мая? Никто не знает.»
(обратно)123
Далее в оригинале обозначена глава «14. Уроки политической экономии».
(обратно)124
В оригинале «ножки».
(обратно)125
В оригинале «отозвался».
(обратно)126
В оригинале «настаивал».
(обратно)127
Редакторская правка «Паскуда ты, Спирька».
(обратно)128
Редакторская правка «обернулся».
(обратно)129
Редакторская правка «– Ч-чего?»
(обратно)130
В оригинале «не принимают».
(обратно)131
Редакторская правка «– Сам».
(обратно)132
Редакторская правка «Там».
(обратно)133
Редакторская правка «лысый».
(обратно)134
Далее в оригинале отмечена глава: «16. Брат».
(обратно)135
В оригинале «Когда кончились».
(обратно)136
В оригинале «– Нет, когда ж ты мне продавал?»
(обратно)137
В оригинале «трех».
(обратно)138
Редакторская правка «что ж».
(обратно)139
В оригинале «настолько».
(обратно)140
В оригинале «рамке».
(обратно)141
Редакторская правка «куда-то».
(обратно)142
Редакционная правка «дернулся».
(обратно)143
Редакционная правка «Ага?».
(обратно)144
Редакторская правка «– А мне как раз…»
(обратно)145
В оригинале «концом».
(обратно)146
Редакторская правка «И не могу выйти?»
(обратно)147
В оригинале «через».
(обратно)148
В оригинале «желание протеста».
(обратно)149
В оригинале «личиком».
(обратно)150
В оригинале «снял».
(обратно)151
В оригинале «застилали».
(обратно)152
В оригинале «по ихним».
(обратно)153
В оригинале «сопит».
(обратно)154
В оригинале «восхитительным».
(обратно)155
В оригинале «правы?»
(обратно)156
В оригинале «здании».
(обратно)157
В оригинале «заметил».
(обратно)158
Пропилеи – колоннада перед входом в здание.
(обратно)159
Далее редакторская правка «-Ну, хорошо».
(обратно)160
В оригинале «они».
(обратно)161
В оригинале «выдуманного».
(обратно)162
В оригинале «открывал вторую».
(обратно)163
Робеспьер (1758–1794) – глава революционного правительства якобинской диктатуры во время французской буржуазной революции… Отличался смелостью, решительностью и неподкупностью.
(обратно)164
В оригинале «хотел».
(обратно)165
В оригинале «ножками».
(обратно)166
В оригинале «поучительный, времени на разговоры не тратил».
(обратно)167
В оригинале «ранки».
(обратно)168
В оригинале «обернувшись к работе спиной».
(обратно)169
В оригинале «к ним».
(обратно)170
В оригинале «за локти».
(обратно)171
В оригинале «товарищам».
(обратно)172
В оригинале «крикнул».
(обратно)173
Редакторская правка «За что?»
(обратно)174
А. С. Макаренко написал первую главу «Не может быть!» (вариант названия – «Глава ретроспективная») по просьбе редактора специально для отдельного издания «Флагов на башнях».
(обратно)175
Стихотворение Ф. И. Тютчева (1803–1873) «Эти бедные селенья…».
(обратно)176
Клифт – (жаргон.) куртка, пиджак.
(обратно)177
В первом варианте глава называлась «Жизнь прекрасна».
(обратно)178
Пиколка – небольшой музыкальный инструмент (пикколо), высокий по звучанию.
(обратно)179
«Эсный бас» – инструмент (Еs) с настроем си-бемоль.
(обратно)180
В оригинале «в устах».
(обратно)181
В оригинале «замечательно».
(обратно)182
Суппорт – деталь металлорежущих станков.
(обратно)183
Шабровка – удаление с поверхности детали тонкой стружки металла при помощи резца – шабера.
(обратно)184
В оригинале «Соломон Давидович».
(обратно)185
Форсунка – устройство, распыляющее жидкое топливо
(обратно)186
Опока – ящик без дна (рама) с земляной литейной формой для заливки металлом.
(обратно)187
Речь идет об энциклопедическом словаре в 86 томах (Петербург, 1890–1907 гг.) Ф. А. Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А.
(обратно)188
В оригинале «человеком».
(обратно)189
В оригинале «напрасно».
(обратно)190
В оригинале «– Не дам!»
(обратно)191
В оригинале «напрасно».
(обратно)192
В оригинале «ударила».
(обратно)193
В оригинале «– Напротив».
(обратно)194
Речь идет о высшей награде – ленте ордена Андрея Первозванного.
(обратно)195
В оригинале «холодок».
(обратно)196
В оригинале «бросился».
(обратно)197
В оригинале «плакал».
(обратно)198
В оригинале «трубы».
(обратно)199
В оригинале «Расскажи».
(обратно)200
В оригинале «Убегу».
(обратно)201
В оригинале «не убежишь».
(обратно)202
В оригинале «убежать».
(обратно)203
В отдельном издании книги «рад этому».
(обратно)204
В отдельном издании книги «открыл дверь».
(обратно)205
В оригинале «бросил молоток».
(обратно)206
В оригинале «видимо, затруднился».
(обратно)207
Лысенко, Н. В. (1842–1912) – украинский композитор.
(обратно)208
В оригинале «забралась».
(обратно)209
В оригинале «люди».
(обратно)210
В оригинале «разобрать».
(обратно)211
В оригинале «отдавалась этому утреннему вихрю и…»
(обратно)212
В оригинале «удалиться».
(обратно)213
В оригинале «больше, как».
(обратно)214
В оригинале «на шишки более».
(обратно)215
Эрликон – токарно-винторезный цех.
(обратно)216
Умформер – электрическая машина, преобразующая постоянный ток одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.
(обратно)217
В оригинале «с раннего».
(обратно)218
В оригинале «разделял».
(обратно)219
Африканский циклозон – тропическая рыба.
(обратно)220
В оригинале «Старина! Будь она проклята, твоя старина».
(обратно)221
В оригинале «К тому же».
(обратно)222
В оригинале «улыбнулся грустно.
(обратно)223
В оригинале «улыбался».
(обратно)224
В оригинале «командиру».
(обратно)225
В оригинале «неправда».
(обратно)226
В оригинале «сразу».
(обратно)227
В оригинале «к носам».
(обратно)228
Джеймс Макдональд (1866–1937) – английский государственный и политический деятель.
(обратно)229
В оригинале «артистов».
(обратно)230
Юзеф Пилсудский (1867–1935) – диктатор фашистской Польши.
(обратно)231
В оригинали «различать детали».
(обратно)232
Мейерхольд В. Э. (1874–1942) – театральный деятель, актер и режиссер.
(обратно)233
В оригинале «отличались».
(обратно)234
В оригинале «имели склонность».
(обратно)235
В оригинале «лица имели виноватые»
(обратно)236
В оригинале «перескакивать».
(обратно)237
В оригинале «вольно».
(обратно)238
В оригинале «кто какие папиросы любит».
(обратно)239
В оригинале «Видишь? Видишь?».
(обратно)240
В оригинале «девочки».
(обратно)241
В оригинале «протянулись».
(обратно)242
В оригинале «стыдились».
(обратно)243
В оригинале «бегал».
(обратно)244
Текст был отредактирован «нахмурился».
(обратно)245
В оригинале «за Ножиком числилось».
(обратно)246
В оригинале «такой же пустях».
(обратно)247
В оригинале «каталась».
(обратно)248
Текст, выделенный курсивом, сохранен в отдельном издании книги 1939 г., но в последующих изданиях исключен.
(обратно)249
Речь идет о «Кавказских эскизах» композитора Ипполита-Иванова (1859–1935).
(обратно)250
В оригинале «черная».
(обратно)251
В оригинале «черным».
(обратно)252
Отредактировано «Побежали, смотрите!».
(обратно)253
В оригинале «полно».
(обратно)254
«И враг бежит, бежит, бежит!» – слова из популярной солдатской песни в годы первой мировой и гражданской войн.
(обратно)255
В оригинале «маленькую-маленькую».
(обратно)256
В оригинале «в одной нижней рубашке».
(обратно)257
Редакторская правка «умели».
(обратно)258
В оригинале «привлекательная».
(обратно)259
В оригинале «по-новому».
(обратно)260
Редакторская правка «теплее».
(обратно)261
Редакционная правка «хорошо».
(обратно)262
Вагранка – шахтная печь.
(обратно)263
В оригинале «находящийся».
(обратно)264
В оригинале «ожидают».
(обратно)265
В оригинале «привлекательные».
(обратно)266
В оригинале «целой».
(обратно)267
В оригинале «целый день»
(обратно)268
В оригинале «так это всегда беседа, наполненная».
(обратно)269
В оригинале «движении»
(обратно)270
В оригинале «разобрал».
(обратно)271
В оригинале «перед знаменем».
(обратно)272
Редакторская правка «здорово».
(обратно)273
В оригинале «во многих местах».
(обратно)274
В оригинале «перед колонистами гордился»
(обратно)275
В оригинале «выстроена».
(обратно)276
В оригинале «в которой».
(обратно)277
В оригинале «влюбления».
(обратно)278
Речь идет о драме русского поэта и драматурга А. К. Толстого (1817–1875) «Царь Федор Иоаннович».
(обратно)279
Редакторская правка «вот что:».
(обратно)280
В оригинале «Подождать —».
(обратно)281
В оригинале «сбежались».
(обратно)282
В оригинале «у диких славян».
(обратно)283
«Гибель эскадры» – пьеса драматурга А. Корнейчука.
(обратно)284
В оригинале «ироническими».
(обратно)285
В оригинале «плакать».
(обратно)286
В оригинале «улыбались».
(обратно)287
В оригинале «закончить».
(обратно)288
В оригинале «все».
(обратно)289
В оригинале «что оно уже».
(обратно)290
В оригинале «улыбается»
(обратно)291
Далее редакторская правка «бузит».
(обратно)292
В оригинале «рушилось».
(обратно)293
В оригинале «травка».
(обратно)294
В оригинале «до сотни».
(обратно)295
В оригинале «собираются».
(обратно)296
В оригинале «пить чай».
(обратно)297
Редакторская правка «наконец».
(обратно)298
В оригинале «разряженную».
(обратно)299
В оригинале «повалилась».
(обратно)300
В оригинале «звуки».
(обратно)301
Печатается по 7 тому Педагогических сочинений А. С. Макаренко в 8 т. М.: Педагогика, 1986. С. 191–197
(обратно)302
Клифт – пиджак, ватная куртка (жарг.).
(обратно)303
Шепинг – деревообрабатывающий станок.
(обратно)304
Коллектор – учреждение, где беспризорники и другие категории детей находятся перед их распределением по детским учреждениям.
(обратно)305
ДЧСК – дежурный член санитарной комиссии коммуны.
(обратно)306
Грубой – хороший.
(обратно)307
Всеукраинский электромонтажный комбинат в Харькове.
(обратно)308
Годи – достаточно (укр.).
(обратно)309
Колонисты возвращались из крымского похода, который описан в «Марше 30 года».
(обратно)310
Во втором томе педагогических сочинений А. С. Макаренко (ФД-1) название главы «К теории мутаций» было восстановлено по авторской машинописи.
(обратно)311
Здесь и далее текст, данный курсивом, восстановлен по авторской рукописи.
(обратно)312
Теория мутаций возникла в результате открытия наследственных изменений признаков и свойств организмов (т. е. мутаций).
(обратно)313
ЦКПД – Центральная комиссия помощи детям.
(обратно)314
Великим комбинатором назвали Остапа Бендера – героя «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
(обратно)315
Диогены – греческий философ Диоген из Синопа (403–323 гг. до н. э.).
(обратно)316
Ваграм – сражение под селом Ваграм на Дунае (6 июля 1809 г.). Наполеон разбил австрийскую армию. Австрия платила многомиллионную контрибуцию.
(обратно)317
В рукописи А. С. Макаренко: «До приезда в коммуну Всеволода Аполлоновича Балицкого».
(обратно)318
В коммуне существовала традиция: малыш с флажком в руках замыкает походный строй коммунаров.
(обратно)319
Курупр – курортное управление.
(обратно)320
ОПТЭ – Общество пролетарского туризма и экскурсий.
(обратно)321
Речь идет о путеводителе С. С. Анисимова.
(обратно)322
В рукописи зачёркнуто «Броневой», исправлено на «Крейцер».
(обратно)323
Оверштаг – термин, обозначающий поворот парусного судна против ветра.
(обратно)324
Впервые статья была опубликована в 1932 году в сборнике «Второе рождение» (Харьков). Сборник был подготовлен и издан небольшим тиражом выездной бригадой «Комсомольской правды». Сборник приурочен к 5-летию коммуны им. Ф. Дзержинского.
(обратно)325
Имеется в виду постановления ЦК ВКП(б): от 25 августа 1931 г. «О начальной и средней школе», от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
(обратно)326
Авгур – предсказатель.
(обратно)



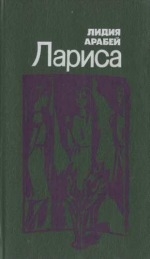


Комментарии к книге «Педагогические поэмы. «Флаги на башнях», «Марш 30 года», «ФД-1»», Антон Семенович Макаренко
Всего 0 комментариев