Юрий Либединский Зарево
Жене моей Лидии посвящаю
Книга первая
Часть первая
Глава первая
1
Синее безоблачное небо, снега горных вершин, густо-зеленые леса, которые, если смотреть сверху, кажутся почти черными, свежие травы нагорных лугов и быстрые воды, звенящие всюду, — казалось, в это лето природа Кавказа праздновала какой-то светлый свой праздник. Но принадлежащее человеку место во главе праздничного стола осталось пустым…
В это лето 1913 года несчастье обрушилось на веселореченский народ, населяющий несколько ущелий Среднего Кавказа и часть предгорий равнины. Нагорные луга, куда веселореченцы выгоняли скот и которые с незапамятных времен считались священной собственностью всего народа, в это лето были по приказу царя Николая II кощунственно разгорожены межевыми столбами на участки. А в Арабыни — маленьком городке, центре Веселореченского округа — на эти участки устроили торги. Тот, кто положит в пакет больше денег, берет на торгах верх. Вот и получилось, что только богатые коннозаводчики, веселореченские князья, могли отныне пасти табуны и стада на пастбищах. Но веселореченцы издавна помнили, что, когда отцы и деды принимали русское подданство, тогда им от имени русского царя подтверждена была незыблемость общинного порядка пользования нагорными лугами.
Теперь нарушены были старые клятвы, и веселореченские крестьяне вышли на пастбища. Межевые столбы были срыты народом и сброшены в пропасти, туда же побросали некоторых помещиков; особенно много пострадало князей из фамилии Дудовых, известных своей алчностью. Землемеров и стражников прогнали… Веселореченские пастухи уже выбирали из своей среды доверенных людей в Петербург, к царю, — они не верили, что с ведома царя нарушается обещание, столь торжественно данное его дедом.
И вот против людей, настолько уверенных в своей правоте, что они безоружными вышли на свои пастбища, было поставлено несколько батарей горной артиллерии. На луга, от края до края заполненные людьми, так что травы не стало видно, наведены были пушки.
Веселореченские пастухи попытались вступить в переговоры с военными и гражданскими начальниками, которые прибыли во главе войск. Людям ответили пушки — два залпа картечи пронеслись над головами десятков тысяч людей.
И веселореченцы оставили пастбища. Но маленький народ показал такую стойкость и силу сопротивления, что насильники-князья не могли простить ему этого. Веселореченские пастухи встали с колен, выпрямились, — следовало их снова швырнуть на землю… Днем и ночью раздавался звон подков по каменистым дорогам Веселоречья — это ловили самых лучших и честных людей, тех, кто продолжал твердить о правах народа. Веселореченские пастухи считали свое право пасти скот на пастбищах таким же естественным, как право утолять жажду, дышать воздухом и наслаждаться светом солнца. Жители аулов избегали выходить из домов и общались между собой лишь по ночам, перелезая из двора во двор через изгороди.
Несколько сотен вооруженных казаков оставлено было в Веселоречье после восстания. Но они, в большинстве своем ближайшие соседи веселореченцев, стали понимать несправедливость этого дела. Начальство замечало, что казаки старались уклониться от постыдной, «укоризненной», как они говорили, службы, а порою, проявляя неуловимую изворотливость и лукавство, помогали задержанным бежать. Зато тунеядцы и паразиты из веселореченских княжеских и дворянских фамилий особенно усердствовали — они рассчитывали извлечь большую корысть из захвата общественных пастбищ. Среди бела дня и темной ночи нападали они на людей — и не только молодых, но и пожилых, трудившихся всю жизнь не покладая рук. Не слушая жалобных воплей жен и детей, смеясь над горестными проклятиями, которыми их осыпали, они уводили своих пленников из-под родного крова и предавали их полиции и жандармам. И не раз бывало, что в Арабынь они приводили арестованных до полусмерти избитыми и окровавленными.
У веселореченцев во время допросов особенно настойчиво старались выпытать что-либо о каком-то русском, непонятно как проникшем в оцепленный и занятый войсками район восстания. Главари восстания — старый Магомет Данилов, Науруз Керимов и Жамбот Гурдыев из аула Дууд — встречались с этим русским. Старого Магомета Данилова властям даже удалось задержать. Но старик на допросах, угрюмо понурив голову, молчал, и из-под его пушистых, раньше рыжих, а теперь уже сильно посветлевших от седины усов только и слышно было короткое «нет». И так же, словно сговорившись, держались на допросах все арестованные. Почти никто из них не видел таинственного русского, но слышали о нем все, — он принес слово привета и обещание поддержки от русских рабочих людей, надежду на будущее, на лучшие времена. Но об этом надо было молчать — и люди молчали.
В памяти народа эти безоблачно ясные летние дни сохранились как время величайшего несчастья. Простая, наивная вера в честность царского слова рухнула, дали трещину вековые устои, на которых покоилось подчинение народа своему господствующему сословию. Малолетние дети на всю жизнь запомнили проклятия на головы насильников и клятвопреступников. Многих, кто рождался в эти дни, называли именами гонимых и преследуемых вожаков восстания. Народ в своем несчастье становился сильнее и тверже, как бы готовясь к будущим великим испытаниям.
2
Отмены рескрипта, данного Александром II веселореченскому народу, добился князь Темиркан Батыжев, один из самых могущественных веселореченских господ. Но и он, главный виновник народного бедствия, не был счастлив. Ему пришлось бежать из аула Баташей, своего старинного удела. Люди, испокон века подданные рода Батыжевых, гнались за ним, и он, чтобы избежать плена, с риском для жизни несколько часов пробирался по бурной воде реки Веселой, скользя по ее камням и захлебываясь в водоворотах. Ему удалось выбраться. Но пребывание в воде, всего час назад рожденной ледником, не прошло даром: он простудился, лежал в своем новом доме, в Арабыни, и непонятная лихорадка, не поддававшаяся лечению, не оставляла его. Болезнь эта была неотделимо связана с мучительным чувством унижения, не покидавшим его даже во сне. После разгрома восстания это чувство стало еще острее. Все раздражало Темиркана. Дядю своего Асланбека, с которым вместе он перенес это унизительное бегство, Темиркан в эти дни даже видеть не мог. Ему стыдно было перед молоденькими племянниками, сыновьями-близнецами старшего брата, — они между собой, конечно, обсуждали постыдные приключения Темиркана и, наверно, смеялись над ним. Он боялся проницательного, въедливого и, как казалось ему, упрекающего взгляда своей матери. Ее карие, в красных прожилках, старческие глаза словно говорили: «Ни отец твой, ни дед никогда не допустили бы себя до такого позора».
Только жену свою Дуниат выносил в эти дни Темиркан, и она, не избалованная его вниманием, давно не была так счастлива. Чего раньше никогда у них в доме не водилось и что даже было не в обычае у веселореченцев, — Темиркан разрешил жене проводить с ним время. Он указывал ей место в ногах, и она, подобрав под себя ноги, с выражением скромного торжества на лице, погружалась в свое постоянное занятие: из разноцветных ниток плела она длинные тесемки и по ним золотой канителью вышивала незамысловатый и, сколько Темиркан помнил, один и тот же узор.
— Что это у тебя? — спросил он однажды.
Она робко подняла на него свои красивые глупые глаза.
— Мы с девичества обучены, — ответила она.
— А что из этого будет?
Она покраснела и, видимо, обиделась.
— Родительский дом мой, конечно, беднее мужнего, — сказала она, — но нужды мы не знали, и, как подобает благородным девицам, дочери Асланбия Дудова не из нужды занимались рукоделием, а чтобы время провести в благородном занятии…
— Поминаешь все-таки родительский очаг? — с ласковой усмешкой спрашивал Темиркан.
И она, довольная его обращением, с охотой начинала рассказывать, как хорошо и счастливо жила в девичестве.
— Садик наш был невелик, но все в нем цвело, цветы красивые наша мать сажала. Такие большие деревья, которые вокруг дома как лес стоят, — она неодобрительно кивала на громадный батыжевский сад, — у нас не росли. Разве таким деревьям в саду место? А в нашем садике всегда солнце, ходишь по нему, красуешься, и всем, кому надо, тебя видно.
Дуниат взглянула на Темиркана задорно и лукаво. Ведь впервые он увидел ее среди желто-прозрачных мальв, кустов шиповника и барбариса в этом лысеньком, убогом садике ее девичества.
Пусть бы всегда сидела в ногах у него преданная Дуниат, напряженно шевеля губами, считала стежки и лепетала свои вековечно-успокоительные домашние, женские пустяки. И пусть бы сгинули навеки, пропали из памяти последние лихорадочные годы, проведенные в Петербурге! Навеки забыть бы ему ту, другую, светловолосую, с леденисто-синими глазами петербургскую любовницу, Анну Ивановну Шведе! Это она прислала ему сюда, в тихую Арабынь, Рувима Абрамовича Гинцбурга, а тот расстелил перед Темирканом карту Кавказа. И на этой карте от богатых, окруженных пшеницей казачьих станиц, с их мельницами и элеваторами, через коричневые и белые хребты к синеве Черного моря прочертил Гинцбург красным карандашом жирную черту железной дороги и посулил неисчислимые богатства Темиркану.
Но железная дорога уже строилась, и нарядные дачные дома точно по волшебству возникли за осень и зиму на батыжевской земле. Давно ли оттуда слышны были то упругие звуки ударов ракетки о теннисный мяч, то звонкий стук крокетных молотков вперемежку с крикливыми, возбужденными голосами играющих… Давно ли банкир ван Андрихем, о котором даже Рувим Абрамович говорил благоговейным шепотом, весь иссохший, угловато-механический, со своей тростью похожий на треножник фотоаппарата и все же внушительный, в необычном для Арабыни в пеструю клетку костюме, прогуливался под руку со светловолосой Анной Ивановной по желтым дорожкам своего сада или же по тихим улицам Арабыни…
Темиркан при первом знакомстве принял почему-то Анну Ивановну за придворную даму. А когда она стала его любовницей, она сама просто и грубо сказала ему, что живет на содержании банкира ван Андрихема — светловолосая дочь петербургской прачки, не знающая своего отца. Как все это оскорбительно и непонятно чуждо! И пусть бы все это исчезло, как наваждение, и опять вернулся дедовский мир, простая и ясная жизнь.
И Темиркану пришло в голову, что он сразу бы выздоровел, если бы лежал не в этой огромной светлой комнате, на кровати с пружинной, при малейшем движении надоедливо звенящей сеткой, а в старом, теперь уже разрушенном батыжевском доме, пропахшем кожей и кислым молоком, на бесшумно покачивающейся, подвешенной к потолку широкой софе.
С начала восстания на пастбищах, оставив короткую и торопливую записку, исчезла из Арабыни Анна Ивановна.
Широкие окна ее дачи скрыты ставнями, и замок висит на воротах.
Исчезла она — исчез ван Андрихем. И почему-то не появляется в Арабыни Рувим Абрамович Гинцбург. Не едет и не пишет.
3
Гинцбург приехал тогда, когда Темиркан совсем перестал ждать его. В доме неожиданно поднялась суета, стук дверей, громкие голоса, и сам Гинцбург, большой, плотный, в зеленовато-сером тонком, на голубой шелковой подкладке летнем пальто, вошел в комнату, снял шляпу и, вытирая, пот, выступивший на его внушительно лысеющей голове, вяло и доброжелательно улыбаясь, протянул свою белую руку Темиркану. Взглядом нашел стул и сел, не дожидаясь приглашения.
— В Петербурге — дождь, в Москве — снег, от Харькова до Ростова — тоже дождь; а как проснулся возле Минеральных Вод — от окна не отходил, такое солнце, ай-ай-ай!.. — говорил он поощрительно. — И как же это, ваше сиятельство, при такой погоде болеть? Вставать надо, охотиться. На медведей. А? — игриво усмехаясь, говорил Гинцбург. — Как в прошлом году охотились, а?
— Чтобы потешить дорогого гостя, хоть сейчас встану — и на коня, — хрипло сказал Темиркан.
Гинцбург оглядел его своим взвешивающим взглядом и, покачав головой, вздохнул.
Смуглота Темиркана приобрела зеленоватый оттенок, и кошачий склад лица обозначился еще резче. Темно-красные, почти черные губы между крючковатым носом и маленьким выдающимся вперед подбородком, впавшие щеки, лихорадочный блеск в продолговатых, косо прорезанных глазах — все говорило об изнуряющей болезни, — какая уж охота на медведей! Гинцбург, качая головой и вздыхая, взял со стола, возле изголовья Темиркановой постели, бутылку, понюхал и с отвращением поморщился.
— Что это? — спросил он.
— Лекарство, — с усилием улыбаясь, ответил Темиркан.
— Лекарство? — недоуменно переспросил Рувим Абрамович. — Нет… — Он повертел бутылку — этикетки на ней не было. — Лекарства так не пахнут.
— Ваши не пахнут, а наши пахнут, — ответил Темиркан. — Это хорошее лекарство. Чеснок на водке настаиваем, от лихорадки хорошо помогает.
— По вас что-то не заметно, — вздохнув, сказал Гинцбург и подошел к окну.
Темиркан с неприязнью и надеждой смотрел на его большую, округло-жирную, туго обтянутую тонким пальто спину. Этот по всем своим привычкам чуждый и во многом смешной и даже достойный презрения человек мог бы сразу исцелить его! Ведь в чужом и странном мире акций, договоров, векселей и куртажей Темиркан послушно шел за Гинцбургом. Так почему же он сейчас молчит, словно что-то скрывает?
Темиркана не обманывало его болезненно обостренное чутье. Гинцбург не счел нужным сказать Темиркану о том, что в Арабыни он проездом и что направляется он сейчас в Тифлис. Сложная комбинация с постройкой железной дороги и с обществом «Транслевантина», в которую он запутал Темиркана, на сегодняшний день большого интереса для Гинцбурга не представляла. Но и Тифлис, может быть самый поэтический из городов империи, сам по себе совсем не интересовал его. В Тифлисе намечена была встреча с Леоном Манташевым, представителем могущественной фирмы, раскинувшей свои предприятия от Баку до Батума. Бакинская, легко превращающаяся в золото жирная нефть — вот к чему приковано было сейчас внимание Гинцбурга. Но, следуя своим правилам действовать по возможности тайно, он подползал к бакинской нефти с подветренной стороны, из Тифлиса, от Манташева, который должен был за него ухватиться, так как знал, что Гинцбург связан с ван Андрихемом, а за ван Андрихемом стоит могучая англо-голландская нефтяная держава «Роял Деч Шелл»… Рувим Абрамович чуял, что Леон Манташев будет сговорчив, вынужден стать сговорчивым: он знал дела его фирмы лучше самого Манташева. Здесь требовалось посредничество, кредитная гарантия — ее Манташев может получить только ценой перераспределения акций, — не малая толика может попасть тогда в сейф к Рувиму Абрамовичу. Да что акции! Один только куртаж от предстоящей сделки не меньше чем на двадцать пять процентов увеличит текущий счет Гинцбурга в лондонском Сити. Чистое золото, деньги, — «дзэнги», как он произносил.
— Тихо… очень уж тихо тут у вас, — глядя в окно, сказал Гинцбург, и Темиркан почувствовал себя так, как будто он виноват в этой арабынской тишине.
— Что ж, притихли наши люди, — ответил Темиркан жестко. — Послушали, как пушки палят, и притихли.
— Да, палили громко. До самого Парижа эхо докатилось.
Темиркан вдруг почувствовал, что Гинцбург словно в чем-то обвиняет его.
— До Парижа? — переспросил он, чувствуя в словах Гинцбурга какой-то скрытый смысл.
Взглянув в лицо Темиркана, теперь уже откровенно недоумевающее, Рувим Абрамович успокоительно добавил:
— Я вам сейчас все объясню, ваше сиятельство. Ведь живущие за границей русские революционеры внимательно следят за каждым шагом царского правительства. Они издают там свои газеты, журналы. И вот в нескольких таких изданиях появились сообщения, в которых весьма эффектно описана вся здешняя экзекуция. Французские газеты в погоне за сенсацией перепечатывают эти сообщения, добавляя и то, чего не было… Получается, что на Кавказе идет форменная война, с применением артиллерии. Газеты эти попадают в руки держателям наших акций, а их во Франции довольно много. Ну, одни не обращают внимания, а другие, у кого нервы послабее, думают: «Лучше я продам эту «Транслевантину», пока она еще в цене». Акцию, скажем, он приобрел за двадцать пять франков; потом изо дня в день стоимость ее повышалась и дошла до тридцати франков, — это приятно, а?.. Держатель идет на биржу, продает акцию, кладет в карман пять франков прибыли — неплохо как будто бы?.. Но так делает и второй и третий держатель, и цена акций двинулась вниз — двадцать девять, двадцать восемь, двадцать шесть, двадцать четыре. Это уже неприятно — и все большее и большее число держателей наших акций думают: «А может быть, лучше освободиться от этой ненадежной «Транслевантины»?» Они идут на биржу и хотят продать акции хотя бы за двадцать четыре… Но спроса на «Транслевантину» уже нет, цена ее все стремительнее летит вниз… Это крах, не правда ли? — спросил Гинцбург, глядя в явно обеспокоенное лицо Темиркана. — Но нет! — и Рувим Абрамович торжествующе поднял свой толстый белый палец с блестящим розовым, аккуратно обстриженным ногтем. — Нет, нет! Существует Англо-Нидерландский банк, тот самый, который держит основной пакет наших акций. Ему невыгодна наша гибель, и он по пониженной стоимости скупает наши акции.
— Значит, все благополучно? — с облегчением спросил Темиркан и почувствовал, что кровь прихлынула к щекам.
— Что значит благополучно? — задумчиво сказал Гинцбург. — Банк прибрал к рукам акции мелких держателей, которые на этом понесли убытки. Мелким держателям это плохо, а банку в конечном счете будет совсем неплохо. Хотя мы с вашим сиятельством в свое время не мало толковали обо всем этом, но я чувствую, что сейчас нам нужно кое-что освежить в памяти. Русское правительство строит на Кавказе эту самую стратегическую железную дорогу — раз, — и Гинцбург, отставив большой палец от других пальцев, показал его Темиркану. — О стратегии мы, конечно, говорить не будем, — многозначительно снизив голос, произнес он, — хотя и о ней стоило бы поговорить. Но сейчас-то для нас важна отнюдь не стратегия, а то, что в проведении этой железной дороги заинтересован тот глубоко мирный и даже демократический Кооперативный банк, представителем которого я имею честь состоять. Ведь новая железная дорога дает нам, таким образом, возможность на более выгодных условиях вывозить казачью пшеницу с Северного Кавказа к Черному морю. — Рувим Абрамович перед носом Темиркана кокетливо покрутил теперь уже указательным пальцем и, загнув его, добавил: — Итак, третье: казачество. Пароходчики, вывозящие из России пшеницу на Запад, также заинтересованы, — и он показал Темиркану средний палец. — Создается единство коммерческих интересов, а где есть единство коммерческих интересов, там все идет гладко. И тут на сцену выплывает главный кит, — показал Гинцбург свой безымянный палец с толстым обручальным кольцом, — могучий Англо-Нидерландский банк, гордость Лондонского Сити. Он связан, с одной стороны, с нашим Кооперативным банком, а с другой, как мы уже упоминали, с пароходными компаниями. Так создается акционерное общество «Транслевантина». Русское правительство строит железную дорогу. «Транслевантина» берется на выгоднейших условиях поставлять оборудование: паровозы, водокачки, разные там семафоры, стрелки и еще много чего — все, кроме рельсов, поставляемых русскими заводами. Железная дорога выйдет к порту на Черном море — и тут наша «Транслевантина» заранее, пока это еще дешево, скупает земельные участки. Железная дорога должна пройти по землям веселореченского племени, и я появляюсь у вашего сиятельства… — Тут тяжелая, мягкая рука Рувима Абрамовича похлопала Темиркана по плечу. — Одновременно наш Кооперативный банк строит в этом порту элеватор по последнему слову техники и учреждает кредитные товарищества в станицах. Сбережения богатых казаков и мужиков, вроде наших друзей Решетниковых и Лаптевых, превращаются в капитал, в силу, которая на железнодорожных станциях Кавказской магистрали закладывает элеваторы, мельницы, склады сельскохозяйственных орудий. Все идет прекрасно, все хорошо… Но тут вмешиваются ваши строптивые соотечественники, начинают свой дурацкий бунт, русское правительство со свойственной ему грубостью поднимает на весь мир пальбу из пушек, грохот долетает до Парижа, мелкие держатели акций пугаются и… Я не хочу вам рассказывать сказку про белого бычка…
— Но ведь их усмирили. А железную дорогу продолжают строить. Значит, все восстановлено? — спросил Темиркан.
— Ах, ваше сиятельство!.. — укоризненно и даже немного сердито ответил Гинцбург. — Все, кроме коммерческого доверия. Вы все-таки забываете о нашем главном, англо-голландском хозяине, о банке… Предотвратив крах нашей новорожденной «Транслевантины», он тоже понес некоторые убытки. Конечно, приобретая за дешевку наши акции, он потом с лихвой возместит потери, — но когда это будет? А пока мы от наших заморских принципалов имеем прямое указание: свертывать наши операции в Веселоречье. Для этого-то я и прибыл сейчас на Кавказ. И так как мне дороги интересы вашего сиятельства, я хочу, чтобы они не очень пострадали во время этих операций.
Темиркан в свое время столько потратил умственных сил, чтобы понять, почему этим неизвестным ему людям из-за морей понадобилось принять участие в его делах! И сейчас он никак не мог понять обстоятельных объяснений Гинцбурга.
— А впрочем, ваше сиятельство, не мучьте себя беспокойными думами, — добавил Гинцбург, взглянув на омрачившееся лицо Темиркана. — Сначала поправляйтесь, а потом приезжайте в Питер. Я постараюсь уладить дело с вашими векселями, чтобы вас не беспокоили.
Итак, его даже могли побеспокоить. А он-то надеялся, что Рувим Абрамович еще добудет ему денег.
Темиркан за последние два года привык к деньгам и без них ощущал странное бессилие. Это было душевное бессилие, но ощущалось оно почти физически. Темиркану в эти дни вспоминалась одна старинная сказка о проклятом Змее Семиглавце, угнетателе людей. Раз в три месяца змей пожирал самого сильного юношу и самую красивую девушку и опять погружался в сон в своей увешанной коврами и украшенной драгоценностями пещере. Но однажды его пробудил громовой голос: «Хватит храпеть тебе, семиглавая нечисть!» Змей распялил все свои четырнадцать глаз, приподнялся, раскрыл все семь своих пастей, распустил крылья — и увидел перед собой большеглазого, широколобого Батраза, а в руках его — о, ужас и гибель! — бились три черных ворона. Не простые то были вороны. Они жили посреди океана, на безлюдном острове, в тихом саду. В одном была скрыта сила Семиглавого, в другом — его надежда, в третьем — душа. Не легко было постичь эту тайну, но Батраз недаром прославлен вовеки как защитник людей, расчистивший землю от одноглазых людоедов, семиглавых змеев, от полунощных и полуденных духов. Проник Батраз в тайну змея, добрался до острова и изловил воронов… Семиглавый, увидя в руках Батраза свою силу, надежду и жизнь, мгновенно воспрянул, чтобы обрушиться на врага. Но тот оторвал голову первому ворону — ворону силы, — и вмиг испарилась, исчезла сила Семиглавого. Громадной живой глыбой, бессильно трепещущий, распростерся змей на своем ложе. А Батраз уже держит ворона надежды и вот-вот оторвет и ему голову…
В детстве, слушая эту сказку, Темиркан всегда сочувствовал светозарному Батразу, другу людей, а теперь, вспомнив ее, поразился: почему он не подумал тогда о том, каково было Семиглавому, со своими четырнадцатью крыльями и двадцатью восемью лапами, с острыми, как мечи, когтями и семью ядовитыми жалами, беспомощной грудой лежать перед своим безоружным врагом? И, что было страшнее всего, образ Батраза в расстроенном воображении Темиркана приобретал вдруг черты молодого Науруза, одного из главных вожаков только что подавленного восстания. Как Темиркан ни гнал от себя это видение, навеянное старой сказкой, молодой Науруз со своим румяным лицом и бесстрашным взглядом, безоружный, неотступно стоял перед Темирканом, бессильно распростершимся на постели, — стоял, готовый оторвать голову второму черному ворону, воплощавшему в себе надежды Темиркана.
Рассудком Темиркан понимал, что видение это порождено отвратительной болезнью, упорно не проходившей ни от настоя чеснока на водке, ни от усиленных доз хины, которую он стал вновь принимать по настоянию Гинцбурга, после чего ему все время казалось, что где-то бьют в набат. Болезнь не проходила, и стоило лишь закрыть глаза, как воспоминание переходило в галлюцинацию, и он, пугая Дуниат, с хриплым криком просыпался.
Да, сила покинула Темиркана. Этой силой были деньги. Когда-то отсутствие денег заставило его уйти с военной службы, подать в отставку и уехать из Петербурга. А потом пришли деньги и дали ему силу. Эта сила подняла его до сената, довела до самого царя и помогла ему отнять пастбища у своего народа. Но вот из-за восстания на пастбищах стала таять цена на бумаги где-то в далеком Париже… И деньги отхлынули от него.
Гинцбург уехал. Денежный источник, из которого за последние годы привык черпать Темиркан, иссяк, и Темиркан опять превратился в штаб-ротмистра в отставке, захудалого мусульманского князька, которому так трудно приходится со своей разросшейся семьей.
За окном природа его родины справляла долгий и радостный праздник лета, а Темиркан не видел ни зелени лесов, ни синевы неба, ни сияющих белизной горных снегов, по которым рассеянно скользили его глаза.
4
Если бы Темиркан обладал телескопической силой зрения, взор его, рассеянно блуждавший по снеговым вершинам, мог бы уловить медленное движение нескольких фигурок, которые то кучкой, то гуськом, исчезая и вновь появляясь, неуклонно передвигались по белым снежным полям. Там шли люди. Среди них был Науруз — юноша с широким, выпуклым лбом, большими смелыми глазами и румяным, по-детски округлым лицом, — таким Темиркан представлял себе Батраза. Правда, вместо сверкающих, как солнце, доспехов Батраза на юноше был овчинный полушубок поверх русской, в мелкий синий горошек, косоворотки, горская, из кожаных ремешков плетенная обувь и белая войлочная шляпа, но богатырская стать сказывалась в каждом его движении. Науруза сопровождала его возлюбленная Нафисат, девушка из крестьянской семьи Верхних Баташевых. Чего только не делал Темиркан, чтобы отвратить красавицу Нафисат от бунтовщика Науруза, и ни в чем не успел. Тоненькая и высокая Нафисат легко, без усилия, идет подле Науруза, и к нему все время обращено ее худощавое, с нежно очерченными щеками лицо…
Но как удивился бы Темиркан, увидев среди спутников Науруза того самого русского, который недавно посетил его и привез записку от самого господина Гинцбурга!
Темиркан так и не узнал, что именно эта записка помогла Константину Черемухову проникнуть в места, объявленные на военном положении. Константина Черемухова сопровождал дальний родственник Баташевых — Асад, пятнадцатилетний мальчик в шинели реалиста.
Вот они остановились, чтобы проститься с Нафисат, — она должна была вернуться обратно. Простились. Теперь будет Нафисат до первого снега оставаться на пастбищах в старом бревенчатом коше своей семьи, а на зиму спустится в аул к своим домашним. Будет днем и ночью ждать она Науруза или вести от него, переданной через друзей. Будет она помогать и ему и друзьям его прятаться от стражников и от князей.
— Буду я говорить нашим людям, что ты пришлешь нам подмогу с русских равнин, — сказала она, обращаясь к Константину. Так поняла она речи, которые велись за время дороги.
Асад перевел ее слова Константину.
— Скажи ей, что подмога придет непременно. Тронулись все большие русские реки, высоко встанет вода и скоро поднимется в горные ущелья.
Тут же Константин, смеясь, обернулся к Нафисат и, выразительно ударив по своей шее плашмя рукою, сказал:
— Значит, не будет мне больше так?
Нафисат засмеялась; таким движением руки когда-то она, при первом знакомстве с Константином, пригрозила ему.
— Не так, не так, а вот как! — И тоненькая, стройная Нафисат вдруг гибко и быстро в пояс поклонилась Константину, так что из-под платка упали до земли ее четыре длинные, туго свитые косы.
Науруз проводил ее. Отошли они шагов за сто, за поворот, где их не было видно, и долго неподвижно стояли в холодной тени больших камней.
Расставшись с Нафисат, люди пошли дальше. Целые сутки шли вдоль ледяной, неприступной стены Главного хребта. Они торопились. На всех перевалах, соединявших Северный Кавказ с Закавказьем, подкарауливали их сторожевые заставы. Но Жамбот Гурдыев из аула Дууд, один из главных участников восстания, рассчитывал на лазейку в горах, известную, может быть, только ему, — по ней он надеялся вывести в Закавказье русского гостя. Эта лазейка была доступна только летом, при солнечной погоде.
Жамбот шел впереди. Его чекмень, много раз заплатанный, потерявший первоначальный цвет, не доходил до колен и не мешал быстрому шагу. Жамбот шел без всякого усилия, похоже было, что под ступнями его плетенной из кожаных ремешков обуви действовали упругие пружины.
На широких плечах — мешок; на тонком поясе — длинный кинжал в старинных узорчатых ножнах.
Жамбот озабоченно поглядывал на небо и хмурился, когда из-за перевала выкатывалось пухлое облачко, которое могло превратиться в снежную тучу. Лето уже шло к концу, туман или снег помешали бы перебраться на ту сторону гор. Жамбот тревожился, и все же каждый раз, оглядываясь на своих спутников, он улыбался, и зубы блестели под его чернокудрявыми с проседью усами. Иногда он перебрасывался словом с Наурузом, который шел последним, чтобы в случае необходимости помочь двум своим менее опытным в ходьбе спутникам. А порою Жамбот останавливал вопрошающий взгляд на Асаде Дудове, на его продолговато-смуглом, нежно разрумянившемся лице… Зеленое с медно-блестящими пуговицами пальто Асада, его фуражка с гербом, выпуклые очки — все это казалось Жамботу чуждым и враждебным. Асад принадлежал к старинной и многочисленной княжеской семье Дудовых, в продолжение нескольких веков владевшей аулом Дууд, из которого происходил Жамбот. Жамбот во время недавнего восстания отомстил за кровь своего пасынка и своею рукой убил нескольких Дудовых. И потому он каждый раз, взглядывая на Асада, чувствовал так, как будто в глаз его попала соринка и он никак не может проморгаться… Жамбот, конечно, знал, что отца Асада — исчислителя и книжника Хусейна-муллу проклинали в мечетях. Дудовы считали Хусейна отступником и изменником. И ведь это Асад привел в Веселоречье Константина и переводил веселореченцам его слова. И все же никак не мог забыть Жамбот о том, что с ним идет Дудов…
Константин шел молча. Мысль о том, что эта тропа, то пролегавшая в морозной тени хребта, то выводившая их на цветущие душистые травы нагорных лугов, проходит по географической границе Европы и Азии, не оставляла его. Ему все вспоминались далекие огни русских городов, которые Науруз показал с высоты Кавказского хребта. А если зажечь огни революции здесь, на вершинах Кавказа, то и они станут видны и из Европы и из Азии. Да, огромные, в десятки раз большие, чем Кавказ, материки заселены сотнями народов, земледельческих и пастушеских, и их, как и веселореченцев, порабощают, уничтожают и грабят только потому, что так называемые «цивилизованные» страны раньше научились делать оружие и пушки.
Надо было в этот трудный для веселореченцев момент сказать им, что они не одиноки, что на великих русских равнинах борьба крестьян с помещиками становится все ожесточеннее и русский царь расстреливает своих русских подданных так же безжалостно, как и веселореченцев. Константин рассказал обо всем этом. И о священной крови, пролитой на площади Зимнего дворца, и о том, что царский министр Столыпин поддержал богатых мужиков против бедноты, так же как царский сенат поддерживал богачей против бедноты на веселореченских пастбищах. Ленский расстрел, петербургские стачки — обо всем этом услышали веселореченцы от Константина. Они узнали от него суровую правду.
Здесь, среди гор и ущелий, впервые произнесен был призыв к союзу рабочих и крестьян и названо имя Ленина, повторенное с надеждой и радостью тысячами людей.
Надо все сделать, все, чтобы не пропала революционная энергия, которая обнаружилась сейчас у этого возмущенного обманом и несправедливостью пастушеского народа!
Надо будет обо всем, что произошло в Веселоречье, рассказать товарищу Тимофею. Константин знал, что под кличкой «Тимофей» действует в Закавказье бесстрашный, умный и находчивый Сурен Спандарян, избранный на Пражской конференции членом Центрального Комитета партии. Об этом Константин получил в начале этого года краткое иносказательное письмо из Петербурга.
«Дядя Тимофей увлекается разведением винограда», — было написано в этом письме, и Константин сразу понял, где искать Спандаряна. «Виноград» — это было Закавказье. Найти же Тимофея в Тифлисе надо было через посредство конторы фирмы «Арцеулов и сыновья» — там работал некий Гамрекели. Обо всем этом Константину сообщено было во втором, тщательно зашифрованном письме. Можно завязать переписку с Гамрекели, адрес которого был приложен, или самому направиться в Тифлис на розыски. Но зачем разыскивать Гамрекели, когда в Тифлис должен бы уже вернуться друг Константина по ссылке, рабочий Закавказских железнодорожных мастерских Спиридон Ешибая?
Спиридон участвовал в вооруженном восстании в Тифлисе, когда одновременно шло вооруженное восстание в Москве. Рабочим дружинам Тифлиса удалось тогда укрепиться в районе вокзала и в поселке железнодорожников, так называемой Нахаловке. Правда, Спиридон не был взят с оружием в руках, но у него при обыске нашли большевистские прокламации, и на этом основании его заподозрили в принадлежности к партии.
А Спиридон Ешибая в то время еще не был в партии. Человек уже пожилой и сложившийся, прямой и мужественный, Спиридон, почувствовав на допросах, что его начинают запутывать, совсем перестал отвечать. Следователю это показалось признаком особой закоренелости и несомненной принадлежности Спиридона к революционной организации.
Прибыв в ссылку беспартийным, Спиридон, как это часто бывает, только в ссылке, и в значительной степени под влиянием Константина, стал сознательным большевиком.
Сразу же по приезде в Краснорецк Константин послал на тифлисский адрес Спиридона открыточку с приветом Тимофею, даже не подписав ее. Но Спиридон по штемпелю определил, что открытка послана из Краснорецка, и ответил письмом до востребования.
Конечно, ничего важного не было в этом письме, написанном довольно бессвязно, однако оно дало возможность Константину установить, что Спиридон работает на прежнем месте. А главное, Тимофей через Спиридона слал привет Константину. Мало ли в России Спиридонов, Тимофеев, Константинов? На открытку не обратили внимания, и она свое дело сделала. «Но где они теперь? Может быть, снова арестованы. А тогда как быть?» — тревожно раздумывал Константин.
И тут же внимание его отвлекалось тем или иным необыкновенным пейзажем: вот гигантская лапа ледника, нависшая над пропастью; вершина горы, как бы расколотая несколькими ударами великанского топора; а там вон орел, свободно парящий над необозримыми просторами. И крылатые стихи великих русских поэтов проносились в памяти Константина.
— Для наших великих поэтов Кавказ всегда был воплощением свободы, но я никогда не чувствовал этого так, как сейчас, — сказал он Асаду.
— Правда, Константин Матвеевич! — весело воскликнул Асад. — «Отсель сорвался раз обвал и с тяжким грохотом упал!..» — Нелепо и весело взмахнув руками, Асад побежал вниз по крутому каменистому склону, а за ним и обгоняя его покатились непрочно державшиеся камни — настоящий небольшой каменный обвал.
Внизу, возле ручья, среди громадных серых глыб, он, в форменном пальто и фуражке, в длинных, сильно обтрепанных брючках, казался таким неожиданным, словно его какая-то волшебная сила выхватила из городского пейзажа и перенесла сюда.
«Как с ним дальше быть?» — с тревогой думал Константин.
За время пребывания в горах Асад стал для Константина и проводником, и переводчиком, и посредником. Но все же он был еще мальчик — даровитый, многообещающий, но только еще формирующийся. Пребывание среди восставших веселореченцев могло опасно отразиться на судьбе Асада. Константин предполагал из Тифлиса во что бы то ни стало переправить Асада в Краснорецк, где тот учился в реальном училище, и заранее придумывал, как искуснее доказать его непричастность к событиям в Веселоречье.
Асад же знакомство с Константином и все путешествие в Веселоречье рассматривал как естественное начало новой, замечательной жизни. Он чувствовал себя прекрасно, беззаботно, весело и был уверен, что создан для такой жизни.
С виду мешковатый и неуклюжий, в очках на длинном носу, Асад, очевидно, обладал прирожденной ловкостью и бесстрашием горца, легко одолевал препятствия, был вынослив, весел, болтал по-веселореченски с Жамботом и Наурузом, по-русски с Константином. Он был счастлив, как может быть счастлив только пятнадцатилетний мальчик, испытавший такие замечательные приключения.
Асад вырос в Арабыни, у подножия этих гор. Летние месяцы не раз проводил в аулах; снеговые вершины всегда стояли перед его глазами недосягаемые и сияли, словно небесные светила. Теперь Асаду выпало счастье впервые попирать ногами те снега, которые, как ему казалось с детства, сливались с небесами. Сердце его билось с необыкновенной силой, кровь бежала особенно резво. И все кругом — серо-блестящие скалы, мимо которых они шли, и цветущие кусты, и цветы без листьев, и огромные яркие бабочки, и близкие, блещущие на солнце снега — все представлялось чудесным. Сердце его переполнялось любовью и преданностью к трем своим товарищам. За Константином он готов был следовать хоть на край света. И очень ему было обидно, что Константин явно озабочен тем, как бы от него скорее избавиться. Константин считал чем-то само собой разумеющимся, что с осени Асад возобновит занятия в реальном училище. Но Асад никак не мог представить себе, что после всего пережитого в это лето ему придется вернуться к обычной жизни. Свою парту, изрезанную несколькими поколениями учеников, одолеваемых скукой и от скуки запечатлевавших на парте инициалы своих возлюбленных, вспоминал он с особенным ужасом.
— Учиться, обязательно нужно вам учиться, Асад. Чем серьезнее вы будете учиться, тем больше принесете пользы и вашим землякам, и всему нашему делу.
— А вы? — жалобно возражал Асад. — Вы же сами говорили, что не кончили землемерного.
— Да, к сожалению, мне не дали окончить землемерное училище, но все-таки я добился своего и весь курс училища прошел сам, — с гордостью сказал Константин. — И, как видите, это мне немало помогает. Да что землемерное, я добьюсь своего, и если уж не поступлю в Технологический институт, то обязательно пройду сам всю программу. Только когда?! — вздохнул он.
Жамбот и Науруз внимательно прислушивались к их разговору. Оба они настолько знали русский, что приблизительно поняли, о чем идет речь.
— Твой старший, — переспросил вдруг Жамбот Асада по-веселореченски, — хочет, чтобы ты обучился какому-либо ремеслу? Так я понял?
— Ничего ты не понял, — сердито ответил Асад.
— Нет, я все понял. И я тебе вот что скажу: ты уже знаешь, что я обошел вокруг Черного моря. Но разве могли бы мои ноги столько пройти, если бы в руках у меня не было плотничьего топора, который меня кормил? Ты напрасно сердишься и хмуришься, ты слушай своего старшего — он тебе добра желает. И я тоже могу рассказать тебе одну быль, и ты тогда перестанешь спорить. Конечно, ты княжеский сын, но вот послушай, что произошло с одним грузинским царевичем.
— Если я княжеский сын, так ты, верно, и есть тот самый грузинский царевич, — сердито ответил Асад.
— Кто знает! — многозначительно подняв палец, сказал Жамбот. — Мои предки действительно происходят из Грузии, и ты, желая меня обидеть, возможно что и угадал… Эх, жеребенок, выслушай старого коня! Ведь это не сказка, а быль!
…Возвращался царевич с охоты, увидел в окне бедного домика красивую девушку и влюбился в нее. Да так влюбился, что только и оставалось посвататься. Но сватам она ответила так: «Знает ли ваш царевич какое-нибудь ремесло?» Тут стали сваты над ней смеяться, что она совсем проста и даже не понимает того, что царевичу не подобает работать руками. «Это верно, я простая, — отвечает им девушка, — и понимаю все попросту: быть царевичем — это не ремесло. Сегодня царь любит этого царевича, а завтра предпочтет ему брата его, моего же за ворота выгонит, — чем тогда он семью кормить будет?» Ей толкуют и так и сяк, а она все свое. Затосковал царевич: как тут быть? Но чего не сделаешь ради любви? Кружева из камня научишься плести, верно? Ну, собрал царевич ремесленников, мастеровых людей. Самое почетное ремесло — оружейное. Спрашивает царевич оружейника: «Сколько лет будешь меня учить, чтобы мог я научиться мечи ковать?» — «Я учился семь лет», — отвечает оружейник. «Не годится, — вздохнул царевич. — За семь лет моя невеста выйдет замуж за другого». Спрашивает столяра. «Пять лет, не меньше, нужно моему ремеслу учиться», — ответил столяр. «За пять лет моя невеста меня забудет», — сказал царевич. Портной берется учить четыре года, хлебопек — три. Меньше трех никто не берется. Загрустил тут царевич. Вдруг выходит вперед бурочник-шерстобит. «В моем, говорит, ремесле нужнее всего не время, а старанье. Будешь, говорит, стараться, за одни сутки выучу». Как взялся царевич с утра за дело, сутки напролет бил прутом по шерсти да кипяточком поливал. И выучился. Девушка, конечно, вышла за него замуж. А он пристрастился к своему ремеслу. Даже когда царем стал, все выделывал бурки, ноговицы, сукно, — и такой тонкий ворс научился надирать на сукне, что все узнавали его руку.
Но однажды поехал он охотиться и попал в лапы Одноглазым людоедам. Об Одноглазых ты, верно, слыхал? Будто они и люди, только раз в пять больше, пасть — как печка, а лба вовсе нет. Их кости до сих пор попадаются в старых пещерах. Много от них беспокойства было раньше людям. Ну, Одноглазые, поймав царевича, тут же стали разводить костер, чтобы его, по своему обычаю, изжарить. Видит царь, плохо дело. Вот и говорит он Одноглазым: «Как погляжу я на вас — выгоды вы своей не понимаете. Сожрать человека — не велик расчет. А вы вот узнайте — кто я такой? Может, я живой больше вам пользы принесу, чем если вы меня пожрете». — «А кто ты такой?» — спрашивают Одноглазые. «Я, — ответил он, — знаменитый бурочник. Дайте мне шерсти, я сваляю бурки, понесите их в царский дворец, добейтесь увидеть царицу, она у вас эти бурки купит». Одноглазые всё так и сделали. Дали ему шерсти, свалял он бурки на загляденье, понесли их Одноглазые продавать во дворец. Как тут увидела царица бурки, признала мужнюю руку, дала Одноглазым золота и серебра — полные мешки насыпала. Довольные, возвращаются домой Одноглазые. «Ну, а теперь мы его все равно съедим, — говорят они между собой, — вот какие мы хитрые». Только не пришлось им полакомиться. Выследила их царица, нагрянула с войском на пещеру и спасла мужа. Тут-то он и сказал: «Спасибо тебе, моя умница за то, что велела мне выучиться ремеслу».
И я тебе скажу: хоть ты не царенок, а княжонок, но когда выучишься, тоже нам спасибо скажешь.
— Что это вы так весело смеетесь? — спросил Константин.
Ему перевели сказку. Константин посмеялся, а потом сказал серьезно:
— Видите, Асад, и народная мудрость говорит о том же.
Проход, по которому Жамбот предполагал провести своих спутников в Грузию, представлял собою до того узкую расщелину в каменной стене гор, что в некоторых местах можно было идти только поодиночке. Да и добраться до нее требовалось немало усилий: вначале предстояло одолеть хаотическое нагромождение камней, а потом перейти через ледник. Это была самая трудная часть пути. Здесь им пришлось, обвязавшись и следуя друг за другом, пересекать изобилующую трещинами, вздутую и покрытую талым снегом поверхность ледника, то зеленовато-мутную, а то голубовато-прозрачную. По преданью, прадед Гурдыевых пробрался этим проходом из Грузии в Веселоречье. Некоторые из Гурдыевых позже проходили по этому пути в легендарный Тифлис, который для них, как и для всех горцев, был средоточием чудес, окном в широкий мир, столицей, прекрасней которой они ничего не знали.
Коренастый, крепко сбитый Жамбот карабкался по камням и, оглядываясь, ободряюще улыбаясь, протягивал руку то Асаду, то Константину. Но те уверенно карабкались по ноздреватым, почерневшим снеговикам и по головокружительным, в пестрых цветах, склонам. Науруз и Жамбот, заботливо следя за тем, как одолевает Константин крутые подъемы и головокружительные спуски, одобрительно переглядывались — им почти не приходилось помогать ему. Крепкие ноги Константина и мягких горских сапожках, которые ему подарила Нафисат, ступали так уверенно, словно он всю жизнь поднимался в горы. Бодро и ласково смотрели на спутников его темные глаза.
И вот наконец первая и самая трудная часть перехода закончена. Они взошли на перевал и последний раз оглянулись назад. Внизу река Веселая со своими притоками лежала как отпечаток ветки на земле.
Константин с благодарностью взглянул последний раз на эти уже затуманенные расстоянием лесистые долины — он чувствовал, что уносит отсюда такой новый и драгоценный опыт, который еще пригодится ему в борьбе, ставшей делом его жизни.
Им еще предстояло перебираться через пропасти и карабкаться по крутым склонам. Но уже снизу поднимался, казалось, отяжелевший от благоуханий, ласковый южный ветер, и Грузия из синих долин глядела навстречу им радушно, ласково.
5
С июля месяца, со времени выезда своего из Краснорецка, Константину не попадала в руки ни одна газета. Те немногие селения, по которым вел их Жамбот, сообщались с миром только через посредство вьючных троп.
На одной из таких троп повстречались они с осетином в буро-коричневой войлочной шляпе. Погоняя ослика, нагруженного сеном, он что-то пел. Путники приветствовали его, а Жамбот даже поздоровался с ним по-осетински (он, оказалось, владел понемногу всеми языками Среднего Кавказа). Когда же встречный скрылся за поворотом, Жамбот посмеялся, покачивая головой.
— Смешная песня его! А послушаешь, слеза прошибает, — пояснил Жамбот своим спутникам. — А пел он вот о чем…
И Жамбот нараспев, по-веселореченски, повторил эту песню:
«Птичкам мы помолились, чтоб птички на ветку не садились, ветку мы упросили, чтоб под ними она не качалась и корнями не шевелила, чтобы наши поля в пропасть не свалила…»
Здесь поля и покосы были расположены так же, как и в Веселоречье, — их словно развесили по склонам гор. Константину перевели песню, и все время пути этот напев не оставлял его, жалостный и дурашливый. Конечно, только не падающие духом, мужественные люди могли сложить такую песню.
Петля помещика здесь была, пожалуй, затянута еще туже, чем в Веселоречье. То, против чего восставали веселореченцы, — власть помещика над высокогорными лугами здесь утверждена была от века. Каждую осень за выгон скота на пастбища крестьяне отдавали своим господам почти весь приплод. Потому с охотой и сочувствием слушали люди грозные вести о восстании, принесенные с той стороны хребта.
Ниже были селения покрупнее и побогаче, начались сады и виноградники. По настоянию Жамбота спутники осторожно обходили такие селения и только порою посылали Асада в лавку за папиросами. Асад, почистившись и подтянувшись, принимал вид примерного ученика Краснорецкого реального училища; у него кстати был с собой отпускной ученический билет. Асад каждый раз приносил папиросы и сообщал противоречивые новости о войне на Балканах.
Константин и товарищи его словно по гигантской лестнице спускались все ниже и ниже.
И пастырь нисходит к веселым долинам, Где мчится Арагва в тенистых брегах…—шептал Константин, восхищенный тем, с какой волшебной силой передан в этом стихотворении ритм нисхождения… Пенно-голубые петли Арагвы показывались то справа, то слева. Среди нагорий, продолговатых и плоских, покрытых желто-зрелой пшеницей, уже виден был Душет с красными и зелеными железными крышами и крестами церквей…
Только развалины старинной крепости неясно бормотали о средневековом прошлом, о царях и полководцах, — перед ними был обычный не то уездный, не то заштатный и довольно глухой городок… На их пути это был первый город, и здесь-то уж наверняка можно было раздобыть свежие газеты. Однако Душет внушал особенные опасения Жамботу. Да и Константину уездный облик городка напомнил о полицейском участке: чего доброго здесь даже могло притаиться какое-нибудь щупальце охранки, — ведь все-таки Душет стоял на Военно-Грузинской дороге.
— В Мцхете я знаю надежный духан, — сказал Жамбот. — Мцхета — добрая бабушка, Душет — злой отчим…
И они, послав Асада в город за папиросами и за газетами, расположились на опушке мелколистной рощицы.
День был тихий и душным, солнце затянуто дымкой, тени неясны. Науруз чинил обувь. Подперев рукой разлохматившуюся русую голову, Константин глядел на тихо-неподвижный, словно застывший городок, на каменистую полосу шоссе, часть которого лежала перед ними…
Да, уездный город и военная дорога с полосатыми казенными столбами… Не раз, может, предстоит пройти под стражей мимо таких ненавистных орленых столбов… Гордо сознавать, что вступил он на путь той борьбы, которую десятилетиями вели лучшие люди России. Но тут же воображение рисовало ему девушку с высоким и ясным лбом под крупными кудрями — она смотрит; улыбается, зовет, — и жалко, что могло бы быть счастье и что, вернее всего, ничего никогда не будет… Надо все-таки написать Люде Гедеминовой, ведь перед отъездом из Краснорецка даже и попрощаться с ней не пришлось.
Жамбот пытался завести разговор. Но от Науруза трудно дождаться слова, разве что взглянет и улыбнется, Константин думает о, чем-то своем, русском. А главный собеседник Жамбота — Асад все не возвращался.
И Жамбот заснул.
Константин первый увидел вдалеке вихляющуюся фигуру Асада. Быстро шел он по желтой, как кукурузная мука, тропинке и размахивал издали кипой газет. Константин вскочил на ноги. С нетерпением следил он за Асадом и досадовал, что мальчишка, забыв всякие предосторожности конспирации, издали размахивает газетами. Впрочем, он и сам готов был кинуться навстречу и закричать: «Что нового?!»
А Асад уже кричал:
— Война, война, вторая война!
— Где война? — выхватив из рук газеты, спросил Константин.
— На Балканах… Вторая война.
Константин, быстро перелистав газеты, понял, что за время, проведенное им в Веселоречье, началась и уже кончилась вторая Балканская война. Болгария капитулировала. Мир в Бухаресте был уже подписан.
О наличии двух враждебных группировок среди великих держав в газетах писалось открыто. Тон обеих столичных газет, особенно «Нового времени», стал еще крикливее. И впервые среди этих мирных полей Константин вдруг подумал, что только неслыханно ужасной войной может разрешиться это нарастающее между двумя группировками великих держав напряжение. «Что ж, — думал он, — на войну мы, международный пролетариат, ответим достойно. Мы применим решения Штутгартского и Базельского конгрессов, мы остановим войну и превратим ее в революцию. И партия революционного пролетариата российского исполнит свой долг до конца».
Газеты перенесли Константина в мир разгоряченной и лихорадочной политической борьбы. На привалах, которые они делали каждые два-три часа, он вновь и вновь перечитывал эти столичные, тифлисские и бакинские газеты и каждый раз находил что-либо новое, подтверждающее его мысль о близости революции.
Вот скупая заметка о суде над балтийскими матросами, обвиненными в подготовке к вооруженному восстанию во флоте, вот краткие заметки о стачках и демонстрациях протеста против этого суда. А вот в обеих бакинских газетах — «Каспий» и «Баку» — из номера в номер переходит заголовок «Забастовки на нефтепромыслах».
«Нет, — думал Константин, перечитывая краткие заметки, — это не отдельные забастовки экономического порядка, как нарочито туманно говорится в газетах, это одна большая стачка».
Этими мыслями Константин потом делился со своими друзьями, и они, увлеченные его горячностью, жадно слушали, хотя многое понимали лишь приблизительно и по-своему.
* * *
К полудню следующего дня они подошли уже к Мцхете. Древнее каменное гнездо Грузии то показывалось, то вновь исчезало среди гор, покрытых ржавым кустарником, и каждый раз поражало слитностью, собранностью воедино всех своих построек: дома, стены, церкви — все высилось стройно, одно над другим, и увенчивалось старым храмом, накрытым железным конусообразным колпаком.
Трудно было представить, что в этой каменной массе есть какие-либо проходы, позволяющие проникнуть в город. Но когда они подошли к Мцхете, дома раздвинулись, между ними обозначились улицы, достаточно широкие, но совсем пустые — будто этот древний город вымер еще несколько столетий назад.
Жара была такая, что в ушах звенело и даже источенные тысячелетиями серые и желтые камни мцхетских стен приобрели какой-то обесцвеченный, изнуренный вид. Пусто было в городе в этот жаркий час полудня, и только вдали, на ослепительном солнцепеке перекрестка, стоял городовой, сияющий всеми своими пуговицами и бляхами. Завидев его, Жамбот, который по-прежнему шел впереди, сразу свернул в боковую уличку, потом в переулок и вдруг, обернувшись, оглядев залитые пόтом красные лица своих спутников, усмехнулся и показал им на ступени, круто сбегавшие в подвал. Старая, насквозь проржавевшая вывеска была на уровне ног — на ней ничего нельзя было разглядеть.
— Здесь хорошее место, здесь не опасно, — улыбаясь, сказал Жамбот.
Константин первым спустился вниз: чудесно свежо было в этом полутемном подвале. Здесь пахло терпкой сыростью красного вина — этот аромат источали громадные бочки такого же зеленоватого цвета, что и приземистые столы без скатертей. Под низким сводчатым потолком, сквозь толщу стен крепостной кладки, пробиты были невысокие, но широкие оконца; они, точно сквозь прищуренные веки, еле пропускали свет, который казался красноватым.
— Просто рай, — сказал Константин, набирая полную грудь насыщенного свежей влагой воздуха и с наслаждением потягиваясь, — Магометов рай…
В духане не было ни одного посетителя. Как только они пошли, из-за громадной, заставленной бутылками стойки, похожей на какой-то причудливый орган, показался колченогий толстый старик в белом фартуке поверх бешмета.
Покачиваясь, он медлительно и плавно двинулся от стойки, но не прямо к столу, где разместились друзья, а как-то боком, вдоль стен. Проходя мимо какого-то поместительного ящика, занимавшего темный угол, старик покрутил на ящике ручку, и оттуда вдруг полилась неторопливая, многоголосая, звонкая песня. Это был старинный заводной орган, хитроумное чудо восемнадцатого века. Песня была грузинская. Константин много раз слышал ее, когда проходил по деревням в час быстрого заката. Звероподобные буйволы тянули по розовой пыли дороги перевернутые плуги и бороны, мгновение за мгновением гасло румяное небо, и казалось, что сама земля начинала отбрасывать в небо зеленый свет виноградников, садов и огородов и запевала слитно и многоголосо… Пели девушки, — почти невидимые среди кудрявых виноградников, они окучивали лозу.
Старик, покачиваясь, уже подплыл к столу, белые усы его выделялись на коричневом ласковом лице. Склонив голову набок, он как бы вглядывался в посетителей. Но он был слеп, оба глаза его заплыли бельмами. Асад с чувством сострадания и страха смотрел на него, а Константин догадался, почему Жамбот привел их именно сюда.
— Газета сегодняшняя есть? — спросил Константин.
Старик с оттенком сожаления поцокал, отрицательно покачал головой и, получив заказ, ушел.
— Газета — водоем, новости — вода… Ты вчера водоем до конца вычерпал, свежей воды еще не набралось, свежая будет завтра, в Тифлисе, — посмеивался Жамбот. — Пока жара спадет, мы здесь переждем. Чем ближе к Тифлису, тем будет жарче, — весело говорил он. — Мы люди скромные, падишаха среди нас нет, ковров для нас по Головинскому проспекту стелить не будут, лучше свое вступление в город отложить нам на вечер и по большой дороге в город не входить. Не зря говорится: в великий город ведет множество дорог. Я могу предложить одну из них: мусульманское кладбище. Кстати, там неподалеку тетка моя живет, мы у нее и остановимся. Муж ее шапки делает, — он и к нам в Дууд пришел, чтобы черной мерлушки купить, прослышав, что у нас этот товар идет за бесценок. Пришел за дешевой мерлушкой, а все деньги у нас оставил — дорогой калым заплатил. И хоть мерлушки не купил, но тетку мою Косер увез. С тех пор поселилась она в Тифлисе со своим шапочником, и вот уже пятьдесят лет как живут в мире и согласии.
Жамбот рассказывал, переходя иногда с русского на веселореченский. Асад посмеивался и переводил.
Они пили вино, закусывали солоноватым сыром и хрустящими чуреками. Старик уже третий раз приносил полную тарелку этих поджаристых лепешек, которые пожирал Асад, вызывая изумленные и шутливые восклицания товарищей.
— Я очень корочки люблю, — оправдывался Асад. — Мама всегда сердится, что я у хлеба корочки обламываю, а мякиш оставляю. И вдруг такое замечательное изобретение — одни корочки, а мякиша совсем нет.
— Может, к хлебопеку в ученики тебя отдадим? — намекая на свою сказку, сказал Жамбот. — Он тебя быстро хлебы печь выучит…
— Невесты у меня нет, и торопиться мне некуда, — со смехом ответил Асад.
Константин, сдвинув на затылок войлочную шляпу, сидел, прислонившись к стенке, и затылком ощущал ее прохладу. Он отдыхал; полузакрыв глаза, медленно цедил сквозь зубы вино и, расширив ноздри, втягивал его густой сырой аромат.
Веселая, оживленная скороговорка Асада то и дело врывалась в медлительный лад музыки, и это сочетание было почему-то приятно.
— Нет, теперь я возьмусь за проклятую учебу, — говорил Асад. — Черт побери, да я за год пройду два года. А будущей осенью — университет, Петербург…
— Вино человеку крылья дает, — покачивая головой, сказал Жамбот.
— Думаешь, хвастаю? Да я в прошлом году за первое полугодие весь курс прошел и перед рождественскими каникулами предложил сдать экзамены за год… Не вышло. «У нас не университет», — сказал Арканжель, то есть это директор наш. Но если я желаю сдать экстерном, они ведь не могут отказать?..
Так шла веселая застольная беседа, а орган все снова и снова повторял свою песню. И настойчивая, спокойная, почти сонная медлительность песни казалась Константину признаком глубоких, скрытых в народе сил. Это был тысячелетний ритм многовекового труда под жарким солнцем, труда на зеленых склонах, в садах и виноградниках, труда каменщиков, возводивших старинные чудесные соборы, оружейников, превращавших сырую руду в сверкающую сталь и булатные клинки.
Когда Константин выразил эту мысль вслух, Науруз сказал:
— Лучший булат закаляют жарким огнем и студеной водой. Булат в сердце, булат в руке — вот то, что нужно, когда вступаешь в борьбу за правду…
— Да, если бы выступили вы на пастбище с оружием в руках, дело было бы понадежней, — усмехнувшись, сказал Жамбот.
Но Науруз будто не слышал его. Встав с места, он обратился к Асаду:
— Братец, может это от вина, к которому я непривычен, но когда хочу я произнести крылатое русское слово, оно дразнит меня и не дается, на языке остается только свое, веселореченское… Я по-нашему скажу, а ты по-русски перескажи. Вождь наш Ленин из-за далеких границ затрубил, начал большую охоту. Великая соколиная охота будет на рысей, волков и лисиц, на хищников больших и малых. Мои молодые крылья тоже трепещут, хочется мне тоже в воздух подняться, чтобы разить хищников.
— Говоря это, Науруз в такт поднимал и опускал руку — со стороны похоже было, что он произносит стихи.
Духанщик привык, что люди приходят к нему спокойные, даже вялые и скучные, и потом, воспламененные вином, встают с мест, поднимают бокалы — и звучат речи по-грузински, по-русски, по-азербайджански и армянски, на всех языках многоплеменного Кавказа.
Язык, на котором говорил Науруз, незнаком был духанщику. Ну и что ж? Мало ли языков на Кавказе?
Асад торопливым шепотом переводил, а Константин пристально вглядывался в разгоревшееся лицо Науруза, и не только слова, самый строй души Науруза был понятен ему, хотя, в отличие от словоохотливого Жамбота, Науруз за всю дорогу едва ли сказал десять слов.
Науруз считал себя младшим среди спутников (на Асада он смотрел как на ребенка), и потому каждый раз, когда им случалось ночевать в лесу, он собирал хворост, разводил костер и возился с приготовлением пищи. Все ложились спать, а Науруз при свете костра приводил в порядок и чинил обувь своих товарищей, выбрасывал из нее сопревшую траву и заменял её мягкой и свежей. Он ложился позже всех и вставал первым — костер горел, и котелок вскипал. И если кто не просыпался вовремя, что чаще всего случалось с Асадом, Науруз тихонько тормошил его…
Так он промолчал всю дорогу и тут впервые заговорил. Это было слово мужественного бойца, надежного товарища. Константин не столько по тому, что слышал от Асада, сколько по взволнованному голосу Науруза понял душевное состояние веселореченца и, невольно впадая в его приподнятый тон, сказал:
— Пусть будет так, Науруз! Слава тому, кто не только в час победного торжества, но и в час поражения дает обещание продолжать борьбу.
Науруз приложил руку ко лбу, к сердцу и сел. Успокаиваясь, он точно остывал, глаза его становились мягкими и приветливыми. И Асад, глядя на него, вспомнил сказку о том, как булатного богатыря нарта закалили в кузнечном горне до того, что его лицо стало испускать грозный синий огонь.
— Ну, а ты, Жамбот, что собираешься делать? — спросил Константин, и совсем по-другому, весело и просто, прозвучал его вопрос.
Жамбот помолчал и, вздохнув, ответил:
— Не зря зовут меня на родине Жамбот-бродяга. Давно ли вернулся я домой, обойдя кругом Черное море, а вот уже снова гонит меня с родины. Хочу я сходить в Москву… С давних лет слышали мы о златоверхом Кремле, но то, что ты сказал нам о рабочих людях Московии, снова наполнило мое сердце жаждой странствий… Нет мне пути в Дууд — кровожадны враги мои, и не допустят они, чтобы я остался жив. Нет мне жизни в родном ауле… Не суждено мне быть похороненным на родовом кладбище, вихрь странствий несет меня, пусть же принесет он меня к подножию белых стен Москвы…
Время прошло незаметно. Пора было уходить. Константин поднялся и, забыв, что старик слеп, приветливо махнул ему рукой, направясь к двери. Однако недоумевающее выражение, появившееся на лице хозяина, внезапно напомнило: «Да ведь расплатиться нужно!» При выезде из Краснорецка у него было с собой двадцать четыре рубля и еще серебряной мелочи рубля на два. Но за весь этот месяц, что провел в горах, сначала в Веселоречье, а потом проходя по Грузии, он истратил только шесть рублей на папиросы. В селениях они заходили в крайние дома и старались попасть к беднякам. Повсюду их принимали как гостей. Им подносили вино, то золотисто-солнечное, то красное, обещающее счастье. В Грузию уже дошли смутные слухи о восстании в Веселоречье, и люди жадно расспрашивали о нем. «А вот, когда вы подниметесь по обеим сторонам гор, — говорил Константин, — тогда не будет такой силы, которая могла бы с вами справиться».
После таких встреч и разговоров хозяева обижались, когда Константин предлагал им деньги.
Он расплатился с духанщиком и вышел.
Жара на улице уже спадала. Но после темноты подвала казалось, что не только солнце — сама мостовая светилась, отливая ослепительной голубизной.
Ступив на старые плиты тротуара, Асад вдруг споткнулся.
— Э-э… Вино, видно, голову кружит, — засмеялся Жамбот. — По каким тропинкам прошел, а на самом ровном месте спотыкаешься.
Асад ничего не ответил. Однако, сделав несколько шагов, все заметили, что Асад отстал, и оглянулись. Асад медленно следовал за ними, ступая осторожно, точно шел по стеклу. Одну руку он вытянул вперед, а другой поправлял очки.
— Вижу я плохо, — стараясь улыбаться, объяснил он. — Только из подвала мы вышли, и все засверкало… И теперь искры и радуги какие-то все скачут и скачут. Такая глупость…
Он хотел улыбнуться, но улыбка никак не могла сложиться на его дрожащих губах, и спутники его, мужественные люди, из которых каждый без трепета много раз глядел в лицо смерти, испуганно переглянулись — так поразило их это неожиданное несчастье.
— Пройдет, ничего, пройдет. Это временный паралич глазных нервов, слишком внезапно мы перешли из темного подвала к солнечному свету, — первым сказал Константин.
— Такая болезнь случается в горах, — подтвердил Жамбот, — если на горный снег долго смотреть. Ничего, пройдет.
Науруз положил на плечо Асаду свою теплую, тяжелую ладонь.
— Мы тебя не оставим, братец, — сказал он нежно. — Мои глаза — твои глаза.
И это были как раз те слова, которые больше всего нужны были сейчас Асаду.
Асад потому и смотрел с таким ужасом на бельма старика, что с детства вырос в страхе перед слепотой. Всегда помнил он о том страшном несчастье, которое поразило его отца в молодости. Отец потом оправился, но полнота зрения к нему уже не вернулась. Слепота была проклятием этой ветви дудовского рода, зловещим началом ее был дед Асада, знаменитый Асад Дудов-старший. Ослепший в молодости, он сменил меч на струны и стал знаменитым сказителем, — народ до сих пор чтил его имя. И до сих пор рассказывали в народе о том, как алчная дудовская свора выгнала старика из дому и он погиб, упав в пропасть. Кто может сказать, произошло ли это случайно, или сам он оборвал свою жизнь! Асад тоже стоял сейчас над темной пропастью, и ничто не могло быть ему дороже теплой, тяжелой ладони Науруза, которая легла на его плечо.
6
Зажглись уже первые звезды в мягко-лиловом небе Тифлиса, когда Константин, расставшись со своими спутниками (их Жамбот увел в мусульманскую часть города, где жила со своим шапочником его тетка), медленно спускался к железнодорожной станции, яркие огни которой видны были издали.
Константин любовался этими огнями, развешанными подобно гирляндам на холмах города. Около железнодорожных путей он замедлил шаги и осторожно стал обходить ярко освещенное здание вокзала.
Он не только оглядывался, но и принюхивался, чтобы, не прибегая к расспросам, найти кратчайшую дорогу к железнодорожным мастерским, — он считал, что встретиться здесь с другом своим Спиридоном безопаснее, чему него на дому.
По едкой гари и копоти, по резким вспышкам огня в кузне, по непрерывному металлическому шуму Константин нашел приземистое здание железнодорожных мастерских.
Территория мастерских ограждалась железной решеткой. При вспышках тень ее со всеми узорами ложилась на черную землю, поблескивавшую мельчайшими крупинками каменного угля, и тогда на несколько мгновений четко вдруг вырисовывался силуэт сторожа, ходившего вдоль решетки с ружьем. По тому, как он мурлыкал себе под нос и как моталось за его плечами ружье — немудрящая берданка с длинным стволом, — видно было, что такого сторожа можно и не очень опасаться.
Но все же Константин решил отойти в сторонку и подождать. Он стоял в черном углу, за выступом глухой каменной стены, и отсюда при огненных вспышках видел все, что делалось вокруг, слышал звонкие металлические стуки, голоса людей… Константин наконец уже стал дремать, удобно умостившись на выложенной из кирпичей подставке, ему даже стало казаться, что сторож стережет не кого-нибудь, а его. Потом откуда-то выплыло лицо Люды, она, вглядываясь, приблизила лицо, шептала, — и он тихо засмеялся от радости…
Но вдруг что-то изменилось, Константин встряхнулся и встал. Звон металла сменился скрежещущим звуком, а потом свист и шипение пара заглушили все. Люди, надрывая глотки, старались все это перекричать. Голоса становились громче, оживленнее, послышался смех, и что-то большое и грузное тяжело тронулось с места. Открылись большие ворота. Неровный красноватый свет ударил оттуда, и паровоз мерно и торжественно вышел из ворот, шипя, стуча и бросая снизу, из топки, жаркие огни. Точно это был праздник паровоза — его приветствовали небольшие черные фигурки рабочих, и сердце Константина радовалось: никем не видимый, он тоже как бы принимал участие в этом торжестве.
Освоившиеся с темнотой глаза Константина разглядели и сторожа с ружьем, стоявшего у железной калитки, через которую уже уходили рабочие.
Константин подошел поближе: ведь среди уходящих мог оказаться и Спиридон. Рабочие шли теперь не массой, а группами, по два, по три. Но Спиридона среди них не было. Можно, конечно, рискнуть — заговорить с кем-нибудь, но эго не входило в расчеты Константина…
Наконец грузной походкой из депо вышел полный высокий человек и добродушно-густым голосом приветствовал сторожа, сказав ему: «Саол!» [1]. Тот, засмеявшись, ответил и, видимо, попросил закурить. Загорелась спичка, и Константин на мгновение увидел большое, обросшее черной молодой бородкой лицо. Брови были мохнаты, толстые губы складывались в строптиво-добродушную, как у ребенка, улыбку. Лицо это внушало доверие, все в нем было выражено сильно и открыто. Казалось, что сторож несколько заискивал перед этим силачом и великаном, который, попрощавшись, неторопливо, вразвалку, пошел своей дорогой… Константин осторожно последовал за ним.
Они уже находились в неосвещенном пространстве между железнодорожными путями и большой горой, которая вся была усыпана красновато поблескивающими тусклыми огнями. Вдруг этот увалень, казавшийся таким беспечным, круто обернулся и шагнул прямо на Константина…
Константин остановился.
— Зачем идешь за мной? — услышал он угрожающий шепот.
— Мне нужно попасть в Нахаловку.
— А зачем прямо не спросил? Я давно уже слышу, как ты идешь. Чего тебе нужно в Нахаловке?
Константин помолчал. Они здесь были вдвоем, убежать и скрыться можно в любой миг. Константин рискнул и сказал:
— Мне нужно найти Спиридона Ешибая.
Сначала не было никакого ответа. Потом чиркнула спичка. Константин отдернул голову и попятился — так близко была она поднесена к его лицу. Но через секунду Константин мог увидеть лицо своего собеседника: черно-блестящие небольшие глаза глядели из-под толстых, словно подпухших век и черных густых бровей вопросительно и напряженно.
— Тебе чего, ночевать негде? — неожиданно услышал Константин сочувственный и лукавый вопрос.
— Почему негде? — ответил Константин недоуменным вопросом. — В Тифлисе есть гостиницы.
— По всему видно, что ты ночевал в первоклассных номерах для проезжающих. «Под открытым небом на сене» называются эти номера, — с усмешкой ответил парень. Он еще раз зажег спичку и своими толстыми пальцами осторожно снял с выбившейся из-под козырька пряди волос Константина еле заметную былинку.
Константин действительно последнюю ночь спал на стогу свежего сена, и зоркие антрацитовые глазки нового знакомого приметили в волосах эту былинку.
— Меня зовут Илико, — тепло и доверчиво уже сказал парень, протягивая свою широкую и мясистую руку.
— А меня Константин…
— Котэ? — спросил Илико, и в голосе его слышно было удовлетворение. — Моего отца так зовут. Самсонидзе Илья Константинович — это я, — сказал он, запинаясь, и засмеялся. — Да что мы здесь стоим на ветру (ветра совсем не было), как волки? — вдруг сказал он. — Прошу вас очень, друг Котэ, ко мне в дом. Мой дом — ваш дом.
— Я спрашивал вас, Илья, о Спиридоне Ешибая, — осторожно напомнил Константин, когда они двинулись.
— Спиридон? — медленно переспросил Илико. — А может, вы хотите поговорить с сыном его, Давидом?
— А что Спиридон? — тревожно спросил Константин.
Илико ничего не ответил.
— Арестован? Когда?
— На прошлой неделе. Деньги для бакинцев собирал. Ничего, деньги мы отправили, — и Илико усмехнулся. Коротким бурчанием сопровождался этот смешок. — К ним домой ходить сейчас опасно, кругом шпики. Я ведь и про вас нехорошо подумал.
— Что же вас разубедило?
— Мы их, как меченых, узнаем. Пойдемте сейчас ко мне, а завтра после работы я Давида сам приведу.
Они поднимались вверх, все круто вверх между темными небольшими домиками, окруженными садами.
Странно, но Константину показалось, что он уже бывал здесь.
— Это, значит, и есть Нахаловка? — спросил Константин.
— Нахаловка? А вы, значит, у нас бывали? — спросил Илико.
Спиридон рассказывал.
— А-а-а, — протянул Илико, и в голосе его была слышна гордость.
Константин с волнением разглядывал выступавшие при свете тусклых фонарей невзрачные строения. Тифлисские рабочие в декабре 1905 года, узнав о начавшемся восстании в Москве, тоже создали вооруженные дружины. Им удалось тогда захватить телеграф, здание управления Закавказских железных дорог и укрепиться здесь, в Нахаловке. И, так же как по скученным кварталам московской Пресни, царские пушки били в упор по каменным и глиняным домишкам Нахаловки.
Илико жил в кирпичном домике с двумя подслеповатыми окошками, к нему пристроена была галерея. Наружная стена этой галереи состояла из мельчайших стеклышек, искусно прилаженных одно к другому, и была увита виноградом. Жалобно дребезжали стеклышки, когда по галерее проходил Илико или пробегала его круглолицая, с гладкими блестяще-черными волосами Текле, накрывавшая сейчас стол для мужа и гостя.
Константина тут же на галерее усадили за низенький, точно детский, столик, поставили перед ним мацони, хлеб. А тем временем в доме ему было постлано на тахте.
Поужинав, он уснул среди мирных запахов этого уютного жилья, испытывая чувство безопасности и надежности крова над головой, чего он давно уже не знал.
Проснулся он с ощущением, что уже наступило утро, — в щели ставен пробивались розовые новорожденные лучики, и тоненькие голоса детей слышны были из-за стены, на детей шикали. «Оберегают мой сон», — благодарно подумал Константин.
Скоро в комнате стало жарко. Константин вышел во двор — и сразу же все поплыло перед глазами. Голубые краски неба, зелень садов, желтизна песчаного косогора — все плавилось и пылало.
Он спустился в садик. Солнце точно раскаленным обухом ударило его по голове. Белые мазаные и кирпичные домики повсюду видны были среди зелени. Все раскалено, и кругом все безлюдно… Константин вернулся в комнату и снова заснул.
А когда во второй раз проснулся, каждая жилка играла в нем — так он выспался.
Солнце уже довольно низко висело над зубчатыми горами, лиловые и красные краски возникали и на небе, и в битых стеклышках галереи. Константин увидел, что на галерее, вокруг того столика, где его вчера угощали, собрались люди, и ему показалось, что их много и все они глядят на него. Но, подойдя поближе, он убедился, что гостей не так уж много. Кроме хозяев, за столом присутствовало всего лишь три человека.
Юноша, казавшийся особенно худеньким рядом с большим и неуклюжим Илико, радостно улыбаясь, вышел вперед и схватил Константина за обе руки. Это был сын Спиридона Давид.
— Лена! — назвалась девушка с большими серыми глазами, вопросительно и смело взглянула на Константина, и ее сухая горячая рука крепко пожала ему руку.
Третий из гостей, мужчина уже почтенных лет в украинской вышитой сорочке, с чисто, до блеска выбритой головой и пышными с проседью усами, обменявшись с Константином крепким, но безмолвным рукопожатием, завладел бутылкой, стоявшей посредине стола, и разлил вино по бокалам.
Хозяин щедрой рукой разламывал на части чурек. Текле принесла аппетитно пахнущий, приправленный перцем лоби.
На правах тамады дядя Чабрец — так с оттенком почтительности называли все присутствующие мужчину с пышными усами — поднял тост. Говорил он по-русски, да и по всему видно было, что он русский, но давно жил в Грузии, а возможно, и родился здесь, и грузинское произношение наложило отпечаток на его речь. Тост был в грузинской традиции: аллегорическое иносказание о том, как в одну дружную семью приехал родственник, о котором младшие только слышали, но не видели его в лицо. Но у всякой семьи есть своя примета, родимое пятнышко, что ли, или еще что-либо такое особенное, — здесь дядя Чабрец покрутил в воздухе пальцами, — и по той примете родня узнала, что возвратившийся действительно и есть член семьи…
— За здоровье нашего родного возвратившегося! — провозгласил дядя Чабрец.
Все выпили в молчании, серьезно, точно делая важное дело.
Не понять иносказания, конечно, нельзя было. «Одно неясно: нашли они на мне нужную примету или нет?» — думал Константин.
Когда тамада снова своей крепкой, до красноты чисто отмытой рукой рабочего разлил вино, Константин попросил слова. Взоры всех устремились на него — вопрошающие, испытующие, а Лена смотрела даже с некоторой строгостью. И Константин, невольно обращаясь больше всего к ней, поблагодарил за гостеприимство. Выражаясь тоже иносказательно, он добавил, что были в этой большой семье такие, которые говорили: «Не лучше ли этого приезжего дяденьку попросить из дому подобру-поздорову». Другие же предлагали испытать его на работе: «Если он умеет работать на нашем винограднике, как мы, тогда он наш». А старая бабушка сказала: «Наш или не наш, но он гость наш, и потому устроим ему пир».
— И я там был и мед пил.
Все засмеялись, зашумели, заговорили по-русски, по-грузински. По-русски хвалили его тост, а что говорилось по-грузински, Константин, конечно, не понимал. После второго бокала кисленького пенистого вина ему стало весело, и всякое подобие серьезных мыслей исчезло.
Константин ласково оглядывал лица новых друзей. Все они — и дядя Чабрец, видимо знавший, когда сказать, а когда помолчать, и строгая Лена, и нервный Давид, и медвежеватый, добродушный Илико — понравились ему.
Вдруг Константин увидел, что дядя Чабрец достал из-за пазухи вчетверо сложенную газету и положил ее на стол. Это было «Русское слово».
— Сегодняшняя? — спросил Константин.
— Свеженькая, полюбопытствуйте.
Константин развернул газету и сразу же инстинктивно закрыл ее: внутри «Русского слова» лежало несколько номеров «Северной правды», которую он не видел уже много времени.
Лена, Давид, Илико выжидательно посмотрели на него. А дядя Чабрец? Его уже не было за столом. Только что он сидел здесь, бережно трогая свои пышные усы, кажется лишь ими и занятый.
«Э, да о чем тут думать и чему удивляться! Мало ли может быть причин у такого дяди скрыться из виду сразу же после того, как он передал «приезжему родственнику» «Правду»?
— Здорово, вот здорово! — бормотал Константин, быстро пробегая страницу за страницей. — «Отделение либерализма от демократии», «Самое злободневное, конечно, — вторая балканская война, разгром Болгарии, унизительный для нее мир в Бухаресте…» Это Ильича статья, хотя и подписана инициалами, но голос его.
Константин чувствовал, что сидящие за столом поглядывают на него, стараясь это сделать незаметно, украдкой. Он упрямо тряхнул головой и, приподняв номер «Правды», сказал:
— «Правда» борется, голос Ленина мы слышим, партия жива.
— Да мы не унываем, — сказала Лена. — Вы, наверно, еще не слышали о Баку?
Но стачка шла не только в Баку. По номерам «Правды», которые всю ночь при колеблющемся свете лампадки читал Константин, видно было, что по всей России шли стачки. Вторая годовщина Ленского расстрела, празднование Первого мая, потом начались стачки протеста против суда над балтийскими моряками…
* * *
В первую же встречу с Давидом Константин рассказал ему, что на его попечении находится слепой мальчик из Краснорецка. Мальчику нужно помочь добраться до дому.
Давид подумал и ответил, что есть один надежный человек, который с этим делом справится.
Глава вторая
1
Давидовская церковь в Тифлисе расположена высоко над городом. При ее постройке, как говорит легенда, по скалистым, почти отвесным склонам этой священной горы ни одно вьючное животное не могло подняться с кирпичами, и тогда основатели храма попросили верующих, идущих на богомолье, брать с собой по кирпичу, — так был построен монастырь.
Теперь к Давидовскому монастырю проложена дорога. Но в жаркий августовский день эта дорога довольно трудна, и Дареджана Георгиевна Елиадзе, вернувшись после богомолья домой, так и не дошла до узенькой тахты, где после смерти мужа проводила дни и ночи (супружеское ложе в алькове, торжественно и зловеще задернутом траурной шелковой занавесью, теперь было оставлено навеки). Присела она в кресло возле своего рабочего столика, у которого занималась рукоделием и расчетами по домашнему хозяйству. Немудрые эти исчисления производила она с помощью бисерных счетов (подарок отца при ее замужестве), ими любили играть дети. Присела, да так и заснула, без снов, крепко, как давно не спала. Но проснулась точно от испуга — будто ее внезапно толкнули. Мерный шум, постоянно доносившийся снизу, — а дом их находился на Давидовской, в одной из возвышенных частей города, — не привлекал ее внимания — так не слышат рокота прибоя люди, живущие возле моря. А в доме было тихо. Значит, младшей дочери, двенадцатилетней Кетеваны, нет дома, — она одна создавала больше шуму, чем трое детей вместе. Слабое движение — подобие улыбки тронуло бледные губы Дареджаны Георгиевны. Она придвинула свое, золотом по голубому, рукоделие, — самая яркая вещь из тех, что были в комнате, — и, откашлявшись, позвала:
— Саша, где ты?
— Я здесь, мама, сейчас приду к вам, — басовито отозвался из соседней комнаты старший сын.
Мать почти никогда не говорила по-русски, и сейчас она, позвав сына, сказала «Саша» мягко и протяжно, смягчая оба «а» так, как говорили в ее родной Кахетии. И Саша с благодарностью подумал, что даже в горе, после смерти мужа, мать не забывала его просьбы: не называть его Сандро. Он невзлюбил это свое имя с прошлой зимы, проведенной в Петербурге. Он учился на юридическом факультете Петербургского университета, и одна девица, очень ему не нравившаяся, но которой, видимо, нравился он, через все обширное помещение студенческой столовой, завидев его, всегда кричала: «Сандро, сюда, я вам место заняла», — и вся веселая, смешливая молодежь оборачивалась посмотреть, что это еще за Сандро. А он, тоненький, покрасневший от смущения, черноволосый юноша в студенческой куртке, взъерошенно и сердито стоял и не знал, где занять место.
Бесконечно далеко в прошлое ушло все это. И пусть бы мать называла его, как ей привычно…
У себя, в своей жаркой, выходившей прямо на улицу комнате, Саша носил сетку, охватывающую его сухощавое, крепкое тело. Но перед тем как пойти на зов матери, он надел белую, с прямым воротом, сшитую ему дома еще в прошлом году, перед отъездом в Петербург, рубашку, она и сейчас была как новенькая. В Петербурге Саша носил вошедшие тогда в моду среди студенчества серые рубашки с мягкими отложными воротничками. Застегивая мелкие пуговки на груди, он вошел в комнату матери и с наслаждением вдохнул прохладный воздух этой полутемной, выходившей на стеклянную галерею комнаты. Но и здесь, как и в других комнатах дома, сквозь задернутую занавесь весело сияли какие-то пестрые знойные краски: крыши и небо над ними, яркие куски ткани, которыми, так же как и у них, завешаны были от палящего солнца окна и стеклянные галереи. Все же уличный шум Тифлиса доходил сюда слабее, чем в его комнату.
Струя солнца, проникнув в щель между занавесью и косяком окна, сверху вниз проходила по лицу матери. Ее природная смуглота приобрела за последние недели оттенок лимонной желтизны. Обескровленные губы маленького нежного рта, синие тени под тускло-черными, потерявшими блеск глазами. Краски молодости были навеки смыты с лица, а ведь еще весной этого года она считалась в Тифлисе одной из самых красивых женщин. Дареджана Георгиевна вышивала для церкви что-то синее и золотое — дар, предназначенный для того, чтобы умилостивить загробный суд, перед которым уже предстал преподаватель географии и истории первой женской гимназии Елизбар Михайлович Елиадзе. Да, он, бедняжка, нуждался в снисхождении хотя бы потому, что, пользуясь доверенностью жены, размотал, проиграл в карты и прогулял с друзьями принадлежавшие ей пять тысяч — ее скромное приданое, лежавшее в банке и предназначенное на черный день. Этот день наступил — чего уж ждать чернее, — а денег нет. Правда, будет пенсия, но пока и ее нет. Вот и приходится госпоже Дареджане самой думать (а за нее всегда думал кто-либо: сначала отец, потом братья, потом муж) — думать о том, как прожить с четырьмя детьми, из которых младшему девять лет… В Петербурге, может, и не проживешь, но в Тифлисе прожить можно, пенсия шестьдесят рублей в месяц обеспечена. Из отцовского маленького имения братья и раньше привозили подарки, а теперь еще чаще будут привозить то баранью ногу, то индюка, то пару живых кур, то масла и сыру, то мешок лоби или кукурузы. Да если еще всерьез взяться за рукоделие, вспомнить навыки этого искусства, которым славилась она, когда училась в заведении святой Нины, прожить можно, и совсем не это удручает госпожу Дареджану. Беда в том, что старший сын, гордость семьи Александр, после смерти отца отказался от продолжения образования, потому что не может он оставить мать с двумя младшими сестрами и маленьким братцем в Тифлисе. Потому и в Петербург он не поедет, а поступит либо конторщиком в торговый дом Саникидзе, где он дает уроки и где к нему благоволит глава фирмы, либо в управление земледелия и землеустройства, где работает задушевный приятель и собутыльник покойного отца Михаил Андроникашвили. Но хотя готовность Александра к самопожертвованию смягчала вдовье горе госпожи Дареджаны, она все же не хотела принимать жертвы сына и старалась уговорить его не бросать университет.
— Я была у святого Давида, сынок, и, ты видишь, вернулась с бодростью в сердце, — звучал мягкий, в самую глубину души проникающий голос матери. — Небо послало мне поддержку. Много нас, безутешных женщин, собралось у чудотворной двери, и каждая со святой молитвой брала с земли камешек и прикладывала его к двери. Но только у двух камешки прилипли к двери. Одна, совсем простая женщина с Авлабара, жена мясника, хотела родить сына, а я… что ж я буду тебе рассказывать? Ты знаешь, что я тоже загадала на сына… — Бледные, немного будто припухшие и выдающиеся вперед губы ее снова тронула улыбка.
— Спасибо вам, мама, — сказал Саша и, наклонившись, поцеловал ее бледную руку.
Мать поцеловала крутые смоляные кудри сына.
Александр любил мать с тем оттенком рыцарства и обожания, с каким любят мать старшие или единственные сыновья. Он был счастлив, когда мог оказать ей какую-либо услугу. И даже сейчас, когда горе согнало краски с ее лица, она ему казалась красавицей… Но он был достаточно умен, чтобы по достоинству оценить душевные качества матери. Он знал, что она добра и в доброте своей разумна, что она, любя детей, умеет оказывать на них высокое нравственное влияние, поощряет в мальчиках смелость, чувство чести, трудолюбие, готовность прийти на помощь слабому и стремится передать девочкам все свои высокие достоинства жены и матери. Однако Александр видел, что при малом образовании мать не стремится его увеличивать, что она совершенно лишена интереса к жизни общественной и что у нее нет практического рассудка.
Потому он внешне вполне почтительно, но без всякого внимания слушал ее предложение поехать в Петербург, отыскать там Александра Федоровича Розанова, своего крестного отца, военного инженера, уже дослужившегося до генеральского чина, и сообщить ему о смерти отца.
— И, увидишь, он сам предложит тебе совет и помощь. И он и моя дорогая Зиночка (речь шла о жене генерала, подруге матери по заведению святой Нины). Ты же знаешь, что само небо связало нас чудесными узами при твоем крещении.
Почтительно стоя перед матерью, Александр в душе усмехался. Таинственная связь, о которой с таким волнением говорила ему мать, выразилась в забавной путанице — и никакого чуда при его рождении не было. В прошлом году он, при всем уважении к матери, не исполнил ее просьбы — не зашел к своему крестному отцу. Мать упрекала его за неучтивость, отец же, будучи по натуре человеком независимым, видимо понимал сына и ни слова ему не сказал. В прошлом году визит к Розановым был бы проявлением элементарной вежливости. Сейчас мать хотела, чтобы он просил помощи у человека незнакомого, с которым отец в революцию 1905 года крупно поспорил, как с монархистом. К тому же у генерала была своя многочисленная семья.
Неизвестно, сколько еще времени почтительно простоял бы Александр перед матерью, безразлично и скучливо выслушивая практические поучения, не имевшие никакого смысла, если бы в комнату не вбежала с шумом младшая его сестра Кетевана.
— Сандро, к тебе Мерцая пришел! — крикнула она и, подобно волчку, так что пузырем надулось ее коротенькое платье, начала кружиться, балансируя руками и опускаясь все ниже, словно ввинчиваясь в пол. Ее раскрасневшееся большеглазое лицо мелькало и исчезало.
— Кетевана! — с упреком сказала мать. — Что это за балаган?! Я веду с твоим старшим братом, который тебе за отца, важный разговор, и вдруг ты…
— И совсем не балаган, а цирк братьев Никитиных!
Кетевана поднялась с пола и прижалась к матери.
— Ну, не сердись, — тихо попросила девочка.
— Я не сержусь, но…
Дальнейшего Александр не слышал. Воспользовавшись тем, что мать занялась дочерью, он прошел к себе в комнату, где ожидал его Давид Ешибая, молодой рабочий Закавказских железнодорожных мастерских, самый способный ученик и староста того класса воскресной школы, где Александр преподавал русский язык. «Мерцая» Давид прозван был за то, что на одном из уроков, производя грамматический разбор стихотворной строфы:
Посмотри, в избе, мерцая, Светит огонек, —сделал грубую ошибку, сказав, что «мерцая» — это имя существительное собственное. Александр удивился — Давид был одним из самых его ревностных учеников. При дальнейшем разговоре выяснилось, что Давид, по происхождению мингрел, посчитал, что Мерцая — это фамилия того крестьянина, в избе которого светил огонек, ведь он сам носил фамилию Ешибая: «Погляди, в избе Ешибая светит огонек». Так прозвище Мерцая укрепилось за этим невысокого роста, гибким и беспокойно-нервным юношей. И сейчас, сидя на тахте в комнате Александра, он вертел своей небольшой, начисто выбритой, носатой, с черно-блестящими глазами головой и, сведя вместе пальцы обеих рук, нервно тискал их.
— Здравствуйте, Давид! Почему я вас вижу в такой неурочный час? — спросил Александр, раздельно произнося русские слова, — это было его правило: со своими учениками говорить по-русски.
Давид встал, Александр, ласково обняв, усадил его рядом.
— Дело до тебя имеем, Сандро, — сказал Давид.
— Не «до тебя дело», а «к тебе дело», — тоном учителя поправил Александр.
— К тебе дело… — послушно повторил Давид. — Только я сам слышал, на Майдане русский один тоже говорил «до тебя».
— На Майдане, конечно, много чему можно научиться, только не русскому языку, — со смешком сказал Александр. — Ну, так что за ветер пригнал тебя ко мне? — переходя на грузинский, спросил он. — Только предупреждаю заранее: никуда я из Тифлиса не поеду и ни слепых, ни глухих, ни безногих по другим городам развозить не буду.
— Ты доброе дело сделал, Сандро, что помог тому слепому вернуться домой. Увидишь, что твой ангел-хранитель в день Страшного суда…
— Даст мне контрамарку в рай? Ладно, не заговаривай зубы. Но имей в виду, что уехать сейчас из Тифлиса я, правда, не смогу, а то моя ученица провалится на экзамене.
— То был, Сандро, совсем особенный случай, такого больше не будет.
Случай, о котором шла речь, состоял в том, что примерно дней десять назад Мерцая после занятий в воскресной школе попросил Александра отвезти до Баку ослепшего мальчика с его провожатым, купить им в Баку билеты до станции Краснорецк и усадить в поезд.
Александру все это показалось странным. Худенький, в темных очках, очень угнетенный своей внезапной слепотой гимназистик принадлежал к княжескому роду Дудовых; какой-то отпрыск этого рода, казачий офицер, недавно прославил свою фамилию по всему Тифлису неслыханным скандалом на Головинском проспекте. При каких условиях потерял зрение в Тифлисе этот гимназист, проживающий по ту сторону Кавказа? Неужели он вместе со своим спутником, молодым богатырем Наурузом, перебрался через Кавказский хребет? Приходилось предположить это, так как Науруз никогда не пользовался железной дорогой, — потому-то они и оказались в таком беспомощном положении. И, наконец, главное: неужели в Тифлисе некому было прийти на помощь попавшему в беду представителю княжеской, офицерской фамилии, кроме как рабочему железнодорожных мастерских Давиду Ешибая, к тому же еще сыну недавно арестованного «за политику» Спиридона Ешибая?
Но несчастье было очевидно. И Александр не стал ни о чем расспрашивать. Он довез Асада Дудова вместе с Наурузом до Баку, купил им билеты до Краснорецка, усадил их в вагон и со следующим поездом вернулся в Тифлис.
Дело, о котором Давид сейчас рассказал Александру, было много проще, хотя элемент таинственности в нем тоже присутствовал. Следовало немедленно — что особенно подчеркивал Давид — отправиться с ним и встретиться с одним русским «хорошим человеком», как уверял Давид (кто этот русский человек, опять-таки сказано не было). Этому русскому человеку нужно перевести какую-то статью, точнее сказать — часть статьи, с грузинского на русский.
— Мы сами ему переводили, а он не верит, говорит: «Здесь у вас что-то неверно».
— Да уж вы переведете, — усмехнулся Александр. — Ну, пошли.
И, сообщив матери, что вернется не позже одиннадцати, Александр ушел.
Александр следовал за Давидом шагах в двадцати от него. Эта предосторожность была понятна: Александр догадывался, что воскресная школа связана с деятельностью партии.
* * *
Солнечный шар еще висел над тифлисской котловиной, но с горы св. Давида, куда их поднял фуникулер, было видно, что не более трех часов осталось дню царить над землей. Внизу раскаленные камни города источали жар, который они вобрали за день, и жар этот лиловым маревом поднимался над городом. Едва ли был в Тифлисе час более жаркий. Но все же здесь, наверху, со стороны невидимых снежных гор время от времени уже веяло прохладой и мелколиственные рощицы на горе Давида давали слабую тень. Здесь видны были сколоченные из досок духаны под яркими вывесками: руки, держащие рога, с которых выразительно капало вино; черноусый всадник с осиной талией, размахивающий шашкой; девушка с опущенными глазами, предлагающая плоды, такие же красные, как ее лицо.
Пахло жирной, горячей едой, скатерти на зыбких столиках в тени деревьев залиты были вином.
Давид провел Александра в глубь рощи, к духану, расположенному несколько поодаль других. Назывался он «Под дубом вековым», и действительно, на вывеске был нарисован коренастый дуб, похожий на гриб боровик с зеленой шляпкой. Никакого другого дуба, ни простого, ни векового, не было видно, и Саша засмеялся, вспомнив басню Крылова, откуда взята была эта строчка. «Хоть дуба нет, зато свинья есть», — подумал он, взглянув на багроволицего духанщика, который стоял у дверей духана; он явно не умещался в своем обширном бешмете, жирную шею его теснил ворот рубашки. Молодой человек и девушка сидели за одним из столиков, к ним-то и направился Давид. Девушку Саша сразу узнал: это была ученица его по воскресной школе Лена Саакян, работница с текстильной фабрики. Ее широкому и бледному лицу придавали выражение ума и независимости светло-серые крупные глаза, нижняя губа как будто бы чуть выпячена. Случалось, что на уроке она задумывалась, мимолетно улыбалась, — он глаз не мог отвести от нее в эти мгновения.
Русский язык давался Лене легко. Но случалось, она задремывала на уроке, полуоткрыв рот, и тогда он жалел ее, хотелось девушке помочь. Сейчас видно было, что ей весело, и Саша, наверно впервые, услышал ее горловой, негромкий смех — точно вода струилась и разбивалась о камни… Отделанное дешевым кружевом, может быть единственное, нарядное платье и газовый шарфик, накинутый поверх черных волнистых волос, придавали Лене праздничный вид. Бутылка зеленовато-мутного вина стояла на столе. Вино было разлито, стол завален юмористическими журналами. Александр узнал их по ярким краскам — один из них лежал на столе раскрытый.
— Забавляемся, — со смешком сказал спутник Лены, указывая на юмористический журнал.
Он встал и, крепко пожав руку Александру, быстро оглядел его.
В новом знакомом не было на первый взгляд ничего особенного. Александру казалось, что таких русских, приезжавших из провинции юношей он не раз встречал в Петербурге, — широкий в плечах, крепкого сложения, веселый и приветливый. Волнистые волосы выбивались из-под форменной, с молоточками, фуражки, изрядно, однако, выцветшей. На нем была кавказского покроя рубашка, такая же, как и на Александре. Лицо его имело оттенок некоторой воспаленности, той, какая бывает после долгого пребывания под горным солнцем.
Духанщик вынес еще две бутылки мутноватого виноградного вина без пробок и этикеток, — вино капало с волосатых рук его. Потом он поставил тарелки. На одной — красные помидоры, они трескались и истекали соком от спелости; на другой — зеленые и сочные длинные перья лука с белыми корешками, только что выдернутыми из земли, И как только лук был поставлен на стол, слезы выступили на глазах у всех присутствующих, все засмеялись, и сразу стало весело.
Вино было разлито. Лена предложила тост, Александр почувствовал на себе прямой взгляд ее светлых глаз.
— За здоровье нашего драгоценного учителя!
Давид с жаром поддержал ее тост. Все чокались с Александром. Со стороны поглядеть — здесь собралась веселая учащаяся молодежь. Об этом говорили и студенческая фуражка Александра, и фуражка с молоточками Константина. На Давиде не было головного убора, зато его чисто выбритый продолговатый череп, казалось, тоже свидетельствовал о научных склонностях. Привлекательная и жизнерадостная девушка, отвечающая смехом на каждую шутку своих кавалеров. Право, на первый взгляд ничего подозрительного не было в этой компании. Однако, если приглядеться внимательно, чернобровый студент, пожалуй, слишком уж серьезно рассматривал один из номеров «Сатирикона». Рассматривал и говорил что-то. И хотя улыбка не сходила с губ этого крепыша в фуражке с молоточками, он очень внимательно прислушивался к тому, что говорил грузин. Журнал был только раскрыт, его не перелистывали, то, что лежало в нем, ни один посторонний взгляд не видел. Вполголоса, медленно, тихо и внятно читал Александр газету, вложенную в журнал. Это была грузинским шрифтом отпечатанная газета, но Александр, глядя в нее, произносил русские слова.
— А ну-ка, еще раз, — попросил Константин. — То самое место, насчет разделения на большевиков и меньшевиков. Тут, кажется, написано, будто это случайное деление?
— Не случайное… — ответил Александр. — Тут, пожалуй, не так сказано: «…смысла не имеющее разделение…» Вот так будет точнее.
— То есть как это не имеющее смысла? — спросил Константин, и то, что он вынужден был говорить почти шепотом, особенно выразительно передало все страстное негодование, охватившее его. — Да ведь это разделение дает принципиальное содержание всей истории нашей партии: борьба революционных марксистов с оппортунистами — экономистами, меньшевиками, ликвидаторами и отзовистами, — как их там ни называй… — говорил Константин, и молодые люди с серьезными и напряженными лицами слушали его.
В это время какая-то большая компания, веселая и шумная, подошла к духану и расположилась неподалеку. Всё это были довольно уже пожилые люди: загорелые и смуглые лица, усы с проседью, узкие длинные рубахи, коричневые и черные, с твердыми воротниками, и накинутые сверху свободного покроя короткие поддевки. Большие крепкие руки легли на скатерть. Это были простые люди.
— Наши горцы, рачинцы, наверно; они здесь где-нибудь на заработках, — пояснил Давид. — Мы, мингрелы, в том месте сидим, где Рион в море впадает, на самом болоте. Выше нас по Риону — имеретины, у них всего в меру: и воды и солнца; а еще выше — рачинцы, где река Рион начало берет. Там — камень, земли мало, а на ту землю, которая плодородна, помещики давно уже руку свою наложили; вот и ходят рачинцы артелями по всей Грузни — хорошие рабочие руки.
Константин, потягивая вино, слушал Давида и разглядывал соседей, которые с присущей грузинским крестьянам веселой торжественностью на празднованиях рассаживались за столом, уступая друг другу более почетные места. Они заказали вино (им принесли целую четверть) и выбрали тамаду. Константину вспомнились Веселоречье, Южная Осетия и Мохевские селения, по которым они шли…
— Хорошие люди, — тихо сказал он. — Когда смотришь на их честные лица, о такой гадости, — и он пренебрежительно ткнул пальцем в статью, которую ему переводили, — думать не хочется и светлее делается на душе.
Константин веселым взглядом окинул сосредоточенные лица молодых людей, встал со стаканом в руке и сказал:
Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припевы!Громко, весело, ясно читал он, и когда дошел до слов
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума, —все поняли, о какой именно ложной мудрости он говорит, и Давид тут же убрал со стола газету с примиренческой статьей.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!Оказывается, что за соседним столиком Константина тоже слушали. Все со стаканами потянулись к нему, а тонкий, сухой старик, с горбатым, обожженным на солнце, лупящимся носом и прищуренными продолговатыми, весело поблескивающими глазами, подошел, держа в руке стакан, и сказал, обращаясь к Александру:
— Скажи, молодой господин, вашему русскому гостю, что хотя мы по-русски не знаем, но «солнце» мы тоже ожидаем. (Слово «солнце» сказал он по-русски). И мы понимаем, какое это солнце и кого оно спалит и кого обласкает, — что мы знаем, то знаем.
Он с поклоном поднес Константину стакан. Тот, не понимая, о чем речь, но угадывая, приветливо поклонившись, выпил.
Старик в сопровождении Давида вернулся за свой стол.
— А нам, друзья, лучше всего будет сейчас разойтись, — сказал Константин. — Спасибо вам, товарищ Александр, амханаго Сандро, — назвал он его по-грузински и, взяв под руку Лену, пошел вперед.
Александр остался ждать Давида, который расплачивался с духанщиком.
2
Добравшись после встречи с Александром до места сегодняшней своей ночевки, находившегося в самой возвышенной части Нахаловки, Константин вопреки жалобным настояниям хозяина, гостеприимного столяра, звавшего его ночевать в дом, выбрал для ночлега маленький сарайчик, где была устроена небольшая мастерская. Широко открыв дверь, в которую светила полная, спокойная, ласковая луна, он взобрался на верстак и некоторое время, лениво покуривая, глядел вверх, где в щели просвечивало темно-лиловое ночное тифлисское небо. Приятно пахло столярной мастерской: клеем и свежестроганным деревом.
Константин жил в Тифлисе всего лишь десять дней. Но ему казалось, что он провел здесь несколько месяцев — так напряженно все эти дни шла его жизнь. Отправлены были в Краснорецк Науруз и Асад, спустя некоторое время вернулся в Веселоречье Жамбот…
Со времени ночевки у Самсонидзе Константину не пришлось больше бывать у них. Давид и в особенности Лена, которые, видимо, имели поручение помогать Константину, были всегда полны конспиративной бдительности. За это время Константин находил пристанище то в шумном, даже в ночное время, Авлабаре, то в душной подвальной квартире на Песочной, где гнилостно пахло застоявшейся водой, — эта часть города — Рике — каждую весну подвергалась наводнению. И всюду были любопытствующие дворники, полицейские на углах, околоточные и участковые надзиратели. И всюду можно подозревать филерскую слежку. А у Константина не было паспорта — тот, с которым он поехал в Веселоречье, мог его подвести и был уничтожен — и совсем мало было денег.
От своих новых друзей Константин уже знал о том, что Сурен Спандарян, под руководством которого Константин должен был работать на Кавказе, арестован. Еще в начале мая Особое присутствие Тифлисской судебной палаты заслушало дело Сурена Спандаряна и его товарищей, в их числе была и Елена Стасова, избранная на Пражской конференции кандидатом в члены ЦК. Серго Орджоникидзе (на встречу с ним также рассчитывал Константин) арестовали еще ранее и заключили в Шлиссельбургскую крепость. В ссылке был Алеша Джапаридзе. О Степане Шаумяне ни Давид, ни Лена ничего не могли сказать.
Константину, таким образом, не с кем было связаться. Послав шифрованную телеграмму в Петербург, он ожидал ответа в Тифлисе.
Лучшая улица города — Головинский проспект — не уступала Невскому ни в прямоте, ни в стройности и величественной пышности перспективы. Но безмолвные крепости и крикливо-шумные базары напоминали о средневековье и о битвах прошлого. Высящаяся над вокзалом внушительная гора, на которой расположены были скромные домишки Нахаловки, вызывала в памяти пятый год и будто снова предвещала близкие революционные битвы. Контрасты, свойственные большому городу, здесь усиливались контрастами, привносимыми природой, и в те же часы, когда низменная часть города изнывала от тропической жары, ветер снеговых вершин овевал старинные крепости, Давидову гору, Нахаловку.
Новые друзья Константина всячески заботились о нем. Давид сводил его в серные бани и на Майдан, а Илико и Текле торжественно пригласили в грузинский театр, с ними пошла также Лена Саакян. Выбор спектакля определила Текле — «Христине», инсценировка рассказа писателя Эгнате Ниношвили. Текле стала громко вздыхать, едва поднялся занавес. Третий раз смотрела она эту пьесу и знала, что юной Христине ничего хорошего не предстоит; соблазненная полицейским сыщиком, она будет затравлена в родной деревне, тайком убежит в Тифлис и будет там втоптана в грязь. Не успевшей расцвести, суждено ей погибнуть от чахотки в тифлисской больнице…
Играли так хорошо, что Константин почти не нуждался в переводе, — социальная тенденция была выражена резко и остро. Пестрота одежды, легкость движений, мелодичность самих голосов придавали трагическому конфликту пьесы черты поэтичности и делали этот конфликт особенно убедительным. Стонам на сцене отвечали рыдания в зале, в антрактах публика собиралась в кучки, шло горячее обсуждение, споры. Участковый надзиратель в белом кителе стоял у входных дверей. Черноусый, чернобровый, очевидно грузин, он беспокойно вертел головой, — разговоры ему не нравились.
На обратном пути Лена рассказала Константину, что с первых шагов рабочего движения в Грузии возникли театральные кружки русских, армянских, грузинских, азербайджанских рабочих. Одухотворенные желанием помочь народу в борьбе за свои права, молодые актеры, сами в большинстве из рабочих, ставили пьесы в сараях, а то и под открытым небом, случалось, что и по частным квартирам.
Рабочий театр погасал, когда наступала реакция. Но едва вновь поднялось рабочее движение, ожил и рабочий театр. Оказывается, Илико и Текле познакомились когда-то в театре. Текле играла в пьесе Цагарели «Другие нынче времена», тут-то ее и увидел впервые Илико. Кто знает, если бы не начали один за другим рождаться дети, может ей суждено было бы выступить в роли Христине. Так сетовала Текле, возвращаясь из театра, и вдруг остановилась среди улицы и, плавно разведя руками, прочла предсмертный монолог Христине. Час был поздний, улица пуста, луна освещала цветущее круглое лицо Текле, слезы блестели в ее глазах… Илико лохматил волосы и поглядывал на Константина многозначительно и смущенно. Константин от души похвалил Текле и про себя подумал: «Как прекрасно это тяготение к искусству, которое не угасили ни домашние заботы, ни дети, ни нужда».
Право же, с неудобствами жизни, к тому же привычными, можно было примириться, имея таких хороших друзей.
Но когда эти друзья рассказали ему о том, что некоторые члены большевистской организации Закавказья пошли на сговор с меньшевиками и собирались принять участие в проектируемой осенью 1913 года областной конференции ликвидаторов, Константин не на шутку встревожился. «Ведь были же в Тифлисе оставшиеся верными партии товарищи?» — спрашивал он Лену. Она отвечала уклончиво. Первое время она внимательно приглядывалась к нему, и в связи с этой осторожностью его новых друзей Константину все вспоминалась аллегорическая история с приездом неизвестного родственника, рассказанная дядей Чабрецом, которого Константин теперь нигде не встречал. А потом Лена сказала, что товарищу Павлу — «амханаго Павле», как назвала она его по-грузински, — члену Тифлисского комитета партии, известно о прибытии Константина в Тифлис. На вопрос Константина, нельзя ли ему встретиться с ним, Лена уклончиво ответила, что амханаго Павле сейчас нет в Тифлисе.
То, что в трудных условиях, сложившихся в Закавказье, руководители партийного центра принимают некоторые меры предосторожности, было и понятно и похвально. Но ему надоело бездействовать и прятаться, — идет борьба за партию, а он из-за того, что Питер молчит и не дает ему указаний, словно вышел из борьбы…
Сон не шел. Константин соскочил с верстака и при свете луны взглянул на часы. Ему казалось, что прошло полночи, а не прошло и двадцати минут. Со времени прибытия в Тифлис он был в непрерывном нервном напряжении, мало спал и ел, да и зной этого долгого и все не идущего на убыль тифлисского лета мучил его.
Сейчас из открытых дверей тянуло свежестью, и Константин вышел из сарая. Перед ним были погруженные в лунный молчаливый свет горы. Куда ни погляди — всюду голые, мощные горы со скалистыми гребнями и развалинами старых башен, выступающими на некоторых вершинах.
Тифлис был внизу, в котловине, оттуда еще доносился его равномерный гул. Оттуда поднималась жара, а здесь, среди садов и виноградников, расположенных на вершине горы, было, пожалуй, даже прохладно — здесь была сфера ветров.
Константин присел на камень, лежавший среди грядок, и стал медленно свертывать цигарку.
Конечно, такие обстоятельства, как арест Спандаряна и Стасовой, разгром подпольной типографии партии в августе прошлого года и в особенности появление в организации примиренцев и переход их на сторону меньшевиков, — все это сильно дезорганизовало большевистскую работу в Тифлисе. Но работа эта не прекратилась.
От Давида и в особенности от словоохотливого Илико Константин знал, что в эти знойные дни по всем предприятиям Тифлиса шли выборы уполномоченных в больничные кассы.
— И скажи пожалуйста, везде наших выбирают! — сказал Илико, подмигивая, что, конечно, означало, что выборы направляются умелой большевистской рукой.
С начала 1913 года, уже после ареста Спандаряна и Стасовой и суда над ними, был открыт клуб торгово-промышленных служащих города Тифлиса. Лена предупредила Константина, что ему из соображений конспирации лучше в этом клубе не появляться, так как охранка не без основания рассматривает клуб как место приложения сил большевистского подполья.
От Лены же Константин узнал, что под видом посещения лекций и кружков в клубе проводились партийные собрания, велась пропаганда учения Маркса. Тифлисские большевики действовали как могли, а он проводит время в бездействии. Неужели ему нельзя принять участие в борьбе до того, как ему пришлют по всем правилам оформленный мандат из Петербурга?
По понятным причинам ему нельзя пока принять участие в кампании выборов уполномоченных больничных касс или в работе клуба торгово-промышленных служащих. Но вот Давид жаловался на то, что руководство воскресной школы, которую он посещает, ограничивается лишь аполитичной просветительской работой. А что, если сговориться с Давидом, собрать где-либо в укромном месте рабочих, посещающих воскресную школу, и — благо они по своему составу хорошо представляют рабочий Тифлис — внятно и просто рассказать на этом собрании о новой разновидности отступников, обо всех этих нежных душах, жаждущих мира с меньшевиками и стыдливо на брюхе отползающих во время сражения от боевого знамени Ленина в меньшевистское болото?
И Константину вспомнилось:
«Ясно, что спор сводится и здесь вовсе не к организационному вопросу (как строить партию?), а к вопросу о бытии партии, об отколе от партии ликвидаторов, об их окончательном разрыве с ней».
Эти слова из письма в редакцию, напечатанного на страницах «Правды», Константин запомнил почти наизусть. Каждое слово сказано ясно, сильно, твердо. И подписано: В. Ильин.
Итак, господа закавказские примиренцы, вы не понимаете, что спор идет о священном деле сохранения бытия партии? Ну, так мы напомним вам, что по такому же поводу сказал наш учитель более чем десять лет тому назад!
«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в это болото!.. О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте…»
«Да, да, именно так, в меньшевистском болоте ваше настоящее место, господа примиренцы», — думал Константин. И вольный, охлажденный снегом воздух горных вершин овевал его разгоряченное лицо.
3
Медленно проходили дни, жаркие дни нескончаемого тифлисского лета. Все, казалось, было по-прежнему в жизни Саши Елиадзе. После утренней обязательной гимнастики и обливания — безмолвный и печальный завтрак в обществе матери, иногда вдруг начинающей плакать. Глядишь, и Натела, склонив голову, уронила слезу — одну, другую, третью, и Кетевана взвыла в голос, и засморкался Гиго. И всех надо утешить.
Потом надо идти на урок к Саникидзе. Некрасивая, долгоносая девочка, видно, уже не ждет от жизни ничего хорошего и потому рассеянна во время уроков, и похоже, что она только что плакала. Иногда на урок являлся сам папаша, хозяин фирмы Акакий Соломонович Саникидзе, довольный собой и всем, что ему принадлежит. В числе прочего он доволен и молодым репетитором и снисходительно ласков, как к сыну своего друга, хотя Саша отлично помнил, что отец его подсмеивался над «Акакием Великолепным», как он называл господина Саникидзе. Да и как не подсмеиваться! Акакий Соломонович совсем недавно поразил на всю жизнь Александра тем, что, дружески обняв его за плечи, вывел на балкон и сказал, указывая на бело-голубой, как бы тающий в воздухе гигантский зуб, выглядывающий из-за бурых хребтов:
— Вот из-за того самого Эльбруса я и купил у княгини Дадиани этот дом за восемьдесят пять тысяч — не стал торговаться из-за десяти тысяч. — И коммерсант, распространяя запах фиксатуара и чеснока, горделиво показывал на гору. Это был, конечно, не Эльбрус, а Казбек, и надо было, всю жизнь проведя в Тифлисе, буквально не поднимать головы от конторских книг, чтобы позволить хотя и разорившейся, но надменной княгине Дадиани посмеяться над ним, «Акакием Великолепным», и «подсунуть» ему вместо одной горы — другую.
Саша от матери знал, что папаша Саникидзе склонен взять на службу «сына своего друга» и обещает неплохое жалованье — восемьдесят рублей в месяц. Он догадывался, что подобное благоволение связано с какими-то матримониальными планами в отношении его ученицы, бедняжки Русудан, и потому, наверно, уроки для них обоих приобретали характер особенно принужденный.
Окончив урок, Саша медленно возвращался домой через Головинский проспект, который в это время, около двух часов дня, наполнялся гуляющей публикой. Раскланиваться с одними и теми же девицами и дамами, обмениваться одними и теми же шутками и новостями с молодыми людьми — как это надоело: и ты всех знаешь с детства, и все тебя знают! Все осточертело! В Петербург, в Петербург! В Публичную библиотеку, к книжным новинкам и к старым рукописям! Но нет, о Петербурге даже думать нельзя: невозможно взять с собой мать, сестер и брата, нет средств жить в Петербурге. Здесь же оставить одних — не позволяет честь, совесть, любовь…
После знакомства с Константином Саша с особенным волнением ждал ближайшего воскресенья, когда он под вечер отправится в Навтлуг — преподавать в воскресной школе русский язык молодым рабочим. Как с ним держаться будет Давид? И Лена? Оказывается, она не всегда такая строгая, какой кажется на уроках в школе, может и вина выпить, и смех у нее такой приятный. Но больше всего интересовало Сашу, увидит ли он Константина в воскресной школе. Ему казалось, что Константин непременно придет в воскресную школу. И вместе-то провели не больше двух часов, а вот не выходит из головы этот неведомо откуда взявшийся и ни на кого не похожий человек.
О том, что есть социал-демократы большевики и есть социал-демократы меньшевики, Александр знал еще до поступления в Петербургский университет. В Петербурге, в грузинском землячестве, он присутствовал один раз на реферате, где подробно было рассказано о различиях между этими двумя враждебными направлениями в рабочем движении. После реферата (делал его меньшевик) были ожесточенные споры. Александр разницу между этими двумя направлениями усвоил и мог бы даже изложить ее, но к самому предмету спора остался равнодушен. Ему даже в голову не пришло решить для себя, кому он больше сочувствует — большевикам или меньшевикам. Состав грузинского посольства, прибывшего в Москву при Иване Васильевиче Грозном (эти данные он обнаружил среди старых грузинских рукописей в Публичной библиотеке), интересовал его в то время гораздо больше.
Страстное отношение Константина к спорам в партии его удивило и восхитило. Да и разве можно относиться равнодушно к этим разногласиям, если даже самое умаление глубины их представляется Константину преступлением? И Саша по-новому вспоминал спор в землячестве. Да ведь спорили-то о том, какой будет русская революция! Речь шла о судьбе русского государства, а значит и о судьбе грузинского народа. Александр считал себя сочувствующим революционерам, всем революционерам вообще. Но после встречи с Константином это «вообще» уже представлялось наивным. Нет, теперь Саша знал: он сочувствует таким людям, как Константин. Но ему хотелось, чтобы с ним поговорили, убедили его… Он с нетерпением ждал воскресенья. Дождался, отправился в Навтлуг, — и все шло так, точно не было встречи в духане на Давидовой горе. Та же внимательная тишина в классе, и Лена смотрит, как обычно, холодно и спокойно, черные брови вопросительно приподняты, и Давид, вызванный к доске, делает свою обычную ошибку, путая дательный и творительный падежи… О Константине ни слова, ни намека, точно и не было его. «Что ж, — с досадой подумал Александр, — и я тоже не буду о нем спрашивать… Да и все понятно без всяких вопросов. Какое дело революционерам до какого-то недоучившегося студентика Саши? И что он есть, этот Саша? Возьмет и пойдет служить к Саникидзе приказчиком, а потом женится на Русудан и станет еще главою фирмы. А то можно поступить в Закавказское управление земледелия и землеустройства на жалованье сорок восемь рублей в месяц — надеть фуражку с кокардой! Или чего доброго исполнить просьбу матери, отправиться в Питер и разыскать своего крестного отца Александра Федоровича Розанова. Крестный отец — это не только у грузин, это и у русских кое-что значит. Для того чтобы жить как все, есть множество дорог, и все они перед тобой. Какая другая дорога грезится тебе?..»
Так лениво и зло думал Александр, когда через день после воскресной школы, то есть во вторник, около часу, шел по Головинскому проспекту. Он глядел на быстро сменяющиеся, освещенные ярким солнцем, большей частью знакомые ему лица и не видел их. Александр почти вслух назло себе бормотал эти обидные для себя речи и вдруг почувствовал, что кто-то идет рядом с ним. Он вздрогнул: с ним рядом в своей выцветшей технической фуражке с молоточками шел тот самый человек, с которым Александр мысленно разговаривал столько раз то преданно, то обиженно, — это был Константин. И когда пораженный и обрадованный Саша хотел остановиться посреди тротуара, Константин взял его под руку и легонько подтолкнул вперед.
— Очень рад, что встретил вас, Александр Елизбарович, — я не переврал ваше отчество? Через два часа мне нужно быть в Ботаническом саду, а как туда пройти, не совсем представляю. А спрашивать у незнакомых не хочется.
— Я с охотой провожу вас, — сказал Александр.
Некоторое время Константин, держа под руку Сашу, молчал, словно раздумывал о чем-то. Потом сказал:
— Толчея увеличивает жару… Может, сойдем в этот садик? — и кивнул на пышную, по-летнему темную зелень Александровского сада, примыкающего к Головинскому проспекту. Там было тенисто и прохладно.
Они спустились несколько ниже и сели на никем не занятую скамейку.
Откуда-то снизу доносились музыка, смех, какие-то возгласы. Саша сказал прерывающимся от волнения голосом:
— До нашей встречи в духане я думал так: стремление к тому, чтобы люди во всем соглашались друг с другом, всегда похвально. Оказывается, нет, не всегда…
— Нет, не всегда, — серьезно ответил Константин.
Некоторое время он молчал, потом спросил:
— Вам хотелось бы по-настоящему разобраться в этом вопросе?
— Да, да! — горячо ответил Саша.
Константин посмотрел своим особенным, быстрым, как бы взвешивающим, требовательным и ласковым взглядом на Сашу и сказал:
— Сегодня в Ботаническом саду состоится сходка, там пойдет разговор о том, что вас интересует. Хотите пойти со мной?
Саша кивнул головой.
— Очень хочется, — ответил он. — Давид там тоже будет?
— Он-то обязательно будет! Вообще вы там встретите многих ваших учеников.
— А почему они вас поставили в такое положение, что вам самому надо искать дорогу в Ботанический сад?
Константин засмеялся — в Сашином голосе слышен был упрек, забавный и строгий, — и ответил:
— В этом никто не виноват. Мы заранее обо всем условились, и Лена Саакян, которую вы знаете, должна была сегодня встретить меня у ворот Кукийского кладбища, там поблизости я ночевал. Это место мы считали одним из наиболее безопасных. Но вчера в час ночи на квартиру, где я ночевал, нагрянули с обыском. Я едва успел выскочить в окно.
— А где вы провели все это время? — спросил Александр.
— Гулял, — со смешком ответил Константин. — Вышел на шоссе и потом все вверх, все выше. Видел, как солнце всходит над Тифлисом и город, похоже, улыбается всеми своими стенами и кровлями. И представьте, кого я встретил на шоссе! Тех самых рачинцев, с которыми мы обменивались тостами в духане. Там они чинят шоссе. И обрадовались мне, как будто я сошел с неба. Угостили завтраком — сыром, луком и лепешками — да еще поднесли чарочку своего деревенского вина. Кое-что рассказали о своем житье-бытье. Они хизаны, — вам знакомо это слово?
— Слово грузинское, но смысл его не совсем понятен мне: нашедшие кров, приютившиеся…
Константин поглядел на Александра, покачал головой, вздохнул… Это было явное осуждение, и Александр покраснел.
Он хотел что-то сказать Константину, может быть возразить. Но тут вдруг увидел сестру свою Нателу, которая, задумавшись, шла откуда-то снизу.
— Одну минуту… — сказал Александр и подошел к ней. — Почему ты здесь? — резко спросил он ее.
Ласковое приветствие застыло на ее губах, кровь прихлынула к смуглым щекам.
— А что я сделала, что ты так грубо со мной говоришь?
— И ты меня еще упрекаешь в грубости? А почему ты покраснела? Зачем ты здесь, в саду?
— Саша, не нужно так кричать, ведь на нас внимание обращают… Разве ты не знаешь, где живут Беришвили? Я была у Марико. От них через сад прямая дорога.
— Марико… — еще сердито, но несколько успокаиваясь, сказал Александр. — Марико… — заговорил он уже смущенно и посмотрел на Константина, который, видимо, был поглощен газетой, хотя, конечно, не мог не слышать этого разговора.
Александр вдруг подумал, что встреча его с сестрой сейчас оказалась кстати.
— Натела, ты не сердись, — сказал он ласково. — По своей чистоте и невинности ты даже и представить себе не можешь, какие опасности поджидают тебя здесь. Помнишь наш разговор о красных башмачках?
Натела еще сильнее смутилась и кивнула головой.
— Если помнишь, значит поймешь меня и не будешь сердиться. И у меня к тебе есть еще просьба. Я, может быть, вернусь сегодня поздно, поэтому разыщи ключ от двери, которая ведет в сад, и открой эту дверь. Я не хочу вас будить.
— Разве мне трудно проснуться и впустить тебя, Сандро?
— Делай, как я говорю, — хмурясь, сказал Александр.
Она послушно кивнула головой и ушла. Глядя вслед, Саша невольно залюбовался легкой походкой Нателы, и тут же снова подумалось, что красота может ввергнуть ее в беду… И он опять нахмурился.
— Сегодня со мной вместе или, если вам это неудобно, одни вы можете в любое время прийти к нам и переночевать у нас дома, — сказал Александр, возвращаясь к Константину. — Я предупредил сестру свою, чтобы она оставила открытой дверь, которая ведет в наш сад, туда можно попасть через переулок.
— И вы сказали ей, что именно я приду к вам ночевать?
— Нет, я ничего такого ей не сказал, — медленно ответил Александр.
— Вы умница, Саша. Только должен вас предупредить, что со мной нужно быть осторожным: я могу принести опасность вашему дому, если вы…
— Об этом больше говорить мы не будем! — резко сказал Александр. — Дом у нас грузинский, и обычай гостеприимства для нас священная обязанность и большая радость. Дома я скажу, что вы мой приятель по Петербургу. А вы мне можете ничего не рассказывать и не объяснять. Не время ли нам идти в Ботанический сад?
Константин продолжал прерванный появлением Сашиной сестры разговор о хизанах.
— Насколько я мог понять моих собеседников, — говорил Константин, — это самое хизанство является таким страшным пережитком крепостного права, какого, пожалуй, даже и у нас, в Центральной России, не встретишь. А мне как раз пришлось не так давно ознакомиться с этого рода пережитками на Северном Кавказе, по, пожалуй, в более архаической, феодальной форме… Вопрос в высшей степени интересный.
— «Хизаны»… Я вспомнил, конечно я слышал это слово! — воскликнул Александр так громко, что Константин даже дернул его за руку.
— Да, три года тому назад, — снизив голос, продолжал Александр, — и у нас дома… У моего отца был друг… то есть он и до сих пор здравствует, а моего отца нет в живых, — со вздохом поправил себя Александр. — Это давний приятель отца, он служит в управлении земледелия и землеустройства. Так он как-то занимался этим вопросом, должен был писать какую-то докладную записку. И отец еще смеялся и говорил ему: «Ты, Михако, хочешь сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, я же, как историк, скажу тебе, что этого не бывает».
— Ваш отец был умный и честный человек, если он так думал и так поступал.
Александр молча кивнул головой. Эта похвала с особой силой вызвала боль недавней утраты.
— А вы могли бы у этого приятеля вашего отца достать материалы о хизанах? — спросил Константин. — Понятно, не упоминая обо мне, для себя как будто бы.
— Мне это нетрудно, — быстро ответил Александр. — Возможно, я не смогу принести их домой. Но, во всяком случае, дядя Михаил знает, что я юрист. Я скажу, что меня интересует правовая сторона этого вопроса, и он позволит мне с ними ознакомиться. А я вам все расскажу.
— А вы юрист?
— В этом году перешел на юридический, но год проучился на историко-филологическом.
— А что, юридический открывает большие возможности? — спросил Константин.
Лицо Александра вспыхнуло, он почувствовал себя оскорбленным.
— Переходя на юридический, я не руководствовался соображениями материального характера, — сердито сказал Саша. — Скорее наоборот, на историко-филологический я подавал бумаги, так сказать, по семейной традиции. Мама до сих пор сокрушается по поводу того, что я перешел на юридический, и сопровождает это сентенциями вроде: «Сыну подобает идти по дорожке отца».
— Ну, а почему вы все-таки не пошли по дорожке отца? — спросил со смешком Константин.
— Очень уж далеко от жизни, — ответил Саша. — Я стал в качестве вольнослушателя посещать лекции по политической экономии.
— А что именно заинтересовало вас в политической экономии?
— Политическая экономия — это сама жизнь, — горячо заговорил Саша. — Это живые, жизненные интересы людей. Человек, который не знает политической экономии, смотрит на жизнь все равно как неграмотный. Да, точно, политическая экономия — это грамота современного общества.
— Смотря какая политическая экономия, — сказал Константин. — Вы «Капитал» читали? А «Развитие капитализма в России»? Тоже нет? А кто у вас читает в университете политическую экономию?
Так разговаривая, добрались они до Ботанического сада. Константин с любопытством оглядел пестро раскрашенный желтым и красным автомобиль, стоявший у входа.
— Хороша штучка… — Константин даже грустно вздохнул. — Только раскраска попугайская.
— И хозяин такой же попугайской окраски, — сказал Александр. — Леон Манташев.
— Нефтепромышленник?
— Да, это он, мерзавец и развратитель! — гневно ответил Александр. — Я при вас сделал выговор сестре, чтобы она не смела показываться в Александровском саду и на Головинском. А почему? Потому, что она стала красавицей и ее нельзя не заметить. Разве нет? И я знаю, что если она попадется на глаза этому мерзавцу Леончику, он погубит ее! Если ему не удастся одурачить, он украдет и… добьется своего и потом еще пришлет красные башмачки, мерзавец. Вот потому-то я и не могу уехать в Петербург! Я не имею морального права оставлять их здесь без защиты.
— Какие красные башмачки? — спросил Константин, с сочувственным любопытством разглядывая разгоряченное, с запекшимися губами лицо юноши.
Константину нравился Александр, что-то симпатичное и забавное было в его гневной выходке.
— А такие башмачки, которые Манташев дарит каждой своей любовнице. И представьте себе, наша Натела, светоч нашего дома, — ее имя означает свет, все равно что русское Светлана, — на днях с милой улыбкой приносит домой, эти дьявольские красные башмачки… Я чуть не убил ее! Оказывается, ей понравились эти башмачки в магазине, и она купила их.
Ведя этот разговор, поднялись они на верхние аллеи сада. Здесь скалистые склоны покрыты были, словно чудесной тканью, сплошною синей завесой глициний. Над ними кактусы поднимали свои колючие головы и высились во всем великолепии своего причудливого уродства…
Но Константин и Александр все ускоряли шаг, они торопились и не заметили того Леона Манташева, о котором Константин расспрашивал Сашу.
На садовой скамье, что стояла на лужайке, откуда видны были окружающие Тифлис голые горы, сидел Леон Манташев. С ним был Рувим Абрамович Гинцбург. В коричневом с веселой крапинкой костюме жокейского покроя, оранжевом в черную полоску галстуке, ярком желтоватом и тоже жокейского фасона кепи с большим козырьком (кепи он держал в руках) Манташев похож был на циркового наездника. Прямой пробор надвое делил его черные волосы, спереди сильно поредевшие и разложенные на кокетливые завитки.
Настороженное внимание было на изрядно поношенном носатом, бровастом лице Манташева с такими синими подглазницами под выпуклыми глазами, что казалось, будто они подведены.
Матовое, чисто выбритое лицо Гинцбурга сохраняло обычное сонно-надменное выражение.
— Что ж, — говорил он медлительно, — если вам этого хочется, я открою карты. Участия в нашем деле Каспийско-Черноморского товарищества мы уже добились — и это наш главный успех. Вы понимаете, конечно, что это определяет позицию ряда других фирм.
— Все эти «соучастники», «Урало-Каспийское товарищество», «Кавказское нефтепромышленное товарищество» — все это мелочь, мелочь… — пренебрежительно проскрипел Манташев.
— А Шибаев? — с усмешкой спросил Гинцбург.
— Что Шибаев?
— С Шибаевым переговоры уже почти закончены.
— Но Шибаев и Ротшильд вместе? — и Манташев усмехнулся. — Вам, наверно, неизвестно, уважаемый Рувим Абрамович, что Шибаев выступил на съезде Союза русского народа с погромной речью о еврейском и армянском засилии в нефтяном деле и прямо назвал Ротшильда и меня.
— Это политика, — спокойно возразил Гинцбург. — У главы фирмы «Шибаев и сыновья» есть определенные политические воззрения. Лично нам они могут быть неприятны, но мы с вами — серьезные люди, и для нас финансовая сторона дела важнее всего. Со времени соглашения, подписанного Шибаевыми в Англии, я убежден, что Шибаевы пойдут за сэром Генри Детердингом, то есть за «Роял Деч Шелл», которое я имею честь представлять… «Шибаев и сыновья» — это они в России так называются — всего лишь русская вывеска с двуглавым орлом. В Сити они именуются «Тэ Шибаефф Петролеум компани Лимитед»… И если сэру Генри Детердингу нужно, чтобы Ротшильд и Шибаев вступили в соглашение, они вступят в соглашение.
— Значит, дело, выходит, только за нами? — тихо спросил Манташев.
— Конечно, — ответил Гинцбург.
Некоторое время оба собеседника молчали. Манташев сквозь зубы насвистывал какой-то шантанный мотивчик.
— Неужели тысяча девятьсот седьмой год, когда вы в результате поражения, нанесенного Немецкому банку, оказались изолированными в финансовом мире, не научил вас тому, что время существования независимых фирм прошло? — спросил Гинцбург.
Манташев пожал плечами.
— Мы входим наряду с другими бакинскими фирмами в Европейский нефтяной союз, — тихо напомнил он.
— Европейский нефтяной союз — это слишком широко и неопределенно, — неторопливо возразил Гинцбург. — Через год или через пять лет, но столкновение великих держав, как вы со мной согласились, неизбежно. Вторая балканская война обнаружила, что Румыния находится под сильным влиянием Германии. Если начнется большая европейская война, немцы должны наложить руку на румынскую нефть. Единственное место, которое может в таком случае стать на Черном море стоянкой великобританского флота, это Батум. Но англичанам, понятно, нужны оба конца нефтепровода — и черноморский и каспийский. И немцам, на которых вы тайно уповаете, мосье Леон, потому в Баку не бывать.
— Пока и Батум и Баку находятся в пределах Российской империи, — сказал Манташев, вставая с места.
— Эта империя не вынесет столкновения с любой европейской державой…
Нефтепромышленник засмеялся и ответил:
— Если Романовы полетят, Манташевым не удержаться.
…Когда Константин и Александр торопливо подошли к большому водопаду, одному из самых оживленных мест сада, здесь уже было малолюдно, даже фотограф, обычно дремавший на одной из скамеек возле высящегося на треножнике аппарата, собирал свои доспехи. Давид вышел им навстречу из-за деревьев…
— Слава аллаху, вы! — сказал он, крепко пожимая руку Константину. — Здравствуйте, Саша, — сказал он по-грузински. — Значит, к нам? Сейчас мы пойдем.
Он ушел в кусты, где скрывался другой дозорный: при появлении полиции или шпионов этот дозорный обязан был подать сигнал. К месту, где происходила летучка, пройти можно было только отсюда. Давид вернулся, и они двинулись.
— Вы знаете, что меня чуть не поймали? — спросил Константин.
— С утра знаю, хозяин вашей квартиры сумел известить Лену. Мы очень беспокоились, думали, что они все-таки поймали вас.
Довольный тем, что с Константином все благополучно, Давид был весел. Константин отвечал то улыбкой, то смешком на смех и шутки Давида.
Но Александр, взглядывая на его серьезное лицо, понимал, что Константин озабочен своими мыслями. И верно, спускаясь вниз по узкой тропинке между кустарниками, Константин собирал все силы своей души для предстоящего выступления.
Поворот, еще поворот, лужайка, и среди низкорослых, усыпанных красными ягодами кустарников — камни, словно самой природой предназначенные для того, чтобы на них сидели люди.
Александр узнавал своих учеников. Лена Саакян с явно выраженным недоумением подняла на него свои светлые, с темными зрачками глаза, кивнула ему и спросила о чем-то Константина. «Обо мне», — подумал Александр. Другие ученики воскресной школы тоже входили и здоровались с Александром обрадованно и с оттенком удивления. Здесь были также и люди, незнакомые Саше, по всему своему облику рабочие разных национальностей.
Александр отошел и сел на камень.
Заговорил Давид. Он говорил по-русски, раздельно и твердо, и Александр, по привычке следя за грамматическим строем его речи, сначала упускал смысл ее. Но вот голос Давида гневно дрогнул, и Александр забыл о грамматике.
— Они хотели воспользоваться тем, что руководящих товарищей выхватили из наших рядов жандармы. И, выдавая себя за руководителей Тифлисской партийной организации, стали с меньшевиками… то есть к меньшевикам ластиться. Запах меньшевизма, — разве мы сами в нашей школе его не чувствуем, а? Они хотят превратить нас, сознательных рабочих, в школьников. Грамматику и арифметику учить — дело полезное, но для этого одного школу можно бы и не открывать. Совесть у них нечиста, потому они скрывают от нас свой отход от учения Ленина, — стыдно им правду о себе сказать! — Давид, зная, что возвысить голос нельзя, поднял палец. — Но мы не школьники, мы сознательные рабочие! — повторил он. — Сейчас к нам в Тифлис приехал один старший товарищ, — и он указал на Константина, — он расскажет нам о положении в стране, о задачах партии и о том, что скрывают от нас наши премудрые примиренцы.
Произнося последние слова, Давид глядел в сторону, где показалась крупная фигура.
— Уста Мамед? — изумленно спросил Давид. Прерывая русскую речь и переходя на азербайджанский, он обратился к Мамеду: — Когда вы прибыли в Тифлис?
— Только что, сын друга моего. Хотел зайти к вам домой, но счастливые звезды над моей головой! Встретил я вашу мать у колодца, и она сказала, что отца вашего взяли насильники.
Они говорили по-азербайджански, но Александр еще в детстве выучился этому легкому и красивому языку, играя с детьми дворника азербайджанца.
— Друзья, — сказал по-русски Давид, — вот наш товарищ из Баку. Если наш старший товарищ простит нас… мы раньше дадим слово бакинцу.
Константин отошел в сторону, ему самому интересно было послушать бакинца.
Уста Мамед вышел вперед, — теперь всем видно было его широкое лицо, доброе и решительное. Он заговорил по-русски. Он благодарил за деньги, присланные из Тифлиса в стачечный фонд, и, скрепив в рукопожатии две свои большие руки, изобразил дружбу и братство рабочих Тифлиса и Баку. Он сказал, что в бакинской стачке участвуют десятки тысяч.
— Но мешает нам меньшевик. «Не нужна общая большая стачка, нужно много маленьких, так большую массу охватим», — говорит меньшевик. И когда мы спорим с ним, отстаивая наши главные лозунги, он говорит: «Разве мы против демократической республики? Так же, как вы, хотим демократическую республику! Но масса рабочих до этого не доросла. Одним требуется прибавка к заработной плате, и больше им ничего не нужно, другим — только дай фартуки и рукавицы, чтобы свою одежду на работе не изнашивать. Потому, — говорит меньшевик, — пусть каждое предприятие требует своего». Одни будут требовать демократическую республику и постройку новых поселков для рабочих, а другим, кроме новых фартуков и рукавиц да еще кадетского министерства, ничего не нужно. — Переждав смех и аплодисменты, Уста Мамед выпрямился во весь свой рост и, точно весь став крупнее, сказал: — А наше слово такое — слово большевиков! Мы говорим: рабочий класс — сила, когда он весь вот так, — поднял он над собранием большой свой кулак. — Рабочий класс — умный. И если брат твой дальше новых рукавиц и фартуков не видит, раскрой ему глаза на великие цели рабочего класса. Стачка — паровоз! Летит вперед к всеобщему вооруженному восстанию! — сверкнув глазами, сказал Мамед и с удовольствием засмеялся рокочущим, мягким, выражающим доброту и силу смехом. — И наше большевистское слово — куда только оно залетит, там люди соединяются в такой вот кулак. Но где только большевик голос подает, туда тянется рука в золотом рукаве и собирает нас в свой зимбиль [2].
При последних словах он, пригнувшись, сделал жест рукой, как женщина, что-то собирающая с земли, — тихий смех прошел среди собравшихся.
Он не очень правильно говорил по-русски, но все было понятно и как будто даже видно, как и сам он был весь виден и понятен в своей силе и доброте.
За весь сегодняшний день, необозримо долгий, начиная с рассвета на Каджорском шоссе и кончая теми минутами, когда Давид произносил вступительную речь, Константин не переставал готовить себя к предстоящему выступлению. Ему хотелось как бы сверху единым взглядом охватить борьбу двух направлений в русской социал-демократии, приведшую сейчас фактически к созданию двух резко враждебных партий.
Пражская конференция, объединившая все истинно партийные элементы, и августовский блок, собравший все оттенки и оттеночки оппортунизма, объединенные ненавистью к учению Ленина, — вот эти две партии… Нарисовать эту картину и высмеять, облить презрением тех именующих себя большевиками примиренцев, которые утверждают, что разделение на большевиков и меньшевиков бессмысленно.
С таким планом выступления шел сюда Константин. Но, слушая Мамеда, Константин вдруг почувствовал, что никак нельзя сейчас обойти речь бакинца — надо было продолжить ее!
Константин это время ловил все скупые и недоброжелательные сообщения «О стачках в Баку», появлявшиеся в буржуазных газетах, каждую весточку, из уст в уста доходившую до него из Баку. Он хорошо представлял себе обстановку в Баку. Но то, что просто и ясно рассказал сейчас Мамед — о разногласиях между большевиками и меньшевиками во время самой стачки, — подчеркнуло мысль о непримиримости этих разногласий. И Константин начал свое выступление с вопроса:
— К чему привели бы меньшевики, если бы наши товарищи в Баку им не давали отпора? — И сам ответил на этот вопрос: — В результате они единую большую забастовку раздробили бы на множество маленьких. Меньшевики хотят ослабить значение единого центра, руководящего забастовкой, и снять потихоньку общие революционные лозунги борьбы за свержение самодержавия, за осуществление демократических свобод. Чтобы понять это новое преступление меньшевиков против рабочего класса, мы должны рассмотреть бакинскую стачку в связи с происходящими в стране событиями. Надо вспомнить, что за прошлый, двенадцатый год стачечное движение усилилось по всей России в восемь раз. В первых числах июля этого года в Петербурге бастовало шестьдесят тысяч наших товарищей, и стачечное движение продолжает расти из месяца в месяц, если даже судить по данным буржуазной прессы.
А в одном из недавних июльских номеров «Правды» в передовой статье было сказано о том, что «совпадение невозможности для «верхов» вести государственные дела по-старому и обостренного нежелания «низов» мириться с таким ведением как раз и составляет то, что называется политическим кризисом в общенациональном масштабе».
Константин умолк и обвел глазами слушающих. Было так тихо, что стал слышен мерный шум водопада, а потом где-то далеко — звонок трамвая. Люди затаив дыхание ждали, что он скажет, — в большинстве своем смуглолицые, большеглазые люди, — и Константин точно впервые заметил неподвижные огромные веера пальмовых листьев, раскинувшиеся на янтарно-желтом закатном небе. Он и до этого говорил не очень громко, но в наступившей тишине невольно еще снизил голос.
Право, не нужно быть догадливым, чтобы вместо слов «политический кризис в общенациональном масштабе», продиктованных царской цензурой, подставить точные слова. — Он помолчал и медленным взглядом обвел людей. — Народная революция… Ее мощный голос мы слышим в этой статье, и только орлиному взгляду Ленина под силу так широко охватить все происходящее! — воскликнул он.
Сходка тут же аплодисментами откликнулась на его слова. Даже Давид не удержался и хлопнул в ладони несколько раз, но тут же поднял ладонь и произнес протяжное: «Ш-ш-ш-ш!»
И перед лицом этой близкой революции, — в наступившей тишине негромко и размеренно продолжал Константин, — неразрешимы стали разногласия между нами и меньшевиками. Перед нами две партии: партия революционного пролетариата, идущая под знаменем Ленина, берущая курс на развязывание народных сил, на революцию, и другая — ликвидаторская партия, которая от социализма отказалась и превратилась в довесок к либеральной буржуазии. И какую темную роль в этих условиях нарастающей революции избрали себе такие именующие себя большевиками деятели, которые вместо открытой и острой постановки всех спорных вопросов идут на сговор с меньшевиками!..
— Разрешите одну реплику, уважаемый товарищ докладчик! — раздался полный привычной уверенности голос.
Человек в светлом пальто, с округло остриженной холеной бородкой вышел вперед и встал рядом с Константином.
— Вы процитировали статью из «Правды», и я думаю, что выражу мнение поголовно всех наших тифлисских товарищей, если скажу, что вопрос о близости революции для нас бесспорен. Вопрос же о соглашении с товарищами меньшевиками у нас в Закавказье вопрос не программный, а тактический.
— Это Мамия Гамрекели, — шепнул Константину Давид. — Один из самых главных наших примиренцев, такой оратор… — И Давид даже покрутил своей гладко обритой головой.
Слово «оратор», которому Давид придал оттенок особой внушительности, подходило к Гамрекели. Он говорил плавно, литературно и даже без излишней книжности, присущей подобным интеллигентам. Но в потоке его гладких слов так и утонули доказательства необходимости примириться с меньшевиками. Константин терпеливо дождался конца его речи и начал так:
— Основное событие текущего дня в Закавказье — это нарастание революционной мощи бакинского рабочего класса, части того общего революционного подъема, на который указывает ленинская «Правда». Если вы согласны с этим определением текущего момента, которое я привел, вы должны признать, что именно по отношению к бакинской стачке все выступления, в которых стирается грань между большевиками и меньшевиками, носят дезертирский характер…
— Просил бы выбирать выражения! — вдруг побагровев, крикнул Гамрекели. — Приехав в Тифлис, вы должны были явиться ко мне.
Товарищ Константин в первый же день встретился с двумя членами Тифлисского комитета… — сказала внушительно Лена.
— Товарищ Ленин нас учил… — продолжал Гамрекели.
— Молчи про Ленина ты, слепота куриная! — басовито сказал кто-то из темноты.
Константин уже раньше заметил того с толстыми белыми усами полного человека, который по-русски, но с сильным грузинским акцентом сказал эти вызвавшие общий смех слова. Давид тоже засмеялся, но тут же, нахмуря брови, призвал к порядку.
Константин говорил спокойно и настойчиво:
— Эту стачку, огромным заревом пылающую на политическом небосклоне Закавказья, нужно рассматривать как одну из первых вспышек приближающейся народной революции. И если только вслед за бакинскими рабочими поднимутся крестьяне в грузинских, армянских и азербайджанских деревнях, Закавказье станет одним из очагов великой русской революции.
Так говорил Константин, и каждое слово его было весомо и призывало к ответственности слушающих людей. Александр знал, что этим людям жилось тяжело, но — чудесное дело! — они с восторгом глядели на Константина, словно говорили: «Да, я беру на себя это дело, беру с охотой и даже с радостью», — и Александр испытывал это же гордое чувство.
И когда Константин кончил, Саша, облизывая запекшиеся губы, подошел к нему.
— Константин Матвеевич, — сказал он, — помогите мне, я теперь все уже понимаю. Я хочу быть вместе с вами.
Константин крепко пожал ему руку.
4
Прошло несколько дней. Саша за письменным столом просматривал перед уроком тетради своей ученицы. Вдруг послышался веселый голос Константина где-то в доме, на парадной лестнице. Саша дал свой адрес Константину и просил его приходить в любое время, но, конечно, не ожидал, что Константин рискнет прийти посреди дня, да еще с парадного.
На звонок выбежала Кето, она съехала вниз по перилам. Константин, смеясь, посоветовал ей поступить в цирк.
Саша вышел навстречу гостю. Константин был в костюме из тонкой чесучи. Из-под новой форменной фуражки, с орлом, выбивались темно-русые пряди волос.
Здороваясь, он развел руками и повернулся кругом, спрашивая:
— Ну, как находите? Хорош? Здорово, а? Молодой чиновник управления уделов из Петербурга, Константин Матвеевич Борецкий, дворянин, холост, завидный жених, ищет комнату. Таков теперь мой паспорт, — смеясь, произнес он, вместе с Сашей пройдя в его комнату.
— Вам нужна комната? — спросил Саша.
— Да. И с таким расчетом, чтобы имела два хода: один — явный, а другой — известный только мне одному. Хозяин или хозяйка желательны слепые, глухонемые или вроде этого…
— У меня есть глухой дядя, — ответил Саша, — а у него есть комната.
— Вы шутите! — воскликнул Константин.
— Это, видно, вы шутите, а я говорю серьезно, — ответил Саша. — Дядя Гиго, точнее сказать, мамин дядя. Живет на пенсии и помешан на нумизматике. Правда, он квартирантов к себе пока не пускал. Но по рекомендации мамы он, пожалуй, сдаст вам комнату. Сейчас, за обедом, заведем об этом разговор. Вы — мой товарищ из Петербурга.
При жизни отца обед в семье Елиадзе был самым радостным событием дня. Теперь он стал едва ли не самым печальным часом — и прежде всего потому, что прибор отца по-прежнему стоял на столе, словно отец вот-вот войдет в комнату и сядет за стол, разговорчивый, неизменно веселый: каждому члену семьи — шутка, для каждого — ласковый поцелуй. Его небольшая черная, красиво подстриженная борода всегда пахла духами, румяные губы — вином, и большие глаза как будто искрились той же виноградной влагой.
Нет, не выйдет к столу Елизбар Михайлович. Салфетка его обвязана черной лентой, мать сидит ссутулившись, как будто нарочно некрасиво намотав на шею темную косынку, Возьмет ложку, поднесет ко рту и снова опустит в тарелку. Еда не идет, как ни старается Натела уговорить ее, — горе матери превратило шестнадцатилетнюю Нателу в хозяйку дома. Потом уж Саша, в тоне нежного упрека, попросит мать, — и она, благодарно взглянув на детей, возьмет в рот две-три ложки… Гиго, самый младший (в этом году он пошел в гимназию), тоже молчит, задумывается, плохо ест. Только двенадцатилетняя Кетевана то болтает ногами, то с шумом втягивает в себя суп.
— Кетевана, не тряси стол… Кето, неприлично так чавкать! — то и дело обращается к ней старшая сестра. А не будь за столом Кетеваны, ее сияющих непобедимым весельем отцовских глаз, обед походил бы на поминки.
Сегодня за обеденным столом исчезло это зловещее пустое место. Натела, накрывавшая на стол, пересадила всех так, чтобы гость сидел между матерью и Сашей. У гостя была какая-то своя приятная манера держаться. И впервые после смерти главы семьи за столом повеяло жизнью.
Константин говорил мало, но, поблескивая глазами, так переглядывался с младшими детьми, как будто сам был маленький. Кетевана не сводила с него глаз, и даже на худеньком, смуглом и печальном лице Гиго появилась улыбка. С ласковым уважением отвечал он на вопросы Дареджаны Георгиевны и заговорщицки-серьезно поглядывал на Нателу. Догадываясь, что он видел, как ее в Александровском саду отчитывал брат, она краснела и, чуть усмехаясь, отводила глаза…
— Вот как хорошо, что у Саши в Петербурге есть такой старший товарищ, как вы, Константин Матвеевич, — сказала мать. — А ты ничего не рассказывал нам о Константине Матвеевиче, — упрекнула она сына.
Саша пробормотал что-то невнятное.
— Он вообще у вас неразговорчив, хотя и собирается стать адвокатом, — ответил Константин.
Мать вздохнула и приложила платок к глазам.
— Что-то будет с его учением, сама не знаю. — Голос ее дрожал, слезы катились из-под платка. — Меня он не слушает, а муж….. — рыдания перехватили ей горло.
Дети завозились на стульях, переглянулись.
— Мама, ну, мама… — сказал Саша настойчиво.
— Я старая, глупая женщина… Вот реву, как… — Она громко высморкалась и с каким-то ожесточением вытерла глаза. — А что мне делать? Хочет бросить из-за нас учение, да? А нужно не так сделать. У него в Петербурге крестный отец — генерал Розанов Александр Федорович, такой большой человек, так он к нему в Петербурге даже не зашел. К крестному отцу!.. У нас, у грузин, это считается такой невежливостью, грубостью — фу! Да ведь и вы, русские, одного с нами православного закона. Ну, скажите ему — разве это прилично?
— Ай-ай-ай! — серьезно сказал Константин, и только во взгляде его, брошенном в сторону Саши, было веселое озорство.
— И я знаю: если бы Александр Федорович узнал, что для продолжения твоего образования нужно нас как-то устроить в Петербурге, он бы нас устроил.
— У Александра Федоровича есть свои дети, — сухо напомнил Саша. — И, право же, все это не так просто, как вам кажется, мама.
— В Саше говорит гордость вполне естественная, — сказал Константин. — Не хочется обращаться за покровительством.
— Я понимаю гордость! — вспыхнув, сказала Дареджана Георгиевна. — Я сама из дворянской семьи и не толкала бы родного сына на унижение. Но Александр Федорович Розанов и его жена — это не то что крестные отец и мать Александру, тут такое вышло предзнаменование, как если бы они, были ему родные отец и мать.
— Мама, неужели вы весь этот вздор будете рассказывать постороннему человеку?
— Почему же постороннему? — мать даже встала с места.
Прямая и тонкая, стояла она за столом и уничтожающе глядела на сына.
— Ты сам сказал, что это твой лучший друг по Петербургу. И когда молодой человек на чужбине… — она перешла на грузинский язык, — и ты за столом так выражаешься, то — прости меня — это непристойно.
— Простите, мама.
— Не у меня, а у Константина Матвеевича ты должен просить извинения, — по-русски сказала мать.
— Я его прощаю, — басом сказал Константин. — Пусть в наказание сидит смирно и слушает старших.
— Пусть слушает! — торжественно сказала мать. — Я вот первый раз вижу вас, но мне, чтобы узнать человека, надо только взглянуть на него. Я вижу: вы человек умный и добрый и, наверно, слушаетесь свою мать и не огорчаете ее.
Константин ничего не ответил. Мать… Сегодня он написал ей письмо и сообщил свой адрес. Но успеет ли он получить ответ до того, как уедет отсюда? Сколько лет он не виделся с ней! В родной городок ему никак нельзя, его мгновенно сцапают… Остается только переписка. А что для нее письма, если она едва разбирает печатный шрифт…
Он задумался и пропустил начало рассказа Дареджаны Георгиевны — речь шла о давнем времени, когда Саша только родился и семья Елиадзе проводила лето в имении родителей Дареджаны Георгиевны.
— Там гостило много молодежи, между прочим, молодой военный инженер Розанов, друг брата моего. Он изъявил желание крестить моего сына, а куму я себе давно уже подыскала — подруга моя Зиночка, из русской семьи, но для меня все равно что родная, она тоже гостила у нас. Александр Федорович и Зиночка моя только познакомились. А церковь наша верстах в трех от нашего имения, в верхнем селении. Я была еще нездорова, мне врачи запретили вставать, Елизбар Михайлович уже уехал в Тифлис, ему нужно было там быть до начала учебного года. Ну, а время это, август месяц, горячее; братья мои, которые вели сельское хозяйство, не могли отправиться в церковь. Дома лошадей свободных в эти дни не было. Ну, наши крестные отец и мать взялись сходить вдвоем и окрестить нашего первенца… Вот пошли они. Почти незнакомые и очень молодые. Нас, знаете ли, в заведении святой Нины воспитывали в таком благоприличии и скромности, что пока с тобой молодой человек сам не заговорит — молчи, жди его обращения. Он обратится — так соответственно его словам найди тон для ответа. Зиночка молчит, ждет, Александр Федорович тоже бережет каждое свое слово… Вот и прошли они так молча до самой церкви. Сашу, разумеется, нес крестный на руках, и он, голубчик, спал всю дорогу… Церковь была заперта, на паперти сидел сторож, и он, как после рассказывал Александр Федорович, был, видимо, пьян. Да и как же иначе? Свадьба ли, похороны ли — церковному сторожу всегда подносят, верно? Вот они рассказали ему, зачем пришли, — сторож как будто понимал по-русски. Александр Федорович дал ему три рубля. Сторож так обрадовался, благодарил очень и скорее побежал за дьяконом и священником. Те пришли сердитые — время, я уже говорила, самое горячее, священнослужителей позвали прямо с поля, и они торопились вернуться обратно.
Открыли церковь, как положено, ударили в колокол, народу немного подошло из села. Началась служба на грузинском языке, которого молодые люди не понимали. Но служба шла как-то странно, священник все что-то говорил, обращаясь к пастве, и показывал на Александра Федоровича и на Зину. Потом он записал их имена и фамилии и долго водил их друг за другом вокруг аналоя, а дьякон пел по-грузински. Они послушно ходили со спящим Сашенькой на руках. Все было как-то сурово, неприветливо… Тут опять зазвонили, все их стали поздравлять. Сашка проснулся и заплакал. Подошла какая-то старушка — оказалось потом, учительница — и говорит им по-русски со слезами: «Ничего, молодые люди, вы не смущайтесь. Если святая церковь грех вам отпустила, значит все хорошо, теперь растите вашего сыночка». — «Какой грех? Какого сыночка?» И все тут разъяснилось: пьянчужка сторож напутал и сказал попу и дьякону, что пришли молодые люди, у которых до брака родился ребенок, нужно поскорее их обвенчать, чтобы покрыть грех. Щедрость Александра Федоровича — ведь у нас не то что за три рубля, а за три копейки человек за двадцать верст сбегает — тоже сбила сторожа с толку.
«Очень хорошо рассказал батюшка о вашем грехе и о достойном поведении их благородия в отношении девушки», — сказала старушка. И тут моя Зиночка, забыв хороший тон нашего заведения святой Нины, заплакала навзрыд. А Саша тоже плачет. Александр Федорович кинулся за священником, а их обоих с дьяконом уже и след простыл, в поле вернулись. Вот и пришлось Александру Федоровичу утешать их обоих. Но разве сразу при таком горе утешишь? Утешал он ее еще несколько дней, а потом уехали вместе в Петербург. Нашего Сашу окрестили уже в Тифлисе, и на этот раз удачно…
— И вы, Саша, отказываетесь посещать людей, которые благодаря вам соединились на всю жизнь? — спросил Константин укоризненно.
— Представьте, да! — сказала Дареджана Георгиевна, и даже глаза ее победоносно загорелась, так как она почувствовала в словах Константина поддержку.
— Нет, вы решительно не правы, — посмеиваясь, говорил Константин, когда они после обеда вернулись в комнату Саши.
— А вы неужели пошли бы к этому совершенно вам незнакомому генералу и стали просить его помочь вам? — спросил Саша, и оттенок неодобрения послышался в его голосе.
— Ну, насчет просьб о помощи — еще не знаю, но, во всяком случае, пошел бы непременно.
— А зачем?
— Ну, мало ли зачем? Может, еще понадобится. И потом ведь просто интересно, все-таки генерал. В нашем деле, дорогой Саша, надо знать, что делается во всех классах общества, и, представьте, даже в верхних слоях его, и в самом правительственном лагере.
Он взглянул на Сашу и сказал:
— А вы все-таки строги.
В этих словах слышны были и одобрение и раздумье, похоже было, что он хотел еще что-то добавить к этой оценке — вроде того, что одной строгости недостаточно.
Саше не хотелось продолжать этот разговор.
— А я ведь вам материал насчет хизанов достал, — краснея от удовольствия, сказал Саша. — Я тут вот списал для вас и кое-что перевел.
— О Саша! Спасибо вам, давайте-ка сюда эти материалы. Значит, даже в газетах статьи были? — Он быстро перелистывал газеты, просматривая отчеркнутые статьи. — Князья Мачабеловы и Мачабели — это одно и то же, конечно. Вот злодеи… И как все бесстыдно, бессовестно!
— А это я нашел в брошюре, хранившейся в библиотеке моего отца, и перевел для вас. Хотите, прочту?
Константин кивнул головой, и Саша стал читать:
— «В селе Думацхо помещиком отобрано у хизана две с половиной десятины пашни, уже подготовленной для посева, и разрушена ограда его виноградника…
В селе Сативе в 1891 году помещик пожелал заключить с крестьянином арендный договор. Крестьянин отказался, помещик силой отобрал у него всю землю, вынудил отдать ему пятьдесят рублей денег, на которые не дал расписки…»
Саша читал медленно, желая каждому факту придать особую выразительность. Константин слушал и при этом вглядывался в лицо Саши, вздрагивающее от волнения, — Константину вспомнилось, как Саша сразу после сходки подошел к нему и так искренне выразил свою приверженность к партии.
«А что ж, пожалуй, годится», — подумал Константин.
— «… Как вам известно, предложение губернатора об облегчении положения хизанов рассматривалось и разрешалось в течение двадцати лет, но вопли дворянства в 1893 году оказались настолько трогательны, что немедленно был издан новый закон, отменявший прежний. В силу нового закона, помещик имеет право прогнать крестьянина с земли, когда ему это угодно…»
— Подождите минутку, Саша, — что это за брошюра? Это, конечно, марксист писал, настоящий марксист.
— Это писал Александр Цулукидзе, папин знакомый один. А брошюра — вот она, называется «Мечта и действительность».
— Обидно не знать языка. Вы мне ее переведете? Ну, а хизаны? Каково их положение сейчас?
— Можно считать, что все осталось по-прежнему. В прошлом году был упразднен институт временнообязанных.
— Это который в России был упразднен в тысяча восемьсот восемьдесят первом году? — живо спросил Константин.
Саша кивнул головой и продолжал:
— По этому закону временнообязанные должны уплатить еще четыре миллиона рублей в продолжение ближайших пятидесяти шести лет.
— Скольких? — переспросил Константин.
— Пятидесяти шести, — ответил Саша. — Но на хизанов этот закон не распространяется.
— Ну, понятно, — неторопливо и потому особенно многозначительно сказал Константин. — Они даже и не временнообязанные, они некогда пришли к помещику, он их, так сказать, из милости пустил на свою землю, а попросту говоря, взял в кабалу, в рабство, — и вот поколение за поколением они работают на него. Так я понял из разговора с моими друзьями рачинцами. И знаете, Саша, они очень просят помочь им отменить этот возмутительный порядок, по которому людей, несколько поколений живущих на земле и возделывающих ее, может согнать паразит помещик. Так как, отменим, а? — спросил он.
И, услышав в этой шутке оттенок силы, Саша ответил серьезно и взволнованно:
— Непременно отменим!
— Заодно уж и насчет пятидесяти шести лет, о которых вы рассказывали, тоже постараемся, верно? И господ дворян, жалобные вопли которых так трогают наше мягкосердечное правительство, навеки успокоим.
— А вот это, может, вам тоже понадобится? — И Саша протянул Константину тетрадь. — Мне показалось интересно. Дядя Михако сейчас составляет об этом докладную записку.
Придя на службу к дяде Михако, другу покойного отца, и заведя разговор о положении хизанов, Саша тут же узнал, что не так давно наместник затребовал у охранного отделения все данные по «аграрным беспорядкам в закавказских губерниях», после чего эти данные были переданы в отдел земледелия и землеустройства «на предмет составления докладной записки». Над составлением этой докладной записки как раз и трудился дядя Михако.
Таким образом, Саша получил полную возможность списать некоторые показавшиеся ему интересными бумаги и принести их домой.
Здесь был рапорт о том, как жители селения Шах-Агы обстреляли отряд полицейских стражников, присланных «для ограждения прав помещика Ахмедхана Талышинского». Нухинский уездный начальник доносил елисаветпольскому губернатору, что некий Казаров, крестьянин селения Джалун, подстрекает своих односельчан отказаться от платежа податей. Особенно часты были столкновения из-за пастбищ. Помещики запрещали крестьянам выгонять стада на общественные пастбища, объявляя их своими, крестьяне оказывали сопротивление, огромными массами выходили на пастбища, избивая порою стражников.
— Похоже, как в Веселоречье, — пробормотал Константин.
— Где? — спросил Саша.
— В Веселоречье — есть такая маленькая народность по ту сторону хребта, — ответил Константин, продолжая просматривать материалы.
— И там было нечто вроде такого же возмущения крестьян?
— Тысяч двенадцать поднялось. Пушки против них выкатили. А они безоружные пришли, понимаете? С царем-батюшкой по-доброму поговорить — ну, вроде как в пятом году, перед Зимним дворцом… Всё предметные уроки истории, — тихо говорил Константин, отодвигая материалы.
Саше очень хотелось спросить о тех двух веселореченцах, которых он отвозил до Баку, — они наверняка после восстания бежали в Тифлис. Может, сам Константин побывал в это время в Веселоречье? Но он не решался спросить.
Константин помолчал, думая о чем-то своем. Потом вдруг прямо и смело взглянул Саше в глаза.
— Знал бы я, Саша, что именно вы поедете в Баку, дал бы я вам несколько поручений!
— А вы знаете, что я был в Баку? — удивленно спросил Саша.
— Как-нибудь мы еще поговорим об этой поездке и о Баку.
Константин протер покрасневшие глаза и сказал:
— Тут стоит воедино собрать все подобные факты. Так, например, в тысяча девятьсот девятом году закончился судебный процесс, длившийся с тысяча восемьсот шестьдесят второго года, то есть около пятидесяти лет. Вели дело рабочие строгановских заводов против владельцев этих заводов, одновременно являвшихся крупнейшими помещиками, как это водится на Урале, где заводчикам принадлежат сотни тысяч десятин земли. Рабочие заводов, в огромном большинстве крепостные, потребовали выполнения закона тысяча восемьсот шестьдесят второго года о наделении крестьян землей. Даже закон, царский, несправедливый и грабительский закон, был на их стороне, и в тысяча девятьсот девятом году сенат предписал пермскому губернскому присутствию наделить крестьян землей, применив закон тысяча восемьсот шестьдесят второго года. Что же произошло? А то же самое, что так ярко описано в брошюре Цулукидзе, отрывок из которой вы мне перевели. Помещики стали плакаться и стенать, и родная душа тут же откликнулась, министр Столыпин дал пермскому губернатору телеграмму: приостановить исполнение указа. А ведь по закону-то, Саша, по царскому же закону, — сенат выше министра. Губернатор приостановил. Новая переписка, новая волокита, снова обращались к министрам. Дело дальше не двигается. Произвол и беззаконие? Верно?
Он помолчал.
— Этот факт приведен в последнем дошедшем до нас номере «Правды». Статья подписана одной буквой «И». Если бы она и совсем не была подписана, все равно по слогу, по орлиному полету мысли можно узнать Ленина. И вот что сказал Ленин по поводу этого судебного дела пятидесятилетней давности: «Смешно говорить о «праве», когда помещики и издают законы и применяют или отменяют их на практике». И это происходит везде — и на уральских заводах, и на полях Украины, и в Грузии, и на пастбищах Северного Кавказа. Вот вы спрашивали меня о Веселоречье. А там как раз и произошло то же самое: жульнически был отменен царский рескрипт, и народ поднялся. «Своих законов не исполняют», — как говорил один симпатичный, но весьма наивный веселореченский деятель.
Константин вдруг замолчал и повернул голову, словно его позвали. Где-то в доме играли на рояле «Песню без слов» Чайковского, как будто, вспомнив о Талибе, этом самом «веселореченском деятеле», он одной силой воспоминания вызвал мотив, звучащий в его душе тогда, когда, стоя с Людмилой на балконе, говорил о Талибе, о том, что веселореченцев обманывают, пользуются их наивностью, доверчивостью.
Музыка смолкла.
— Как это неожиданно! — тихо сказал Константин.
— Что неожиданно? — спросил Саша.
— Неожиданно этот мотив… Это ваша сестра играет? Немного не так, но все равно. Этот мотив — это желание счастья, вера в возможность его. Но когда? И где? «Там за далью непогоды есть блаженная страна…» — тихо пропел он. Потом вскинул голову и добавил по-другому, громко и весело: — «Но туда выносят волны только смелого душой».
Он сунул руку в карман, достал свернутый вдвое листок и прочел:
— «Настало время борьбы! Весь бакинский пролетариат проснулся, все рабочие рвутся в бой с капиталом. Снова возгорелась заря нашего рабочего движения!» Хорошо сказано?
— Можно прочесть всю целиком? — попросил Саша.
— Я вам оставлю эту прокламацию. Но с одним условием…
Константин помолчал, сел на кровать и крепкой своей рукой усадил Александра рядом с собой.
— Да, не был я с вами знаком, когда вы отправлялись в Баку, а то с какими чудесными людьми вы познакомились бы там! — проговорил он, и взгляд его, добрый и какой-то ощутимо-весомый, снова задержался на лице Саши. — Эту прокламацию получили мы из Баку, — сказал Константин.
— Перевести ее на грузинский, да? — с волнением спросил Александр. — Право, я сумею.
— Нет, не просто перевести… А представьте, что вы должны рассказать вашим соотечественникам грузинам о начавшейся в Баку забастовке. Но так рассказать, чтобы все грузинское крестьянство поняло, что в борьбе с «таткаридзевыми» — так, кажется, называют у вас помещиков — есть у крестьян могучий союзник — бакинский пролетариат. И что если борьба с капиталистами в городе дополнится борьбой против помещиков в деревне, тогда это будет означать всенародное восстание, вторую и уже непобедимую русскую революцию! Сумеете так написать?
— Попробую! — ответил Александр.
— Ну и прекрасно! — Константин встал и взял в руки фуражку. — Когда мне зайти к вам узнать относительно комнаты? — спросил он.
— Вам никуда сейчас уходить не нужно. Мама послала уже Кето с запиской к дяде, через час будет все известно.
— О, это превосходно! — Он подумал и сказал: — Тогда, если разрешите, я напишу здесь, за вашим столом, кое-какие письма.
— Пожалуйста, прошу вас, — ответил Саша и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Солнце садилось, подул ветер, принес облака, и белье, развешанное на плоской кровле, расположенное на одном уровне со стеклянной галереей, где находился Саша, раскачивалось, меняя цвета: ярко-красное становилось сумрачно-багровым, синее — голубым, фиолетовое — черным. Там, на крыше, утром играли дети, в вечерний час появлялись женщины и ложились спать. Порою там происходили какие-то торжества, звучала чонгури, шли танцы. Саша часто засматривался на эту открытую перед ним жизнь. Вот и сейчас: веревка, на которой висело белье, вдруг оборвалась, выбежали две девушки и мальчик и с хохотом стали поднимать белье с земли и укреплять веревку. Галерея, примыкавшая к дому Елиадзе, была сильно затенена вьющимся виноградом, и Саша даже никак не мог сообразить, где именно находится эта кровля, с какой улицы на нее можно попасть. Это вызывало у него грусть, неудовлетворенность и ожидание счастья в будущем — поэтически волнующее чувство.
Он ходил по галерее, следил за веселой возней с бельем и думал о том самом важном, что сегодня с ним произошло. Он понимал, что поручение Константина было первым поручением партийной организации, а это означало, что к его намерению вступить в партию отнеслись серьезно.
Словно бы дверь в мир борьбы и подвигов, в широкий мир нужды, гонений, страданий, многовековой несправедливости открылась перед ним, и Александр был уверен, что в этом мире ему будет неизмеримо шире и просторнее жить, чем в ограниченном несколькими улицами семейном мирке.
Вдруг на галерее показался Давид.
На нем была его лучшая черная пара, которую Саша видел всего раза два, и, чего уж Саша никогда не видел, под белым мягким воротничком продет был галстук и так туго затянут, что все жилы надулись на тонкой и сухой шее Давида. Обычно, когда Давид входил, Александр сразу чувствовал на себе его уважительный, взволнованный взгляд. Сейчас он, даже не поздоровавшись, спросил по-грузински:
— Константин у вас в доме?
— Говори по-русски… — сказал Саша.
— Э-э… — досадливо закряхтел Давид, но повторил вопрос по-русски.
— Идем, я тебя провожу, — ответил Саша. — Ты сегодня приоделся. Уж не на свадьбу ли?
Но Давид пропустил эту шутку мимо ушей и, войдя в комнату Саши, сразу бросился к Константину.
— Новости, амханаго Котэ, хорошие новости, помещение нашли.
Он взглянул на Александра, потом обернулся к Константину.
— Может, мне уйти? — самолюбиво спросил Саша.
Константин взглянул на него просто, спокойно.
— Очевидно, так лучше будет.
Александр круто повернулся и ушел.
Константин, взглянув ему вслед, покачал головой.
— Обиделся. Ну, это ничего. Парень он очень подходящий. И, помолчав, добавил: — Даже стоящий. Значит, поймет. Ну, так что у вас, Давид? Да вы садитесь и не изображайте собой фигуры вестника в греческих трагедиях.
— Зачем садиться? Идти надо, смотреть. Нашли помещение. И если не снять его, другим сдадут. Там фруктовый склад был.
— А ну, идем скорее.
Они ушли.
* * *
После того как Константин ушел, Саша обнаружил у себя на столе письмо и открытку, Марки были наклеены, адреса написаны. Оставалось только бросить их в почтовый ящик, но Константин, отвлеченный разговором с Давидом, очевидно забыл их здесь. Наверно, так не следовало поступать, но ведь в открытках никаких тайн не пишут, и Саша сам не заметил, как слово за словом прочел ее.
«Дорогая Людмила Евгеньевна, свидеться нам больше не пришлось, о чем сожалею. Привет всем вашим и Евгению Львовичу особо. Когда буду в Питере, постараюсь найти вас. Если бы вы все-таки иногда вспоминали обо мне, это было бы мне очень дорого. А я помню вас. И «Песню без слов» не забыл, — как прекрасно играли вы ее в тот вечер, когда я последний раз вас видел…»
Подписи не было, и действительно никаких тайн не открывалось в этих коротких, сдержанных строчках. Но Александру сразу послышалось в этих словах глубокое чувство. Что это за русская девушка Людмила? Она будет в Петербурге, а судя по адресу, живет в Краснорецке, Ребровая улица, дом Гедеминова.
Снова Краснорецк, туда уехал слепой мальчик. И Гедеминов — знакомая фамилия. Студент-юрист Гедеминов, беленький, хорошенький, со второго курса, выступал на сходке, говорил быстро, гладко, но о чем — все забылось. Да и Людмила эта, видимо, учится в Петербурге.
Саше мгновенно представились лица девушек-курсисток, с которыми встречался в столовой, — может быть, одна из них? «Песня без слов» Чайковского — так вот почему он так взволновался, услышав ее сегодня…
В дверь постучали.
— Можно, — сказал Саша, спрятав в карман корреспонденцию Константина.
Вошла Натела.
— Константин Матвеевич ушел? — спросила она.
— Да.
— Мама хотела узнать насчет ужина.
— Он не будет сегодня у нас ужинать, — отрывисто сказал Саша.
Натела покачала своей черной, гладко причесанной головой.
— Мы жалеем все. Он хороший человек. И даже мама развеселилась, ты заметил?
Саша кивнул головой.
— Когда он следующий раз у нас будет, ты сыграй «Песню без слов» Чайковского, — сказал он грустно.
— Зачем? — удивленно спросила Натела.
— Он очень любит эту вещь. Ты сегодня играла, и ему понравилось.
Сестра ушла, а Саша в задумчивости сел в кресло. Он был и раздражен и обижен, но ощущение, что с ним произошло за эти дни что-то очень важное, не покидало его.
Как это Константин сказал на сходке: «Огромное зарево на небосклоне Закавказья». И эти такие знакомые и по-новому сейчас освещенные лица, и выражение готовности принять на себя тяжесть, чтобы вместе нести ее куда-то вверх, — право, это для стихов, нет, для музыки, для торжественного марша: вперед, вперед, рабочий народ!..
И все это сделал с людьми коренастый, крепкий человек, тот самый, который потом, придя к ним сюда, был так мил и внимателен к его матери и к детям…
Он ушел, и дверь в тот, другой, мир закрылась. Но чтобы попасть в него, совсем не требовалось уезжать из Тифлиса в Петербург, — этот мир открывался на тех же уроках в воскресной школе. Но входил Александр в этот мир, как слепой в комнату, залитую светом.
Александру стало не по себе, когда он вспомнил, как резко захлопнул перед ним дверь Давид, всегда такой почтительный и признательный, тот самый Давид Мерцая, к которому Саша привык относиться все же сверху вниз.
Все они — и Давид, и Лена, и, может быть, добродушный, медвежеватый Илико — ведут войну, жестокую войну не на жизнь, а на смерть с такими страшными врагами, как самодержавие и капитализм. В этой борьбе Константин — их командир, и, как солдат на фронте, они готовы прикрыть его своим телом…
«Ну, ведь я тоже вступлю в эту армию. Встану рядом с Давидом, с Леной. Бесстрашно буду выполнять приказы Константина и старика Павле. И вместе с ними буду подготовлять ту великую битву за правду, которая называется — революция, великая русская революция».
Точно тяжелые замковые двери с громовым звоном медленно раздвинулись перед ним, красное знамя поплыло перед глазами, тысячи рук взметнулись вверх, — Саша даже вскочил с места.
Горячая кровь древнего воинственного народа, столько раз в неравном бою отстаивавшего свою свободу, с детства слышанные героические сказания об Амирани, Георгии Саакадзе и царе Ираклии, воспоминания отца о Ладо Кецховели, Саше Цулукидзе и Сосо Джугашвили, с которыми его отец вместе начинал свою юность, — все это давно уже шевелившееся в душе Саши вдруг точно вспыхнуло.
«Я буду с ними! Я постараюсь свершить то, на что не способен оказался мой отец», — сказал он себе.
Так стоял он, приложив к груди крепко стиснутые кулаки. Он глядел перед собой, но не видел ни стен своей комнаты, ни улиц и с детства знакомых домов Тифлиса.
Глава третья
1
Хусейн Асадович Дудов, как переводчик, на все время следствия по веселореченскому восстанию был вызван в станицу Сторожевую, куда приводились арестованные крестьяне веселореченцы и где с них снимали первые показания. Арестованных было много, и допросы шли с утра до позднего вечера. Только спустя две недели Хусейн Асадович вернулся в свой скромный, окруженный тенистым садиком белый мазаный домик и узнал от жены, что сын его Асад в самый разгар восстания уехал в горы вместе с каким-то землемером. Старый Дудов встревожился. Серьезность происшедших в Веселоречье событий была ему ясна, и потому он недоумевал, что за землемерные работы могли происходить в такие дни. Узнав, что Асад выехал со двора Батыжевых, старик навестил больного Темиркана и узнал от него, что землемер этот служит в технической конторе Поспешинского в городе Краснорецке и является доверенным лицом самого Гинцбурга, Эти сведения немного успокоили Дудова. Но потом он встретил близкого приятеля Асада, Гришу Отрокова, и разговор с ним снова встревожил старика. Гриша видел Асада перед самым отъездом, и в этом последнем разговоре Асад всячески восхвалял таинственного землемера: умный, смелый, благородный. Хусейну Асадовичу припомнилось, что во время допросов у арестованных все время выспрашивали о каком-то русском революционере, неведомо как появившемся в районе восстания. Старый Дудов догадывался, тревожился, но говорить о таком деле ни с кем не мог. Нужно было успокоить жену, сказать, что Асад неожиданно уехал в Краснорецк и находится на своей обычной зимней квартире у доктора Гедеминова. Признаться, он и сам отчасти надеялся на то, что Асад окажется там. Прихватив Гришу Отрокова, которому нужно было в Краснорецке выяснить возможность экстерном сдать за четыре класса реального, старый Дудов выехал в Краснорецк.
Асада в Краснорецке не было. Доктор Гедеминов, в гостеприимном доме которого остановился Хусейн Асадович и где охотно приняли Гришу Отрокова, с интересом выслушал рассказ старого Дудова и сказал:
— Я почти догадываюсь, кто этот землемер. Это выдающаяся личность. Он знал вашего Асада и очень благоволил к нему. Примерно в начале восстания в Веселоречье этот человек действительно исчез куда-то из города. До настоящего момента и друзья его и преследователи считают, что он уехал в Россию, а он, возможно, ринулся туда, в горы, где идет борьба. Значит, Асад с ним? Что ж, в одном могу вас уверить, Хусейн Асадович, что, если этот человек будет иметь возможность, он непременно известит нас об Асаде или поможет Асаду добраться до дому.
«Если будет иметь возможность…» Дудов лишь вздохнул и решил пока выжидать в Краснорецке. «Что поделаешь, — думал старик удрученно и гордо, — Асад — мальчик, настоящий мальчик. Орленок, когда чувствует, что крылья его отросли, распускает их и кидается с края родного гнезда, хотя бы внизу была пропасть. А когда я сам, бросив без разрешения родителей артиллерийское училище, перешел в университет, разве не кинулся в пропасть? Дудовы и посейчас не могут мне этого простить…»
Но все эти рассуждения мало утешали.
То, что происходило в Краснорецке, подтверждало худшие опасения старика за судьбу своего сына.
В городе шли аресты. Арестована была Дора Рутберг, служащая городской аптеки, почтово-телеграфный служащий Стельмахов, какой-то механик пантелеевской мельницы с украинской фамилией и несколько молодых железнодорожников.
Многолюдные встречи, горячие споры за чайным столом и импровизированные литературно-музыкальные вечера совсем прекратились в доме Гедеминовых. Меньшевик Бесперцев, никогда не отличавшийся храбростью, как только узнал, что его сослуживец веселореченец Джафар Касиев арестован, поспешно оставил службу в кооперации. Перейдя в акцизное ведомство, он перестал бывать у доктора Гедеминова, слывшего в городе «красным». Прекратил всякую общественную деятельность и зубной врач Шехтер, даже на благотворительных концертах не слышно стало нежного тенора, прочувствованно воспевавшего тех, кто «про долю свободную в тесной тюрьме видит сны». Целиком отдавшись зубоврачеванию. Шехтер добился таких успехов, что собирался уже строить дачку близ города. В эти дни был арестован также редактор газеты «Кавказское эхо», эсер Альбов. Правда, недели через три его выпустили, взяв подписку о невыезде. Но у Гедеминовых он тоже перестал бывать и почему-то при встрече с Гедеминовым здоровался с ним сухо и обиженно. Евгений Львович Гедеминов стал молчалив, рассеян и только кряхтел, слушая жену свою Ольгу Владимировну, которая зачитывалась в это время йогами и проповедовала за столом тайны индийской философии, приспособленной для европейских декадентов.
Сын доктора — студент юридического факультета Кокоша, как его называли и дома и в городе, белокурый и нежно-румяный, похожий на мать, — с вечера исчезал из дому и возвращался только к утреннему чаю, томный и бледный, с синими кругами под глазами. Спал до обеда, а за обедом приводил мать в отчаяние отсутствием аппетита и постоянными требованиями денег. В городском саду, в летнем театре, дебютировала в то время заезжая труппа «Театра миниатюр». Белые полотнища с синими изображениями лиры, развешанные по городу, возглашали синими буквами названия водевилей, фарсов и оперетт: «Не ходи же ты раздетая» или «Мотор любви». Кокоша за обедом, забывшись, иногда вполголоса напевал фривольные куплеты, которые внезапно врывались в многоречивые рассуждения Ольги Владимировны об астральном теле и прочей мистической премудрости.
— Постеснялся бы девушек, если не стыдишься родителей, — сердито говорил доктор.
Люда Гедеминова и ее подруга Оля Замятина, гостившая у Гедеминовых, опускали глаза и тихо посмеивались. Кокоша галантно просил извинения.
Эти мотивчики были крайне прилипчивы, и хотя они совсем не нравились Грише Отрокову, безмолвному участнику гедеминовских трапез, все же и он то и дело ловил себя на том, что тянет один из «обезьяньих куплетцев», как называл их доктор.
У Отроковых в Арабыни не было музыкального инструмента, и Грише, для того чтобы готовить уроки музыки, приходилось посещать дом богатых соседей — скотопромышленников Кяшевых, связанных деловыми отношениями с ветеринаром и предоставлявших его сыну возможность пользоваться инструментом. Но их разбитое, расстроенное пианино никакого сравнения с великолепным роялем Гедеминовых не выдерживало. Люда постоянно держала рояль настроенным. Гедеминовы, принявшие горячее участие в мальчике, сговорились с лучшим учителем музыки в городе — поляком Людвигом Цябровским, любезным и чопорным, в незапамятные времена сосланным в Краснорецк. Цябровский, дававший уроки в купеческих и чиновничьих семьях девицам, — а их учили только потому, что «нельзя же сейчас без музыки», — почувствовав в Грише дарование, привязался к нему и давал уроки бесплатно.
Грише у Гедеминовых жилось как будто не хуже, чем дома, но все же настроение тоски и удушливой скуки, нависшей над городом, непрестанно давило и его.
Ни охнуть, ни вздохнуть. Как будто ночь на все дыхание простерла, Сам дьявол сел на грудь…, —шептал Гриша продекламированные как-то Кокошей и сразу запавшие в сердце стихи.
К тому же Гриша влюбился в Олю Замятину. А она, наверно, ни разу так и не взглянула на него своими продолговатыми глазами. А как хотелось, чтобы посмотрела…
Когда подруги вместе возвращаются из города, издали слышен крепкий шаг Люды, а как ступает Оля, совсем не слышно. Ольга в своем английском костюме рядом с Людой, в ее летних цветастых платьях, кажется особенно тоненькой и строгой. Люда громко смеется и громко говорит, шумно играет на рояле. Оля говорит откашливаясь, и в доме ее не слышно. У Ольги профиль точно кончиком кисти выведен (Грише чаще всего приходилось видеть ее профиль), все в ней в меру, такое, какое быть должно, — все можно бы, кажется, выразить чередованием основных музыкальных тонов, простой и прелестной гаммой. Похоже, что все существо Ольги проникнуто музыкой, но вот беда: к музыке она безразлична. Она любит долгие разговоры и споры и охотнее всего слушает лохматого, с маленькими насмешливыми глазками и густым румянцем ближайшего друга Асада — Петю Колмогорова, а о веселом Коле Карпушеве, приятеле Людмилы, спрашивает насмешливо: «И что ты находишь в этом футболисте?» С Колей она дружески на «ты», и друг друга они называют: Колька, Олька; они выросли вместе, в одной станице. Какое счастье вырасти вместе с Олей, называть ее на «ты» и шутками отвечать на шутки! Но Гриша не читал ни Спенсера, ни Конфуция, как Петя Колмогоров; на футбольное поле, где Коля Карпушев соколом летал, Гриша даже ступить боялся, а о таком отутюженном новеньком костюмчике, в каком щеголял чернобровый, смуглый и вежливый Иончик Гамал, единственный наследник табачной фирмы, Гриша даже и мечтать не смел. Иончик приезжал в собственном, в дышловой запряжке, щегольском экипаже и увозил девушек кататься. Петя вел с ними умные разговоры о книгах, о Государственной думе, он даже со взрослыми мог поддержать разговор. Коля умеет рассмешить. А что Гриша? Он молчалив и до того неловок, что, по выражению Коли, «сам себе на ногу наступает». Хорошо бы пойти в городской сад и хоть издали посмотреть на Олю, но идти в поношенном костюме стыдно. Будни, нужда, тоска…
Пожалуй, никому, даже родному отцу, не был так нужен в это время Асад, как Грише. Асад первый оценил беспорядочные импровизации Гриши. Асад не давал Грише погружаться в состояние мечтательной и грустной лени, к которой тот был склонен. Асад побуждал Гришу учиться и стал помогать ему. И порою Гриша ловил себя на том, что шепчет: «Асад, Асад…» — и, краснея, оглядывался.
2
Дом Гедеминовых стоял на окраине города, над обрывом. Большой сад круто спускался по обрыву к глухо рокочущей речке. Среди природного леса — широколиственных кленов, красноствольных буков и зеленоствольных грабов — шли дорожки, проложенные одна над другой, переходить с дорожки на дорожку можно было по каменным лесенкам. Чем ниже, тем пышнее и гуще становился сад, аллеи превращались в тропинки, орешник бил по лицу, рокот воды слышался все звонче, начинались ивовые и ольховые заросли, и кое-где над самой речкой, порожистой и стремительной, совсем нельзя было пройти. А наверху, со стороны города, росли старые каштаны и пирамидальные тополя. Здесь почва была песчаная и подвижная. Когда доктор Гедеминов лет двадцать назад вступил во владение усадьбой (она неожиданно досталась его жене по наследству), он, опасаясь оползней, насадил здесь кустарники с цепкими, скрепляющими почву корнями: весело краснели издали узколистые прутья шелюги, серебристо блестела в ветреные дни оборотной стороной своей листвы облепиха. Евгений Львович Гедеминов утверждал, что оранжевые ягодки облепихи вполне заменяют плоды ананаса, на них он даже настаивал водку. Здесь же рос и кавказский темирагач, его древесина настолько тверда, что не всякому ножу поддается, она незаменима и для черенков, и для ножен кинжала, для кнутовищ и тростей.
Одурев от гамм и ганонов, Гриша по вечерам приходил сюда, в эту верхнюю часть сада. Здесь было сухо, пахло душистыми травами, можжевельником, мятой… Во всяком саду бывают такие уголки, где сверху замечаешь приближение осени. Так и в саду Гедеминовых: внизу еще все было полно летней, зеленой силы, листва глянцевито и сочно темнела, а здесь, в песчаном, засушливом уголке, появились первые пожелтевшие листья, трава увядала и сохла и с улицы грустно пахло пылью. Щуря глаза на солнце, которое медленно катилось вниз, Гриша прислушивался к струнному оркестру, игравшему в городском саду. Инструменты низких и глухих тонов здесь совсем были не слышны, только одни скрипки перекликались с флейтами. Что играют, Гриша никак не мог разобрать. Но в этой грустной перекличке было что-то отвечавшее его настроению. Он получил письмо от отца из Арабыни, отец упрекал его за молчание. А о чем писать? Что он живет и питается бесплатно? Что ему дают бесплатно уроки музыки? Что у него протерлись брюки, стыдно просить их заштопать, а сам он не умеет, и приходится невылазно сидеть дома? Бедность, будни, тоскливое предчувствие, что впереди в жизни предстоит все то же и лучше не будет…
После того как отцу не удалась спекуляция с месторождениями серы (Гриша так и называл это про себя обидным для отца словом — спекуляция), он чувствовал к отцу жалость, граничащую с презрением. Всю жизнь отец, сколько помнил Гриша, воевал против окружающего «арабынского свинства» и вдруг сдал, пошел на поклон к такой крупной свинье, как Гинцбург, сам пытается жить свинскими законами. Правда, у отца ничего не получилось, но самая попытка от этого не становится менее омерзительной, хоть и жалко его, жалко до тоски! И никак эту тоску не стряхнешь, она окутала все кругом. Солнце садится, а эти далекие скрипочки и флейты, словно заблудившись, перекликаются в тревоге. Деревья стоят — не шелохнутся, небо неярко желтеет, земля, проглотив солнце, темнеет быстро-быстро… Не отводя глаз от желтой полоски, оставшейся после солнца, Гриша словно ждет от нее чего-то.
Вдруг, сразу четко обозначившись на этой еще яркой желтизне неба, на гребне откоса показались две темные фигуры. С изумлением и каким-то испугом Гриша признал в одной из этих фигур Науруза, хотя тот был не в черкеске, а в русской рубашке. Но Гриша признал бы его в любом одеянии. Рядом с крепким и рослым Наурузом шел Асад. Да, это был он, хотя движения его как-то странно неуверенны.
— Аса-ад! — во весь голос закричал Гриша и побежал им навстречу вверх по откосу.
— Это ты, Гришка? — спросил Асад, опять странно, как-то по-птичьи, прислушиваясь.
— Ну конечно, я… Или ты меня не узнаешь? Мы с папой твоим сюда приехали, как он рад будет!.. Асад приехал! — закричал Гриша, повернувшись в сторону дома.
— Где Асад?.. Гриша, где ты? — кричали в ответ из дому.
— Ну вот, братец, — сказал негромко Науруз по-веселореченски, — вот ты и у своих. Мне уходить надо. Нельзя, чтобы меня видели.
— Науруз, — сказал Асад, — то, что ты для меня сделал, только брат родной мог бы сделать.
— Я и есть тебе брат, — ответил Науруз.
Они обнялись, как это принято у веселореченцев между мужчинами, обнялись, не целуясь, щекой к щеке. Кивнув дружелюбно Грише, Науруз исчез, будто его и не было.
Внизу от дома поднимались с фонарями, окликая Гришу и Асада. Асад уже узнал резкий от волнения, похожий на блеяние голос отца. Повернувшись к Грише, Асад торопливо и смущенно сказал:
— Ты ни слова не говори, Гриша, кто меня привел сюда. Скажем, железнодорожник, который довез меня из Баку. Запомнишь?..
— Ну конечно, — возбужденно отвечал Гриша. — А чего ты тут стоишь? Пойдем скорее.
— Сейчас пойдем, — ответил Асад. — Только дай я тебя возьму под руку. Я не очень хорошо вижу… А точнее сказать, совсем ничего не вижу.
* * *
За дорогу Асад очень устал, — среди незнакомых голосов пассажиров, кондукторов, носильщиков, в громе и грохоте поездов и шуме вокзалов он чувствовал себя беззащитным.
Первоначальное ощущение сверкания и блеска в глазах сменилось какой-то колеблющейся серовато-радужной пленкой, словно сеточкой. Асад мог отличить день от ночи, безошибочно определял источники света, видел движение больших предметов, но он не мог ходить без посторонней помощи, и это для него было тягостней всего. Ведь совсем недавно, еще этой весной, они вместе с Гришей строили гигантского воздушного змея, на котором предполагали подняться в воздух. А как чудесно было восходить на хребет, спускаться в Грузию, словно в теплицу, заполненную невиданными цветами! И вдруг он точно упал в темный подвал, населенный тенями и голосами.
Как ни велико было горе, которое испытал старик Дудов, узнав, что сын ослеп, оно не могло затемнить радость встречи с ним. Асад жив — это единственно важно. С помощью Евгения Львовича Гедеминова Хусейн Асадович тут же принялся хлопотать о лечении Асада. Привлекли трех врачей-глазников, проживавших в Краснорецке. Были прописаны лекарства, темные очки… А главное, врачи советовали положиться на время, не исключая в будущем возможности хирургической операции. Врачи брались подтвердить, что князь Хусейн Дудов привез своего внезапно ослепшего сына в Краснорецк лечить, — это на случай, если бы его вздумала тревожить охранка.
Асад сразу почувствовал облегчение, едва оказался у Гедеминовых, в доме настолько знакомом, что он мог ходить из комнаты в комнату, почти не натыкаясь на стены и мебель, и даже спускаться с балкона в сад. Хотя Асад по-прежнему почти ничего не видел, зато слышал знакомые, полные сострадания и нежности голоса.
Никогда еще не сходились так тесно Асад и Гриша, как в это для них обоих трудное время. Гриша заполнил музыкой окружавшую Асада радужную пустоту, — ведь чтобы наслаждаться музыкой, совсем не надо быть зрячим. Асад знал, что необходим Грише. Хотя и слепой, но он мог принять на себя руководство занятиями Гриши. Феноменальные математические способности Асада помогли ему решать в уме сложные математические задачи. Он разъяснял Грише смысл исторических событий и даже поправлял произношение немецких слов…
Однажды вечером в гостиной, уже полутемной, Асад лежал на диване, а Гриша играл на рояле.
— Меня там кто-то спрашивает, — вдруг сказал Асад.
Гриша перестал играть и прислушался. На балконе Люда разговаривала с кем-то. Гриша не разбирал слов, но Асад своим обострившимся во время болезни слухом ясно слышал все.
— Это кто-то незнакомый, и Людмила Евгеньевна не хочет его пропустить ко мне, — сказал Асад. — А мне интересно. Скажи, пусть пропустит.
Гриша через мгновение вернулся.
— Здравствуйте! — голос был ломающийся, юношеский. — Это вы Асад Дудов?
— Я Асад Дудов. А вы кто?
— Вы… вы все последнее время были с одним нашим общим другом, и, наверно, он говорил вам обо мне.
— Вы… вы — Вася Загоскин?
— Просто Вася… А вы — Асад. Так покороче будет. Я вас узнал по описанию Науруза.
— В этом отношении у вас все преимущества, — с грустью сказал Асад. — Я не вижу вас, хотя, правда, много слыхал.
Вася пожал плечами и в некотором замешательстве развел руками.
Асад вдруг повернулся к Грише.
— Гриша, расскажи — какой он? Да вы не стесняйтесь, — обратился он к Васе, — а меня извините — иначе я не могу.
— Какой? — переспросил Гриша. — Тоненький, на шее шарф, лицо продолговатое, кожа тонкая… Он легко краснеет. Брови, как у старика, мохнатые, темно-русые волосы светлее бровей; глаза не очень большие, темно-синие, взгляд придирчивый и насмешливый, но не злой…
— В общем, особых примет не имеет, — перебил его Вася. — Протокол образцовый, не хуже, чем в полицейском участке…
Вася долго раздумывал, раньше чем решился пойти к Гедеминовым. Правда, у доктора Гедеминова была в городе репутация «красного» и от Константина Вася знал, что доктор симпатизирует большевикам. Да и по рассказу Науруза, который разыскал Васю и передал ему поручение от Константина, Асад рисовался хорошим пареньком. Но Вася предвидел, что попадет у Гедеминовых в чуждую ему обстановку, и это смущало его не меньше, чем соображения конспирации. Но ему хотелось от Асада узнать поподробнее о Константине, и это желание пересилило все.
И как он предвидел, дом Гедеминовых, особенно в вечерних сумерках, показался ему роскошным и богатым, музыка (Гриша играл один из ноктюрнов Шопена) — аристократической и изысканной, а Люда Гедеминова, которая не хотела его пропустить к Асаду (за Асада боялись: к нему могли под каким-либо предлогом подослать шпика), — надменной. «Бездельничают», — с неприязнью подумал он и о Люде, сидевшей в качалке на балконе, и об Асаде, и Грише, и обо всех обитателях гедеминовского дома.
Но он пересилил появившееся вдруг желание уйти. «Раз сам решил, значит надо выполнить», — сказал он себе. В неловкой позе, задорной и в то же время смущенной, стоял он у двери, прислонившись к косяку.
— Да, Вася, вот как получилось, — говорил Асад. — А я надеялся, что по возвращении в Краснорецк сам отыщу вас и предложу свои услуги. А пришлось вам искать меня.
— Это ничего, — сказал Вася, которого сразу расположил простой и доверчиво-грустный тон Асада. — Ведь у вас, судя по тому, что рассказывал Науруз, это получилось от сильного света. А у нас был в мастерских такой случай с одним рабочим: забыл дома очки — и на три месяца ослеп, а сейчас как ни в чем не бывало.
Асад пожал плечами и ничего не ответил.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал вдруг Гриша.
— Да, да, садитесь… Эх, Гриша! — с упреком сказал Асад. — Ведь я не вижу, а ты… Может, чаю хотите?
— Да вы не беспокойтесь, ведь я ненадолго. Я узнать о дальнейших планах нашего друга. Науруз говорит, он остался в Тифлисе.
Асад кивнул головой и подробно стал рассказывать о путешествии их по Веселоречью. Угадывая, чего ждет от него Вася, Асад особенно подробно говорил обо всем, что относилось к Константину. Он рассказывал об этом первый раз, и Вася, машинально опустившись в кресло, молча слушал его.
Слушал и Гриша, сидя у рояля. Окно на террасу было открыто, и Люда, давно уже оставив рукоделие и положив на полную руку свою кудрявую, большую голову, слушала тоже.
Вдруг сверху донеслись громкие шаги, стук и посвистыванье. Асад замолчал. Это Кокоша спустился сверху, из своей комнаты, в руках у него был крокетный молоток.
— Приветствую вас, о великие старцы! — сказал он. — В какую думу погружаетесь вы в этот торжественный час преображенья дня в ночь?
Ему никто не ответил.
— Так кто же в этот меланхолический час отважится сразиться со мной в крокет? Вызываю на турнир! А? Пер Грегуар? (Так Кокоша называл Гришу.
— Спасибо, Николай Евгеньевич, я не пойду.
— Жаль, очень жаль.
Кокоша со стуком и свистом вышел на веранду и увидел в качалке сестру.
— Швестерхен! — нежно оказал он. — Алле хопп — партию в крокет? А?
— Нет, Коля, мне не хочется, — досадливо ответила Люда и даже отвернулась от него.
— Напрасно, — сказал Кокоша наставительно. — Тебе это было бы полезно. А то ты такая красная, у тебя прилив крови к голове.
— У тебя, наоборот, отлив от головы.
— Ну что же, — и Кокоша вздохнул.
Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И сам с собою обречен Сыграть в крокет сегодня он, —пропел он на мотив каких-то куплетцев.
Труппа, в которой была молоденькая актриса, пленившая Кокошу симпатичной шепелявостью произношения и способностью мгновенно вскидывать ногу выше головы, закончила гастроли и уже уехала из города. И Кокоша, хотя и жалко ему было расставаться с возлюбленной, с облегчением подумал после разлуки, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Он устал от ночного бодрствования и дневного сна, мать больше денег не давала, и он не без удовольствия погрузился в домашнюю жизнь, развернув даже свои привезенные из Питера бумаги.
Дело в том, что Кокоша еще в Питере задумал статью, решив написать о последних модных течениях в литературе. Но вся беда была в том, что модные течения в литературе — символизм, акмеизм и футуризм — Кокоше нравились, а та точка зрения, из которой он пытался исходить при оценке этих литературных школ, с неминуемой логикой приводила его к суровой критике этих школ.
Кокоша искренне считал себя марксистом. Но в марксизме была несгибаемая сила логики, и, как ни старался Кокоша, он, применяя эту логику, никак не мог доказать художественную ценность любимых им стихов Игоря Северянина. И каждый день повторялось одно и то же. Бойко разбежавшись на нескольких страницах, он упирался в конкретную оценку произведений, начинал рисовать на полях чуть вздернутый нос своей возлюбленной, и этим все кончалось.
А в саду в этот час длинные тени ложились на желтые дорожки, по-вечернему свежо начинали пахнуть цветы. Становилось жалко убивать за письменным столом такой чудесный час, и Кокоша шел играть в крокет. Иногда ему удавалось увлечь Люду, Гришу или Олю. Но если никто не шел на крокетную площадку, Кокоша тоже не унывал. И сейчас по всему саду и дому слышен был его резвый голос:
— Крокирую… Одним ударом прохожу мышеловку и боковую дужку.
Потом он в восхищении аплодировал сам себе и кричал:
— Браво, Кокоша! Чемпионский удар. Всю жизнь проскакивай так все мышеловки!
И странно было Люде одновременно слышать эти доносящиеся из сада восклицания, а из комнаты — серьезный разговор трех юношей.
— Мы случайно уцелели после разгрома, — медленно говорил Вася. — У нас не было связи с партией, мы словно в темноте сидели, а товарищ Константин словно свет нам принес…
Люда слушала — и окном в другой мир, в мир тяжелой борьбы не на жизнь, а на смерть, в мир широкой народной жизни, казалось ей окно в комнату, откуда слышны были голоса юношей. Они говорили о том человеке, который совсем недавно в веселый весенний вечер стоял с ней вот здесь, возле перил, — и это волновало ее воображение.
Люда понимала, что она нравится Константину. Но разве ему одному нравилась она в эту счастливую пору ее жизни? От Коли Карпушева Люда знала, что к ней собирается свататься сын местного богача миллионера Николай Пантелеев. За последние два года, так и не освоив премудростей шестого класса, этот наследник мукомольного царства сменил куртку и фуражку на великолепный штатский костюм. От отца, последнее время сильно прихварывавшего, Николай Пантелеев готовился принять дела фирмы. «Теперь ему, идиоту, только невесты не хватает, вот он вас и присмотрел», — говорил Карпушев, и его ревнивая злоба забавляла Люду. По громадным тортам и букетам, что Пантелеев присылал Люде в дни рожденья, по тому, как он облизывал губы при взгляде на нее и дико скашивал маленькие карие глаза, Люда понимала, что сваты могут явиться со дня на день, но мысль о том, чтоб выйти за Пантелеева замуж, казалась Люде просто шутовской, совершенно лишенной серьезности.
Константин внешне так ничем и не выразил своих чувств к ней. В тот весенний вечер Люда поняла, что нравится ему. Но он тут же исчез, и теперь даже трудно вспомнить, что он сказал ей, когда стоял рядом, здесь, на балконе. Потом эта маленькая почтовая открытка, вежливые, сдержанные фразы и упоминание о «Песне без слов». Разве она играла тогда именно «Песню без слов»? Вот она не запомнила, а он запомнил. И сейчас, слушая разговор, доносившийся из комнаты, Люда была взволнована и раздосадована — Константин словно вернулся к ней, но как сновидение!
Глава четвертая
1
Науруз, проводив Асада до дома Гедеминовых, пошел на розыски Василия Загоскина, адрес которого дал ему Константин. По пути встретил он какого-то веселореченца, который шел с подводой. Они хотя и жили в разных аулах и никогда не встречались, но сразу признали друг в друге единоплеменников. Земляк, у которого, наверно, были свои важные причины для того, чтобы покинуть родной аул, сейчас работал на байрамуковской заимке, в окрестностях Краснорецка. Науруз узнал у земляка, что паспорта на заимке не спрашивают и охотно берут веселореченцев, так как хозяин заимки Харун Байрамуков сам происходит из веселореченских князей. Но работать приходится за одни харчи. Наурузу есть было нечего, и, встретившись с Васей Загоскиным, он пошел к Байрамукову.
Харун Байрамуков действительно происходил из княжеской фамилии, но похоже, что совсем забыл об этом: занимался всякими торговыми делами, поставлял лес для постройки железной дороги, причем не считал зазорным сам ходить с волами, возившими бревна. Харун продавал и покупал скот, не брезговал скупать зараженный и отбракованный скот. На окраине Краснорецка, в глубоком овраге, на бросовой городской земле построил Харун землянку, начал мыло варить, стал кожу дубить — не пренебрегал заниматься этими для князя постыдными делами. Пока его родичи ездили по пирам, «показывали свое молодечество» в конокрадстве и увозе девушек и сокрушались о несчастном, потерявшем княжеское достоинство Харуне, он тихо богател.
Байрамуков с первых же слов Науруза определил, что перед ним пастух горец, и сразу предложил ему пойти с гуртом до Ростова в качестве младшего пастуха. Науруз сначала было отказался, у них условлено было с Константином, что, побывав к Краснорецке и Веселоречье, он вернется в Тифлис. Но когда Науруз рассказал Василию Загоскину о предложении Байрамукова насчет Ростова, Вася попросил Науруза согласиться с этим предложением. «Иди в Ростов, нам туда все равно посылать надо», — говорил он. Из Ростова шла в Краснорецк линия партийной связи, и по ней до краснорецких большевиков доходила не только петербургская «Правда», но порою даже заграничный «Социал-демократ». Поддерживалась эта связь через почтового служащего Стельмахова и нарушилась вместе с его арестом.
Науруз согласился помочь краснорецким большевикам, он уверен был, что Константин одобрил бы это.
И вот, волоча за собой длинный кнут, перекинутый через плечо, шел он за отарой черных овец, которые медленно двигались с востока на запад по широкой, непривычной для Науруза плоской земле. Осенняя тишина начала уже охватывать степь, хотя в полдень было еще знойно, как в середине лета, и воздух вдали дрожал и струился. Порою высоко в небе слышался еле уловимый печальный свист — то на юг пролетали птицы.
Старшим пастухом при гурте был старик ногаец Азиз-Али. Он ехал верхом, а двое младших пастухов шли пешком. Азиз-Али общался со своими младшими при помощи междометий: то он предостерегающе кричал: «Э-э!» — и указывал нагайкой на отбившихся от стада овец, то, приближаясь к водопою или к месту стоянки, пронзительно свистел. Впалые щеки, острые скулы; сквозь редкие усы и скудную бородку просвечивала желтая кожа. Лицо неподвижно, как степь вокруг. Третьим шел при гурте безродный дурачок, за все время не сказавший ни одного путного слова. Без пояса, слюнявый, брел он за отарой и без всякой необходимости щелкал кнутом.
Небо было громадно, степи беспредельны, путь, по которому Азиз-Али гнал гурт, обходил села и станицы. Только порою окруженный высоким глиняным тыном и похожий на крепость хутор попадался им на пути. Колодезный журавль, поднимая в небо свою тонкую шею, издали возвещал о водопое. Пока овцы пили, псы яростно метались по двору и сотрясали тяжелые грохочущие цепи. Иногда хуторским псам удавалось сорваться с цепи, между ними и овчарками, сопровождавшими гурт, закипала кровавая драка, и тогда пастухи поднимали кнуты…
Наурузу не нужны были собеседники, и он, так же как и оба его сотоварища, шел молча. Он мечтал о Нафисат и беспокоился за нее. Вспоминал о друзьях, раздумывал о Ростове — сумеет ли выполнить поручение Васи Загоскина? И Науруз напевал один и тот же мотив горской пляски — напев этот звучал иногда весело, а иногда печально. Сквозь прозрачные образы своего воображения он ясно видел курчавые волнующиеся спины овец и внимательно следил за их движением. Он не употреблял кнута, но овцы и без кнута слушались его ласкового окрика. Азиз-Али все уважительнее держался с Наурузом. Порою старик с неожиданной улыбкой, делавшей сразу приятным его неподвижное лицо, во время вечерней трапезы подносил Наурузу мозговую кость.
На пятый день пути нагнал их хозяин, казавшийся особенно маленьким и невзрачным на своей большой вороной лошади. Перещупав своими колючими глазами весь гурт, с блеянием протекавший мимо него, он обменялся несколькими словами с Азиз-Али на непонятном Наурузу ногайском языке. После этого хозяин обратился к Наурузу и сказал ему по-веселореченски:
— Старайся, награжу.
В день приезда хозяина резко переломилась погода. Прошел холодный дождь, и хозяин сразу зачихал часто и смешно, как кошка.
— Дождь — это хорошо, — говорил он, чихая, — трава сейчас поднимается, по этой последней траве вы прогоните скот до самого Ростова.
Дождь шел подряд двое суток, и трава за это время действительно поднялась. Но Азиз-Али заболел, стал натужно кашлять, губы его ссохлись, почернели. Теперь после ночлега он, накрывшись своим овчинным полушубком, оставался лежать у костра. Отару угоняли вперед без него, и только к полудню нагонял ее Азиз-Али.
Болезнь отомкнула уста Азиз-Али. На ломаном русском, языке рассказал он Наурузу свою незамысловатую и печальную повесть. В молодости полюбил он девушку, ее отдали за богатого, девушка бежала с Азиз-Али, по дороге их догнали и девушку убили. Сколько таких историй слышал Науруз за свою короткую жизнь, сколько песен об этих бедах со старины сложено! Наурузу даже казалось, будто с ним самим уже случилось что-то похожее. Азиз-Али сослали, всю жизнь прожил он, тоскуя по родине, и лишь года три назад вернулся сюда умирать. Он слабел и покорно сдавался смерти, — так же умирал на глазах Науруза русский старичок Сенечка. Та же обида, та же нужда и такая же безвестная гибель. Науруз пытался лечить ногайца, благо целебные травы росли здесь повсюду. Науруз настаивал полынь, в настой добавлял мяты и полевой горчицы. Азиз-Али слабым голосом благодарил его и уверял, что ему становится лучше. Но каждый раз все с большим трудом садился он на лошадь. И однажды к полудню старик не догнал отары. Что было делать Наурузу? Оставить отару на дурачка подпаска нельзя. Гнать ее дальше, не узнав об участи товарища, он не мог. Оставалось вместе с отарой вернуться на вчерашний ночлег. Но сделать это было не легко: овцы шли и шли вперед по свежей траве и не хотели поворачивать. Дурачок тоже упрямился. Если бы не умные овчарки, Наурузу не повернуть бы отару.
Стреноженная лошадь Азиз-Али пронзительно и грустно заржала при виде отары. Она понурившись стояла у погасшего костра. Азиз-Али лежал здесь же. Руки его были скрещены на груди, лицо спокойно, как всегда. Своим топором Науруз вырыл неглубокую могилу и похоронил старика, положив в изголовье камень.
Азиз-Али безропотно встретил свою смерть. Он был уже стар, и все же в его смерти было что-то такое, с чем никак не мог примириться Науруз. Погиб человек, и, кроме немого камня на могиле, ничего не осталось. А ведь жил, любил, трудился. Это было обидно, несправедливо, и Наурузу вспомнилось все то, что Константин толковал про общую большую несправедливость устройства человеческой жизни. Науруз вздохнул, сел верхом на коня — и снова на запад по осенним степям потекла отара.
Управляться с гуртом стало труднее. Дурачок приходил на ночлег, нажирался и укладывался спать, а Наурузу уснуть было нельзя. Места эти славились разбоями. Науруз научился дремать верхом, покачиваясь на лошади и чутко прислушиваясь к движению отары и к непрестанному щелканью бича, которым развлекался его помощник. Лай собак и монотонное блеяние овец сливались в дремотную мелодию и усыпляли.
Однажды собаки подняли лай сильнее обычного. Науруз открыл глаза и пришпорил коня. Овчарки во весь опор мчались вперед. Науруз увидел человеческую фигуру. Нахлестывая нагайкой коня и крича на собак, гнался Науруз следом за ними. На небольшом бугорке, среди бурьяна, стоял человек. В руке у него был нож. Он стоял, расставив босые почерневшие ноги, спокойно и твердо. Хотя он был очень оборван, Наурузу сразу бросилось в глаза его спокойствие: он стоял, засунув одну руку в карман, а в другой держал нож и без страха, даже презрительно, ждал нападения собак. Его загорелое, с правильными чертами лицо обрамлено было русой бородой, оставлявшей открытыми его впалые щеки. С равнодушным любопытством, словно то, что происходило, его совсем не касалось, следил он за тем, как Науруз укрощает овчарок.
— Здорово, князь, — по-русски сказал этот человек.
Серые глаза его невесело, но твердо глядели на Науруза из-под темных бровей. Сейчас видно стало, что он еще молод, — борода старила его.
Науруз соскочил с коня и протянул ему руку.
— Ты, видно, еще настоящих князей не видел, — сказал Науруз, улыбаясь.
— Раз верхом сидишь, значит князь, — чуть усмехнувшись, ответил незнакомец.
Они сговорились быстро. Леонтий (так звали этого человека) пропадал с голоду в пустых степях, где его недавно обобрали какие-то бродяги, когда он возвращался к себе в село Дивное, неподалеку от Краснорецка.
С тех пор как Леонтий прибился к гурту, Наурузу стало много легче. Это был разумный, толковый человек. Кормились пастухи сытно, он быстро отъелся и обнаружил силу и ловкость. У Науруза было с собой кое-какое запасное платье. Леонтий принял его и сказал:
— В Ростове разочтемся.
Леонтий кое-что рассказывал про себя. То одно скажет, то другое. Посреди ночи, когда вдруг на зябком рассвете встревожатся и залают овчарки, пробудившись и обойдя гурт, пастухи подбрасывали в костер влажной от росы, трескучей и дымной травы и, закутавшись в овчины, не могли заснуть. Так начинался разговор — не разговор, а раздумье вслух, невеселые воспоминания. Говорил Леонтий, Науруз больше слушал.
Отец Леонтия овдовел рано и вскоре женился. Мачеха народила много маленьких братьев и сестриц. Потом отец умер, — остался Леонтий семнадцати лет, а с ним отцовы дети, отцовы подати-недоимки, кабальные долги. Стряхнул все это с себя Леонтий и ушел искать свое счастье.
— И ухажерочку свою увел, была у меня приветочка… — сказал он так, что Науруз по звуку голоса понял, что и здесь скрыто горе. — Ушли мы за Маныч, в Сальские степи. Землю нам чуть не даром нарезали. Землица такая, что хоть на хлеб ее мажь. Но каждое лето — суховей. Два года подряд что сеяли — и того не собирали. Вот тебе и вольная жизнь. Один расейский туда прибегал к нам: «А у вас, слышно, по всей России говорят, за Ростовом-батюшкой вольготная жизнь». Помер он в эту зиму. Много народу померло. Проработал я у богатого казака, расплатился он со мной ничего, кое-что себе осталось. А когда обратно возвращался, напали на меня какие-то — тоже, может, от нужды. Вот раздели всего и пустили. Иду, пробираюсь к себе в Дивное. Что там у них? Мачехе-то, видно, тоже не легко…
Обстоятельно рассказав Наурузу о том, на каких условиях иногородние арендуют казачьи земли, Леонтий добавил:
— Должно быть, от буржуя никуда не убежишь. Буржуй, видно, и у нас, за Ростовом, так же царствует, как и в России.
Науруз рассказал Леонтию о восстании на веселореченских пастбищах. Леонтий выслушал молча и медленно проговорил:
— Одна вошь всех нас жрет.
Даже подсчитывая, на сколько его обсчитал богатый казак, у которого он работал, Леонтий не повышал голоса; ясно было, ничего иного он и не ждал от богатых людей, от буржуев. О своей возлюбленной говорил он мало, скупо — она, оказывается, вернулась в Дивное раньше него. «Когда б имел златые горы и реки, полные вина», так, может, у нас по-другому бы все обернулось», — говорил Леонтий и так стискивал зубы, что желваки перекатывались на его скулах.
Много чего пережил Науруз с Леонтием. Приходилось им искать брода через широкую Кубань, изнемогая от жажды, проходить по солончакам. Довелось перенести и ураган, во время которого пропали четыре овцы. Все же они благополучно пригнали гурт в Ростов.
Науруз от Азиз-Али знал, что скот в Ростове надо сдать на кирпичниковские бойни, получить деньги и поездом вернуться в Краснорецк. Науруз с помощью Леонтия произвел полный расчет на бойнях и, не дав приказчикам украсть ни одной овцы, поразил их своей зоркостью и честностью. Приказчики зазвали их в трактир. Науруз угостил приказчиков, но сам, ссылаясь на закон Магомета, не пил. Приказчики, захмелев, советовали Наурузу поступить на бойни, манили прелестями легкой городской жизни. Науруза привлекала городская жизнь, ее бессонные ночные огни, бодрый и непрестанный каменный и железный гул, многолюдство и разнообразие человеческих лиц, сплетение людских голосов и музыки, раздававшейся то из дворов, то из открытых окон больших домов.
Но у Науруза под стелькой в сапоге лежала маленькая навощенная бумага, врученная ему Загоскиным для передачи слесарю Самарцеву, живущему на окраине Ростова, в Темернике, — и бумага эта его заботила. Нужно было вручить ее и тут же отправиться в Тифлис к Константину. Казалось бы, что стоило Наурузу выбросить эту бумажку, на которой неизвестно что написано, и остаться жить в Ростове? Но ему даже в голову не приходило это сделать.
Науруз проводил на вокзал Леонтия, торопившегося к себе в Дивное.
— Ну, может, встретимся когда, — при свете фонарей вглядываясь в лицо Науруза, сказал Леонтий. И вот исчез — один из многих хороших людей, каких ветром носит по широкому простору земли.
В этот же вечер Науруз пошел разыскивать на Темернике слесаря Самарцева. Когда детский голос окликнул его из-за калитки, он, как этому научил его Вася, сказал:
— Посылочку вам привез.
— От кого? — спросил детский голос.
— От дяди Володи, — ответил Науруз.
Калитка открылась, и девочка лет четырнадцати, с двумя черными косичками, провела его в дом. Науруз узнал Самарцева по описаниям Васи. Это был бритый старик в очках. Он молча взял навощенную бумагу и ушел с ней куда-то в глубь дома. Там зажегся свет, слышно было какое-то позвякивание. Девочка поставила перед Наурузом шипящую на сковородке яичницу и стакан молока. Когда старик вернулся, вытирая платком красные слезящиеся глаза, Науруз вскочил, как подобало при появлении старшего. Но тот сказал:
— Чего это вы вскочили, точно я унтер? Закусывайте, пожалуйста, с дороги.
Он присел, закурил папиросу и с удовольствием оглядывал Науруза.
— Да, — сказал он, — мы уж так и понимали, что, если из Краснорецка нет вестей, значит дела у вас неладные. Попался, значит, Стельмахов?..
* * *
На следующий день, за час до отхода товаро-пассажирского поезда Ростов — Баку, Науруз подошел к паровозу и стал его внимательно рассматривать. Минуты через три Науруза окликнул машинист:
— Что, князь, купить собираешься паровоз? Попробуй приценись, дешево отдам.
— Здравствуйте, Петр Федорович, — отчетливо ответил Науруз. — Вам тетя пирожки прислала.
— Вот те на! — сказал машинист. — Я думал, обыденный какой человек придет, а прислали черкеса. Ну, давай твои пирожки.
Науруз ушел и вернулся с двумя провожатыми, нагруженными тяжелыми мешками. Мешки были быстро приняты и спрятаны. А Науруз пошел назад от паровоза, показал кондуктору билет и устроился в вагоне у окна. Снова, но только в обратном порядке и с необычайной быстротой, замелькали мимо него те же степи, хутора и станицы, базары, проселочные дороги, вокзалы, города, красивые улицы и трущобы… и неисчислимые сотни тысяч людей — вся беспредельная, многомиллионная русская жизнь. В горах люди столетиями жили неподвижно, как камни, и правнук жил на том месте, где умер прадед. А здесь людей крутило, бросало, приносило, уносило. Люди появлялись и исчезали, точно их никогда и не было. Навеки сгинул ногаец Азиз-Али, зато появился Леонтий; сдружились, о многом переговорили, и вот ушел и он к себе в Дивное. Как-то будет у него с Нафисат — его приветочкой, что живет в доме Баташевых, в ауле Баташей?..
2
Тих и неслышен был в своей семье Исмаил, а когда умер старик — точно крыша дома провалилась.
Женившись в ранней молодости на безродной Хуреймат, он поссорился из-за этого со своими родными, ушел из старого Баташева поселка сюда, на склон горы, и поселился здесь.
Склон горы весь был загроможден валунами, и только в двух местах между камнями пробивались травы. Два года Исмаил и Хуреймат ворочали здесь камни. А на третий год у них стало два поля. Каждое это поле Хуреймат могла покрыть своим белым платком. Но когда Исмаил засеял ячменем свои поля и они празднично зазеленели, похоже было, что суровая гора, покрытая камнями, улыбнулась. Здесь же среди камней Исмаил и Хуреймат сложили свое словно вросшее в гору жилище. Семья прибывала, стены жилища раздвигались вширь, хлеба с каждым годом нужно было все больше. Исмаил бережно приносил на свои поля то чернозему из леса, то кучку навоза с дороги. Но зелененькие лоскуты полей от этого не становились больше. И тогда Исмаил снова лазил по склону горы, долго лазил — и нашел участок, где валуны расступались, давая место камням помельче. И хотя ни одной травинки не пробивалось здесь сквозь щели, Исмаил решил сам пробиваться к земле, — всю свою жизнь отдал он этому труду.
Десятилетие проходило за десятилетием. Подросли сыновья, потом внуки. В день, когда началось восстание на пастбищах, все Верхние Баташевы ушли в аул, только Исмаил остался один на своем поле — так все Верхние Баташевы, вслед за Исмаилом, называли каменную яму на склоне горы.
В последний день своей жизни Исмаилу удалось вывернуть последний камень и рукой дотронуться до студеной зернистой земли. Наверно, обрадованный тем, что труд всей его жизни увенчался успехом, он поторопился, не укрепил как следует рокового камня, сдвинулся камень и размозжил ему голову…
Теперь этот большой камень поставлен на могиле Исмаила, и на нем старательной рукой Сафара — одного из внуков Исмаила — высечены кирка, мотыга и кумган. Тысячелетия пройдут, имя Исмаила забудется, но все будут знать, что похоронен здесь человек, который честно трудился всю жизнь и, когда его томила жажда, пил горную родниковую воду.
А рядом с черным камнем, над могилой старика, стоит белая глыба речного камня кварца, и только меч высечен на ней. Это могила молодого Хусейна — четвертого сына старика Исмаила. Храбрым юношей был Хусейн. Заступился он за вдову, убил ее обидчика, сам был убит и через несколько дней после смерти отца лег рядом с ним на родовом кладбище Баташевых.
Кирка и мотыга Исмаила перешли к его старшему сыну Мусе. Поднимаясь на рассвете, так же рано, как вставал отец, Муса шел на «поле», грузный, похожий на те каменные глыбы, которые он ворочал всю жизнь.
Вот он на «поле». Среди хаоса камней, внизу, как вода в водоеме, на глубине более человеческого роста, лежит кусок черной земли шагов десять в длину и столько же в ширину.
И морщины на каменном лице Мусы чуть дрогнули, он доволен, недаром умер отец, не напрасно трудятся они с братом Али.
Брат Али, похожий на Мусу, но только более живой и веселый, не сопровождает его в это раннее время. Но не пройдет и часа, как он тоже с киркой и мотыгой появится тут. Старший сын Мусы, чернобородый рослый Элдар, поглощенный заботами о своей быстро увеличивающейся семье, давно уже считал эту возню с камнями занятием никчемным; второй сын Мусы, мечтательный и беспокойный Сафар, ростом и повадкой похожий на своего убитого дядю Хусейна, все шептался с двоюродным братом своим и сверстником, крепышом Касботом, сыном Али, и уговаривал его уйти из Старого аула на заработки.
При жизни деда Касбот, бывало, тоже выходил поворочать камни и гордился, когда слышал от старших скупое слово одобрения. Но после событий последнего года Касбот охладел к работе. Иногда он подходил к краю ямы, своими маленькими и, казалось бы, сонными синими глазами пристально наблюдал за тем, как работают его старшие родичи. Но стоило кому-нибудь из них окликнуть его, он тут же поспешно уходил.
Широколицый, русый Касбот явно пошел в породу своей матери — в Даниловых. Но многое ему передал и отец. Касбот, правда, как и Али, был миролюбив, никогда не прибегал к оружию. Но если его очень уж задирали сверстники, он пускал в ход увесистый кулак левой руки (был он левша) — тогда от удара обидчик, даже не застонав, валился на землю.
Касбот преданно любил своего дядю Хусейна, восхищался им и был у него на побегушках. После смерти Хусейна Касбот свои чувства перенес на друга его Науруза и на тетку свою, любимую сестру Хусейна — Нафисат.
Касбот был немногим младше ее. Ей исполнилось всего пять лет, когда она среди смуглых и черноглазых баташевских детей выбрала его, русого, синеглазого и румяного. С трудом она, пятилетняя, таскала трехлетнего увесистого бутуза, со всей серьезностью воображая, будто это ее сын. Касбот с детства привык, что Нафисат — это лучший друг и защитник его. А сейчас он с гордостью и радостью почувствовал себя ее другом и защитником. Нафисат ценила эту дружбу — на Касбота можно было положиться. Она рассказала Касботу о Наурузе и друзьях его и уверена была: в трудный час Касбот ей поможет.
Уныло и беспокойно показалось Нафисат в Старом ауле, когда она, как всегда, в конце лета вернулась с пастбищ. В каждой семье недосчитывались самых молодых и смелых: одни были убиты, другие томились в Краснорецкой тюрьме. Пусто и печально стало в Баташеве, как бывает в лесу после большого пожара. Во всех селениях, во всех родовых поселках молодежь бросала привычную работу и стремилась уйти на заработки куда-нибудь подальше. Даже свадьбы стали редки, и только из конца в конец долины слышны были печальные песни девушек в вечерний час, когда похожие на муравейник поселки отбрасывали лиловые тени на желтеющие поля…
Казалось, старое жилище, в котором веками жил народ, дало трещину и накренилось.
* * *
Со времени смерти мужа Хуреймат, передав все ведение хозяйства женам старших двух сыновей, занималась только маленькими детьми. Ее младшему сыну Азрету шел десятый год, но, кроме многочисленных внуков, у нее уже родился первый правнук. Как пастух со своим стадом проходит строго определенный круг, так она, окруженная более чем двумя десятками мальчиков и девочек, медленно шла по кругу, к концу дня возвращалась туда же, откуда начинала путь, — к родному дому. Она рассказывала обо всем, что видела; проезжал ли всадник — она говорила о нем и о его коне; переваливало ли облако через гору — она говорила о приметах погоды; бабочка, камешек, звук далекой песни — обо всем рассказывала она детям.
Посреди дня они непременно приходили на кладбище, — там, привязанные к надгробным, стоймя поставленным камням, паслись козы. Хуреймат с помощью старших девочек доила их и потом поила детей молоком. И, прикрыв лицо платком, тихо плакала у черного камня — над могилой мужа, а у белого — над могилой сына…
Однажды Нафисат, вся раскрасневшаяся, взволнованная, прибежала на кладбище. Она так бежала, что щебень взлетал из-под ее ног и тонкий платок, подарок Науруза, едва держась на голове, точно летел за ней следом. Еще издали, услышав ровный голос матери, она перешла на тихий шаг и подошла бесшумно.
Хуреймат сидела возле черного камня, на могиле Исмаила, и, впустив глаза на вязанье, не спеша рассказывала. Дети сидели тихо и не сводили глаз с ее губ. Лицо Хуреймат, которое она до крови расцарапала, оплакивая мужа и сына, стало заживать, и следы царапин превратились в новые морщины.
Всю жизнь свою дедушка расчищал из-под камней маленькое наше поле, — говорила она, — а на равнинах, где жили отцы наших отцов, земля лежит от одного края неба до другого, и нет ей конца. Сыто и весело жили наши предки на этой равнине и ниоткуда не ждали беды. Но тут пришел хромой Темир с неисчислимым войском, напал на мирные аулы, разграбил дома и пожег их вместе с садами, не давая пощады ни малым, ни старым… Мужчины пали в бою, а женщин и детей угнали в неволю. Хромой Темир ушел на восток, а на месте, где была зеленая, веселая страна, протянулось от края до края небес одно большое дымящееся пожарище. Черные вороны перелетали с одной развалины на другую и везде находили кучи мертвецов. Вдруг из глубокого подвала вышла девушка. Много дней просидела она в подвале, где были запасены еда и питье, — там девушку спрятали ее братья. Они пообещали, что после победы ее выпустят, и завалили камнями, — храбрые люди всегда уверены в победе. Слушая лязг и гул сражения, девушка терпеливо ждала в подвале возвращения братьев. Но наверху все уже стихло, а братья не шли. Тогда, отвалив с трудом камни, она вышла наружу и на месте родного аула увидела одни дымящиеся развалины, услышала карканье ворон и страшный запах трупов. Не узнавая вокруг себя ничего, вдыхая горький дым и плача, девушка шла между развалинами. И вдруг услышала, словно из-под земли, жалобные голоса детей. Какая-то мать спрятала их под камнями в подвале. Убита ли была мать, или угнали ее — неизвестно. Девушка отвалила камни и выпустила детей на свободу.
«Теперь я вам буду мать», — сказала девушка. Она успокоила и накормила детей, потом пошла по аулу, кричала, звала — и отовсюду отзывались ей слабые детские голоса. Из аула в аул, ведя за собой спасенных детей, обошла она всю обугленную страну — три сотни детей спасла она. И тут-то, солнышки мои, повела она их в горы. Жизнь в горах хотя и много труднее, чем на равнинах, зато безопасней… Прошла она вверх по реке Веселой, миновала Ворота, где ущелье так узко, что защитить его могут всего лишь несколько мужественных бойцов, — тогда в широкой долине, где сейчас стоит аул Веселый, еще никто не жил, и слишком открытой показалась она девушке. Долго шли они по крутым берегам, заросшим орешником, все выше и выше. Перевалив скалистую перемычку, они увидели зеленую долину, никем не заселенную, пригодную для жилья. Здесь, в большой пещере, поселила девушка спасенных от Темира детей, воспитала и вырастила их, выучив, как надо жить. Теперь там пять аулов, и называют они себя «ассы» — спасенные от Темира, а русские это ущелье назвали «Астемирово». Когда девушка умерла, похоронили и ее в той большой пещере, где первый раз переночевали дети, и на могиле поставили камень, похожий на женщину. Камень этот каждую весну украшают цветами, а осенью — плодами и ягодами…
Хуреймат замолчала, продолжая вязать. Дети тоже молчали.
— А теперь ведь Темира нет там, внизу, так, может, нам вниз спуститься, на широкие земли? — вдруг спросила черноглазая большеносая Саньят, младшая дочка Али.
Когда Нафисат весной ушла в горы, Саньят лепетала только что-то свое детское, а сейчас вон о чем спросила.
Хуреймат вздохнула, промолчала, и тогда Нафисат громко сказала, обращаясь к детям:
— Вместо хромого Темира завелся внизу Темиркан Батыжев, отнял у нас все земли и пастбища. Но скоро придет время, когда славный Науруз, о котором вы слышали, убьет Темиркана, соберет наших людей, спустится вниз с гор, и снова мы поселимся на плодородных равнинах.
Так говорила дочь. Хуреймат и все дети молча смотрели в ее раскрасневшееся лицо, — впервые после восстания раздались в притихшей Баташевой долине эти гордые слова…
— Он вернулся? — спросила мать.
Нафисат только головой кивнула.
* * *
Зимой, когда внизу, в степях, уже гудели бураны, а в глубоких долинах среди гор было тихо, тепло и даже порою солнце посреди дня на несколько часов выходило из-за облаков, Науруз вернулся в свой родной Баташей. Конную стражу с начала зимы увели вниз, князья грелись у своих очагов, пастухи спустились с пастбищ, и в ауле было сейчас безопаснее, чем когда-либо.
Прежде всего Науруз направился в дом деда Данилова, где прошло его детство, погостил он у бабушки Зейнаб, передав ей весть от мужа ее, деда Магмота, которого держали в тюрьме в Краснорецке. Через краснорецких друзей-большевиков Наурузу удалось узнать о том, как живут в тюрьме веселореченские бунтари. Они сидели в одной общей камере, и дед Магмот был у них старостой. «Как-то он там без меня?» — вытирая глаза, говорила бабушка Зейнаб. Младший из сыновей Магмота и Зейнаб, русоволосый Бетал, был неведомо где в бегах, но песни его о красавице белошейке распевала молодежь. Сама же красавица белошейка вышла замуж за удалого Батырбека Керкетова. Молодые жили у отца Балажан, богача Хаджи-Даута, не желавшего расставаться с дочкой. Науруз и у них побывал, и там его тоже встретили с честью.
К ним-то через Касбота Науруз вызвал Нафисат, и теперь они стали встречаться.
* * *
Дни проходили за днями, а порядок в семье, нарушенный смертью Исмаила Верхнего Баташева, так и не восстанавливался. Старику Исмаилу, всегда тихому, ласковому, стоило лишь, бывало, покачать головой, и свары на женской половине сразу прекращались. Теперь старуха Хуреймат занималась только детьми, и все домашние дела, минуя уступчивую и болезненную Нурсиат, жену старшего брата — Мусы, перешли в руки Хадизат, жены второго брата — Али. Рыжеволосая, крупная женщина с белым лбом и с выпуклыми ярко-синими глазами, Хадизат восемь раз рожала и все же оставалась привлекательной. Когда Кемал, третий сын Исмаила, привез в родительский дом жену свою Фатимат, Хадизат сразу же недружелюбно взглянула на тоненькую Фатимат с ее жеманно-вкрадчивыми манерами барской прислужницы. Любимая горничная госпожи Ханифы, матери князя Темиркана, Фатимат всегда была выделена и отмечена среди женской прислуги дома Батыжевых за свою расторопную исполнительность и быстроту. При всех капризах госпожи Ханифы, Фатимат сохраняла неизменно приветливый вид, и только на верхней губке ее, чуть оттененной пушком, выступали мельчайшие капельки пота, который она осушала легким прикосновением кружевного платочка. Такой тоненькой, легконогой, с белым, нежно разрумянившимся в беге лицом и приметил ее на княжеском дворе Кемал. Любовь его возросла, когда он узнал, что в жилах ее течет кровь Батыжевых. Впрочем, мать ее, умершая при родах, так и не сказала, от которого из Батыжевых она понесла — от Темирканова отца или от старшего брата… Как милости, выпросил Кемал у Темиркана руки Фатимат, потому что госпожа Ханифа с неохотой расставалась с услужливой и ловкой девушкой.
Смерть старика Исмаила повлияла на положение каждого, даже занимавшего самое скромное место в семье; отразилась она и на положении Фатимат, младшей бездетной невестки.
Кемал, пользовавшийся расположением князя Темиркана Батыжева, оставив жену дома, уехал в Арабынь.
Здесь, в старом ауле, в семействе Верхних Баташевых, Фатимат, со своим умением услужить, быстро что-либо принести или красиво прибрать комнату, сразу оказалась никому не нужной. Когда Хуреймат сунула ей в руку нож и велела зарезать курицу, Фатимат упала в обморок. Даже для того чтобы месить тесто, у Фатимат не хватало сил, сыра приготовить она не умела. А для Нафисат, любимой дочери стариков, которая была одних лет с Фатимат, все эти домашние дела не представляли никакого затруднения. Нафисат могла, не поморщившись, ободрать шкуру с коровы, только что павшей, а Фатимат чувствовала тошноту, только издали взглянув на то, как ловко управляется Нафисат со шкурой. Нафисат тогда тоже посмеялась над ней, но добродушно. Но это было раньше, еще до восстания. Теперь Нафисат, вернувшись с пастбищ повзрослевшей, неулыбчивой, точно и не замечала Фатимат и даже ни разу не вступилась за невестку, слушая, как ею помыкает грубая Хадизат.
Раньше, до восстания, молоденькая жена Кемала была для Нафисат славной подружкой, тем более интересной, что ее привезли из Арабыни. Нафисат, кроме родного аула, нигде не бывала, и Арабынь представлялась ей чудесным местом, где идет незнакомая и страшная, но любопытная жизнь. Нафисат любила послушать Фатимат, поболтать с ней, утешала ее, за нее заступалась.
Теперь, после восстания, когда чуть ли не в каждой семье аула были убитые или арестованные, Нафисат вдруг поняла, что тоненькая, с нежным румянцем и мягкими движениями Фатимат принадлежит к лагерю врагов и является кровной родней ненавистному Темиркану Батыжеву, самому страшному из врагов Науруза. И Нафисат как бесчувственная смотрела теперь на злоключения Фатимат.
Самой тяжелой обязанностью для женщин в семье Верхних Баташевых было ходить по воду на реку, которая текла саженей на десять ниже жилища Верхних Баташевых. Когда хозяйство вела Хуреймат, обязанность эта распределялась между всеми женщинами. Теперь Хадизат возложила доставку воды только на младшую невестку. Семья была большая, и с рассвета до заката только и видно было, как носит воду Фатимат, одетая в красное и синее, городского, необычного здесь покроя платье (сама госпожа Дуниат, жена Темиркана, сняла его с себя и подарила Фатимат после свадьбы). Один кувшин — на плече, другой подвязан к поясу. Медленно спускается она к реке и еще медленней, задыхаясь и останавливаясь на каждом шагу, поднимается вверх по головокружительному подъему. А поднимешься, принесешь воду — слова благодарности не услышишь.
— Дождались тебя наконец. Насмотрелась в воду, налюбовалась на тощее свое лицо? — говорит Хадизат и, подмигнув женщинам, которые всегда толкутся возле очага, добавляет: — Гляди, чтобы бог водяной не состроил с тобой такой же штучки, как с Дзерассой.
Женщины фыркают, хохочут и недоброжелательно разглядывают чужое, бледное лицо Фатимат. А Хадизат, сливая воду в громадные, из дубовых чурбаков выдолбленные кадки, пренебрежительно машет рукой.
— Куда ей до Дзерассы! Дзерасса — всем нартам мать, она от мужа своего Аксира родила двух братьев-богатырей, а после его смерти от бога ночных набегов и странствий родила мудрую Шатану, да еще от бога струящихся вод родила лукавого Сырдона. А эта? Безбедрая, ей и родить не под силу… И куда только смотрел тот, кто детям моим приходится дядей, когда брал ее себе в жены? Или он хотел поставить ее у нас на поле чучелом, чечеток пугать…
Слыша, как, охая от восторга, хохочут женщины, Фатимат забирала кувшины и скорее уходила, слизывая мелкие слезинки ненависти…
Раз вечером Фатимат сидела на камне возле хлева и ждала, чтобы в доме все затихло и можно было незаметно прокрасться к своему месту и заснуть. Наступала ясная, безветренная ночь, в небе высоко обозначилась половинка луны, и с каждой минутой становилось все холоднее — это были первые заморозки. Фатимат устала, ей было холодно, а в доме все еще не успокаивались, слышны были то басовитые голоса мужчин, то тихо переговаривающиеся женские голоса. Порою со сна вскрикивал ребенок, и мать успокаивала его ласково и сонно. Фатимат бесшумно плакала от злости и одиночества. Вдруг ей показалось, как будто что-то зашелестело наверху, над ее головой. Она повернула голову — и замерла. На крыше хлева стоял мужчина, широкоплечий, высокий — и тут же безмолвно исчез, словно не было его. Может, это вор ночной? Закричать? А что, если никого не было?.. Глаза Фатимат полны были слёз, это ей могло почудиться.: Она закричит, никого не окажется — и опять ее осмеют.
Она вошла в хлев и бесшумно, останавливаясь и прислушиваясь после каждого шага, стала его обходить. И вдруг из самого темного угла, где шатровая кровля хлева упиралась в землю, услышала она шепот, вздохи, слова нежности.
И тут она вспомнила, что Нафисат после возвращения с пастбищ не стала спать в доме, говорила, что душно, и стелила себе во дворе.
Щеки Фатимат горели, дыхание прерывалось. Выданная против воли за грубого Кемала, она впервые слышала те необычайные слова, которые из глубины человеческой души может исторгнуть только любовь. Фатимат была поражена, она завидовала. «Науруз мой…» — простонала Нафисат. Фатимат прикрыла рот рукой и, тихо пятясь, стала уходить. Науруз, страшный Науруз, враг ее мужа, враг Темиркана, преследуемый и неуловимый, — он возлюбленный Нафисат, и она, что непристойно женщине, называет его по имени…
На следующий день Хадизат была озадачена тем, что на губах Фатимат все время бродила какая-то странная улыбка. «Уж не рехнулась ли?» — думала Хадизат не без опаски.
А Фатимат торжествовала, понимая, что держит в руках тайну и что обладание этой тайной дало ей в руки оружие. Она не хотела зла Нафисат и еще не знала, как можно употребить это оружие, но представляла себе все страшное действие его.
Она не любила мужа, но с каким нетерпением ждала она его приезда — ведь надо же было кому-нибудь рассказать!
3
Только вернувшись в Баташеву долину, почувствовал Науруз, как возросло на родине значение его имени. Сейчас старшие, как равного, сажали его рядом с собой. О нем рассказывали легенды, пели песни, молодежь ловила и повторяла каждое слово, сказанное Наурузом.
Со стариками Науруз вел себя, соблюдая все старые обычаи, с молодежью же более просто. Но тем и другим он рассказывал об одном — о близости общенародного восстания против помещиков, против царя, против богатых.
Все эти дни Науруз тайно встречался с Нафисат. Им хотелось поселиться под одним кровом, они мечтали никогда не расставаться, надеялись, что у них будут дети. Но Наурузу нужно было продолжать свой путь в Тифлис — он должен был отнести туда часть груза, полученного в Ростове. В Баташей он зашел потому, что ему было по пути. Нафисат не отпускала его от себя, ему трудно было с ней расстаться.
И не знали они, что бесшумно, как кошка, выслеживает их все это время молоденькая жена Кемала, Фатимат.
Но вот настал час разлуки.
Нафисат проводила Науруза до места, где они заранее условились расстаться. Здесь тропа выходила на высокие нагорья, сейчас покрытые снегом, синяя волнистая поверхность его скупо окрашена была алыми отсветами зимнего восхода. Внизу, в долине, снег был мягкий, к полудню даже подтаивал, здесь же под легким дуновением северного ветра все застыло в неподвижности и тишине, щеки и губы Нафисат были красны, как гроздья рябины.
— До весны ты мог бы в безопасности жить здесь у нас, в Баташевой долине, — упрямо сказала Нафисат.
Науруз ничего не ответил.
Одет он был для дальней зимней дороги, туго затянут поясом. Сняв рукавицу, держал он в руках неподвижную руку Нафисат. Скупы были слова, когда она просила его остаться, но пальцы ее нежно и сильно держали его руку, и все никак он не мог уйти.
— Еще раз скажу тебе, моя Нафисат, — сказал он; пальцы ее дрогнули и еще сильнее стиснули его руку, — лучше идем сейчас со мной! Мы дойдем до аула Дууд, там укроют нас в семье друга нашего Жамбота. Передам я им последние вести от Жамбота, который отправился из Баку в дальний путь, в город Москву. В Дууде дождемся мы близкой весны, пройдем через перевал в Грузию и придем в Город (Науруз говорил о Тифлисе). Там поселю я тебя в семье доброго человека, шапочника, мужа Жамботовой тетки, и ты проживешь, пока с помощью Константина и его друзей не найду я работы в Тифлисе. Сегодняшний день будет морозный и ясный. Одета ты тепло, до заката успеем мы дойти до Дууда.
— В Дууд я пошла бы, хотя никогда там не была, — ответила Нафисат. — Дууд — это наши веселореченские места, и семья Жамбота для меня все равно что родная. Но не пойду я из Веселоречья.
— В семье шапочника, Нафисат, ты тоже будешь как дома, они тоже родичи Жамбота и друзья мне.
Нафисат помолчала.
— Когда я еще совсем мала была, — сказала она, — хотела я отсюда, где мы с тобой стоим, с этих нагорий, взять два цветка и посадить возле нашего дома. Ты знаешь все цветы и травы, знаешь оба эти цветка. Девушки называют один, с белыми лепестками вокруг желтой середины, утренним солнцем, а другой, такой же, только лепестки его синие, — солнцем вечерним… И вот цветок утреннего солнца, с тех пор как я посадила его возле нашего дома, растет и цветет, а цветок вечернего солнца хотя и растет, но цвета не дает. Я и поливала его, и конский навоз подкладывала, все равно — ни одного «вечернего солнышка» не расцвело внизу.
И Нафисат вздохнула.
— Разные бывают на свете цветы: одни пересадить можно — они везде будут цвести, а другие нельзя пересаживать — цвета не будет.
Науруз подумал и не стал уговаривать Нафисат.
— Я скоро вернусь, — сказал он. — На лето снова наймусь к Байрамукову пасти его скот на летних пастбищах. Летом мы встретимся.
Она промолчала.
— Ты сердишься на меня? — спросил он и притянул ее к себе. Она снизу вверх взглянула в его глаза, и они обо всем забыли.
Из-за края заснеженной, ощетинившейся голым кустарником горы стало выкатываться солнце.
— Иди, уже время, — сказала Нафисат.
— Как ты будешь без меня? — прошептал он.
— Иди. Я знала, когда выбрала тебя, что нелегкий жребий — быть твоей женой. Иди. Присылай вести о себе. Если из друзей спрятать кого нужно будет, я спрячу. Может, Константина приведешь? — И она усмехнулась. — Хороший человек.
— Если что нужно, ты сразу к кузнецу Исламу, — повторил Науруз то, что уже говорил.
— Иди, — она оттолкнула его от себя, — солнце встало, а то до вечера до Дууда не дойдешь.
Солнце, веселое, жаркое, излучая ослепительно белый венчик, поднималось над миром. Внизу клубился туман, а здесь было холодно и ясно… Нафисат долго глядела вслед Наурузу, а он то исчезал, то вновь появлялся среди сугробистых холмов и все уменьшался.
Глава пятая
1
Расставшись в Тифлисе с Константином, Наурузом и Асадом, Жамбот вернулся в Веселоречье и ночью тайком пробрался в свой родной аул Дууд, с тем чтобы перед долгой разлукой проститься с близкими. Он узнал, что со свирепой алчностью ищут его следы князья Дудовы, и это еще сильнее укрепило в намерении уехать с родины надолго и далеко, в Россию, в Москву.
Чтобы попасть в Россию, можно, конечно, в Краснорецке, или во Владикавказе, или еще на какой-нибудь железнодорожной станции купить билет, и тогда пышущее огнем и дымом чудовище домчит до Москвы. Но на покупку билета не было денег, и Жамбот решил воспользоваться иным, древним путем — водной дорогой.
Добравшись до Баку, он посетил своего земляка Алыма Мидова, работавшего на нефтепромыслах богача Сеидова. Это было осенью 1913 года. Большая забастовка, охватившая почти все промыслы, близилась к концу. Алым уговаривал Жамбота остаться в Баку и поступить на работу. Но Жамбот вопреки уговорам и упрекам гостеприимного Алыма нанялся на одну из громадных нефтеналивных барж. Гигантскими ржавыми ладьями высились они возле причалов, но по мере того как их наливали керосином или нефтью, они всё глубже погружались в воду.
Морские волны свободно перекатывались по клепанной железом верхней палубе, на которой черными по красному огромными буквами написано было «Нобель». Такие большие буквы невозможно не запомнить, это были первые русские буквы, усвоенные Жамботом. Они обозначали имя хозяина, которому принадлежало все: и буксир, и баржа, и нефть, и на время подписанного контракта сам Жамбот.
Где-то далеко впереди дымит, трубит маленький буксир, а за ним, скрепленные железными тросами, тянутся баржи. На поверхности моря они почти незаметны, но на каждой корме торчит маленький домик с синей, красной или зеленой крышей. Там живут штурман, ведущий баржу, и двое его подручных. Когда-то Жамбот сделал из ствола старого ружья для своего пасынка Эдыка свирель, но Эдыка убили князья Дудовы. Жамбот кровью князей заплатил за родную кровь. И вот теперь поет, кричит на барже эта свирель об обидах, которым нет ни прощенья, ни забвенья, и белые чайки летают возле баржи Жамбота охотнее, чем возле других. Белыми парусами мелькают их крылья. Чайки летают и кричат, словно хотят перекричать жалобы этой свирели. Вокруг Жамбота — одно только море. Навсегда ушли в синеву высокие снега Кавказа.
Но вот вокруг, вблизи и вдали, закачались рыбачьи паруса…
— Последняя началась путина, — сказал штурман, сменяя в шесть часов вечера Жамбота.
Выпятив вперед густую черно-рыжую бороду, без шапки, с нечесаными густыми волосами, он, расставив ноги, стоял рядом с Жамботом. Ноздри его тонкого, длинного носа втягивали воздух, и, щурясь, он оглядывал оживившееся взморье, все в белых парусах, покачивающихся на разгонной волне.
— Как рванет ветер-отгонник этак с полуночи, отгонит в глубокую воду рыбачьи баркасы — хозяину убыток, а людям смерть.
— Какому хозяину? — спросил Жамбот.
— Как то есть какому? — удивился старший. — Гляди вон туда. Видишь там пристани? Так, считай, от них на восток тридцать тысяч десятин берега — это все рыбачьи промысла Базилевского. А если от западного берега Волги считать, так будет тысяч двадцать десятин — то промысла братьев Соколовых. Стало быть, вся рыба, какая идет из Каспия в Волгу во время нереста, попадает либо одному в невод, либо другому. Всю матушку Волгу на крючок поймали! — Старший со злобой рассказал о том, как, перегородив своими сетями Волгу и не давая возможности рыбе подниматься вверх по реке для нереста, жадные промышленники обезрыбили верховья Волги…
Нефтеналивной караван медленно шел между невысокими берегами и желтопесчаными отмелями, за которыми видны были минареты и церкви Астрахани. Самый город, точно приплюснутый к земле, уполз назад. А вода и суша все никак не могли разделиться — отмели, камыши, протоки, затоны… Пронзительно-тревожно кричит впереди буксир, — после моря мелкими кажутся протоки волжского устья. Но вот прошли сутки, вторые, третьи, и вода раздвинулась, западный берег поднялся ввысь, и на нем встал белый, среди зеленых садов, город, победные дымы заводских труб струились вверх. Это Царицын, Царкел, как по своей географии, древней и неточной, называл его Жамбот. В незапамятную старину арабские купцы, возвращаясь из влажно-зеленой страны руссов на свою знойную родину, переваливая Кавказ, останавливались в Веселоречье и рассказывали, что где-то на междуречье двух великих рек — Волги и Дона — построен город Белая Вежа, Саркел, или Царкел, открытый для купцов. Куда бы и откуда те ни шли: за драгоценным ли камнем и золотом в Пермь, за мехом ли, воском и медом на Русь, с лукавого ли франкского Запада, или из мудрого Китая, — все они находили приют в прохладных белых палатах Царкела… Теперь Жамбот воочию видел среди зелени белые палаты, а рядом с ними дымящие красные трубы. Много слышал он о сегодняшней Руси, о дружных русских людях, что работают на заводах. Скоро придет время: они поднимутся и освободят всех порабощенных. Так обещал Константин — так и будет. На длинных стенах заводских строений, на высоких трубах и даже на пароходах Жамбот видел такие же громадные буквы, что и на барже, которую он вел. Это имена хозяев. Нефть в баржах, рыба в воде и эти исполины заводы — все принадлежит хозяевам. Хоть бы увидеть кого из них: похожи ли они на князей Дудовых или на Темиркана Батыжева?
А на берегу, на странных гладких строениях без окон (Жамбот сначала подумал, не построены ли они, чтобы покоить мертвецов), он увидел опять те же громадные буквы. Буксир со свистом и ревом медленно пошел в сторону строений. Это был нобелевский нефтяной городок, а в странных постройках без окон в неисчислимом количестве хранились нефть, керосин, бензин — все то, чем князь нефти Нобель торговал не только по Волге, но и — Жамбот видел сам — отправлял отсюда поездами, составляя их из многих сотен железных бочек, отмеченных все теми же буквами.
В Царицыне рассчитали Жамбота, и он, чтобы продлить свой путь в Москву, перешел на другую пристань. Там нанялся на баржу, перевозившую из Царицына в Нижний баскунчакскую соль.
И снова поплыл Жамбот по России. С одной стороны была равнина — там среди необозримых просторов зрелого хлеба то и дело виднелись раскидистые села, а другая сторона — гористая, верблюжьего цвета. Да и сами горы походили на верблюжьи головы и горбы. По этим верблюдам-горам иногда проходили караваны, и чудно было видеть мелких верблюдиков, словно бусы тянущихся один за другим по горбам и шеям верблюдов-великанов.
Медленно прошла баржа мимо выгоревших от зноя желтых и белых гор. Медленно проплыла мимо Жамбота та, что похожа на шатер, гора, которую русские люди назвали бугор Стеньки Разина. В Баку тоже была большая гора, носившая это имя. Жилище Алыма Мидова, Жамботова земляка, как раз находилось у подножия этой горы. И чем глубже в Россию вплывал Жамбот, тем все чаще и чаше раздавалось над просторами русской реки грозное для богачей, призывное для бедняков имя. Рассказывали о Степане Разине, будто спустился он по потайной лестнице внутрь того бугра и обвенчался там с красавицей Волгой, обещав вернуться. Ждет жениха Волга и не знает, что князья и бояре отрубили в Москве, на Красной площади, голову Степану.
Все выше и выше поднимался Жамбот по великой реке — и вот перед ним еще одно чудо: поперек реки, с одного берега на другой, перекинулся какой-то невод. Но когда приблизились, Жамбот увидел, что невод этот свит из железа и вся Волга протекает под ним. Конечно, это не невод, это железный мост. Он отбрасывает тень на прибрежные рощи и болота, на мелкую и глубокую воду, на желтые отмели и тянется на несколько верст. Под ним проходят трехэтажные пароходы; проносят баркасы и баржи свои одетые парусами мачты… А вот и Жамбот на своей тяжелой барже плывет под мостом. И вспомнил опять Жамбот все, что рассказывал Константин о русских рабочих людях. Сколько же собралось здесь кузнецов, слесарей и всяких других искусников, чтобы сотворить такое чудо!
Как раз в ту минуту, когда баржа прошла под мостом, по мосту с грохотом и грозным кличем пронесся длинный поезд. А мост так и остался стоять нерушимый и спокойный. «Так он и простоит века», — подумал Жамбот.
Не знал он, что в последнем вагоне поезда, у окна, заделанного железной решеткой, в это время сидел Константин. Видел Константин реку, стальную, хмурую, необозримо широкую и туго свитую, и видел пароходы, парусники и тяжелую, низко осевшую на воде баржу, которую, задорно покрикивая, тащил крошка буксир. Константин различил даже фигурки людей — но могло ли ему прийти в голову, что среди них находится друг его Жамбот?
2
Константина месяц тому назад арестовали в Тифлисе и пересылали в Самару. При аресте у Константина обнаружили командировочное удостоверение на имя надворного советника, служащего главного управления уделов Константина Матвеевича Борецкого, прибывшего из Петербурга для размежевания удельных и крестьянских земель Тифлисской губернии. При удостоверении оказался соответствующий паспорт и в графе «Сословие» указано было: «из дворян Самарской губернии».
Константин догадывался, чем вызван был его арест: В конце лета 1913 года в Тифлис приехали члены Государственной думы меньшевики Чхеидзе и Скобелев. Они выступили в клубе торгово-промышленных служащих с докладами о деятельности социал-демократической фракции в Государственной думе, и Константин, присутствовавший на этих докладах, выступил с резкой отповедью по адресу меньшевистских лидеров. Выступление его имело успех, но он попал под наблюдение полиции. Большевистская организация дала совет Константину на время скрыться, переехать в Баку. Но в Тифлисе на вокзале его арестовали.
Константин категорически и начисто отрицал свою идентичность с тем лицом, которое выступало в клубе торгово-промышленных служащих. Ничего компрометирующего не дал также и обыск, проведенный на квартире, где он проживал под фамилией Борецкого. Охранка, уверенная в том, что в лице Константина она имеет дело с крупным деятелем большевистской партии, прибывшим в Тифлис, очевидно, из Петербурга, почувствовала, что с арестом она поторопилась. Константин требовал, чтобы его, как служащего управления уделов, послали в Петербург, понимая, что это требование испугает охранников, — шутка ли, ввязаться в склоку с придворным ведомством.
Что ждало Константина в Самаре, этого он сам не знал, но надеялся на свою находчивость и на обстоятельства. Но в такое решающее время очутиться за решеткой… «Ну, да ненадолго», — думал он, оглядывая всю волжскую синеющую долину. Об утерянной воле, оборванной работе, о нарастающем половодье народного движения говорила ему эта широко и сильно идущая под мостом волжская вода.
Волга осталась позади, опять пошли осенние туманные поля. Яркие и кажущиеся узенькими полоски озими мелькали среди бурых жнивьев и черных паров… Озимь — непобедимый посев будущей жизни.
И Константину вдруг представилось, как на одном из собраний, вскоре после памятной сходки в Ботаническом саду, Лена Саакян начала свое выступление против меньшевиков и примиренцев такими словами:
— Великая русская революция не умерла, нет, она жива!..
И так, слово за словом, прочла она статью товарища Сталина из газеты «Тифлисский пролетарий», относящуюся к началу 1910 года, — там предсказывалось приближение новых взрывов революции, говорилось о свержении царской власти, о славных грядущих боях за республику — все такие слова, что у Константина и сейчас, в удушливой, пропахшей карболкой атмосфере тюремного вагона, сильно забилось сердце. Ему представилось бледное лицо Лены, ее черные брови и светлые глаза, и он даже улыбнулся, точно въявь увидел ее перед собой…
Да, глубоко было вспахано в Закавказье, посеяно впрок на много лет, и даже меньшевистские сорняки при всей их живучести не могли заглушить посева. Хотя после 1907 года тысячи передовых рабочих были высланы из пределов Тифлисской и Кутаисской губерний, все же на каждом собрании, на каждой сходке выступали старые ветераны, помнившие Сталина и Шаумяна, сохранившие написанные ими прокламации и номера газет с их статьями. Этим бережно сохраненным оружием наносились особенно меткие, неотразимые удары ликвидаторам и примиренцам, которые все с большей неохотой ввязывались в споры с Константином.
Конечно, такое дело, как переговоры примиренцев с меньшевиками о созыве Закавказской конференции, направленной против «Правды», против Ленина, никак не могло обойтись без закулисных сделок, грязной дипломатической игры, политиканских ухищрений. Но в умении разглядеть подобного рода «деятельность», извлечь ее на свет и высмеять Константин, пожалуй, мало знал себе равных. И не было такой клеветы, которой гнушались бы примиренцы и ликвидаторы, чтобы очернить его перед тифлисскими рабочими. Но все тщетно, Константин для тифлисских рабочих выражал разум класса, и они шли за ним.
Весть о созыве партийного съезда, намеченного на лето 1914 года в Вене, одновременно с международным конгрессом Интернационала, особенно способствовала сплочению большевиков. Теперь ясно стало, что Гамрекели и его сторонники являются всего лишь кучкой отщепенцев. Так сказал Константин на последнем совещании за два дня до ареста, отвечая на гнусные и клеветнические выпады меньшевиков и змеиное шипение примиренцев.
Крепить партию — в этом Константин видел смысл и радость своего существования. Крепить свою партию, призванную стать во главе народного движения, все нарастающего.
Революционный ветер шел по стране, дышать становилось все свободнее, легче. «Будет буря, мы поспорим…» — твердил он слова своей любимой песни. Какая все-таки досадная, действительно глупая случайность оборвала его работу — и в тот момент, когда он в сопровождении Саши Елиадзе пришел на Тифлисский вокзал, чтобы ехать в Баку. Тифлисские большевики поручили Константину съездить и договориться с Бакинским комитетом о совместных действиях. Баку… Какую прекрасную прокламацию написал Саша о бакинских событиях, как быстро была она отпечатана в новой нелегальной типографии, оборудованной под видом сапожной мастерской! Как-то он там, Саша! Встречаться с Сашей приходилось урывками, наспех, а сейчас все время вспоминался то один разговор, то другой; оказывается, все это отлагалось в душе.
Константин с первого же посещения заметил в комнате Саши старенькую этажерку, на ней вперемежку стояли русские и грузинские книги. «Плохо быть неграмотным, — со вздохом сказал раз Константин, открыв одну из грузинских книжек небольшого формата, в старинном переплете. — Видно, что стихи, а я их не слышу, как глухой». — «Это Бараташвили, — ответил Саша, — а вот здесь, где открылось, любимое стихотворение отца моего, да и я знаю его наизусть, — Мерани, крылатый конь, конь вдохновенья и свободы… «Лети, мой конь, лети, усталости не зная…» — повторяясь, перемежая грузинские строфы сбивчивым переводом, читал Саша эти полные отваги и мужества строфы, и в них, казалось, вновь слышался прерывистый звон подков…
Как в тумане прошлого, выплывали вдруг в памяти Константина отдельные слова:
Лети, мой конь, твой всадник не изменит тому пути, Что он избрал, и не смирится перед судьбой…И еще о том, что щедрая трата молодых сил не пропадет даром — «и не заглохнет путь, протоптанный тобой», и о том, что по этому пути пойдут собратья, им будет облегчен путь борьбы с судьбой… Так, кажется? Или это сейчас зазвучало так в душе Константина, отделенного решеткой от свободного, мчащегося мимо мира?
«Столько раз бывать на грани провала, каждый раз избегать его — и вдруг так глупо попасться!» — думал Константин, уносимый поездом в Самару, где ничего хорошего не мог ожидать.
Но хорошее еще настанет…
«Там, за далью непогоды, есть блаженная страна…» — тихо запел он. Только подумаешь о ней, стране грядущего всечеловеческого счастья, проходит усталость, рассеивается тоска, рождаются новые силы и возрастает упорство.
«Хорошо бы в эту страну грядущего счастья войти, держа за руку милого товарища». Он въявь ощутил теплоту и весомость руки Люды в своей руке.
Где она сейчас? Наверно, уже в Петербурге и поступила на курсы — так по крайней мере сказала она, когда последний раз они виделись в Краснорецке, весной…
Надо будет, убежав из тюрьмы (Константин не сомневался, что убежит), отыскать ее в Петербурге.
Придется потрудиться, поискать. Но он сумеет, он найдет. Какая она сейчас? Ему представился нависший над долиной балкон гедеминовской дачи, темная, теплая южная ночь, свет, падающий на балкон из окон, звуки рояля. Потом она перестала играть, вышла на балкон и встала с ним рядом…
«Но ведь в Петербурге, — говорил он себе, — не будет ни такой теплой ночи, ни такого нависшего над глубокой долиной балкона, ни той огромной черной горы, где горел красный огонек далекого костра. В Петербурге все другое, и она, наверно, другая…»
3
Еще в старших классах гимназии дружбу Люды Гедеминовой и Оли Замятиной скрепляла мечта сразу по сдаче экзаменов на аттестат зрелости вместе поехать в Петербург для продолжения образования. Вместе поселиться в великом городе, с детства знакомом по книгам и рассказам, таком привлекательном, огромном и пугающем. И эта мечта сбылась: они живут в маленькой комнатке большого угрюмого дома на Васильевском острове. Плюшевые кресла, солидный книжный шкаф, письменный стол у окон и круглый, покрытый нитяной скатертью, — посреди комнаты. Окна выходят во двор, и ничего, кроме стены и окон напротив, не видно. Сотни окон смотрят на тебя своими бельмами. На стенах комнаты портреты купцов и чиновников. Хозяйка — вдова важного таможенного чиновника, купеческого происхождения, и даже зовут ее, как у Гоголя, Агафья Тихоновна. «Все-таки она вышла в конце концов за Яичницу», — думала Ольга, проходя через столовую, где чуть ли не всю стену занимал портрет покойного: форменный высокий воротник подпирал пухлые щеки, брови лезли вверх надменно-удивленно, нос пуговкой, рот в виде буквы «о», и по всему лицу разлито чванство, жадность, стяжательство.
Сначала Ольга аккуратно посещала лекции и пыталась вести конспекты, ходила в библиотеку и читала литературу, указанную по предметам. Но чтобы успевать в учении, нужно или подчиняться внешнему принуждению, или быть движимым внутренним интересом. Внешнее и ставшее уже привычным принуждение с окончанием гимназии потеряло силу, а внутреннего интереса к лекциям не пробуждалось, хотя некоторые предметы на курсах вели знаменитые ученые, книги которых Ольга уже читала. Но книга «не сморкается как труба», не употребляет надоедливых слов-ериков, вроде: «нуте-с» или «так сказать», не картавит и не шепелявит и свирепо не лохматит бороду. Ольга порою думала, что все это профессора проделывают нарочно, чтобы привлечь к себе внимание. После лекции Оля торопилась домой, но дома никого не находила: Людмила неизменно приходила позже ее и всегда оживленная, веселая… Начиналось чаепитие с вареньем, привезенным еще из дому, с булками, колбасой. Люда с хохотом рассказывала анекдоты вроде такого: «Одна медичка говорит другой: «Знаешь, профессор мне признался в любви». — «Когда?» — «Когда вскрывал утопленника, он вынул из его грудной клетки сердце, показал мне и вот так его стиснул». Эти анекдоты Ольгу отнюдь не смешили, она не соглашалась глумиться над смертью. Да и рассказывались они во время еды и отбивали аппетит. Но Люда весело ела и весело ложилась спать, подложив под румяную щеку свои красивые руки и сложив их одну к другой ладошками.
— Где ты была после лекции? — спросила однажды Ольга. — Неужели все время в библиотеке?
— Нет, в лаборатории профессора Баженова. Знаешь, Оля, я бы совсем оттуда не уходила…
— Неужели это так интересно?
— Очень! — с горячностью ответила Людмила. Сон рассеялся, она даже села в кровати и начала рассказывать.
Но то ли у Ольги не было интереса к таким предметам, то ли Людмила не умела интересно рассказывать — термины, такие, как микропротеин, микрококки, изобиловавшие в рассказах Людмилы, совсем затемняли смысл того, о чем она говорила. Обязательная частичка «микро» вызывала у Ольги представление о чем-то предельно мелком, мельчайшем, как пыль, что живет лишь мгновение и тут же исчезает, — вроде бесчисленных частичек снега или влаги, которые дрожат и вьются в белесом свете уличных петербургских фонарей, — мга, мгла, размельченность…
«Дневная душа», — думала Ольга о подруге, потушив огонь и собираясь лечь спать. Медленно расчесывая косу, она сидела на своей постели. При свете, проникавшем в комнату из окон противоположных квартир, отчужденно разглядывала она подругу, раскинувшуюся во всей своей неосознаваемой красоте молодости и здоровья.
Так Ольга долго сидела, освещенная множеством чужих окон, которые то зажигались, то гасли, но все больше исчезали. «И у каждого огня люди — мужчины, женщины, молодые и старые… Кровати над кроватями, столы над столами, — убрать бы полы и потолки, и все бы повисло, как соты в улье…» От этих раньше, до Петербурга, не появлявшихся мыслей Ольге становилось все безразлично. «А утром — на улице — всюду люди и люди… И у каждого под пальто, под одеждой, где-то в глубине тела, в глубине мозга таится душа, — поток душ движется по улице. Даже дыхание наше смешивается, а каждая душа живет совсем отдельно, и никто не может понять другого. Вот мы с Людой считаемся подругами, а какие незнакомые, чужие…»
Бывало, Ольга так и засыпала сидя. Люда будила ее утром, вялую, озябшую, и укладывала спать. Быстро позавтракав, еще при огне, Людмила бежала на лекции и радовалась, что люди на улице заглядываются на ее румяные щеки и блестящие глаза. Ольга однажды сделала попытку поделиться с Людмилой своими мыслями, но из этого ничего не вышло. Людмила только рассмеялась. Та сфера множественного и мельчайшего, которая для Ольги была предметом довольно бесплодного философствования, давно уже стала для Людмилы сферой действия. Людмила могла часами, как выражались студенты, «висеть» над микроскопом — она чувствовала себя отважным водолазом, который спускается в бездонные глубины множественного и мельчайшего, чтобы осветить эти глубины и вести там бой со страшными чудовищами, с микроскопическими врагами человечества.
Медичек-первокурсниц после сдачи первого семестра повели в лабораторию профессора Баженова. Люда и до посещения лаборатории с увлечением занималась бактериологией. Обнаружив своими дотошными вопросами подлинный интерес к предмету и некоторые познания, Людмила завоевала сердце заведующей лабораторией Риммы Григорьевны Баженовой, жены профессора.
Римма Григорьевна попросила у мужа разрешения для Люды работать в лаборатории. При незначительном штате лаборатории такой добросовестный, преисполненный рвения и бесплатный к тому же работник, как Люда Гедеминова, был очень кстати. Вскоре Люда стала бывать у Баженовых дома. Этот интеллигентный семейный дом чем-то напоминал ей родную семью. Сходство это было трудно уловить. Отец и мать Люды находились в состоянии постоянной дискуссии, что при глухоте Ольги Владимировны приводило к еще большему шуму, — у Баженовых в доме было тихо и никто ни с кем не спорил. У Гедеминовых детей никак не воспитывали, они росли сами по себе, а супруги Баженовы были поборниками журнала «Свободное воспитание», в котором проповедовались педагогические идеи Льва Толстого. Согласно этим идеям Баженовы участвовали в попытках основания детских площадок и детских садов. Но при всех различиях сходна в обеих семьях была самая атмосфера идейной жизни, хотя Евгений Львович Гедеминов придерживался в вопросах политики крайних воззрений, тогда как Аполлинарий Петрович Баженов занимался исключительно вопросами науки, без каких-либо политически оформленных взглядов. Как-то Люда попыталась все же вовлечь своего патрона в обсуждение политических вопросов и потом долго смеялась, вспоминая, с каким он забавным испугом взглядывал на нее и торопливо говорил: «Нет, нет, пусть политикой занимаются специалисты по политике! А вы — красная?» — спрашивал он с опаской и качал головой. Однако, оставаясь в политике индифферентными, Баженовы в области науки старались держаться материалистических взглядов, причем в устах Риммы Григорьевны материализм приобретал порой крайне упрощенное выражение. Так, когда сын Баженовых Вадя принес из гимназии четверку по поведению, причем в выписке из кондуита значилось «за буйство в классе», Римма Григорьевна покачала головой и, обратив к мужу свое кроткое, кроличье личико с большими глазами, сказала:
— Я объясняю это наличием в организме мужских особей большего количества йодистых веществ, в организме женщин. Ты как считаешь, Аполлинарий?
— Йодистых веществ? — невозмутимо переспросил Аполлинарий Петрович, взглядывая на выписку из кондуита так внимательно, как будто йодистые вещества должны были явственно выступить на бумаге. — Что ж, — сказал он шутливо, — возможно, что да, но возможно, что и нет.
Это была его обычная шутка, и оба супруга весело смеялись.
Когда Люда, смеясь, пересказала Ольге этот разговор, та с негодованием сказала:
— Это просто кретинизм какой-то!
Кретинизм? А ведь Люде все это казалось хотя и забавным, но симпатичным. Нет, подруги потеряли в Петербурге духовную связь, скреплявшую их дружбу в Краснорецке. Это заметил даже брат Люды Кокоша, который каждую неделю заходил проведать сестру.
— Вы с ней живете, как рыбы в аквариуме, — сказал он сестре в отсутствие Ольги.
И когда Люда недоумевающе взглянула на него, он пояснил:
— Ну, как живут рыбы в аквариуме? Как будто бы вместе: рядом плавают и рядом едят, но все-таки, с человеческой точки зрения, между ними никакого общения нет.
— Все это глупости! — сердито сказала Люда.
Но в этот момент вернулась Ольга, и разговор прекратился. Разрумянившаяся, со снежинками на волосах, в отделанном серой смушкой черном суконном жакете и серой шапочке, Ольга была привлекательна.
— Нельзя, Олечка, находиться совершенно вне моды, — внимательно оглядев ее, сказал Кокоша. — Знаете, при такой наружности…
— В ваших комплиментах, Николай Евгеньевич, как и в ваших советах по вопросу о моем костюме, я не нуждаюсь, — покраснев едва ли не до слез, резко ответила Ольга.
Раньше Кокоша на нее не обращал никакого внимания. Только совсем незнакомые девушки из чуждой ему среды привлекали его, а никак не Оля, подруга младшей сестры, которую он постоянно встречал в доме. Сейчас, в Петербурге, он впервые разглядел ее.
— В комплиментах, может быть, не нуждаетесь, — ответил Кокоша, — а вот насчет советов не грех вам меня послушать. Я, конечно, знаю, что у вас в Царской, — так называлась станица, откуда была родом Ольга и куда она каждое лето уезжала к родным, — эта мерлушка, может быть, и считается последним криком моды, но вы, когда проходите по Невскому, обратили бы внимание, что сейчас носят… Вам бы этакую шапочку «шантеклер»…
— Невский — это сток столичных нечистот, — сказала Ольга, — и естественное чувство брезгливости мешает мне окунаться…
— Ого! Вот это здорово! — сказал Кокоша. — А я, судя но вашим щекам, обветренным, как у дворника, думал, что вы много гуляете.
— В Петербурге есть места куда интереснее, чем Невский.
— И ты, Люда, так считаешь? — спросил Кокоша.
— Нам некогда, Коля, — виновато сказала Люда.
Кокоша прошелся по комнате, оглядел купцов и чиновников, развешанных по стенам.
— Да, девочки, — сказал он, обводя рукой безмолвные портреты, — я вижу, дела ваши плохи… Я вас упустил, и вы в Петербурге живете, как в нашей кавказской Чухломе. Я займусь вами! — сказал он с такой комической важностью, что девушки расхохотались. — Вот вы, Оля, высказали великолепное презрение к Невскому проспекту. Ну хорошо, допустим, у вас нет интереса ни к модным магазинам, ни к чарующим пирожкам из «Квисанны», ни к футуристам, к которым вы, как и полагается жителям Чухломы, чувствуете зоологическую ненависть… Ладно! Но, может быть, вы слышали, что недавно происходило на заводах Петербурга?
Девушки переглянулись.
— Забастовки в годовщину Ленских событий? — неуверенно проговорила Люда.
— Браво, швестерхен! Ты все-таки дочь своего отца и сестра своего брата! А вы, Оля, что ж? Насколько мне известно, у дедушки вашего Спельникова висит в кабинете знаменитая иконка: Иисус Христос с открытой книгой, а в ней на месте «Приидите ко мне все, страждущие и обремененные» написано: «Земля и воля»… Так, кажется?
— Вот уж дедушку моего, который, как вам, наверно, сейчас известно, томится в царской тюрьме за свои убеждения, приплетать к вашему шутовскому разговору совсем ни к чему, — сердито сказала Оля.
— Ну, простите, я придерживаюсь того правила, что «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». За стойкость убеждения я, конечно, вашего дедушку уважаю. Но, скажу прямо, такие ископаемые мастодонты народничества, как ваш дедушка, могли сохраниться только в нашем богоспасаемом Краснорецке. Ну, а вы-то, живя в Петербурге, вы-то как ухитряетесь сохранять подобную невинность ума?
— Ты ведь, Кокоша, юрист и на втором курсе. И в газетах сотрудничаешь, — примирительно сказала Людмила, — и много знаешь такого, что никто не знает… Приходи почаще, просвещай нас.
— Ну ладно, швестерхен, — ласково сказал Кокоша, целуя сестру в лоб. — Следующее воскресенье я буду у вас и принесу полные стенограммы последних заседаний Государственной думы, а это, смею вас заверить, не каждый может прочесть даже в Петербурге. До свидания, Оля, очень жалею, что не имею времени принять участие в ваших прогулках…
Весна в этом году наступила ранняя, и у Ольги появилась возможность оседлать свой привезенный из Краснорецка велосипед. Начались круговые поездки по набережным Невы, через Каменноостровский мост, дальше по Кронверкскому и снова по набережным — к университетским сфинксам. У сфинксов можно было отдохнуть, постоять и мысленно погладить их холодные бугристые лица. Отсюда можно сразу, единым взглядом, охватить Сенат и Адмиралтейство, Исаакия и Петра с поднятой рукой. Вспомнишь о декабристах — и невольно оглянешься туда, где даже в ненастье высоко блестит шпиль Петропавловской крепости. Чернышевский — казалось, и сейчас еще заточенный в крепости — одним именем своим пробуждает сердца и умы… История, конечно, оставалась любимым предметом Ольги. Но изучала она историю совсем не так, как Людмила занималась медициной. Похоже, что сам огромный город, столица великого государства, взялся обучать Олю — и она отчетливо постигала его не выразимые словами каменные речи.
Однажды под вечер Ольга катила на велосипеде по одной из линий Васильевского острова. Прямая и широкая улица в этот час была пустынна — даже городовых не видно, и Ольга отважилась ехать по тротуару, рассчитывая, что в случае появления прохожего сумеет затормозить. Но прохожий настолько неожиданно вышел из подъезда дома и возник перед ней, длинный и худой, что Ольга едва только успела круто свернуть с тротуара. В следующее мгновение она ударилась о каменную тумбу и грохнулась на мостовую. Удар был сильный. Звенело в ушах, и все плыло перед глазами. Чьи-то руки, подхватив под локоть и вокруг пояса, поднимали ее — неловкие, робкие руки, и она, резко освободившись, встала. Но если бы ее не подхватили, она бы упала.
— Вот беда-то какая, а? — услышала она. Из-под широкополой шляпы, какие носят художники, видно было сочувственное и смущенное лицо, продолговатое и бледное, небольшие, но чем-то очень приятные — пожалуй, ясностью и чистотой — глаза. Это был виновник катастрофы. Он извинялся, оправдывался и тут же во всем винил себя. — Пройдемте к нам, мы тут с товарищем совсем рядом живем, кстати я займусь вашим велосипедом, в таких вещисах (он говорил «вещисы») я понимаю малость.
Его говор казался смешным, но симпатичным: «а» у него превращалось в «о», «ц» — в «с».
— Разве вы можете починить велосипед? — спросила она.
Он грустно усмехнулся и утвердительно кивнул головой.
— Велосипед в моей жизни сыграл роковую роль…
Он сказал это так серьезно, что ей стало смешно. Новый знакомый, застенчивый и даже несколько забавный, внушал к себе доверие и симпатию. Ольга шагнула и сразу вскрикнула — ее точно шилом ударило в коленку. Конечно, она могла бы попросить своего рыцаря проводить ее домой. Высокий рост и худощавость, чопорность темного, застегнутого на все пуговицы пальто и широкополая шляпа, застенчивая, робкая вежливость — все в нем соответствовало представлению о рыцарстве, и он, конечно, с охотой согласился бы проводить ее до дому. Но она не стала об этом просить — ей любопытно было поглядеть, как он живет. Да и почему бы ему не заняться велосипедом, если он стал причиной аварии? В переднем колесе недосчитывалось нескольких спиц, погнулась и рама. Опираясь на руку «рыцаря», Оля медленно поднималась по темной лестнице — второй этаж, третий, четвертый… Ну конечно, она увидит сейчас мастерскую художника со стеклянным потолком, этюды и картины. Ей представлялись пятна света на темных холстах, почему-то она ожидала, что он работает в стиле Рембрандта.
Но там, куда она вошла, не было ни картин, ни этюдов, ни мольберта — ничего, что бы говорило о мастерской художника. В комнате, несколько продолговатой, с одним не очень большим окном, стояли две скромные кровати, один стол у окна, на нем чернила, налитые в пузырек, наваленные в беспорядке книги, другой — посредине, обеденный. Чашки, тарелки, все это сверху прикрыто полотенцем с вылинявшими петухами. Третий стол — у входа, на нем какие-то пузырьки, бутыли, инструменты, что-то непонятное… И пахнет терпко, сладко, похоже, что дешевым, до крайности дешевым монпансье.
— Прошу вас, Ольга Яковлевна, располагаться, — сказал он, сделав неопределенный жест в сторону того угла, где стояла кровать более прибранная. — А я займусь велосипедом.
Он исчез из комнаты. По дороге они назвались друг другу. Его звали Алексей, а отчество мудреное — не то Диодорович, не то Дормидонтович. Кровать, к которой Ольга подошла, была чисто застлана, наволочка на подушке свежая. Ольга присела на край кровати и занялась коленкой. Она обнаружила синяк — не столь синий, сколь зеленовато-красный. Крови не было, но при сгибании в коленке вспыхивала острая боль. Ольга прилегла на подушку, пахнущую мылом, с наслаждением вытянула ногу, и боль сразу спала. В углу, прямо перед глазами Ольги, стояла этажерка, на ней книги — старинные, в кожаных переплетах, с узорчатыми, очевидно костяными, застежками. И опять Ольга взглянула на столик у входа, тот, где стояли бутыли, пузырьки, инструменты… Нет, ее рыцарь не из художников. «Это алхимик, да и не один, — здесь их двое», — подумала она, взглянув на другую кровать. На ней измятая подушка хранила очертания большой головы. На стуле, возле кровати, рассыпан желтый трубочный табак…
«Нет, мой Дормидонтович, или Диодорович, не курит. Здесь живут двое, как мы с Людмилой, два разных человека. А фамилия его Бородкин. Смешная, конечно, фамилия, и связано с ней что-то смешное… «Гимназист четвертого класса Алексей Бородкин», — вдруг вспомнила Ольга и рассмеялась. Так неужто судьба свела ее с героем забавного происшествия, о котором в прошлом году писали в газетах? Ну конечно, он ведь сказал, что в его жизни велосипед сыграл роковую роль!..
Глава шестая
1
Это случилось в солнечный осенний день, в престольный праздник Флора и Лавра. Когда крестный ход, блистая иконами и хоругвями и пестрея женскими платьями, с медленным и протяжным пением двинулся в пустые поля, вдруг прямо навстречу шествию, подмяв на дороге облако пыли, показалось нечто крылатое, но не птица, похожее на гигантскую стрекозу. Чудовище это, неожиданно оторвавшись от земли, поднялось к небу и полетело прямо навстречу крестному ходу. Церковное пение прекратилось. Люди застыли, изумленные и напуганные. Крылатое чудовище, все накреняясь на одну сторону, низко пронеслось над головами людей и грохнулось на косогоре, среди молодых овсов. Когда люди подбежали к месту падения, они увидели обломки велосипеда, обрывки парусины, натянутые на длинные, из ствола орешника выстроганные жердины, тоже переломившиеся. И здесь же обнаружен был потерявший сознание современный Икар, окровавленный ученик четвертого «Б» класса местной гимназии Алеша Бородкин.
Казалось, все было продумано и рассчитано верно. Величина и форма крыльев, сила Алешиных ног, нажимавших на педали, и сила ветра, достаточная, чтобы, разогнавшись, подняться… Чтобы подняться на воздух, было рассчитано все — и подняться удалось превосходно. А вот о том, как спуститься — ведь аэронавт, оторвавшись от земли, сразу же попадал во власть воздушных стихий, — об этом Алеша не подумал. Но самое главное, чего не предусмотрел изобретатель, — это большой престольный праздник, крестный ход, оскорбленные чувства верующих, которые сначала приняли воздухоплавателя за демона, а потом, убедившись, что это сын акцизного Бородкина, сочли его поступок сознательным богохульством. И когда через месяц Алеша, отлежавшись в больнице, явился на заседание педагогического совета, как ни уверял он, что о богохульстве и мысли у него не было, он все же был исключен со свидетельством об окончании четырех классов, с волчьим билетом, без права поступления в среднеучебное заведение.
Злые насмешки и презрительное сострадание товарищей, гнев отца и горе матери, попреки брата (за сломанный велосипед) — все вместе взятое заставило Алешу бежать из Нижне-Еланска с последним пароходом вниз по Каме, в Казань. Жизнь была испорчена: исключили его с волчьим билетом, о продолжении образования нечего было и думать. А как хотелось сейчас учиться и учиться, чтобы еще раз по-серьезному повторить опыт с полетом. И еще долгие годы он во сне переживал снова и снова это ни с чем не сравнимое ощущение, когда вдруг педали завертелись с волшебной легкостью, колеса закружились над землей, живая сила сама поднимала его вверх, трепещущая молодая листва деревьев летела назад и вниз… Дорога шла в гору, но он уже летел высоко над ней. Белая церковь, блеск крестного хода навстречу, прямо навстречу. Скорей свернуть в сторону! И он машинально повертывал руль, но это не оказывало нужного действия, стихия, которая, словно чтобы наказать за дерзость и непредусмотрительность, накренивала его сооружение, заносила вбок, — и он просыпался от крика ужаса. И все же как хорошо бы повторить этот полет!
Настойчивое стремление ввысь, приведшее Алешу Бородкина к столь неприятным последствиям, было в то время характерно для русского общества и проявлялось в самых его различных слоях. Не случайно время с 1911 по 1914 год ознаменовалось даже для кичливых западных соседей России неожиданным, а в сущности глубоко закономерным триумфом русского воздухоплавания, подготовленным всем развитием русской научной мысли, начиная с Ломоносова, и также работами выдающихся русских изобретателей в области воздухоплавания.
Триумф русского воздухоплавания начался на первой так называемой «авиационной неделе», проведенной в России в 1910 году, когда русский летчик Н. Е. Попов, соревнуясь с заграничными летчиками, достиг высоты шестисот метров и в несколько раз перекрыл их рекорды (никто из заграничных соперников не поднялся тогда выше 150 метров). Почти одновременно Б. Н. Юрьев создал русский геликоптер и впервые в мире удачно разрешил основные задачи управления, безопасности спуска и поступательного движения этого совершенно необычного рода самолетов. Я. М. Гаккель в этом же году сконструировал самолет-биплан военного назначения, превосходный по своим летно-техническим качествам. В следующем, 1911 году русский летчик Г. В. Алехнович на отечественном самолете устанавливает новый мировой рекорд, поднявшись за девять минут на высоту 500 метров, имея на самолете запас бензина и масла на 3,5 часа полета. Весь одиннадцатый и двенадцатый годы ознаменовываются замечательными перелетами русских летчиков. Васильев долетел из Петербурга в Москву, Абрамович — из Германии в Петербург. Неслыханной продолжительности перелет Севастополь — Москва, проделанный военными летчиками Дыбовским и Андреади… Весь мир заговорил о «русской птице», вся Россия всколыхнулась.
В 1913 году Россия создала невиданные до этого времени многомоторные самолеты. «Русский витязь» — это было первое слово в создании тяжелых бомбардировщиков. «Русский витязь», а за ним «Илья Муромец» поставили в этом же году несколько мировых рекордов, подняв на высоту в два километра до десятка пассажиров. Русский конструктор Григорович создал превосходный отечественный гидросамолет, и, наконец, в августе 1913 года выдающийся русский летчик П. Н. Нестеров, соединив дерзновение с математическим расчетом, — соединение, являющееся национальной чертой русского характера, — совершил первый в мире полет в виде петли, прозванный тогда же «мертвой петлей», и, таким образом, открыл мировой авиации путь в новую для человечества сферу высшего пилотажа.
В те годы ни Павлов, ни Тимирязев, ни Чаплыгин, ни Циолковский и даже ни Мичурин со своим чудесным садом и Станиславский с Художественным театром, куда паломничала вся интеллигенция, не были, да и не могли быть известны широким народным массам. Но механические русские птицы, победоносно пролетая над просторами России, заставляли пахаря, идущего за первобытной сохой, поднимать голову к небу. Сколько будущих Чкаловых нашего времени пробудили в это время хотя бы полеты одного лишь Уточкина.
Тогда повсюду, даже в самых глухих, «медвежьих» углах России, страстно интересовались авиацией, аэрофизика и аэромеханика стали любимыми предметами изучения самоучек. Повсюду пытались создавать самодельные самолеты, пытались летать…
Не мудрено, что наконец настало время, и даже в Нижне-Еланске, маленьком уездном городке Пермской губернии, тоже началась эра воздухоплавания. Теперь незадачливый летчик — еланский конструктор с завистливым вздохом читал в газетах об успехах русской авиации, но мечтал только об одном: о заработке. А на какой заработок мог он рассчитывать? Писцом он не мог стать: у него был прескверный почерк, он всегда путался с запятыми и с мягким знаком перед частицей «ся» в возвратных глаголах. Со страхом смотрел Алеша на свое будущее и только надеялся на то, что самоотверженная любовь к технике, которая привела его к катастрофе, поможет ему в жизненной борьбе и он не умрет с голоду. Еще в детстве он, использовав старую коробку из-под гильз и несколько увеличительных стекол, смастерил фотоаппарат. Потом в Нижне-Еланск приехал первый «биоскоп» — то, что впоследствии стало великим кинематографом, — и показывал свои чудеса в пожарном депо, где за стеной оглушительно стучали чугунные копыта и пахло конюшней. Алеша заинтересовался чудом XX века, как интересовался любой новинкой техники. На скудные деньги, отложенные от завтраков, он покупал папиросы и, дождавшись, когда величественный усатый киномеханик выйдет из своей будки, угощал его папиросами, — так удавалось ему проникать в кинобудку. Так научился он обращаться с проекционным аппаратом… Когда же после приезда в Казань у него в кармане осталось всего пятьдесят копеек и он, бродя по улицам Казани, рассчитывал, как бы растянуть эти деньги подольше, его взгляд задержался на витрине кино, где небрежно сделанная красным карандашом надпись сообщала: «Нужен киномеханик». На витрине, среди черных и белых масок, пистолетов и рапир, первый любовник русского кино Мозжухин, выкатив сизые бешеные глаза, молил о любви светловолосую Лысенко в ее благопристойном амплуа дамы из интеллигентного общества, и она протягивала ему длинную белую руку. Но Алеше казалось, что это ему протянута рука, рука спасения и помощи. И Алеша схватился за эту руку. Отчаяние придало ему дерзости. Он уверенно заявил владельцу кино, что вчера приехал из Петербурга — «в гости к сестре» — и отлично знает киноаппаратуру. Но владельцу кино обстоятельства появления Алеши в Казани были безразличны, он разругался со своим киномехаником, и у него не было другого выхода.
Кроме киномеханика, при проекционном аппарате должен был состоять еще один человек, помощник киномеханика. Мальчишки, постоянные и восторженные зрители киноэкрана, называли такого помощника «крути, Гаврила». В кино, где работал Алеша Бородкин, на должности «крути, Гаврила» был человек невысокого роста, но атлетического сложения, обросший черной кудрявой бородой. Граф Шпанский-Шампанский — прозвали его мальчишки, и он охотно откликался. «Я вас слушаю», — говорил он приглушенным, сипловатым голоском, с некоторым оттенком галантности. Он носил черные длинные брюки, на швах побелевшие, грязные, на босу ногу штиблеты и застегнутый на все пуговицы холщовый китель. Самый разнообразный, точно коллекционный, набор представляли собой эти пуговицы: рядом с орленой, отливающей золотом, блестели перламутровые и стеклянные дамские. Во всем этом было подобие какой-то шутовской щеголеватости, очевидно давшей повод мальчишкам так своеобразно титуловать его. Впрочем, в прозвище «Шпанский» угадывалось слово «шпана», возникшее на волжских пристанях.
Граф Шпанский-Шампанский, приходя в кинобудку, закатывал под лохматые черные брови глаза и, изображая улыбку на неизменно красном лице, прикладывал руку к сердцу, тем самым отдавая Алеше в высшей степени почтительные знаки внимания и уважения. Потом снимал китель, вешал его на гвоздик и, стыдливо поеживаясь своими одутловатыми, рыхлыми плечами, голый, толстый, плевал на ладони и брался за ручку аппарата. В зале уже стучали ногами и аплодировали. Алеша, каждый раз взволнованный перед сеансом, замшевой тряпкой протирал всю систему стекол. Трещал звонок, свет в зале погасал, публика затихала, Алеша взглядывал в зал через свое окошечко. Как только под рукой его щелкал тугой выключатель, белый квадрат обозначался на полотне, и если этот квадрат был достаточно отчетлив, Алеша подавал знак. «Граф» начинал то, что называлось у мальчишек «крутить». По белому кругу, дрожа и сотрясаясь, бежали сначала какие-то туманные полосы. Алеша терпеливо регулировал объектив. Полосы превращались в скачущие буквы, и еще никто ничего не успевал прочесть, как по экрану начинали метаться человеческие фигуры. Движения отрывисты и резки: черные маски, оскаленные зубы, взлеты кинжалов, удары палкой по голове, падения с лестниц, провалы в люки. Все резко и обостренно, никаких полутонов — кино в то время покорно повторяло вчерашний день театра. В русском театре торжествовал великий Станиславский, но все штампы и маски, изгнанные им из театра и усиленные мимикой глухонемых, кинулись в кино. Впрочем, Алеше все эти соображения, конечно, в голову не приходили. Его беспокоило и раздражало только то, что изображения на экране или покрывались туманом, или начинали скакать. Экран прорезала вдруг черная черта, над чертой двигались ноги, а под ней дергали головами и размахивали руками верхние половинки действующих лиц. Иногда картина вдруг останавливалась, и тогда фигуры и лица застывали в неправдоподобных положениях. Во всех таких случаях публика топала ногами, шумела, в стену кинобудки стучали, и Алеша, вспотев от напряжения, наморщившись, поправлял на какую-нибудь десятую миллиметра сбившуюся линзу или ставил на место соскочившую с катушки пленку. Электрическая лампа излучала массу тепла, жестяные стены кинобудки накалялись до того, что у двух заключенных в ней людей в глазах краснело. Но хуже всего было то, что, чем дольше длился сеанс и чем больше крутил «Гаврила», тем сильнее маленькая будка наполнялась мерзким запахом сивухи. Граф Шампанский, человек во всех отношениях достойный, деликатный и даже не лишенный в обращении известной приятности, был, что называется, «горьким пьяницей», — может быть, на это и намекала вторая часть его титулованного псевдонима, под которым, как знал Алеша по паспорту, скрывался бывший учитель географии Всеволод Федорович Перекусихин. Алеша, измученный алкоголической вонью, бывало предлагал своему помощнику передохнуть и выйти на воздух, а оставшуюся часть какой-либо драмы «крутил» сам, успевая другой рукой регулировать ленту.
Алеша жил в мире техники, как музыкант живет в мире звуков. Он все время вносил мелкие улучшения в аппаратуру, и чуткая публика в конце концов оценила его труд. Если в продолжение всего сеанса аппарат работал исправно, мальчишки, уходя из кино, кричали:
— Эй, Акулинушка, на зеке работаешь!
Алеша не понимал, что значит «на зеке», и никак не мог отгадать, за что его называют Акулинушкой, но в голосах он слышал одобрение.
Однажды утром Алеша, развинтив аппарат, разложил его на травке во дворе здания «киношки». Он мыл керосином, смазывал маслом и до блеска натирал части аппарата. Вдруг он почувствовал, что кто-то встал между ним и солнцем. Подняв голову, Алеша увидел юношу в грязной тюбетейке на чисто выбритой голове и в белой нижней рубашке с засученными рукавами. Серьезный взгляд карих крупных глаз выражал сочувствие и симпатию.
— Здравствуйте! — сказал он, несколько сглаживая букву «р», в голосе его слышалась медлительная важность. — Ведь это вы киномеханик Алексей Диомидович?
— Я, — ответил Алеша, вскакивая и вытирая руки о штаны. — А что такое?
— Вот вам записка.
Записка представляла собой какие-то каракули на коробке от папирос, и Алеша ничего не мог понять, а между тем юноша, доставивший ее, продолжал с медлительной важностью:
— Я так и думал, что вы ничего не поймете… Это вам пишет ваш помощник Всеволод Федорович… Я был в числе тех, кто вытаскивал его из воды.
— То есть как из воды? Он купался?
Юноша пожал плечами.
— Какое же удовольствие купаться в одежде? Я думаю, он был пьян. Это странно, но пьяных всегда влечет в воду. Вы замечали?
— А где он? — беспокойно прервал Алеша медлительно-важную речь.
— Я могу сказать точно, где он. Он доставлен в городскую больницу, я сам нес его на носилках, и так как у меня очень много свободного времени, то я дождался заключения врачей. Заключение невеселое: пневмония — это воспаление легких, не правда ли?
— Неужто воспаление?
— И еще какая-то миокардия или эндокардия — наверно, что-то сердечное… Врач говорит, что не выживет. Всеволод Федорович — человек, между прочим, хороший, благородный. Меня допустили к нему. Он сделал мне несколько признаний по поводу причин, толкнувших его к запою… Видно, бедняга хотел почему-то оправдаться передо мной, хотя, признаться, я склонен думать, что болезнь эта прирожденная и осложнять ее муками совести — значит приносить себе ненужные страдания. Впрочем, это так, в сторону. Тут-то и была написана эта записка.
— Да что он пишет? Я разобрать не могу, — сказал Алеша, вертя бумажку. — Ему денег нужно?
— Об этом речи не было. Он, насколько я мог понять, беспокоился о том, что, не выйдя на работу, подведет вас и… — Новый знакомец помолчал, потом сказал, наклонив голову и глядя исподлобья на Алешу: — Он предлагает вам меня на открывшуюся вакансию.
— Ну что вы! — быстро возразил Алеша. — Какая там вакансия? Ведь это… это, знаете, какая работа? Мальчишки называют эту работу «крути, Гаврила»…
— Именно так и назвал ее Всеволод Федорович. Но, во всяком случае, это занятие куда более осмысленное, чем, например, сидеть в канцелярии или дурачить людей с амвона. — В голосе юноши послышалась такая ненависть, что Алеша вздрогнул.
В качестве «крути, Гаврила» новый помощник киномеханика совершенно затмил бедного графа Шпанского-Шампанского, которому не суждено было пережить своего купания в апрельских водах Волги. Когда закончился последний сеанс, в полдвенадцатого ночи, новый помощник увлек Алешу на прогулку. Всю ночь они бродили по спящему городу.
Алеша, живя еще на родине, знал, что с весеннего половодья и до осеннего ледостава по широкой и хмурой камской воде и многоводным притокам Камы бегают бойкие пароходики, принадлежащие фирме «Минаев и Ханыков». Оказывается, что новый Алешин помощник Миша был сын пароходчика Ханыкова.
— Папаша мой происходит из древней дворянской фамилии, — повествовал о себе Миша. — До известной степени я могу гордиться этой фамилией, она дала России несколько ученых и путешественников, это все были ориенталисты, их тянуло в Азию, — кто знает, может быть в этом сказывалось происхождение от некоего Ханыка, или Ханыко, татарина или черкеса. Да и меня, признаться, тоже влечет на восток. Но, впрочем, об этом мы еще поговорим. Так вот, папаша мой принадлежит к наиболее захудалой линии нашей фамилии, Получив военное образование, он не избрал себе место службы в Туркестане или на Кавказе, к чему имел все возможности, но, будучи полковым казначеем, ознаменовал начало своей военной карьеры воровством столь грандиозным, что его попросили удалиться из полка. Однако неправедно нажитое состояние за ним осталось, и он сразу удвоил его, женившись на купеческой дочке Катерине Минаевой, которая родила ему четырех сыновей. Совместно с тестем он и положил начало вышеупомянутой пароходной фирме. Погрязший в коммерческих делах, папаша наш, однако, всех нас старался определить в кадетский корпус, и все мои старшие братья уже офицеры. Мне тоже была предназначена военная карьера. Вы слышите мой голос? Сейчас он уже сложился во внушительный баритональный бас, а в дни детства у меня был сладчайший альт, и я пел в хоре нашей корпусной церкви, чему способствовало еще и то, что от матери постоянно исходила церковность самая елейная, в доме вечно толклось духовенство, по всякому поводу и без повода служились молебны, вышивались облачения, соблюдались посты… Ну да ладно, к черту все это. Происхождению из столь набожной семьи обязан я тем, что наш корпусной иерей, выказывая ко мне особую благосклонность, даже назначил меня прислуживать в церкви во время службы. Шаг с его стороны неосторожный. Под внешним видом благочестия я скрывал самые глубокие в отношении религии сомнения и, решившись испытать на себе гнев божий и проверить этим истинность существования бога, совершил богохульство, самое детское: принес и положил в алтарь дохлую кошку, решив, что если бог существует, он с помощью электрического разряда немедленно сотрет меня с лица земли и ввергнет в геенну огненную. Электрический разряд, конечно, не последовал, и сомнения мои кончились, я стал убежденным атеистом, каким и пребываю по настоящее время. Но, впрочем, бог, сохранив громы небесные для каких-то более страшных преступников, обрушил на меня громы земные. Невообразимый переполох поднялся у нас в корпусе, и найти богохульника было не так уж трудно. Я вынужден был сознаться. Вызвали отца и предложили взять меня из корпуса. Тут-то я и узнал, каков мой отец. «Порядочные люди, — сказал он, — вопросами о существовании бога не должны интересоваться, и я с тобою богословских диспутов затевать не собираюсь. Но если ты не примешь церковного покаяния, клянусь, я с тебя шкуру спущу». Я поначалу отказался, но когда он с помощью старшего брата взялся за меня, я понял, что слова «шкуру спущу» имеют совсем не фигуральное, а буквальное значение. И я смалодушествовал. Впрочем, в свое оправдание скажу, что мне в то время исполнилось только двенадцать лет. Я покаялся по всей церковной форме — в монастыре, на всенощной, — это такое духовное мракобесие, что говорить мерзко. Я, несовершеннолетний, вынужден был произнести страшный зарок: обречь себя на монашество. Правда, один из двоюродных дядей Ханыковых, известный миссионер, насадитель православия среди магометан и большой знаток арабского и персидского языков, получив письмо отца о моих злоключениях, принял во мне участие, побеседовал со мной, рассказал мне о своих путешествиях по Ближнему Востоку и Средней Азии. Дядя взял меня к себе, и после годичной подготовки, когда я обнаружил, как говорили, блестящие способности к восточным языкам, меня определили в миссионерское училище в Казани, при так называемом братстве святого Гурия. Должен признаться, в одном отношении обещания дядюшки исполнились: учиться у монахов, объездивших весь Ближний Восток и Среднюю Азию, мне было во много раз интереснее, чем в корпусе. Я уже сказал, что восточные языки мне давались легко, — я знаю арабский, древнееврейский, знаю язык казанских татар, знаю турецкий и азербайджанский… Если бы учение ограничивалось языками, географией и связанными с географией задачами российской дипломатии на Ближнем и Дальнем Востоке — все это было бы вполне выносимо. Но из нас готовили попов-проповедников. Я должен был научиться опровергать все чужие религии с точки зрения догматического православия, лично мне наиболее ненавистного, так как я на себе испытал его. Нас учили искусству доказывать непоследовательность и ложь буддизма, магометанства, католичества, лютеранства, но я видел, что вся эта аргументация прекрасно поворачивается также и против православия. Эту аргументацию я и изложил в сочинении «Что есть истина?» И это — после трех лет учения в монастырской школе, за год до окончания ее, после чего я должен был идти в Духовную академию в Казани на миссионерское отделение. Ведь мне, как Ханыкову, могла открыться блестящая духовно-дипломатическая карьера!
Я пустил свое сочинение по рукам среди воспитанников старших классов. Но все это были лицемеры и карьеристы, я не нашел среди них ни одного сторонника и ни одного честного оппонента, но наушников нашлось несколько, и я снова был исключен за богохульство. Поверьте, Алексей Диомидович, я рад этому, потому что нет ничего отвратительнее, чем жить, сознавая, что ты лжешь ради выгоды, и нет ничего сладостнее полной свободы мысли. Ради этой свободы терплю я и голод и лишения. Природа не обидела меня силой — я работал грузчиком на волжских пристанях. Зимой иногда приходилось мне худо, но ничего, на всю прошлую зиму, например, мне удалось устроиться конюхом при скаковых лошадях. Один из моих братьев, который приезжал к нам для тренировки, должен был участвовать в больших военных скачках. Я вплотную стоял возле брата, его взгляд порою пробегал по моему лицу, но он не узнавал меня. А как же он тянулся перед людьми старше его по чину! Черт с ними со всеми, только мамашу все-таки жаль — она, верно, плачет обо мне…
Я очень рад, Алексей Диомидович, что мы с вами встретились, — и он вдруг своим красивым, полным голосом пропел, указывая на восток, откуда из тумана вставало уже красное солнце:
Мы вольные птицы: пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляет лишь ветер… да я…Алеша снимал койку в доме многодетной вдовы, содержавшей угловых жильцов. В это раннее утро Алеша и Миша легли вместе, на одну койку. А когда проснулись, им показалось, что они давно-давно уже знакомы друг с другом.
Различны были их планы. Миша мечтал по Волге спуститься до Астрахани, побывать в ханской ставке в Сарае, столице Золотой Орды, об археологических диковинках которой слышал от казанских востоковедов, когда еще учился в монастырском училище; из Астрахани затем двинуться в Баку и оттуда пробраться уже в Персию. Ну, а дальше — арабские страны, Египет, а может быть, Индия…
Мечты Алеши Бородкина носили на первый взгляд куда более практический характер. Проекционный аппарат Алеше надоел, ему хотелось перейти на киносъемку, самому снимать кинофильмы. Для этого нужно было переселиться в Петербург. Представитель киноагентства, своего рода коммивояжер по распространению фильмов, в стремлениях юноши не нашел ничего неисполнимого и дал ему адрес одного петербургского «киноателье». Знакомство и дружба с Мишей помогли Алеше. Миша легко усвоил навыки киномеханика, и теперь Алеша, имея заместителя, мог ехать. Денег было в обрез, и Алеша, затянув потуже ремень, взобрался на верхнюю полку вагона третьего класса, с тем чтобы не вставать до самой столицы. Чувствуя себя после двух дней пребывания на голодной диете необычайно легким и как бы несущимся по воздуху, он слез на питерском вокзале, дошел до заветного одноэтажного дома со сплошными стеклами и надписью «Киноателье» и предложил свои услуги. После некоторых расспросов его приняли, на должность младшего механика.
«Вот что значит — в сорочке родился», — думал Алеша словами своей крестной матери, всегда предвещавшей ему счастливую будущность. А ведь в чуде, приключившемся с ним, не было даже простой счастливой случайности, — такие люди, как он, требовались в то время во всех отраслях техники, и хозяева жизни охотно покупали их знания и умелые руки. Получив аванс в размере пяти рублей, Алеша снял маленькую комнатку неподалеку от ателье. Но бывал он в ней редко, так как дни и ночи проводил на киносъемках и без конца и даже, казалось, без смысла возился с аппаратурой. Ему следовало бы чувствовать себя на вершине человеческого счастья, но для счастья не хватало важнейшего условия: с ним рядом не было того, с кем он мог бы это счастье разделить. Известно, что разделенное горе — полгоря, разделенная радость — двойная радость.
Чтобы попасть домой, Алеше каждый день приходилось проходить мимо бирюзовой красавицы мечети, — в эти минуты ему слышался исполненный важности голос Миши, рассказывающий о первых халифах или о строительстве самаркандской мечети. Далее путь лежал мимо сфинксов на университетской набережной. Алеша вспоминал, что о них тоже Миша что-то рассказывал, но что — не мог вспомнить: всевозможные комбинации винтов, шестеренок и линз забивали Алеше голову, и он никогда особенно не вслушивался в рассказы Миши. Но сфинксы своими выпуклыми губами, продолговатыми глазами и особенно важностью выражения напоминали ему самого Мишу. И Алеша даже замедлял шаг, проходя мимо них.
Первое письмо, полное восторга по поводу своих успехов, Алеша написал Мише сразу же по приезде. В письме он советовал Мише крепко ухватиться за должность киномеханика. Миша не ответил на это письмо. Алеша отправил второе, в котором, попрекнув товарища за молчание, добросовестно описал мечеть и сфинксов. Ответ пришел быстро, Мише второе письмо понравилось. «Оказывается, ты, Алешка, когда хочешь, можешь хорошо описывать, и если бы не запятые — на них ты почему-то очень скупишься, — твое письмо можно было бы напечатать в журнале. Когда я прочел, что у сфинксов рябые, точно после оспы, лица, я подпрыгнул от восторга, ты словно перенес меня в Петербург. Ты глядишь на вселенную взором художника…» — и далее все в таком же роде и стиле.
— От барышни письмо получил? — ухмыляясь, спросил сторож киноателье, увидев, что Алеша с мечтательной улыбкой стоит возле колонны, сделанной из фанеры и картона, и, ожесточенно теребя свою русую реденькую бороденку, читает письмо…
Да, этих вот слов, выспренних и важных, сочувствия и одобрения — их не хватало ему! «Как же я его одного бросил? — думал Алеша с раскаянием. — Но ведь Мишка никогда не выражал желания ехать в Петербург. Только об Астрахани, о Тегеране да еще, кажется, о каком-то Мазандеране мечтал он».
Взяв в счет получки десять рублей, Алеша выслал их другу с краткой телеграммой: «Выезжай немедленно».
Не прошло и трех недель со дня приезда Миши Ханыкова в столицу, Алеша с удивлением и даже некоторой завистью увидел, что друг его держится в Питере, как давнишний столичный житель. Пользуясь свободным временем, Михаил целыми днями бродил по городу, а потом рассказывал, что вместо папирос стали курить сигареты, что стиль «шантеклер» выходит из моды и что вошел в моду новый танец «танго» и новый цвет «электрик», что известный журналист Корней Чуковский опубликовал интересную статью о кино.
О том, что Алеше не мешает обновить свой костюм и обувь, не раз намекали ему в ателье, но до приезда Миши Алеша отделывался шуточками…
— Если тебе дать в руки кирку, ты будешь хорош как иллюстрация к «Жерминалю» Эмиля Золя, — сказал Миша, лежа на своей койке и окидывая пристальным взглядом долговязую фигуру друга.
И Алеша словно впервые осмотрел себя: черные грубые штиблеты, серые заплатанные брюки и перешитую из форменной шинели грязно-зеленую куртку с круглыми, обтянутыми материей пуговицами. Он смущенно развел руками.
— Так не годится, Алешенька, — с серьезностью продолжал Миша. — Вопрос о костюме — вопрос престижа. — Он помолчал, что-то обдумывая, и спросил: — У тебя вчера была получка?
— Да, но я…
— Знаю. Фотореактивы, фотобумага, химикаты, шурупчики — мне известно, на что уходит твое жалованье. Была бы у тебя жена, она это безобразие давно бы прекратила.
Миша вскочил, надел шляпу, одернул свой изрядно поношенный костюм. Купленный на рынке возле Обводного канала, костюм этот сидел так, как будто бы на него был сшит.
— Пошли! — сказал он.
После посещения парикмахерской и нескольких магазинов Алеша преобразился. Под широкой шляпой — продолговатое, приятных очертаний лицо; длинное серое пальто на груди расстегнуто; видны блуза художника, белый крахмальный воротничок рубашки, красивый галстук. Теперь Алеша выглядел куда авантажнее своего друга, несмотря на неуловимый элемент столичного «шика», которого Миша непонятно как набрался. На самоотверженное предложение Алеши заняться теперь Мишиным костюмом Миша только ответил:
— Пустяки, в «Публичку» пускают — и ладно.
Преобразование наружности имело для Алеши самые положительные последствия… Сторож перешел в обращении с Алешей с «ты» на «вы» и стал называть его по имени и отчеству, кассир выдал аванс в размере пятнадцати рублей, девушки, как служащие, так и приходившие сниматься в массовых сценах, или пристально взглядывали на него, или опускали глаза.
Однажды Алеша вернулся с работы домой расстроенный и даже, что с ним случалось редко, сердитый. Швырнув в угол пальто, он сказал:
— Черт его знает, что выдумал наш Лохмач! Раз ни пиля не понимаешь в самой ерундовой фотографии, так чего суешься в кино?
Миша блаженствовал на своей кровати, вытянув ноги на спинку; перелистывая какую-то книгу, он поглощал из красной жестяной коробочки прозрачные леденцы «ландрин».
— Что случилось? — спросил он, подвигаясь и давая другу место рядом с собой.
— А то, что вызывает меня к себе Лохмач (это была кличка человека, ведавшего в киноателье всем сценарным делом) и дает мне вот это…
Объемистая, альбомного типа тетрадь, исписанная беглым почерком, перешла в руки Миши. Миша стал перелистывать ее.
Бросались в глаза странные строчки:
«И о радость! Ночь пришла, а день не ушел…
Вечные враги — Ночь и День в эти часы сплетают руки…
Ночь своей беспощадной рукой не снимает дневных веселых красок…
Но она покроет их своим прозрачным покрывалом…»
Бросалось в глаза, что фразы коротки и отрывисты, что каждая начинает собой новый абзац.
— Занятно, — сказал Миша, перелистывая тетрадь.
— Тебе занятно — а мне каково? Знаешь, что он выдумал? «Вы, говорит, должны все это запечатлеть». Слово-то какое глупое! «Пусть кино станет движущейся живописью, Петербург — это город белых ночей». И стал начитывать мне из «Медного всадника».
— Ну хорошо… Но к чему все это? — спросил Миша.
— К тому, что нужно сделать кинокартину «Белые ночи». А как ее сделаешь, когда белую ночь снять не-воз-мож-но.
— А ты пробовал?
— И пробовать не хочу! Такой чувствительности фотоматериалов еще не существует.
— Значит, ты не пробовал.
— Да ну тебя! — Алеша даже отвернулся от Миши.
Но тот вдруг соскочил с кровати, выдвинул ящик письменного стола и достал потускневший кусок фотобумаги.
— Что это? — торжественно спросил он.
— Это? — недоуменно переспросил Алеша. — Это… испорченный снимок… Да, вспомнил, мы шли по набережной, ты просил меня сфотографировать другой берег Невы. Но я как-то неудобно встал, против света, что ли… И ничего не получилось.
— То есть как ничего не получилось? Получилась белая ночь, — сказал Миша.
Алеша взглянул на Мишу: не шутит ли? Нет, Миша был серьезен, даже взволнован… Алеша взглянул на небрежно отпечатанную фотографию… Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакий — все это прочерчивалось четко, силуэтами. И все же это были не силуэты, — сквозь дымку поблескивали окна Зимнего дворца и колонны Адмиралтейства. Казалось, что даже от купола Исаакия исходило какое-то тусклое мерцание. А рука фальконетовского Петра повелевала, призывала…
— Ты тогда выбросил эту испорченную фотографию, а я подобрал и долго ее рассматривал. Не помню, была ли у меня мысль о белых ночах, но что-то очень петербургское показалось мне здесь. Вот я и припрятал. Так просто припрятал, а пригодилось.
— Значит, белую ночь совсем не нужно снимать в белую ночь, а можно снимать и днем? Погоди! Какая была тогда погода? Неужели солнечная?
— Да, солнечная, но в дымке.
Они вспоминали, какое было в тот день освещение, в какой час дня произошел этот незначительный, казалось бы, случай. Они постарались воспроизвести все условия съемки такой «белой ночи» — не раз, не два, не три повторяли съемки… Выходило то слишком ярко — белесый день, а не белая ночь, то получалась ночь как ночь, в которой тонуло все и еле намечались силуэты… Все же под конец они добились своего.
Теперь от фотографии надо было перейти к киносъемке, от стеклянной пластинки — к пленке. Они работали целыми сутками, неделями не возвращались домой, отсыпаясь в лаборатории. Алеша здесь вел и командовал, Миша был терпеливым и исполнительным помощником. Зато при первой публичной демонстрации «Белых ночей» потребовалось выступление Миши, потому что у Алеши от сильного смущения заплетался язык. Миша же, восхваляя достижения друга, был особенно красноречив. Ему хотелось подчеркнуть то новое, что несла с собой эта кинокартина: в ней кино сумело передать прозрачную, воспетую лучшими русскими поэтами красоту белых ночей Петербурга, его чутко спящие сады и дворцы. Дворники, метущие улицы и поднимающие серебристую пыль, как бы застывающую в воздухе, парочки влюбленных, проходящие вдоль набережных и отраженные в зыбкой воде. И вдруг крупным планом — фигура человека, словно выросшая из тьмы: руки в карманах, белая фуражка надвинута на лоб, поблескивают глаза, что-то шепчут капризные и упрямые губы. Это был сам Миша. Он хотел изобразить ночного вора — получилось что-то другое: одинокий юноша, честолюбец, мечтающий о славе. Даже Оля бесшумно и медленно проезжала на своем велосипеде… Когда ее снимали среди бела дня, она и не знала, что появится в картине, изображающей белую ночь.
Картина эта, построенная на полутонах, на недосказанном, понравилась в тех литературных кругах, где до этого брезгливо морщились и отворачивались от кино… Больше всего в похвалах картине усердствовал тот, кого Алеша и Миша за глаза называли «Лохмач», а в глаза — Святослав Нилович (он подписывал свои статьи: Святослав Нильский, по паспорту был Никифор Нилов). Возможно, что волосы он отращивал для того, чтоб казаться выше ростом, и ему действительно удалось добиться цели: на голове стояла копна черных блестящих волос и прибавляла Лохмачу не меньше четверти его роста. Красивая голова и тщедушное тело, ночная гульба и дневной сон, непрерывное стяжательство и жадная любовь к искусству, подогреваемая все тем же стяжательством и уродуемая им, — таков был этот человек. Владелец киноателье фактически передал Лохмачу в распоряжение свое предприятие, довольствуясь барышами, которые росли от года к году. Кино в то время показало свою прибыльность — и особенно в России. Кинотеатры росли, как грибы. «Братья Патэ и Гомон», имевшие свои филиалы в России, выкачивали миллионы из огромной страны. Но вот появились русские фирмы — Ханжонков и Ермольев, количество кинофильмов русского происхождения исчислялось уже десятками.
Владелец киноателье, где работали Алеша и Миша, понимал, что в лице Нильского он владеет курицей, несущей золотые яйца, и слепо повиновался ему. В Святославе Ниловиче была одна черта, искупавшая многие его пороки и недостатки: он любил русское искусство и уверен был, что пришло время, когда в этой новой области искусства русские люди скажут свое веское слово.
Такими картинами, как «Стенька Разин», «Осада Севастополя», «Покорение Кавказа», не может похвастаться ни одна страна Запада. В массовых и батальных сценах этих картин прокладывает себе дорогу народность. Наш кинорежиссер Гончаров сделал драгоценную находку: когда ему нужно, он приближает аппарат вплотную, показывает глаза или движения рук действующего лица или охватывает всю его фигуру. В этом отношении кино сильнее театра и может сравниться лишь с литературой. Такова драгоценная находка русского киноискусства, — говорил Святослав Нилович.
У Ханжонкова режиссер Чердынин поставил «Обрыв», и Святослав Нилович прочел в Народном доме графини Паниной реферат. Сравнивая нашу кинокартину с современными ей лучшими картинами Запада, он доказал ее художественное превосходство. Эту победу русской кинематографии Святослав Нилович объяснил влиянием русской литературы и первый в этом реферате высказал мысль, что кино стоит ближе к литературе, чем к театру.
Почти одновременно с выпуском «Белых ночей» из-за границы был привезен в Россию фильм «Неаполитанские рыбаки». Он шел по всем экранам под аккомпанемент мандолин и гитар. Это была видовая картина: изображение тяжелого и поэтического труда, а в финале — бешеная пляска.
— Ну, что скажете о «Неаполитанских рыбаках»? — спросил Святослав Нилович Алешу и Мишу, встретив их на дворе киноателье.
— Ничего, вроде баркаролы для глухонемых, — небрежно сказал Миша.
— Рыбу ловили одни, а танцуют другие, — с раздражением, ему не свойственным, сказал Алеша. — Настоящий народный танец рыбаков побоялись показать, танцуют балетные пары и по-театральному. Да и рыбу как следует не показали… А воду снимать не умеют, куда-то наверх аппарат тащат, и получилась не вода, а какой-то цемент, тяжелая, вязкая масса.
— Вы бы лучше сняли? — спросил Святослав Нилович. Он даже привстал на цыпочки, чтобы заглянуть в глаза Алеше.
Алеша пожал плечами и ничего не ответил.
— А вы припомните, Святослав Нилович, как снята вода в канале в «Белых ночах», — сказал Миша. — Там баркасы проходят, до краев заваленные кустарными деревянными изделиями. Помните, как ложечки поблескивают?
— Чудо! — с восторгом сказал Святослав Нилович. — Друзья! Вы молодцы! Вы мои чудо-богатыри! Ей-богу, я вижу, вы можете утереть нос иностранцам! Прямо вот так возьмем и утрем! Полемически! Неаполитанские рыбаки?! Слушайте, поезжайте на Ладогу, дайте там наших русских рыбаков, таких, с которыми запросто беседовал Великий Петр.
Миша ничего не ответил и вопросительно взглянул на Алешу.
— На Ладоге солнце может подвести, — ответил Алеша. — У них в Неаполе за солнцем гоняться не приходится.
— Ну, а куда? Куда? — спрашивал Святослав Нилович. В нетерпении он даже переступал с ноги на ногу. Его лаковые с замшевыми боками ботиночки поднимали пыль. — На Черное море? В Крым?
— На Каспий ехать надо, — решительно сказал Миша. — В смысле рыболовства самое богатое море.
— Поезжайте! — торжественно поднимая руку к небу, сказал Святослав Нилович. — На Каспий… Хотите в Баку? Там у меня есть знакомый в Совете съездов нефтепромышленников, господин Достоков, он вам все устроит. Поезжайте, за деньгами дело не станет… Двигайте с богом!
— А что ж, мы поедем, — сказал Миша. — Верно, Алеша?
Алеша грустно кивнул головой, и Миша прекрасно понял причину его грусти.
2
Мише надолго запомнился тот вечер, когда он, вернувшись из Публичной библиотеки, голодный, предвкушая совместное веселое чаепитие с Алешей, увидел, что его место за столом занято миловидной, с надменным лицом девушкой, Алеша заглядывает ей в глаза, и хозяйский желто-медный с помятым боком самоварчик уже урчит на столе. Его, понятно, заботливо усадили за стол, налили ему чаю, и он тут же познакомился с Олей. Ему рассказали со всеми смешными подробностями происшествие с велосипедом. Но были вещи, о которых можно и не рассказывать: впервые за все время дружбы с Алешей Миша почувствовал себя третьим, ненужным и лишним.
Разговор шел о женском равноправии, о деятельности суфражисток, которым Ольга сочувствовала. Из желания противоречить Миша, ссылаясь на авторитет великого писателя, но не называя его имени, сказал, что неравенство полов коренится в природе.
— Пошлость не перестает быть пошлостью оттого, что она сказана великим писателем, — вспыхнув, ответила Ольга.
Придуманный великий писатель Мише не помог, и все же он продолжал спорить. Но спорить было трудно — Ольга наизусть произносила цитаты и из Чернышевского и из Герцена. Однако перед уходом смягчилась, попросила не сердиться и все же не без ехидства сказала:
— Знаете, мой брат, военный ветеринар, бил меня плетью только за то, что я лезла с ним спорить по «лошадиным вопросам».
Во время этого разговора Алеша молча возился с велосипедом. Потом пошел помочь ей спустить велосипед с лестницы и не возвращался часа четыре, а когда вернулся, Миша спал или делал вид, что спит.
С этого дня Оля Замятина стала все чаще появляться в гостях у друзей. Обменявшись колкостями с Мишей, она позволяла Алеше провожать себя. Впрочем, с Алешей она могла вдоволь наговориться, когда они встречались у памятника «Стерегущему». Они то говорили, то надолго замолкали и, взявшись об руку, легко и незаметно проходили по всему Каменноостровскому. За мостом, за речкой Карповкой, проспект терял свои величественные очертания и переходил в широкую дорогу, по сторонам которой появлялись двухэтажные домики, садики, огороды. Но Алеша с Ольгой шли все дальше, до последнего деревянного моста, и долго, с радостью вдыхая свежий ветер, дующий со стороны залива, смотрели на закат, неправдоподобно яркий, как часто это бывает в Петербурге. То спокойное доверие, которое Ольга почувствовала к Алеше при первой встрече, становилось все определеннее. Она видела, что Алеша застенчив, робок, что он явно проигрывает при сравнении со своим другом. Миша куда начитаннее и говорит так, что заслушаться можно, и спокойно уверен в себе. И все же каждое слово Михаила вызывало у Ольги желание противоречить ему. Если он утверждал, что кино — это искусство, она возражала и говорила: «Это зрелище вроде балагана и кривых зеркал»; если он проповедовал индивидуализм, она возражала как сторонница альтруизма, и чем его доводы были убедительнее для нее самой, тем яростней спорила с ним. Алеша в этих спорах участия не принимал, да и оставаясь наедине с ней, не начинал первым разговора. Он лишь посмеивался, когда она раздраженно порицала Мишу за самоуверенность, за безделье, за то, что Миша тратит деньги Алеши, как свои. На это Алеша только замечал:
— Вы наших дел с Михаилом не знаете.
Ничего похожего на слова любовного признания до сих пор не было сказано во время этих далеких прогулок. Держа Ольгу под руку и взглядывая на тонкие очертания ее подбородка, губ и носа, чуть-чуть приподнятого, Алеша шел и шел, радуясь, что им так легко и ладно идти вдвоем. Ольге тоже было хорошо. Чувство сильнейшего доверия к Алеше развязало туго свернутую, молчаливую душу, и все, что она не умела растолковать Людмиле о своем одиночестве, легко и просто высказывалось Алеше.
— Но как же так, Ольга Яковлевна? — сказал однажды Алеша. — Вот вы говорите: поток одиноких душ, никто друг друга не понимает, все живут каждый сам по себе. Но разве это так? Разве вы не знаете таких простых вещей, которые соединяют людей вместе, связывают? Что соединило меня и Михаила?
— Я не знаю, что вас соединило, — не сразу ответила Ольга, — не понимаю этого — вы очень разные. Да вот и мы с Людой были дружны, а теперь получается, что от дружбы ничего не осталось… Живем, как в аквариуме, — с грустной усмешкой сказала она.
— Что в аквариуме? — недоуменно спросил Алеша.
— Да это я так, пустяки… Ну, так что же это за петушиное известное вам слово, которым можно соединять людей вместе?
— Вот вы смеетесь — петушиное слово! И не одно слово! Слова! Есть такие страшные и сильные слова: нужда, голод, обида… Дай вам бог всего этого не знать.
— Неужели вы думаете, что я из какой-нибудь буржуазной семьи? — сказала Ольга. Она даже остановилась и в негодовании выдернула руку из его руки. — Мой дед и сейчас в тюрьме, а я…
— Да вы не сердитесь, Ольга Яковлевна, я ничего такого сказать не хочу. Я тоже вырос в семье вполне обеспеченной, а Мишка — даже в богатой. Но получилось так, что оба мы оказались выброшенными из родительских гнезд. Оба мы испытали на себе и голод и холод, унижение нищенства и то самое одиночество, о котором вы говорите. Об этом я с вами не спорю. Но я говорю, что люди в беде соединяются, сближаются, и тут начинаешь понимать, что значит друг.
— Какой же вам Михаил Ханыков друг, если он проповедует зоологический индивидуализм? — спросила Ольга.
— Э-э-э… Ольга Яковлевна, говорит он часто похоже на то, что вы сами говорите. Но что бы он ни говорил, я — то ведь знаю: такого друга-товарища поискать. Да и дело тут не во мне и не в Мише, тут надо шире брать. Разве вы не знаете, какие забастовки идут сейчас на заводах? Что соединило вместе тысячи этих людей и дало им силу? Разве они одиноки? Нет, Ольга Яковлевна, они не чувствуют одиночества, их души соединены, сплочены.
— Вы социал-демократ? — быстро спросила Ольга.
— Ну что вы, Ольга Яковлевна, какой я социал-демократ! Мне о политике думать просто некогда.
— Но ведь вы до нее додумались.
— А что тут особенно много думать? Жизнь сама наталкивает.
«А почему меня не наталкивает?» — подумала Ольга.
Как-то во время прогулки Алеша рассказал Ольге, что они с Мишей, возможно, уедут в командировку, в Баку.
— Тоже в Баку? — вдруг спросила Ольга.
— А кто еще туда едет?
— Нет, это я так. — Ольге не хотелось рассказывать, что в Баку собирается и Людмила. Ольга ничего не рассказывала Людмиле о своем новом знакомстве, и Алеша тоже ничего не знал о Людмиле. — В Баку так в Баку, — протяжно сказала она и замолчала.
Весь этот вечер Ольга прятала нос в воротник, говорила, что ей холодно, и отворачивалась от Алеши. На следующий день она не пришла на свидание к «Стерегущему» — обычному месту их встреч, и Алеша понял вдруг, как нужны ему эти встречи.
Спустя два дня он решился пойти к ней домой. Остановился у ее ворот, которых никогда не переступал. Потом вошел в тесный, сумрачный двор, обычный петербургский, и остановился в нерешительности. Он не знал точного адреса. Оля как-то сказала, что окна их квартиры выходят во двор. Но десятки оконных глаз со всех сторон насмешливо-высокомерно глядели на него. «Обратиться к дворнику? Как-то неудобно», — подумал Алеша. Возвращаясь со двора, он прошел как раз мимо того окна, заглянув в которое увидел бы Людмилу и Ольгу.
На следующий день Оля сама появилась у них: оказывается, она перенесла легкую простуду. Услышав ее резковатый голос, взглянув на раскрасневшееся лицо, Алеша с горечью подумал, что она совершенство и никогда не полюбит его.
Ольга же была раздосадована тем, что он, уезжая в Баку, не догадывается, как ей не хочется с ним расставаться.
На вокзале Алешу никто не провожал, так как вместо любовного объяснения между Ольгой и Алексеем происходили только любовные размолвки. А Мишу провожали четыре девушки — все четыре из одного магазина-конфекциона. И когда поезд тронулся, три девушки махали платками, а одна осторожно прикладывала платочек к глазам.
3
Людмила в белом халате, белой марлевой повязке и резиновых перчатках вот уже несколько часов «висела» над микроскопом, отводя глаза только для того, чтобы взглянуть на часы и занести в тетрадь скупую запись, состоящую из нескольких цифр.
Она вела наблюдение над чумными микробами, разведенными на том мутноватом студне, который называется агар-агар и является искусственной средой для выращивания микробов. Кургузые, ею самой окрашенные в темно-синий цвет микробы, по форме напоминавшие бочоночки, были почти неподвижны, да иначе вести себя они и не могли. Это была довольно однообразная картина, но Люда вела наблюдение с тихим и азартным чувством, похожим на чувство охотника, выслеживающего опасного зверя.
Прошел час, другой, и в сером свете утра стал уже проступать серебристый тон полудня. На небе не было солнца, но все оно светилось этим серо-серебряным неярким светом, какой бывает весною, наверно, только в Петербурге. Этот свет, вливаясь в огромные окна лаборатории, разбудил уснувшие цвета, заблестел в многочисленных стеклянных колбах и ретортах, преломляясь в них зыбкой радугой. Ничего этого Людмила не замечала. И вдруг, торопливо записывая в тетрадь свои наблюдения и взглянув на часы, чтобы точно обозначить время, Люда неожиданно встретила внимательный изучающий взгляд руководителя лаборатории профессора Баженова и поняла, что, пока она следила за поведением чумных микробов, ее самое наблюдали, взгляд был пристальный и, пожалуй, вопросительный.
— Что ж, Людмила Евгеньевна, не знаю, какой из вас будет врач-эпидемиолог, но лаборант вы уже и сейчас превосходный. А лаборант — это в нашем деле, как бы вам сказать, первый чин, ну, скажем, ефрейтор… Только вот работать следовало бы вам, дорогой ефрейтор, по всем правилам, в маске, а не в повязочке…
Людмила покраснела.
— Но Римма Григорьевна мне сказала, что эта культура биполяра совершенно безопасна.
Баженов покачал головой и вздохнул.
— А ну-ка, разрешите, — сказал он и, склонив над микроскопом свою продолговатую голову с сильно редеющими волосами, стал медленно и осторожно повертывать медно-блестящий винт микроскопа, приноравливая стекла для своего зрения. Он был в белом халате, из-за ворота которого выступал мягкий воротничок; пестрый галстук оттенял петербургскую сероватую однотонность его лица. Тонкий, правильной формы нос как бы нависал над губами, бритыми, сложенными в привычную усмешку, снисходительную и, пожалуй, ироническую; густые брови тоже нависали над светло-серыми, сейчас сильно прищуренными, небольшими глазами. Поразительно зорки были эти глаза, — едва ли больше булавочных головок казались его зрачки.
В отношении своих гипотез Баженов был очень осторожен. Он пуще всего боялся появления в печати какой-либо сенсации, а когда узнал, что брат у Люды газетный репортер, огорчился и даже одно время явно остерегался ее. Сотрудник лаборатории, которому Аполлинарий Петрович поручал тот или иной опыт, по большей части не знал, какое место этот опыт занимал в решении той проблемы, над которой работал сам Аполлинарий Петрович. Люде, недавно пришедшей в лабораторию, конечно, доверялись опыты, имеющие второстепенное и по большей части лишь контрольное значение. Но это ее не смущало. На них Люда училась. Ее интересовал самый процесс микробиологического наблюдения, и она с восхищением усваивала новые методы работы в лаборатории, — да и где еще она могла их усвоить, кроме как здесь? Сознание, что она служит возвышенной цели, хотя и неизвестной, поднимало дух, делало ее неутомимой. Самая атмосфера таинственности привлекала, и каждое слово похвалы радовало. Впрочем, все это было в характере Люды. На всю жизнь она запомнила первую школьную радость, когда в приготовительном классе на уроке чистописания похвалили ее старательно выписанные палочки. Такой же похвалы ждала она и сейчас, наблюдая, как Аполлинарий Петрович, оставив микроскоп, стал просматривать ее записи в тетради. Но он, отложив тетрадь, протер свои глаза, слегка покрасневшие от утомления, и неожиданно сказал:
— Итак, вам сообщила Римма Григорьевна, что эта культура биполяра безопасна. А в связи с чем она это вам сказала?
— Я пожаловалась, что у меня вчера голова болела, что в маску не хочется залезать, — быстро ответила Люда.
— При головной боли надо совсем освобождать от работы, — делая ударение на слове «совсем», сказал Баженов. — Лучше один день не посетить лабораторию, чем нарушать наши правила. Наши правила, Людмила Евгеньевна, — это все равно что устав для солдата. Любому новобранцу требования строгого соблюдения устава в мирное время могут показаться бессмысленными. Но когда начинается война, соблюдение устава спасает солдату жизнь и позволяет полководцу выиграть победу. Потому, дорогой ефрейтор, вам надлежит выполнять наши правила не рассуждая… Я уже говорил: если вы всерьез хотите работать в области микробиологии, вам следует научиться работать в защитной одежде, все равно как если бы это была обычная одежда. Понятно? — с оттенком строгости сказал он.
— Да, — ответила Люда.
Баженов кивнул головой и опять стал просматривать записи.
В лаборатории стало тихо, слышны были только часы, спокойно отбивающие секунды.
— Но как же это могло произойти, чтобы микробы биполяра потеряли вирулентные свойства? — тихо спросила Люда, склонившись над микроскопом. Спросила, как будто бы невольно высказала вслух то, о чем думала. В прямой форме задать такой вопрос профессору казалось ей дерзостью.
Баженов ничего не ответил, и Люде стало стыдно за слова «биполяр» и «вирулентный», которые она недавно узнала и которыми щегольнула. И она очень обрадовалась, когда Баженов ответил ей серьезно и просто:
— То, что произошло с этой культурой микробов, является событием большой важности, Людмила Евгеньевна. Я не буду рассказывать всю историю вопроса, попросите Римму Григорьевну, она ознакомит вас с материалами. Это вам будет полезно. Вкратце же могу сообщить следующее: культура этих чумных микробов была выделена мной из разложившейся легочной ткани женщины, погибшей от чумы. Это произошло четыре года тому назад. С тех пор бациллы поколение за поколением сменялись в стенах нашей лаборатории, сотни, если не тысячи морских свинок гибли от прививок именно этой, если можно так выразиться, марки чумного яда. Эту марку мы назвали штамм «ОС». После их гибели выделялись новые генерации бацилл и поступали под наблюдение. За эти месяцы вы сами наблюдали за поведением нескольких десятков поколений бацилл и ничего особенного не заметили.
Да и сейчас не замечаю, — сказала Люда.
— А между тем все время микробы этой культуры, которая у нас значится под наименованием штамм «ОС», непрерывно и постепенно изменялись, или, точнее сказать, мы, планомерно воздействуя солнечными лучами, постепенно изменяли их свойства. Морские свинки, получившие прививку «ОС», сначала умирали на второй или третий день, потом — на четвертый, пятый и так далее. Так удалось нам растянуть этот срок до месяца, до тридцати четырех дней, и вот, представьте себе, третьего марта сего года первая морская свинка выздоровела.
— Аполлинарий Петрович, неужто это новая вакцина?! — воскликнула Люда. — Новое оружие для борьбы с чумой?
Баженов внимательно и снова как бы вопросительно взглянул на ее раскрасневшееся лицо и усмехнулся.
— Торопитесь с выводами, дорогой ефрейтор… К сожалению, у нас со штаммом «ОС» все-таки совсем недостаточно проделано было опытов. Новое оружие! Хорошо, если бы так. Сейчас перед нами открываются некоторые возможности проверить это оружие.
Люда во все глаза глядела на Аполлинария Петровича. А он, выпрямившись во весь свой рост, щурился, глядя куда-то вдаль, словно за стены лаборатории.
— Аполлинарий Петрович, эти возможности дает нам вспышка эпидемии? — спросила Люда.
— Какой эпидемии? — приходя в себя, растерянно и сердито переспросил Баженов.
— Чумной, под Баку… Я знаю, Аполлинарий Петрович…
— Это вам Римма Григорьевна рассказала? — Аполлинарий Петрович от неожиданности опустился на стул. — Какое безобразие!
Он был лишен хитрости от природы, и простое предположение, что Люда сама догадалась о некоторых событиях, о которых ей не рассказывали, и что Римма Григорьевна в разглашении тайны совсем невиновна, не пришло ему в голову.
Было одно обстоятельство, которое помогло Люде догадаться о том, что от нее скрывали: два дня тому назад Римма Григорьевна с торжественным и благоговейным видом сообщила, что профессор Даниил Кириллович Заболотный, очевидно, переменит маршрут своей летней поездки: заедет предварительно в Баку, а потом уж отправится на родную Украину. За время работы в лаборатории Люда привыкла получать подобного рода сообщения о деятельности Даниила Кирилловича Заболотного, учителя и старшего друга Баженова. Так, она была осведомлена, что за эту зиму профессор дважды был простужен, что необходимость вторичной поездки его в Монголию на чуму окончательно отпала, что из Киева Даниилу Кирилловичу почитатели его прислали замечательные украинские вышивки.
Если наука заменяла в доме Баженовых религию, то главным глашатаем науки, ее пророком и подвижником был профессор Даниил Кириллович Заболотный.
Люда, конечно, во всех подробностях знала о славном научном подвиге Заболотного. Установив, что чума распространяется через посредство диких грызунов, сусликов и тарбаганов, болеющих чумой и заражающих лошадей, Заболотный помог человечеству начать планомерную борьбу с чумой. Даниил Кириллович и человечество — только так говорилось в доме Баженовых о Заболотном!
Люда ни разу еще не видела Заболотного, но знала о его привычках и симпатиях, об украинских шутливых присловках, которыми он любил уснащать свою речь, и, конечно, о том, что он в целях научного исследования с величайшей опасностью для своей жизни проглотил разведенные холерные вибрионы. В 1897 году Заболотный был в Индии, в составе международной экспедиции, выехавшей на чумную эпидемию. Как бы далеко ни вспыхивала эпидемия чумы — в Аравии, в Китае или в Монголии, — Заболотный был уже там. В первую экспедицию его сопровождал в качестве лаборанта молодой студент, только что перешедший на второй курс, Аполлинарий Баженов, а в последнюю Баженов ездил уже в качестве ближайшего помощника и заместителя Заболотного, а Римма Григорьевна, только что закончившая тогда курсы, — в качестве практиканта. По рассказам Риммы Григорьевны Люда знала, что при всем своем благоговении перед учителем Баженов не то чтобы оспаривал, но привносил в общее дело какие-то свои воззрения.
Придерживаясь гипотезы своего учителя о роли грызунов в распространении чумы, Аполлинарий Петрович считал нужным установить очаги распространения чумы, существующие на всем земном шаре, и добиться радикального оздоровления этих местностей. Точка зрения Заболотного, как ее излагала Римма Григорьевна, представлялась Люде более практической, он настаивал на создании сети прививочных лабораторий по всему юго-востоку России и на постоянном наблюдении за грызунами. Не отрицая пользы подобного рода лабораторий, Баженов поставил задачу — выработать для населения мест, которым угрожает чума, вакцину, которая гарантировала бы населению полную безопасность от чумы. Людмила еще не допускалась к опытам над «живым материалом» — над крысами, кроликами, — такие опыты проходили в другом отделении лаборатории. Но по одной фразе, невольно вырвавшейся у Риммы Григорьевны, Люда поняла, что Баженов настойчиво работает над созданием нового вида противочумной вакцины, скрывая это от своего, очевидно более скептически настроенного, учителя. Сейчас дверь этой тайны приоткрылась перед Людой, и приоткрыл ее сам Баженов.
— Ефрейтор, — сказал он, — рвется в бой.
— Хотя бы санитаром возьмите меня в Баку, — тихо сказала Людмила, умоляюще складывая руки, и замерла от сознания своей дерзости.
Аполлинарий Петрович посмотрел на нее внимательно и придирчиво. Люда не отвела своего взгляда.
— Если бы вы не похвалили меня сегодня за лабораторные работы, право, я бы не отважилась.
— Но неужто Римма рассказала и о нашем отъезде в Баку? — спросил Баженов.
— Аполлинарий Петрович, Римма Григорьевна ни слова мне ни о чем не сказала, я обо всем догадалась сама.
Раскрасневшаяся от волнения, сцепив руку с рукой, чтобы не жестикулировать, она торопливо стала рассказывать Баженову о цепи своих умозаключений.
Она стояла перед ним, а он сидел и молча слушал, придирчиво приглядываясь к ней. Он видел, что она способна к пунктуальной и усидчивой лабораторной работе, он видел, что она лишена страха смерти. И все же, глядя на нее, он не мог понять, зачем этой молодой красавице, казалось бы созданной для любви и для счастья, лезть в то дело, которому он отдал всю жизнь.
Возможно, он потому не понимал Люду, что путь ее жизни не был похож на путь его жизни. Она выросла в сытости и довольстве состоятельной семьи, образование само шло ей в руки. А он, сын многосемейного дьячка-пропойцы, в детстве был попрекаем каждым куском хлеба и проклят родителями, когда, окончив духовную семинарию, не вступил на путь священничества, а выдержал вступительные экзамены на медицинский факультет. Баженов не знал отца Люды, но ему думалось, что он был из тех людей, которые залихватски когда-то в молодости заламывали студенческие фуражки и хором пели «Гаудеамус». Это были «красные», и Баженов сторонился их, не понимал, зачем поступали они на медицинский факультет, если уж так решительно собирались делать революцию. И он не верил ни в их преданность науке, ни в их революционность.
Но от студентов-белоподкладочников он был еще дальше. Толкнуть будто бы нечаянно своим залатанным локтем жирного барчонка и не извиниться и потом слушать его злобное поскуливание — в этом удовольствии он тогда не мог себе отказать. Не вмешиваясь в политическую борьбу своего времени, Аполлинарий Баженов шел своим путем, узкой и трудной тропой науки, не догадываясь, что ему при всей нелюбви к господствующим классам предстоит оказаться на службе у них.
По окончании университета Баженов встретился с профессором Заболотным. Даниил Кириллович происходил из крестьян и поднялся на вершину знания и культуры. Одно это уже внушало к нему уважение и доверие. Заболотный исповедовал святую и наивную веру в то, что наука, и только она, призвана спасти человечество. В соответствии с этим признанием Заболотный ставил перед наукой такие цели, от которых дух захватывало, — и Баженов пошел за ним и рядом с ним. И как удивились бы они в то время, если бы им сказали, что в своей науке они являются революционерами и что их научные цели могут быть полностью осуществлены только в государстве социалистическом.
Революция, социализм… Они, пожалуй, против «этого» ничего не имели, но пусть этим занимаются те, другие, достойные всяческого уважения за свои стойкость и честность, за свое бесстрашие, люди — революционеры. «К нам, людям науки, это не имеет никакого отношения», — так говорили Заболотный и Баженов, хотя по стойкости, честности и бескорыстию, по настойчивости в достижении благородных целей, да и по строгому пониманию своего долга перед народом, из которого они вышли, они сами больше всего походили на революционеров.
Они шли узкой и трудной тропой подвигов и, как подобает революционерам, внимательно приглядывались к каждому, кто хотел стать их сподвижником. Так приглядывался Баженов к Люде: «Понимаешь ли ты, какой путь избираешь? Серьезно ли это у тебя?»
Часть вторая
Глава первая
1
Ранней весной 1914 года в местности севернее Батума в одну темную и бурную ночь, словно бы предназначенную для контрабандистов, маленький парусник вошел в потаенную бухточку среди диких скал. Здесь с большой поспешностью были сгружены шесть основательно запакованных тюков. Старик рыбак Ибрагим Ходжалия со своими двумя сыновьями принял эти тюки у отважных моряков-черноморцев, спрятал их в укромном месте, в пещере неподалеку от побережья. Немало книг, типографского оборудования и оружия прошло через эту пещеру.
Старик Ходжалия, почитаемый в селении за свой тихий нрав, за честность и скромность, давно был важнейшим звеном подпольной партийной почты. К нему приезжали из Тифлиса, а иногда из Баку забрать то, что хранилось в пещере, и каждый такой приезд был праздником для старика. Он расспрашивал о том, что нового в мире, как идет борьба за то дело, которому он служит. На этот раз он тоже ждал посланцев из Тифлиса, Но никто не появлялся. Что делать?
Нужно терпеливо ждать, ведь даже обычная почтовая связь может прерваться — тем более эта, вся сплетенная из самоотвержения и подвигов, связь, держащаяся на людях, за которыми охотится столько врагов…
А в Тифлисе произошло именно то, о чем догадывался и чего опасался Ибрагим Ходжалия. Полиция подвергла разгрому подпольный большевистский комитет, недавно восстановленный. Аресты эти произошли в то время, когда среди рабочих Тифлиса шли сборы подписей под протестом против исключения на пятнадцать заседаний членов Государственной думы — социал-демократов. Сбор подписей шел успешно, и местные власти решили эту политическую кампанию парализовать.
И кто знает, сколько времени пролежали бы тюки литературы в прибрежной пещере нераспакованными, если бы в Тифлисе не уцелел от ареста один юноша, недоучившийся студент Александр Елиадзе.
Впоследствии выяснилось, что во избежание провала крупного провокатора полиция вынуждена была ограничиться арестами только некоторых членов комитета и кое-кого намеренно оставила на свободе.
Саша Елиадзе так недавно вступил в организацию и настолько незаметную роль играл в ней, что для сетей, раскинутых врагами, он оказался слишком мелкой рыбешкой и благополучно ускользнул от наблюдения. Между тем при всей своей незначительности именно он был посвящен в тайну пещеры Ибрагима Ходжалия. Ему надлежало отправиться туда и переправить тюки с литературой в Тифлис. Все эти перевозки предполагалось произвести по железной дороге. Однако аресты прошли также по всей линии Тифлис — Батум. Слежка всюду была усилена. Александр боялся не за себя, а за драгоценную кладь — она ни в коем случае не должна была попасть в руки врагов. Надо какое-то время выждать, а пока попытаться восстановить оборванные партийные связи. Александр так и решил поступить.
В Тифлисе был постоялый двор, на котором останавливались приезжие крестьяне — и не только из Гурии, Карталинии, Кахетии и Мингрелии, но и из-за гор — из Осетии, Дагестана, Веселоречья. Хозяин постоялого двора, оборотистый и преждевременно ожиревший человек, и не подозревал, конечно, что его заведение, которое он пышно именовал «Небесная благодать», издавна является местом, куда приезжают революционно настроенные крестьяне для того, чтобы встретиться здесь с одним из членов Кавказского областного комитета большевистской партии, красивым седоусым стариком.
Хозяин хорошо знал в лицо этого своего завсегдатая, знатока вин, умевшего по вкусу безошибочно называть селение, поставлявшее вино: Риони, Свири, Кипиани. Этот веселый и почтенный человек приходил на постоялый двор еще потому, что был любителем игры в нарды, а духан при постоялом, дворе славился какими-то особенными, «обкатанными» для игры досками. Потом этот седоусый приятный посетитель куда-то исчез. Куда — хозяин, конечно, не знал.
Александр, которому однажды пришлось по партийному поручению побывать здесь («игрок в нарды» — это был товарищ Павле, один из руководителей Тифлисского большевистского комитета), знал, какое значение имеет этот двор для деятельности большевистской организации. Здесь была явка. Люди из селений, приезжая сюда, искали, конечно, среди игроков в нарды товарища Павле, своего доброго друга и советчика. И Александр, решив восстановить связь с приезжающими из имений, стал «игроком в нарды».
Может быть, не раз белые и черные косточки нардов переходили из рук Александра в руки кого-либо из друзей. А как такого человека распознать и как он узнает тебя? Открыться чужому — можно попасть в щупальца шпика.
Однажды душным вечером Александр, сидя на корточках на открытой галерее, где происходила игра в нарды, с азартом тряся в ладонях полированные косточки, вдруг увидел, как на галерею, неслышно ступая в своей плетенной из ремешков обуви, взошел широкоплечий юноша в русской рубашке и белой войлочной шляпе. Взглянув в загорелое, увлажненное потом молодое лицо, Александр тихонько передохнул: это же был Науруз из Веселоречья, тот самый, которого Александр прошлым летом провожал до Баку вместе с ослепшим Асадом Дудовым! Теперь Александр знал о том, о чем тогда и не подозревал: этот юноша горец связан через Константина с большевистской организацией. Но ведь Константин был арестован еще в прошлом году, задолго до общего провала организации. Науруз, наверно, об этом не знает.
Сделав очередной ход, после которого партнер погрузился в неподвижное раздумье, Александр стал осторожно наблюдать за Наурузом. Юноша, все так же неслышно ступая, подошел к буфетной стойке и о чем-то попросил, но хозяйский брат, наглый мальчишка с подведенными глазами, стоявший за стойкой, сделал вид, что не слышит просьбы. Наурузу пришлось повысить голос — он просил продать ему хлеба. Просил по-русски, не совсем правильно выговаривая слова. «Наверно, Науруз не знает, что Константин арестован еще осенью, не знает и о недавнем провале комитета. Нужно поскорей его предупредить».
Имя Константина стало для них обоих паролем, русский язык, на котором Александр обратился к Наурузу, стал языком их дружбы. Теперь их было двое. Но Александру казалось, что силы его удесятерились.
Александр рассказал Наурузу о литературе, спрятанной в пещере под Батумом, и Науруз тут же предложил свою помощь.
* * *
Александр вошел в дом Ибрагима Ходжалия, а Науруз остался у ограды садика, вдыхая сильный и пряный запах каких-то незнакомых ему цветов. Он с любопытством смотрел, как под большими неподвижными звездами небес быстро носятся, вспыхивая и погасая, мелкие неисчислимые «звезды» земли — летучие светляки. Минуты шли медленно. Науруз стоял и слушал мерные удары волн о песок, тяжелые как сердцебиение.
Но вот дверь открылась, обозначился и сразу же погас луч света. С Александром вышли двое или трое. Тот, что был ниже других, но очень широк, что-то объяснял Александру хриплым, старческим шепотом. Александр тоже шепотом, очевидно задавая вопросы, время от времени перебивал старика — разговор шел по-грузински, и Науруз не понимал его.
— Идем! — сказал Александр по-русски, подходя к Наурузу и положив ему на плечо руку. — Дела наши хороши…
Впереди шли рыбаки. Науруз видел их головы, округло обвязанные башлыками, и думал, что это как-то не по-мужски. «У каждого народа свой обычай», — сказал он себе. Они вступили в лес. Незнакомые пряные запахи стали слаще, гуще. Лес был настолько густой, что, только задрав голову, можно было среди разлапистых листьев кое-где рассмотреть небо и звезды. Науруз в своей мягкой обуви умело нащупывал в темноте обхоженную тропу и чувствовал, как все вверх, круто вверх поднимается тропа. Почва под ногами становилась все каменистей. Стали попадаться крупные камни. Александр споткнулся несколько раз, слышно было, что над ним подсмеиваются и поддерживают его. Науруз угадывал обрыв, оттуда веяло сыростью, особенной вечной сыростью пропасти, дна которой никогда не достигают лучи солнца.
Потом они вышли на открытое место. Засияли звезды, волны свежего морского воздуха хлынули снизу. Огромный, протянувшийся с севера на юг светлый полог моря гудел не переставая. И как всегда, когда идешь вверх в темноте, неожиданно обнаружилось, что поднялись за это время довольно высоко. Снова стал слышен гул прибоя, но сейчас несколько приглушенный. Кроме него, ничего не было слышно, и все, что потом происходило, сопровождалось только гулом, мерным и однообразным.
Теперь они шли без всякой тропы и все так же круто вверх продирались сквозь кустарник. Только цепляясь за кусты, можно было одолевать эту крутизну. Науруз поднимался легко, Александру помогали. Неожиданно им преградили путь уходящие ввысь скалы. Среди этих скал уже и Науруз без помощи спутников не мог бы найти узкий проход.
Вдруг старик Ходжалия, коренастый, широкий человек, с какой-то особой крепкой ухваткой обнял один из самых больших камней, преградивших им дорогу, и сдвинул его с места. Черное отверстие, уводящее в глубь горы, открылось перед ними. Старик первым вошел в темноту, за ним — оба его сына, потом — Александр и Науруз. Полная тьма охватила их. Круто вниз, так, что трудно было держаться на ногах, уходил из-под ног каменистый путь, только гул прибоя продолжал отдаваться здесь, в глубине земли. Или, может быть, это кровь звенела в ушах? Впереди — и на мгновение показалось, что очень далеко, — вспыхнул огонек. Но нет, он совсем близко: это в руках старика горел коротенький белый огарок толстой свечи. Ходжалия прикрывал пламя огромной кистью руки, чтобы его не задуло сильным течением воздуха, проникавшим откуда-то сбоку. Старик наклонился и светил, его большие пальцы стали розово-прозрачными, каждая морщина, каждый рубец выступили на руке. Науруз видел мужественный горбоносый профиль Александра, его напряженно шепчущие губы. На гальке, устилавшей дно пещеры, лежали большие тюки, плотно обернутые мешковиной, на тюках чернели большие буквы.
— По-гречески написано, — недоуменно сказал Александр, — почему-то про Геркулеса. При чем тут Геркулес? Или, может, это шифр? — Он наклонился к другому тюку. — А здесь уже по-нашему, по-грузински… И опять что-то про Геракла. Постой, почему же Геракл? Это Ираклий, обыкновенное наше имя. — Он хлопнул себя по лбу и засмеялся. — Ну, конечно, Ираклий, кто же иной!
«Ираклий» — это была партийная кличка того члена Тифлисского комитета, который поручил Александру доставить тюки. Но, как и прочие члены комитета, Ираклий был арестован.
Тут заговорил старик Ходжалия. Оказывается, он тоже знает Ираклия, не раз передавал ему такие вот тюки из-за границы. Волнение слышалось в голосе старика.
— И я скажу тебе, кто нам посылает подарки. Ираклий мне говорил — это Ленина самого, Владимира, подарки.
— Ленин, — повторил Александр. — Ленин. — И, обернувшись к Наурузу, спросил по-русски: — Ты понял, о ком он здесь сказал?
— Конечно, — ответил Науруз. — Кто имени отца своего не знает!
Все смолкли. Стал особенно слышен гул прибоя, настойчиво мерный, казалось, сокрушающий скалы.
— Здесь вот тоже написано «Ираклию» и еще: «для брата Авеза», по-арабски написано, — сказал Науруз, разглядывая один из тюков. — Кто это Авез, ты не знаешь?
— Нет, не знаю, — ответил Александр.
Они переворачивали тюки, ища на них еще каких-либо указаний. На самом последнем, поодаль лежащем тюке прочли надпись по-армянски: «Ираклию, для брата Хачатура».
— Названий городов нет, — вслух размышлял Александр. — Но в этом и нет необходимости, раз речь идет об Авезе и Хачатуре. У нас, у грузин, таких имен — Авез или Хачатур — не бывает, значит речь идет об армянах и азербайджанцах. Слово «брат» тоже следует понимать не дословно, а иносказательно. Речь тут идет о целых народах, А искать Хачатура и Авеза следует в Эривани и Баку. Но как найти, если наш Ираклий, который мог бы их указать, арестован?
Так говорил Александр, переходя с грузинского на русский и вопросительно взглядывая то на старика, продолжавшего держать в руке стеариновый огарок, то в сторону Науруза.
— Да и доставить в Тифлис тюки по железной дороге мы не можем — опасно.
— Зачем в Тифлис везти? — вдруг сказал Науруз. — Повезем в Баку.
— А не все равно? Через Тифлис ведь ехать.
Науруз усмехнулся:
— На земле много других дорог. Достанем ишаков, нагрузим тюки, а поверх еще миндалю или соли, а то, может, изюму — и пойдем через горы. Я знаю такую дорогу — старого Батыжа разбойничья тропа, он в старину ходил по ней из Веселоречья приморские города грабить.
— А разве эта дорога и теперь проезжая? — недоверчиво спросил Александр.
— Зимой нельзя, а летом каждый год проезжают. К нам в Старый аул на ослах купцы привозят иголки, нитки, миндаль, изюм, меняют на шкуры или на овечью шерсть. От Старого аула до Краснорецка рукой подать, а в Краснорецке нас друзья встретят, большевики, Константина ученики. Они помогут по железной дороге до Баку добраться. Там у меня земляк. Доберемся до Авеза и других братьев найдем.
Александр хотя и родился в горной стране, но был горожанином, он знал лишь Тифлис, Кутаис, Гянджу, и путешествие с ослами по горам и лесам казалось ему изобилующим опасностями. Но старик Ходжалия решительно поддержал Науруза: он взялся достать и ослов и изюму» И Александр согласился.
2
Недели шли за неделями, месяц за месяцем, а Темиркан никак не мог оправиться от болезни. К осени он будто стал поправляться, но началось зимнее ненастье, и лихорадка с новой силой стала трясти. А тут еще письмо пришло из Петербурга…
«…Драгоценный мой, пишу второпях и украдкой, потому что майн герр теперь ревнует меня к тебе и следит за мной все время. На зиму он собирался за границу, и я надеялась, что тогда мы встретимся… Но он сейчас везет меня с собой, и что могу я с этим поделать?
Помни одно: я по-прежнему твоя, но как тебе помочь, не могу придумать. Когда я заговариваю о твоих делах с Рувимом Абрамовичем, он морщится и отворачивается, а один раз даже сказал мне: «Сейчас он мало чего стоит, этот ваш князь». Это биржевая и банковская конъюнктура так сложилась. Я во всем этом довольно хорошо разбираюсь… Если бы я была с тобой, я бы помогла тебе, ведь твои большие земли — это тоже капитал, если только взяться как следует. А у тебя что? Твоими делами по-прежнему, наверно, занимается эта глупая старуха Лейля. Как вы все-таки смешно живете… И как недостойны тебя все твои окружающие, все эти дураки и невежи…»
Дочитав до этого места, Темиркан покраснел, грубо выругался и разорвал письмо на мелкие кусочки. Как она осмелилась? Кто она такая, чтобы сметь так выражаться о его семье? А кто такие они все — эти банкиры, адвокаты и их содержанки? Столичная грязь! Тронь — весь измажешься…
Темиркан последние две зимы провел в Петербурге, и теперь ему не хватало взвинченного веселья петербургских, сверкающих искусственным светом ночей, ночных ресторанов и кафешантанов. Он запрещал себе думать о столице. Но в часы ночной бессонницы ему то слышались отзвуки музыки, визг полозьев по снегу, то видел он светлые гирлянды уличных фонарей, летящие навстречу огни витрин. И Анна все время рядом, ее холодно скользящий взгляд, — только где-то в глубине зрачков пристальные огоньки. Как он ни гневался, как ни ругал ее, а жить без нее все же скучно. У него не было лучшего советника и собеседника. А ее увезли, как вещь, как рабыню. Взяли и увезли куда-то за границу. Ей даже в голову не пришло бросить своего поганого старика и кинуться к нему, Темиркану. Но как только он приходил к этой мысли, возникал вопрос: что бы она стала здесь делать? И Темиркан опять начинал испытывать то самое бессилие, которое владело им с первых дней болезни, — точно из него вынули душу.
Глухо было в Арабыни в эти месяцы. Тучи спускались с гор, моросил мелкий дождь или падал колючий снежок, бледный луч солнца изредка пробегал по нахохлившимся соснам и елям, по желтым дубам и обнаженным липам и березам. Так и ухватил бы этот луч!
Жизнь в это время в Арабыни совсем затихала, спать ложились с курами, огня почти не зажигали. Да и зачем? Привычки к чтению у Темиркана не было. Слушать одни и те же рассказы дяди? Или вдаваться в бабьи дела?
За всю зиму в жизни дома не было интереснее события, чем возвращение Кемала с женой. Кемал предполагал всю зиму провести в Старом ауле — и вот вернулся. Что такое? Темиркан сквозь прищуренные веки разглядывал худое и бледное лицо своего верного оруженосца и с раздражением слушал рассказ о каких-то бабьих дрязгах между Фатимат и другими снохами старика Исмаила, — все это ничем не отличалось от других подобных домашних историй.
— Чего ты хочешь? — сердито и насмешливо спросил Темиркан. — Чтобы я в Старый аул поехал баб мирить? Так, что ли?
— Разве посмел бы я о таком помыслить? — воскликнул искренне возмущенный Кемал, не понявший насмешки Темиркана. — Нет, господин, я осыпан твоими милостями… Ты дал мне в жены девушку, близкую вашей благородной семье, пожаловал меня «молодцом при своей особе». Прошу, доверши свои благодеяния: отпусти мне лесу для постройки дома и отведи землю. Не подобает мне больше жить с братьями. Ты присвоил мне благородство, а они как были мужиками, так и остались.
Впервые за долгие месяцы Темиркан развеселился. Одна и та же мысль — о том, что старый, веками неизменный строй жизни рассеивается, превращается в туман, в ничто, снова и снова приходила ему в голову. А Кемал, оказывается, продолжал жить по законам этого уже исчезнувшего строя.
Темиркан как-то, не придавая серьезного значения, назвал Кемала своим оруженосцем, и тот, видимо по одному только этому, почувствовал себя поднявшимся над другими крестьянами, даже над родными братьями.
С нарочитой важностью, которая его самого забавляла, Темиркан разрешил Кемалу взять с весны себе столько лесу, сколько нужно, и выбрать в Старом ауле участок земли для постройки дома. Благосклонно выслушав благодарность Кемала, Темиркан, посмеиваясь, спросил:
— Не поладили, значит, бабы в доме Верхних Баташевых?
— Да как же можно стерпеть, господин Темиркан? — ответил Кемал. — Я никогда против матери своей языка не развяжу, да и братьям, хотя они люди простые и неотесанные, не скажу слова упрека. Но чтобы чернонебые мужички, годные лишь на то, чтобы сыр варить да навоз чистить, помыкали той, которую ты по милости своей дал мне в жены, и превратили ее, потешаясь, в водоноску, — этого я потерпеть не могу.
«Взяла, однако, власть девчонка над жестоким солдатским сердцем», — подумал Темиркан.
— Помутился разум черного народа, — продолжал Кемал. — И хотя открытый бунт подавлен, в горах все равно неспокойно… Абреки стали шайками ходить, а поймать трудно, прячет их народ. Для чего далеко ходить, — тот опозоренной матери злосчастный сын, мятежным Керимом на беду нам взращенный, по ночам лазит к бесстыдной моей сестре.
— Науруз? — быстро приподнимаясь на софе, спросил Темиркан. — Ты его видел?
— Если бы я его видел, так он бы уже не жил. Его проследила Фатимат. Она…
— Позови ее сюда. Да не уходи, кликни в окошко.
Приоткрыв окно, из которого потянуло снежной свежестью, Кемал кликнул жену. И вот она, низко поклонившись и прикрыв платком нижнюю часть лица, встала рядом с мужем — почти в два раза ниже его, стройная и, как всегда, опрятная. Она молчала. Черные глаза с испугом преданно взглянули на Темиркана, и ресницы опустились.
— Муж твой говорит, будто ты мятежного Науруза видела? — спросил Темиркан.
Фатимат чуть помедлила с ответом. Она рассказывала Кемалу о том, что видела, только потому, что надо же было кому-нибудь рассказать о виденном. Но по встревоженному вопросу Темиркана она с радостью поняла вдруг, что может услужить княжескому дому. «Что мне до Нафисат и до всех них!» — подумала Фатимат, представив, как Нафисат словно на пустое место смотрела на нее и ни разу не заступилась.
— Видала! — громким шепотом сказала она. — Своими глазами видала. Стыд не позволяет мне говорить… — Она опустила голову и прикрыла рот платком.
Кемал пробормотал ругательство и плюнул в угол.
— А почему ты думаешь, что это Науруз был? Может, она другого мужчину принимала? — спросил Темиркан.
Фатимат вспыхнула при этой грубости, но твердо ответила:
— Знаю, они друг друга по имени зовут.
И снова Кемал выругался, пожалев, что не убил бесстыдницу сестру.
— О чем они говорили? — спросил Темиркан.
— Какой может быть разговор при любовном свидании? — опустив глаза, смиренно и лукаво сказала Фатимат. — Мне скромность не позволяла их слушать.
И, немного помедлив, добавила:
— Потом заболела сестрица Нафисат. Пришла на поле и стала помогать нашим выворачивать и откатывать камни. Наши братья старшие одобряли ее, удивлялись и говорили: «Наша сестра, как Лашин-воительница, может буйвола через ограду перебросить». Ну, а мать наша плакала, верно догадывалась, какая беда заставила сестрицу Нафисат ворочать камни…
Темиркан не сводил с нее глаз, ожидая, что она еще что-либо скажет, но она молчала, неподвижная, прикрыв почти все лицо платком, и только опущенные ресницы вздрагивали…
— Иди! — сказал Темиркан и, вскочив, заходил по комнате.
Фатимат бесшумно исчезла. Кемал по-прежнему стоял у дверей, настороженно следя за Темирканом.
— Недоволен я тобой, Кемал Баташев! — сказал вдруг Темиркан, останавливаясь перед ним. — Да, да…, недоволен, — с силой подтвердил он, заметив, что Кемал вздрогнул. — О милостях моих ты помнишь, а о службе забыл. Что ты должен был сделать, узнав о Наурузе? Ты его выследить должен был, голову ему срубить и сюда в мешке мне привезти. Тут бы я по-царски тебя наградил. А ты ввязался в бабьи дела… Нет, я слово свое назад не беру, возьми сколько тебе нужно лесу и стройся. Но ссориться с семьей — это тоже не годится ни тебе, ни молодой твоей жене. Ею старшие снохи верховодят. А как же иначе? Она — младшая сноха, так уж положено. А чтобы к ней добрые были, пусть поедет в горы и привезет матери твоей, и снохам, да и недостойной твоей сестре хорошие подарки. Да ты не бойся, я сам тебе на это денег дам. Пока ты будешь лес возить да дом строить, ей где прикажешь жить?
— Я думал просить госпожу Ханифу, может она приютит мою горемычную.
— Э-э-э… глупо говоришь! Жене нужно при муже быть. Иначе жить — один соблазн. Мы тебе ее отдали, а ты обратно привез? Так поступают только с разводками. Вышла она за Верхнего Баташева, значит жить ей у Верхних Баташевых, об этом и толковать нечего… Ей там место, и она у тебя хоть и молодая, но смышленая. Понял?
Кемал недоуменно пожал плечами и грустно, со вздохом ответил:
— Понял.
— Ничего не понял, — похлопывая его по плечу и скаля свои мелкие зубы в усмешке, сказал Темиркан. — Но ты ей расскажи, она все поймет и тебе объяснит.
3
Настала шумная кавказская весна, с грохотом снеговых обвалов и капризным рокотом пробуждающихся рек. Теперь никто не мог смеяться над Верхними Баташевыми, над тем, что они называют полем расчищенную ими глубокую яму среди камней. Освобожденная ими из-под камней черная земля так обработана лопатой и мотыгой, что она стала мягкой, как пуховая перина новобрачных. Муса, шепча молитвы чуть ли не над каждым зерном и попеременно поминая и Магомета, и Иисуса, и Георгия Победоносца, и Громовержца Илью, и всех богов и боженят, ведающих утренними росами и колосящимся хлебом, совершал на новом поле первый посев, а позади него шел Али и бережно граблями и рукой заравнивал борозды…
То открывая, то закрывая солнце, проносились легкие облака, прошла первая громовая гроза — новое поле дружно зазеленело, и каменная яма точно осветилась снизу. Нет, не зря прожил старик Исмаил…
Безоблачное тепло установилось надолго, только в полдень с близких снеговиков тянуло легкой прохладой. Подходило время гнать стада в горы, и снова на дорогах Веселоречья появились конные стражники… Но больше двух тысяч самых беспокойных людей, взятых в Веселоречье прошлым летом, еще не вернулись домой. Межевые столбы, переделившие вольные пастбища на ровные квадраты, стояли теперь нерушимо, участки были распределены согласно торгам, новый порядок торжествовал во всем Веселоречье.
Наибольшая часть пастбищ, принадлежавших ранее крестьянскому обществу Старого аула, согласно торгам, досталась князю Темиркану Батыжеву. Но он милостиво разрешил Верхним Баташевым пасти свой скот там, где они пасли его десятки лет и где был построен их старый, вросший в землю, из черных бревен сложенный кош. «Пасите, пасите, а осенью на приплоде сойдемся», — передала от имени князя старуха Лейля, и Верхние Баташевы одни из первых угнали скот в горы. Угнали так рано, что когда из Арабыни вернулся Кемал со своей Фатимат, пастухов они уже не застали, и Фатимат очень жалела, что не встретилась с любимой сестричкой Нафисат.
Богатые подарки привезла всем своим родичам Фатимат из Арабыни! Платки и шали, шелка и ситцы — женщинам, Мусе — трость с серебряным набалдашником, Али — трубку с серебряной насечкой, Азрету — игрушечный пистолет-пугач, стрелявший, как пушка.
Кемал рассказал, что князь пожаловал ему лесу для стройки и участок для дома. Хуреймат, опять распределявшая работу между женщинами, обходилась с Кемалом и его женой вежливо, но сдержанно, так, как полагается обращаться с гостями. Она с достоинством, как подобало, принимала ухаживания Фатимат, которая вилась перед ней, «как змея перед костром», — по выражению Хадизат. Обрядившись в шелковый платок, зеленый, с тиснеными серебряными цветами, Хадизат, хотя и перестала помыкать младшей невесткой, но, с тех пор как узнала, что Кемал стал большой господин и не может больше жить в своей семье, еще крепче невзлюбила Фатимат.
А Фатимат так хотелось повидать Нафисат, чтобы надеть на ее ножки свой подарок — красивые городские туфли на каблуках! Даже и не очень расспрашивая, так как этого никто не скрывал, узнала она, что зимой, когда все проходы снизу были завалены снегом, Науруз и еще кое-кто из участников восстания, почти не таясь, жили в ауле. Науруза с почетом принимали, и у Верхних Баташевых. Вел он дружбу с кузнецом Исмаилом Хасубовым, а также с удалым Батырбеком Керкетовым, который, женившись на дочке Хаджи-Даута — Балажан, остался жить у тестя.
В том, что Нафисат ушла жить в кош на пастбища, ничего удивительного не было. Нафисат еще девочкой хозяйничала на летнем коше, готовила пищу своим братьям и племянникам, пасущим скот, обшивала их. Но когда Фатимат осторожно спрашивала, где сейчас Науруз, ни те из Верхних Баташевых, кто на лето оставались внизу, ни молодые пастухи, которые иногда сходили вниз, в аул, никто не знал этого. И она решила сама подняться на кош.
Наверх проводил ее Азрет. Нафисат была одна. Она стала шире, щеки ее воспалены, а губы будто кирпичом намазаны. Фатимат она встретила ласково, поблагодарила за подарок, — туфли оказались в самую пору на ее узенькую, длинную ножку.
— Это тебе к свадьбе, Нафисат, — вкрадчиво сказала Фатимат.
— Вороны будут каркать на моей свадьбе, — ответила Нафисат.
Фатимат испуганно охнула и тут же подумала, что Науруза, верно, нет сейчас с ней, иначе она бы о себе так не сказала.
Переночевав на коше, с глазами красными и слезящимися от дыма (наверху по ночам были еще заморозки, и в коше, который топился по-черному, разводили огонь), Фатимат рано, когда пастухи еще спали, расцеловалась с Нафисат, уже разложившей огонь под большим котлом, и, несмотря на ее уговоры остаться и поесть, тронулась в обратный путь в сопровождении сонного Азрета.
Вчера не легко было подниматься, но, оказывается, не легче было и спускаться. Тропинка шла вниз настолько круто, что приходилось все время хвататься за кустики и камни, чтобы не рухнуть в бездну, наполненную серым туманом. Иногда Фатимат казалось, что они с Азретом кружат все на одном и том же уровне.
Солнце взошло вдруг и залило теплым светом крутой склон, по которому они ползли. Радужные, подобные стрелам лучи пронзали серый студень тумана, рвали и разбрасывали его. И вот внизу неожиданно близко, вся в зеленом сверкании оросительных ручьев и прорезанная цепочками каменных оград, раскинулась Баташева долина с ее похожими на муравейники родовыми поселками. Людей еще нельзя было разглядеть с такой высоты, но красота людского поселения ощущалась особенно сильно.
— Погляди, сестрица Фатимат, — сказал Азрет, — что это вон там, на том зеленом склоне, чернеет, точно две, нет, три букашки? Видишь? Под теми красными скалами.
Фатимат взглянула и сразу нашла то, что Азрет называл букашками. Они шевелились и то сливались вместе, то шли раздельно.
— А там есть дорога? — спросила она.
Как же, — ответил Азрет, — это старого Батыжа дорога, и если по ней идти, придешь к морю.
— Неужто к морю? — переспросила Фатимат.
И потом, когда они снова продолжали свой путь, она время от времени отыскивала этих «букашек», которые двигались по дороге. К морю? Или от моря? Но «букашки» становились все крупнее, и Фатимат вдруг разглядела, что это идут три осла, а при них два человека. Теперь Фатимат и Азрет уже настолько спустились вниз, что им видно стало, как по дворам снуют люди, вон и вспышки огня со двора Хасубовых, из кузницы.
Три серых ослика уже перешли вброд речку, вступили в Баташевский старый поселок и исчезли в крайних воротах богатого Хаджи-Даута Баташева.
И Фатимат, как ни устала, наскоро выпив воды, сразу же пошла в гости к Балажан, дочери Хаджи-Даута.
— Никак нельзя мне не сходить к сестрице Балажан, — оправдывалась она, — видела я сегодня, когда мы с горы спускались, что над их домом орел летал, — значит, родить ей мальчика.
— Это значит всего только, что курицы они сегодня недосчитаются, — насмешливо сказала Хадизат.
В своем желтом, отделанном черным кружевом платье, похожая на тонкую в поясе осу, Фатимат, покачиваясь на каблуках и притворно скромно прикрывая лицо белым платком, уже сходила вниз и не слышала того долгого «с-с-с-с», которое издали полные, румяные и от шрама, оставшегося еще с детства, слегка искривленные губы Хадизат. В этом звуке было и пренебрежение, доходящее до презрительной жалости, и чувство опасения, точно перед неизвестным насекомым, которое чего доброго может и ужалить.
Расплывшееся, смугло-лоснящееся лицо Балажан при виде Фатимат выразило скорее злобу и досаду, чем радость. Приветствуя гостью, Балажан своей громоздкой фигурой, с округлым, выпирающим из-под пестрого халата животом, старалась заслонить от Фатимат то, что происходило на широком, с дощатым настилом дворе Хаджи-Даута. Балажан почти силой втолкнула Фатимат в дверь на женскую половину. Потчуя гостью белым, приторно сладким сухим виноградом и орехами, она без внимания выслушала рассказ Фатимат об орле и вывела ее другой дверью наружу, оправдываясь тем, что ей нездоровится. Впрочем, Балажан насчет соблюдения обычаев и правил приличия никогда строга не была.
Но Фатимат понимала, что тут дело не в плохом самочувствии… Очень быстро протащила ее Балажан по двору, и все же Фатимат заметила, что в кунацкой горит огонь. Приметила она и широкого Батырбека с засученными рукавами и измазанными кровью руками, свежующего баранью тушу, и даже видела три ослиных с кисточками хвоста, непрерывно взмахивающих и отгоняющих мух…
* * *
В кунацкой Хаджи-Даута в этот день действительно остановились заезжие гости. Один из них, юноша с черно-смоляными волосами, спал на просторной, низкой тахте, занявшей целый угол этой большой комнаты, спал после долгого пути, сладко всхрапывая; прямой ворот его суконной темно-бордовой рубашки, унизанной множеством мелких перламутровых пуговиц, был расстегнут, руки и ноги раскинуты, и Наурузу, который сидел на краю тахты, почти не оставалось места. Каждый раз, когда спящий ворочался, Науруз жался, и на его окаймленном черной бородой мужественном лице проступало выражение заботливости и нежности.
Возле тахты на нескольких треногих столиках стояли тарелки, на них громоздились кости, недоеденные куски мяса, на дне стаканов видны были остатки мутноватого напитка, приготовляемого веселореченцами из проса, даже от одного запаха его — сладкого и кислого — кружило голову. Кунацкую освещала висячая керосиновая лампа под белым абажуром. Ровный свет ее смешивался с колеблющимся и теплым светом очага, у которого сидел Батырбек в тюбетейке на бритой голове. Он подкладывал в огонь хвойно-душистого хвороста. В этой большой комнате уживались предметы городской обстановки и исконного древнего обихода. Низенькие столики треножки — и тут же покрытый белой нарядной чистой скатертью квадратный стол; но вместо стеклянного графина на нем тускло поблескивал испещренный арабской вязью серебряный, с тонким горлышком, кумган. Рядом с софой стояли гнутые венские стулья.
— Так, значит, в плен попал Константин? — сказал Батырбек. — Понравился он мне… Смелый человек, на любое дело с ним вместе пойти не страшно.
— Это ты верно сказал, — со спокойной гордостью подтвердил Науруз. — За нашим Константином, где он прошел, след остается. Вот я в Тифлисе его уже не застал, а след в сердцах людей он оставил. — И Науруз кивнул в сторону спящего.
Батырбек некоторое время смотрел на молодое, полное жизни лицо Александра.
— Так, может, он знает, куда его завезли? — спросил Батырбек.
— Царство велико. Может, в Сибирь, а может, в Петербург — там есть крепость, в ней царь главных врагов своих держит.
Наступило молчание, только слышно было, как трещат дрова в очаге. Батырбек, нахмурившись, глядел перед собой и постукивал ладонью по крепкому колену. Видно было, что мысль его напряженно работает.
— Слушай, Науруз, — сказал он наконец. — Если каждый веселореченский пастух вынет три копейки — это со всего Веселоречья сколько будет, а? А мы с Балажан не по три копейки — мы что ж, мы и по сотне рублей дадим! Соберем денег, я поеду к приставу Осипу Ивановичу, — и разве не выкупим мы такого человека? Аллах керим, выкупим.
Во время его речи Науруз отрицательно качал головой, и Батырбек поэтому говорил все с большим жаром и все более сердито.
— Что ты мотаешь головой, как больной баран? Ну, говори, с чем ты не согласен? Ты не смотри, что такой хозяин, как Али Верхний Баташев, три года к мулле не заглянет, копейки ему не дает! А на такое дело он достанет. Закряхтит, а достанет. Десять тысяч соберем, честное слово!
— Слово твое честное, Батырбек, хотя ты и конокрад, — с грустным смешком ответил Науруз. — Только нет таких денег, чтобы выкупить нашего Константина. Ведь царь, чтобы ловить таких людей, миллионов рублей не жалеет и всю эту свору — жандармерию и полицию — держит, кормит и поит. Знаешь, кто наш Константин? Он самого Ленина подручный.
— А он? — И Батырбек кивнул на спящего Александра.
— Он у Константина подручный.
— А ты? — спросил Батырбек.
— Мне подвластны только ослы наши, — засмеялся Науруз.
Батырбек, как бы соболезнуя, презрительно поцокал.
— Тут о тебе наши девушки песни поют, тебя восхваляя, старики именем твоим клянутся, а ты, выходит, на посылках!
— Нарт Сосруко у нартов тоже был на посылках, — пошутил Науруз.
— Э-э-э… старые сказки, — отмахнулся Батырбек. — А вот я всегда говорил, что гордости у тебя нет.
Лицо Науруза потемнело.
— А твоя гордость — у кулака в зятьях жить, а? — спросил он насмешливо.
— А что ж мой тесть? — живо ответил Батырбек. — Я у него как сын живу, что хочу, то и делаю. Думаешь, ему по нраву, что вы к нему во двор со своим изюмом приехали? — Он весело и многозначительно оттенил слово «изюм». — А молчит и как царских послов вас принимает, потому что вы — мои друзья. Он меня уважает, а когда помрет, все добро нам оставит.
— Богатым хочешь быть? — усмехнулся Науруз.
— Богатство — сила. Сильным хочу быть.
Науруз покачал головой.
— Богатство, конечно, сила, но есть сила сильнее богатства, — сказал он. — Это когда народ согласится заодно встать. Ты сам хорошо сказал, что если каждый веселореченец по три копейки даст, какая сила будет!
— Так чем со всех собирать, лучше все в своей руке держать, — сжав кулак и подняв его над головой, ответил Батырбек.
Дверь в комнату широко открылась, и вошла Балажан. Ее густые волосы, небрежно заплетенные в две короткие толстые косы, опустились на плечи. Смугло-румяное лицо и короткая шея были открыты. Науруз смущенно опустил глаза, он не привык к этой свойственной Балажан вольности в обращении, которая сейчас, когда Балажан ждала ребенка, казалась Наурузу особенно непристойной.
— Батыр! — сказала она, обращаясь к мужу тоже вольно, как не принято у горцев, и несколько понизив хрипловатый голос. — Залетела к нам та сорока Фатимат, которую солдат Кемал привез с княжеского двора. Вертелась, трещала и все спрашивала, кто в гостях у нас. Я едва спровадила ее. Это не к добру.
— А чего такого? — небрежно ответил Батырбек. — Была, ушла, и слава аллаху. Плохой гость подобен наводнению: если от него не успел убежать, сиди на крыше, жди, когда сам уйдет.
— Не шути, не шути, — хмуря брови, сказала Балажан. — Время плохое, стражники ездят по дорогам, а мужа ее, Кемала, ты знаешь, он князя Батыжева пес.
— Так что же ты хочешь?
— Хочу гостей наших предостеречь.
— Из дома гостей на ночь выгнать хочешь? — с негодованием, вставая и выпрямляясь, сказал Батырбек.
Но Науруз уже теребил своего спутника.
— Саша, вставай! Саша! — говорил он по-русски. — Спасибо, сестрица Балажан, за твою заботу, — обратился он к Балажан.
— Э-э-э, какая забота! Последние месяцы носит, вот и блажит, — сердито сказал Батырбек. — Сидите, гости дорогие, никуда вас не пущу.
Но тут Балажан так взглянула на него, что он поперхнулся и умолк.
— Смотри, как бы тебе после времени не поминать мои слова.
Она круто повернулась и вышла. На дворе было тепло и темно, пахло дождем, слышно, как фыркают и переступают с ноги на ногу лошади, обеспокоенные появлением незнакомых ослов.
— Что, дочка? — близко послышался из темноты голос отца. Он сидел почти у ног ее, на каменных ступенях. — Что-то круто вы говорили. С мужем не поладила?
— А чего там! — И, не рассказывая о размолвке с мужем, Балажан поведала отцу все свои опасения.
— Это ты верно говоришь, — сказал отец, выслушав ее. — Скорей нам нужно спровадить этих гостей. Знаешь, что за кладь везут они из Гурджи? Думаешь, сушеный виноград, сливы и абрикосы? Нет, эта хурда-мурда у них только сверху насыпана, для виду, я щупал — под ней целыми кипами книги навязаны. Знаешь, какие книги тайно возят? Книги эти — народ против богатых людей подымать… Раньше я вам в пример ставил Науруза, что он лошадей не ворует вместе с вами, а теперь думаю: лучше бы он коней воровал…
* * *
Белесая мгла спустилась с гор, и накрапывал первый весенний дождь, мягкий и теплый. Поздно ночью группа всадников подъехала к воротам дома Хаджи-Даута. В темноте белели откинутые за плечи башлыки. По этой манере носить башлыки да по синим черкескам можно было признать казаков. Ни одного огонька не светилось в щелях ставен. Большой и старый бревенчатый дом высился как крепость, молчаливый и темный, Кемал Баташев, следовавший впереди, соскочил с коня и рукоятью своей плети сильно и глухо постучал в дубовые доски крепко запертых ворот. Вокруг ни звука, слышен только шепот дождя, падающего на деревянную кровлю. Кемал постучал еще. Переступил с ноги на ногу один из коней, и казак угрожающе шепнул: «Балуй!» Кемал опять постучал и прислушался. Со двора послышались шаркающие шаги и голос Хаджи-Даута.
— Кто там?
— Это я, дядя Хаджи-Даут, — ответил Кемал. — Отпирай, дело есть.
— Какое может быть дело такой ночью? Разве что в набег, казачьих коней воровать.
— Кто-то из казаков не удержался и фыркнул.
— С тобой еще кто? — насторожившись, спросил Хаджи-Даут.
— Да нет, я один, — ответил Кемал.
— Обожди, я к вам выйду сейчас.
Снова послышались шаркающие шаги, теперь уже удаляющиеся. Однотонный, клонящий в сон шорох дождя да шепотная брань; подхорунжий ругал смешливого казака.
Все выжидательно смотрели на ворота. Глаз, притерпевшийся к темноте, различал уже сучки и трещинки на старых досках. Но ворота оставались неподвижными, шаркающие шаги старика послышались теперь по эту сторону ограды, и спокойный голос сказал:
— Вот как много вас, а!
Тут уже счел нужным вмешаться сам подхорунжий. Он соскочил с коня и, звеня шпорами, подошел к Хаджи-Дауту.
— Вы извините нас, почтенный старичок, что потревожили вас среди ночи, ничего не сделаешь, служба. Гости ваши нам занадобились. Недобрые они люди.
— Гости? Какие гости, ваше благородие? — пробормотал старик. — Садись, пожалуйста, — показал он на скамью.
— В другой раз посидим, — уже несколько возвышая голос, сказал подхорунжий, — а сейчас, почтенный старичок, отчиняй-ка калитку и впускай нас, а то мы тебя к их высокоблагородию господину есаулу отведем, и даром что вы в Мекке побывали, а за милую душу сядете в холодную.
— Пугаешь? Зачем пугаешь? — нахмурился Хаджи-Даут. — Нет у меня гостей. Купец проезжал, кишмиш, алычу сухую продавал, я брал.
— Вот этих самых купцов нам и надо. Так что ты отчини ворота.
— Зачем ворота?.. Вас много, а у меня дочка с брюхом ходит. Напугается, родит плохо. Что тогда будет, а?
— Да ты что лисьим хвостом вертишь? — вдруг крикнул подхорунжий, замахиваясь нагайкой. — Делай, что приказано, ну!
— Э-э-э, кричишь, нагайкой машешь. Думаешь, господин есаул тебя за это хвалить будет? — спокойно сказал Хаджи-Даут.
И подхорунжий опустил нагайку. Есаул, отправляя сюда подхорунжего, предупреждал, что с Хаджи-Даутом, человеком почтенным и богатым, следует быть поосторожней.
— Хочешь во двор ко мне — иди. Только тихо иди, дочку пугать не надо. Иди смотри, гостей у меня нету.
Он вынул ключ, сунул в замочную щель, и маленькая калиточка, прорезанная в воротах, открылась.
— Иди, пожалуйста, иди… И пусть родич наш, почтенный Кемал, тоже идет. — Он впустил только двоих, ловко захлопнул калитку и запер изнутри.
— Пожалуйста, не бойся, — успокоительно сказал Хаджи-Даут, когда подхорунжий кинулся обратно к калитке. — Или я совсем сумасшедший, чтобы плохо делать людям, которые от бунтовщиков нас охраняют? Этот год пастбища по ярлыку получил.
Ярлыком веселореченцы называли написанный на деревянной дощечке номер пастбищного участка. Номер выдавался после весенних торгов каждому, кто получил участок.
— Ослы! — радостно вскричал Кемал. — Ваше благородие, вот они!
Хаджи-Даут сердито шикнул на него:
— Зачем кричишь? Дочку испугаешь… Обрадовался, точно родию увидел.
— Так где у тебя гости? — спросил подхорунжий, подступая к старику.
— Уехали гости, — сердито ответил Хаджи-Даут.
— А ослы как же?
— Гости на конях уехали. Я им коней продал, а ослов купил.
— Как же это ты государственным преступникам коней продаешь? — бешеным шепотом спросил подхорунжий, наступая на старика.
Но старик не отступал. Они сошлись нос к носу, дыша в лицо друг другу.
— Зачем преступник? Торговец, кишмиш в мешках в Краснорецк везут.
— А почему они у тебя встали?
— Хаджи-Даут по обе стороны гор человек известный, — гордо ответил старик. — Принял как гостей, угощал. Дождик пошел, и я им тогда сказал: «Ослы ваши забастовку делать будут, по грязи не пойдут, встанут». Я эту тварь хорошо знаю, было время, с целым караваном ходил. «Как быть? Научи, Хаджи-Даут!» — «Что ж, я научу: бери у меня коней, оставляй мне ослов». — «Э-э-э, дорого!» — «Чего — дорого? Двадцать пудов кишмиша везешь, накинь по две копейки лишних на фунт — всю разницу возьмешь». Потому что кишмиш везут в Краснорецк по железной дороге — считай, тут фрахт да перегрузка.
Кемал вернулся вместе с Батырбеком. Тот зевал и почесывался со сна.
— Здорово, ваше благородие! — сказал он приветливо.
Подхорунжий, знавший, что Батырбек зять старика, молча кивнул ему.
— Гостям рады хоть днем, хоть ночью… В кунацкую пожалуйте.
Подхорунжий сердито отмахнулся.
— Так, значит, нет их здесь? — переспросил он еще раз Кемала.
— Весь дом обошел, только вот он один, — кивнул Кемал на Батырбека, — да женка его… А купцы, говорят, были.
— Куда же они поехали, эти купцы?
Хаджи-Даут пробурчал что-то и взглянул на Батырбека. С момента как тот подошел, Хаджи-Даут вдруг смолк, весь как-то обмяк и присел на каменные ступеньки крыльца, на любимое свое место.
— В Краснорецк как будто, а? Или в Арабынь? — ответил Батырбек. — Верно, отец?
Хаджи-Даут покачал головой и ничего не ответил.
— Сумнительно ты все говоришь, — сказал в раздумье подхорунжий.
Батырбек развел руками.
— Не по обычаю у нас расспрашивать гостя. Гостю — спрашивать, хозяину — отвечать. А они все насчет Краснорецка и насчет Арабыни…
— А что спрашивали? — спросил подхорунжий.
— Спрашивали, куда дорога тверже, — с готовностью ответил Батырбек. — Ну, мы, понятно, сказали, что в Арабынь тверже.
— Сумнительно, — повторил подхорунжий. — А давно уехали?
— Солнце село, они тронулись, а, отец?
И снова Хаджи-Даут ничего не ответил Батырбеку.
— Что ж, есаул сказал, нагонять надо. Э-эх, на всю ночь… Оружие у них есть? — обратился подхорунжий к Батырбеку.
— Кинжалы видел, хорошие кинжалы.
— А пистолеты?
— Что не видал, то не видал. Может, в карманах и есть. Сейчас пистолеты изготовляют с детский кулак.
— Ну, пошли, — со вздохом сказал подхорунжий. — Так что ты, Хаджи-Даут, не обижайся — служба.
Старик ничего не ответил и протянул зятю ключ от калитки.
Батырбек запер калитку, прислушался к тому, как, удаляясь, затихали звуки подков, пока не слились с мерным шумом реки и шепотом дождя. Потом подошел к крыльцу, где по-прежнему неподвижно сидел старик, и сказал:
— Ну, теперь ловить их будут до желтых седин. Науруз все тропы знает, пойдут они по тому берегу реки, через Байрамуковы пастбища, заночуют у моего отца.
Хаджи-Даут прохрипел что-то, и Батырбеку показалось, что это было проклятие.
— Ты сердишься, отец? — спросил Батырбек, заглядывая старику в лицо.
— А что же? Или мне радоваться на твои дела? — угрюмо переспросил Хаджи-Даут. — Когда ты еще неженатый был и, мне ничего не сказав, прятал ворованных коней у меня в конюшне, я сердился на тебя? Нет, я не сердился, потому что сам молод был и знаю: это дело молодецкое… А если ты, не сказавши мне, будешь таких гостей ко мне водить…
— Постой, отец, — прервал его Батырбек. — Значит, я не могу сюда гостей своих водить?
Ему вспомнился сегодняшний разговор с Наурузом, и он вдруг понял, что Науруз все время разговаривал с ним как взрослый брат с младшим, резвым братишкой. И эта улыбка Науруза, когда Батырбек похвалился, что в доме тестя он может делать что хочет…
— Не будешь ты таких гостей ко мне водить, слышишь?! — угрожающе сказал Хаджи-Даут. — Не друзья они нашему дому, а враги… И если бы не дочь, я бы их отдал казакам.
— Гостей? — с негодованием переспросил Батырбек. — Моих гостей?
— Если к тебе в гости змея приползет, голову ей сотри, — сказал Хаджи-Даут ворчливо, но, видимо, успокаиваясь. — Поспать нужно до света, — сказал он, зевая и поднимаясь с места. — Ты запомни, что я тебе сказал! — И старик ушел.
— Я запомню! — пробормотал Батырбек. — На всю жизнь запомню… Видишь, как? Я гостей к себе звать не волен… А если моего брата Талиба из тюрьмы выпустят, что ж, я его тоже принять у себя не волен?
Батырбек выругался и сел на то место на крыльце, с которого встал Даут. Он чувствовал, что в эту минуту случилось что-то очень для него важное. «Недаром старые люди учат, что не место зятю в доме тестя, — подумал он. — Вот как соберемся с утра да уедем к отцу в аул Веселый, ты здесь и сиди один», — мысленно обратился он к тестю. Но тут же подумал, что угроза эта пустая, не станет Балажан жить в доме на положении младшей снохи.
Батырбеку показалось вдруг, что сквозь докучный шепот дождя и однообразно бурный гул реки донеслись звонкие удары подков по камню. Он прислушался и понял, что это обман слуха. Знал он, что за это время далеко уже успели уехать его сегодняшние гости, и все же прислушивался…
Вольной и таинственной показалась Батырбеку сейчас жизнь, которой жили Науруз и его друзья.
Глава вторая
1
Второй Гребенской казачий полк, оставленный в прошлом году после усмирения восстания в Веселоречье «для выявления подозрительных элементов и для несения патрульной службы», был весной 1914 года передвинут вдруг в город Елисаветполь, где казаки, готовясь к высочайшему смотру, предстоящему летом, совершенствовались в джигитовке, а офицеры наслаждались местными винами высокого качества и оживляли своим присутствием балы и танцевальные вечера города хотя и губернского, но довольно глухого. Здесь по кавказской традиции любили военных и хорошо принимали их. Потому внезапный приказ о спешной погрузке двух сотен полка по вагонам офицеры встретили с неудовольствием, а казаки — с тревогой; подозревали, что снова их предназначают для несения карательной службы, которая год от году становилась все менее популярной у казачества. И худшие их предположения как будто подтверждались — их везли в сторону Баку…
Чем дальше на восток от Гянджи шел поезд, тем скуднее становилась растительность. Пологие холмы раскинулись по обе стороны дороги, земля играла всеми красками палитры, но не радовала глаз эта мертвая минеральная пестрота. Река Кура, долго сопровождавшая поезд, скользнула вдруг под грохочущий мост и унесла на юг свои собранные со всего Закавказья плодоносные воды. Началась настоящая пустыня: неподвижные волны желтого песка расстилались до самых предгорий, а по ним шли верблюды рядом с железной дорогой и огромной черной трубой, по которой из Баку в Батум струился керосин. А вот и Каспий — он встретил казаков рычанием своих огромных синих валов.
Было холодно, мглисто, и, когда казаки поспешно выгружались на одной из каменных безлюдных платформ товарной станции Баку, газовые фонари светили в тумане красноватым светом. Совсем близко гудел, разноязычно кричал многотысячный город, в его могучем многоголосье слышалось что-то угрожающее, и жестоким холодом схватывало сердца казаков. Каждый отгонял прочь тревожные раздумья, тайные дерзкие мысли — люди превращались в дрессированную стаю. Узкою лентой, по три всадника в ряду, проезжали казаки, видя в тумане лишь огни фонарей. Порою из тьмы вдруг выступала то ярко освещенная витрина магазина, то вспышка пламени в жаровне. «Казаки! Казаки!» — шептали, выкрикивали вокруг на разных языках, и казаки знали, что эти люди ничего хорошего от них не ждут. А огней становилось все меньше, и вместе с темнотой наступала тишина — словно шум издавали огни. Клочья тумана наносило откуда-то сбоку. Из тумана вдруг поднимались черные строения, дальние и ближние, — вышки, промыслы… Запах нефти щекотал ноздри. «Вот оно, вот…» — думали молодые казаки. Им еще не приходилось иметь дело с усмирением городских бунтов. Но от старших своих они слыхали о соединенной силе городских рабочих, о камнях и кусках железа, летящих в голову, о том, как упряма масса людей, ожесточенных до полного бесстрашия и не расступающихся перед конями; и о том, как с той стороны кричат: «Братцы, мы боремся за нашу и вашу долю!» — русские, родные голоса кричат. Кажется, сестра твоя вскрикнула из-под копыт коня, а ты уже проскочил и направо, налево опустил нагайку. И вот уже на плацу начальство навешивает тебе медаль и хвалит: «Молодцы станичники, крепко держите присягу!»
Но нет, все спокойно, промыслы миновали, они остались позади и сбоку.
Было сыро, все потонуло во мгле, маленький круг луны светил с недосягаемой высоты, и вид его был печален. Клочья туч пронеслись мимо луны и исчезли… Звук подков говорил о том, что почва камениста. Издалека приносило запах нефти, но настолько слабый, что казалось, это был природный запах пустыни. Далеко справа все время тускло мерцали огни, они поднимались и опускались — то тянулись промыслы…
Но вот запахло травами, цветами, лошади зафыркали, и с той стороны, где раньше были огни, повеяло соленой свежестью моря и послышались мерные и грузные удары прибоя. Лай собак, приятный дымок, щекочущий ноздри, — все говорило о близости жилья. Впереди что-то зачернело. Казаков остановили, спешили, разрешили покурить. Потом командиры сотен собрали своих офицеров и унтер-офицеров.
Расположились по-походному на камнях, и незнакомый жандармский офицер, крупный и тучный, в светло-голубой шинели, разостлав карту, показал то место, которого они сейчас достигли, — деревня Тюркенд на берегу моря, в тридцати верстах от Баку и в девятнадцати от ближайших промыслов — от Сураханов. В деревне Тюркенд — чума. Казачьи сотни пригнаны для усиления карантинной службы, им предстоит патрулировать по ночам вокруг деревни. Службу начать немедленно, с момента прибытия…
Жандармский офицер кончил говорить и прикурил у соседа. Красноватый огонь осветил кончик жандармского носа, блестящие от фиксатуара черные усы…
— А казакам можно рассказать, ваше благородие? — спросил вдруг кто-то.
— Не только можно, — назидательно пояснил жандармский офицер, — но вменено в обязанность.
И казаки, узнав о цели своего прибытия, сразу повеселели: «Пусть чума, только бы людей в каталажку не водить». А Филипп Булавин, тот самый младший урядник, что задал вопрос жандармскому офицеру, только помалкивал. Уроженец станицы Сторожевой, едва ли не самой близкой к веселореченским аулам, он вполне разделял общее настроение казаков, хотя это у него внешне ни в чем не выражалось. Он вообще был молчалив и замкнут, этот невысокого роста, крепкого сложения русый казак, у которого едва стали отрастать рыжие усики. Наружность самая обычная, но по всему видно, что службист и аккуратист. Вся амуниция блестит. Все в нем соответствует общему впечатлению слаженности и солдатской обезличенности. Но стоило ему поднять на собеседника свои небольшие, четко обозначенные синие глаза, и сразу его юношеское, почти мальчишеское лицо становилось старше, значительнее.
— На этого молодца можно положиться, — говорил командир сотни подъесаул Дунаев.
Не дожидаясь производства Булавина в старшие урядники, Дунаев назначил его вахмистром и не мог им нахвалиться. Вообще все начальство, не только в сотне, но и в полку, считало Булавина одним из самых надежных людей. И никто не знал, что два года назад Булавин во время облавы на известного бунтовщика Науруза Керимова, встретившись с ним в лесу с глазу на глаз, выпустил из круга облавы этого опасного человека и даже подарил ему свой кисет. И никак иначе не мог поступить Филипп Булавин, потому что была у него до этого еще одна встреча с Наурузом Керимовым, но об этой первой встрече не любил Филипп вспоминать. С той встречи стали они кунаками. С тех пор душевная жизнь Филиппа приобрела глубокий и скрытный характер; именно это и выражалось в замкнутости его лица, в особенном — прямом и неуступчивом — взгляде. И когда он узнал о том, что казачьи сотни пригнаны сюда для карантинной службы, наверно никто из казаков не почувствовал такого облегчения, какое испытал Филипп.
Булавин, не очень доверяя плутоватому каптенармусу, сам проследил за отпуском продуктов на завтра. Потом вместе с дежурным, командиром взвода, прошел по всему лагерю. В палатках слышно было громкое дыхание, храп, все казаки давно уже спали, а Филипп все ходил между палатками и проверял, крепко ли вбиты колышки в землю, — Дунаев сказал ему, что Баку славится свирепыми ветрами. Когда он начал эту проверку, колышки приходилось нащупывать, шаря рукой в темноте, а когда кончал, он видел каждый колышек. Рассветало, туман разнесло, и на краю земли полосой обозначилось море, темно-синее, неприютное. Булавин взглянул на часы; было уже около шести, а он условился разбудить командира ровно в пять. Пока Дунаев, высокий, чернявый, потягивался, зевал, скреб длинными ногтями щеки, покрытые синей, отросшей за ночь щетиной, зевая, натягивал сапоги и пил горячий чай, принесенный денщиком, Булавин докладывал. Тихо ответив «рад стараться» на похвалу Дунаева и получив разрешение лечь спать, он пошел к себе в палатку, где вместе с ним помещался молодой казак из сторожевских Николай Черкашинин, приходившийся ему родней. Филипп заснул мгновенно, но сон был неспокоен. Представлялось, что его перед всем строем полка, посреди широкого плаца, «разносит» какое-то чужое высокое начальство. Он вскочил, озираясь… Нет, он был в своей палатке и совсем один. Веселые солнечные зайчики пробивались сквозь зеленые, шатром сходящиеся вверху полотнища. На самодельном, из ящиков сколоченном, столике, покрытом домашним рушником, вышитым красной решеточкой, стоял котелок. У самого изголовья Филипп обнаружил свою деревянную, привезенную из дому чапурку — вмещала она больше стакана и почти с краями налита была красным, вкусно пахнущим вином. Начальство со вчерашнего дня, очевидно в целях профилактики, ввело выдачу вина казакам, несущим карантинную службу. Конечно, это Коля Черкашинин позаботился о нем.
В палатке пахло какой-то аптекарской дрянью — ее назначение было отводить от палаток паразитов, и прежде всего блох, которые могли прискакать из зачумленной деревни. Все вокруг — как и всегда — обыденное, дневное, и только крик, приснившийся Булавину, продолжал звучать наяву. Слышались и другие голоса, хотя и громкие, но человеческие, мягкие. А в повелительном крике, разбудившем Филиппа, было что-то металлическое, жестяное.
Филипп вышел из палатки. В той стороне, где была зачумленная деревня, по-прежнему таинственно тихо. Только под весенним солнцем особенно нарядны белые и розовые цветущие сады и над невидимой из-за садов деревней кое-где появлялся дымок, который тут же уносило ветром в сторону моря. Туда же неслись облачка. Вдруг Филипп вздрогнул: начальственный голос вновь с пронзительной силой раздался в тишине утра… Филипп повернул голову.
Совсем неподалеку на большом вороном коне гарцевал плотный коротышка в офицерской синей шинели. Опытный глаз Филиппа сразу приметил неправильность в посадке; совсем не требовалось держать коня на таком коротком поводу, разрывать ему удилами рот и задирать голову, отчего конь, с оскаленными зубами и налитыми кровью глазами, пританцовывал на месте… Коротышка командовал, размахивая английским стеком, который он сжимал рукой в белой перчатке. Погоны у него были полковничьи. На побагровевшем лице выделялись только слепо поблескивающие стеклышки пенсне. Разинутый орущий рот… «Кого это он гоняет?» — подумал Филипп и, оглянувшись, остолбенел. Издали, со стороны голых пологих холмов, уже наскучивших Филиппу за время, пока их везли в Баку, шла, взметывая щебень, казачья сотня. Казаки лавой неслись прямо на палатки, на деревню. Филипп уже узнавал коней, угадывал «знакомых казаков… Полковник-коротышка провизжал команду, и сотня разбилась, как на учении. Обозначились взводы, отделения. Все удлиняясь и превращаясь из черного клубка в движущуюся цепочку, сотня охватила деревню. «Никак оцепление? Так мы же его вчера провели и без всякого этого парада», — недоумевал Филипп.
— Здорово? А, дядя Филипп? — спросил Коля Черкашинин. Высокий, гибкий, он мягким, неслышным шагом подошел к Филиппу. На его чернобровом лице еще удерживалась ребячья округлость, темный пушок оттенял рот. — Если бы не дневальство, так тоже попал бы в потеху, — рассказывал он с улыбкой.
— А чего это такое? — спросил Филипп.
Коля многозначительно кивнул и указал глазами, и Филипп увидел вдалеке странную треногую машину — она сверкала одним круглым стеклом, словно глазом. Несколько человек суетились возле нее, казак крутил на машине ручку — так быстро крутил, что полы его черкески разлетались в стороны. Слышен был сухой стрекот, и кто-то оттуда махал рукой полковнику-коротышке.
— Непонятное какое-то дело, — недоумевая, сказал Филипп.
— Кина будет, — важно ответил Коля, — театр то есть. Только не такой, что актеры представляют, а электричеством на мокрой холщовине. На ярмарке в Арабыни было такое представление. Меня тятенька с собой брали. Хата без окон, свет гасят, потом на мокрый холст фонарем светят — вроде белое окошко. И всякие там чудеса наводят. Распрекраснейший розан, большой такой розан — и вот он раскрывается, и враз из самой середки оттуда выходит барышня, ну вот, скажи, пчелка или того меньше. И, гляди, как танцует, бойко танцует, и ножки тоненькие, махонькие. Танцует, танцует, а потом у нее из-за спины крылышки, вроде как у бабочки, и враз летит обратно в свой розан, ну, скажи, пчелка…..
Пока они говорили, окрестности приняли прежний вид, казаки разъехались, и вновь возобновилось их мерное движение вокруг деревни. Но полковник-коротышка все не успокаивался. Он собрал вокруг себя казачье начальство и еще каких-то приезжих офицеров, среди которых особенно резко выделялись голубые шинели жандармов. Белели халаты врачей. С важным лицом коротышка показывал что-то на карте. И все это происходило под круглым глазом машины, наведенным прямо на них, — на палец, ползущий по карте, на сизо-красное лицо с блестящими стеклышками.
Теперь Филипп уже знал от Коли, что полковник-коротышка — это бакинский градоначальник Мартынов. Он прибыл сюда примерно с час назад, и с ним — несколько пролеток с врачами и санитарами, дезинфекционный отряд. Мартынов также привез и кинематографщиков с их треногой машиной. Врачи и санитары ушли в деревню, дезинфекционный отряд расставил палатки.
— Полковник приказал подъесаулу Дунаеву снять все дозоры и наново их поставить, да еще с налета, — рассказывал Коля. — Тут уж наш Дунаев чего-то дерзко сказал, вроде что нас не для игры сюда прислали, а для службы, ну тот на него завизжал: «Сдавайте командование — и марш на гауптвахту! Я вам покажу игру!» Как против старшего пойдешь? Наш, конечно, откозырял, но злой стоит, гляди, губу теребит.
— Поиграли, значит, — сказал Филипп, тоже пощипывая свои усики.
Но в это время произошло событие, сразу отвлекшее казаков от их разговора. Со стороны садов, скрывавших деревню, вышел полицейский. Он вел маленькую старушку в темной длинной, волочащейся по земле одежде. Она шла впереди и все оборачивала к полицейскому лицо, скрытое густою кружевной занавесью. Порою она пыталась что-то объяснить, подымала занавесь, и тогда становилось видно ее залитое слезами морщинистое и раскрасневшееся лицо. Но полицейский однообразно-скучливо указывал ей вперед — на кучку начальства, туда, куда вел ее.
И вот, откозыряв, довел — представил начальству. Булавин и Черкашинин подошли ближе. Старуха, всхлипывая, объясняла, показывая куда-то в сторону, потом на деревню, но того, что она говорила, никто из начальства не понимал. На некоторых лицах было смущение и сочувствие, другие недоумевали, но большинство относилось к старухе с безразличием и скукой. Из всех присутствующих только Филипп кое-что понимал в ее речи.
Четыре зимы подряд угонял он станичные табуны на «черные земли», где даже зимой продолжала зеленеть трава под влажным, быстро стаивающим, хотя порою и обильным снегом. Проклятое время, когда спать приходилось в шалашах, еле защищающих от ливня и снега, и по три месяца не бывать в бане! Из-за этих зимовок пришлось Филиппу отказаться от мечты своей продолжать образование после станичного двухклассного училища, которое он окончил с похвальным, золотом обрамленным листом и книжкой, тоже тисненной золотом, сочинений Жуковского. На этих-то зимовьях Филипп и научился немного азербайджанскому языку, — некоторые азербайджанские селения тоже выгоняли свой скот на черные земли. Да и как не научиться! Случалось вместе во время буранов и ненастных ночей спать обнявшись, чтобы хоть немного согреть друг друга… И хотя старуха говорила быстро и многих слов Филипп не мог сначала разобрать, но она твердила все об одном и том же, и Филипп стал уже понимать, о чем она говорит. В Тюркенде она, оказывается, пришлая, навестила сестру и возвращалась к себе, не то в Чихлы, не то Чихирлы, здесь неподалеку; ей туда непременно нужно сегодня попасть, потому что сыновья работают на промыслах в Баку. Они вернутся домой, а покормить их будет некому.
Когда Филипп разобрал, в чем дело, он шагнул к своему командиру, подъесаулу Дунаеву, и, приложив руку к козырьку, громко попросил разрешения перевести на русский то, что говорит старуха. Дунаев хмуро кивнул, и Булавин в струнку вытянулся перед градоначальником. Приложив руку к шапке и поедая его глазами, Филипп прохрипел:
— Разрешите доложить, ваше превосходительство, старуха эта просится домой.
— Отставить! — завизжал вдруг градоначальник. — Никаких объяснений не требуется. Есть приказ из карантина не выпускать… Кругом м-марш! — скомандовал он, и эта команда повернула Булавина так, точно он был заводной.
Но старуха, конечно, ничего не поняла. Растопырив руки, чуть раскрыв рот и даже забыв покрыть лицо, смотрела она в круглый рот начальника, откуда затем вылетало нечто вроде «о-о-и-и-и-о-и».
Зато полицейский понял все. Механическим, выработанным жестом он повернул старуху за плечи, толкнул вперед, и они — марш-марш — исчезли среди тех же зарослей, из-за которых появились.
— А ты — эй, как тебя? — младший урядник!
Поглощенный всем этим горестным зрелищем, Филипп не сразу отнес к себе слова градоначальника и, только когда был назван его чин, вздрогнул, вытянулся и почувствовал на себе отливающие серебряным блеском стеклышки пенсне градоначальника.
— Владеешь татарским? Так, это мне подходит. На сегодняшний день прикомандировываешься ко мне… Господин сотник, — обратился он к Дунаеву, — оформите.
Филипп обернулся к своему командиру пояснить, что языком владеет он слабо, но тот зажмурился, отрицательно покачал головой, и Филипп понял, что никто помочь ему не в силах. Так на весь этот день попал Булавин в свиту градоначальника, заменив официального переводчика, молодого бека Шихлинского, который, узнав о том, что предполагается поездка в чумной район, перепугался и тут же подал рапорт о болезни. В результате полковник Мартынов вынужден был выехать в зачумленную деревню без переводчика.
И все время, пока градоначальник находился в Тюркенде — а это продолжалось почти до трех часов пополудни, — Филипп Булавин «состоял при нем». Нельзя сказать, чтобы Мартынову часто приходилось прибегать к помощи своего нового переводчика. Да и тогда, когда Филипп заговаривал с крестьянами, они удивленно следили за движениями его губ, а дети и женщины даже смеялись, очевидно предполагая, что он нарочно искажает их родной язык, так как произношение у него, очевидно, было неверное. Но зато Филипп понимал все, что говорили крестьяне. Он понимал, о чем просит слабый от старости старик, обитатель глинобитной хижины на краю деревни, у которого дней пять тому назад побывал кто-то из зачумленной семьи Сафи оглы. Старик просил не выселять его из-под родного крова, а если ему суждено заболеть чумой, пусть его убьют. Он даже не собирался сопротивляться болезни: пожил достаточно, все сыновья женились, дочка вышла замуж, и он хочет умереть здесь, под родной крышей.
И так же, как в случае с женщиной, Филипп понимал не только слова, но и самые побуждения старика. Доведись до него, так он сам тоже отказался бы уйти умирать в чужой дом, в изолятор, и предпочел бы лежать в своем доме. Но Мартынов, выкатив глаза, орал и театрально указывал на старика рукой в белой перчатке. Кинематографщики крутили свою машину, и ее любопытствующий круглый глаз озирал все происходящее.
Санитары в белых балахонах и белых капюшонах схватили старика под руки.
— О алла! Ты взираешь равно на правых и виноватых. Рассуди, за что мне такой конец? За что отдан я на расправу этим белым шайтанам? И хотя бы одно родное лицо увидеть перед смертным часом! — плакал старик, волоча ноги и еле поспевая за «белыми шайтанами». Мутные слезы бежали по его старому лицу, испещренному благородными морщинами.
— Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие, старик просит свидеться с родными. Пусть бы они его уговорили, — сказал Филипп Мартынову, но тот даже не оглянулся. Судьба старика была решена, он подлежал переселению в изолятор, и Мартынов уже садился на лошадь, чтобы галопом проехать на другой конец села, где шли дезинфекционные работы.
На его сизом лице, поблескивающем стеклышками пенсне, проступило блаженное выражение, какое бывает у детей, когда они целиком отдаются игре. Он скакал вдоль глиняных тынов, из-за которых сыпались белые лепестки, мимо низеньких, восточной стройки, жилищ, почти без окон, с плоскими крышами, мимо странных хижин с куполообразными сводами. За ним скакала целая кавалькада, а позади грохотала пролетка и на ней — кинематографщики, держа почти на весу свою неуклюжую машину. Филипп тоже скакал в свите градоначальника, и злобная, недоуменная тоска все сильнее бередила его душу. Он видел, как из-за заборов на них смотрят бледные, испуганные лица, глаза, взывающие о помощи и пощаде. Он видел самоотверженных людей, в большинстве своем русских людей. Они за два дня до приезда Мартынова бесстрашно пришли сюда, в это смертоносное гнездилище чумы, вошли в зачумленные жилища, стали ухаживать за больными и растолковывать встретившему, их недоверчиво населению правила гигиены, изоляции… А как трудно было спорить с муллой, который и сейчас продолжал упорствовать и утверждать, что болезнь пришла оттого, что люди поели мяса овцы, укушенной змеей! Доктор Нестерович, в белом халате, хилый, невысокий человек с темно-русыми, напущенными на рот усами, бесстрашно взглядывая из-под густых бровей своими острыми глазками, просил градоначальника принять меры против муллы. Филипп сочувствовал врачу, тем более что мулла со своей крашеной бородой, злым и противным лицом ему сразу не понравился. Но Мартынов как будто и не слышал, что говорил ему почтенный русский человек, и все косился на чертову жужжащую машину, которую вертели кинематографщики, снимавшие «разговор господина градоначальника с доктором Нестеровичем».
На эту тихую азербайджанскую деревню опрокинулась страшная беда, и русские люди пришли на помощь здешним людям для борьбы с грозным врагом человечества — с заразой, готовой обрушить бедствие на весь громадный город.
Нравственное чувство Филиппа Булавина было возмущено тем, что Мартынов, градоначальник, устроил здесь какую-то недостойную игру. Филипп считал себя, так же как и всех казаков, слугой государства — царя и отечества, — потому он и служил с таким рвением. Эта служба могла быть тяжела, могла быть даже, как говорили казаки, «укоризненна», но в этой службе он видел свою честь. И сейчас это чувство чести было у него жестоко оскорблено: ведь градоначальник — представитель верховной власти государства, воплощение воли самого царя.
2
Когда Мартынову сообщили о чуме, угрожавшей огромному городу, он почувствовал, как это ни противоречит представлению о человеческих переживаниях, радость, так как все последнее время у него было ощущение, что лично над ним нависла опасность куда грознее чумы. Эта опасность обозначилась со времени первомайских забастовок нынешнего года, дружно и слаженно прокатившихся не только по крупным, но и мелким предприятиям Баку. Эти забастовки предвещали, в чем Мартынов был уверен, события более серьезные.
Департамент полиции в циркуляре от 22 сентября 1913 года, разосланном всем губернаторам и градоначальникам за подписями Н. Маклакова и С. Белецкого, предупреждал, что «празднование рабочими Первого мая, как известно Вашему Превосходительству, не имея никаких оснований в бытовых или церковных началах русской жизни, позаимствовано от рабочих организаций западноевропейских государств и служит для социал-демократической рабочей партии средством для внедрения в рабочей массе партийной дисциплины и периодических смотров наличных сил, послушных вожакам партии».
Рассуждать о том, имеет или не имеет Первое мая «основание в церковных и бытовых началах русской жизни», Мартынов всецело предоставлял высшему начальству, склонному к умозрительным упражнениям. А вот насчет «периодических смотров наличных сил, послушных вожакам партии», как выражался департамент полиции, — не возразишь! И когда с девятого мая со всех промыслов одновременно стали поступать сообщения агентов охранки о том, что этим летом намечено пронести забастовку в промысловых районах, Мартынов не был удивлен. Самая одновременность этих сведений яснее ясного говорила ему, что руководящий большевистский центр в Баку готовится к большому сражению. Да, это была война, и в ней не могло быть ни мира, ни перемирия, а лишь временное затишье, используемое для действий разведчиков и для подготовки будущих схваток.
Рабочие действовали осторожно. Агенты охранки с разных промыслов сообщали, что на 13 мая назначено собрание уполномоченных, но, по-видимому, лица, подготовлявшие забастовку, по каким-то симптомам заподозрили, что время и место стало известно охранке, и отменили его. Через некоторое время охранка сообщила, что отмененное собрание назначено на 10 часов вечера 20 мая, но узнать точно место, где оно должно произойти, провокаторы не смогли. Известно было лишь, что оно должно состояться где-то по Раманинскому шоссе, в расположении промыслов Ротшильда и «Руно». Отличавшийся своей распорядительностью ротмистр Келлер получил приказание — во главе отряда конной полиции нагрянуть на эти промыслы. Но при всей внезапности налета вечером 20 мая захватить никого не удалось. Только на следующий день выяснилось, что собрание уполномоченных состоялось по тому же шоссе, но «в трех-четырех верстах от места, находившегося под наблюдением полиции. Собравшиеся в десять часов вечера получили точные сведения о том, что ротмистр Келлер оцепил промыслы «Руно» и Ротшильда, и это сообщение было встречено смехом. Собрание продлилось до одиннадцати часов вечера.
Мартынов имел сведения о собраниях по выборам уполномоченных. Но ему долгое время не удавалось выяснить ни одной, хотя бы мало-мальски крупной группы, подготовлявшей забастовку. О месте явки уполномоченных знало не больше двух членов забастовочного комитета, с которыми имел дело только технический организатор, назначавший время и место этой явки. Уполномоченные, выбранные рабочими, знали каждый свое условное место, куда следовало явиться за час до собрания, и лишь оттуда их вели на место собрания. А в это время на всех близлежащих дорогах и тропинках стояли патрули, поднимавшие тревогу, едва только появлялся кто-либо подозрительный.
Мартынову знакома была эта система, и он знал тех, кто здесь, в Баку, довел ее до такого совершенства. И Мартынов гордился тем, что в марте 1910 года, будучи еще начальником охранного отделения в Баку, он с помощью провокаторов задержал одного из этих столь опасных для самодержавия людей. Мартынов считал это главной удачей своей карьеры — ведь Иосиф Джугашвили, скрывавшийся под кличкой Коба, один из последователей Ленина, бежал из ссылки, и он, Мартынов, сумел поймать его, а другие, менее рачительные слуги царя, выпустили. Недавно, отнюдь не благодаря ловкости полиции, а только благодаря случайности, Сталин снова оказался в руках полиции. Теперь он сослан в Туруханский край, в такое место, откуда бежать невозможно. Но приходится признать: то, что посеяно Сталиным в Баку, вызрело. Аресты идут за арестами, а людей, которые — если уж выражаться точно — занимаются революционной деятельностью по-ленински, остается достаточно. И хотя Мартынов знал, что забастовочный комитет избран и один из агентов охранки даже проник в него, но выяснить срок забастовки ему никак не удавалось. Однако состав забастовочного комитета охранка сумела установить. Мартынову, признаться, внушало подозрение, что в комитете как будто бы не было ни одного более или менее крупного большевика. Конечно, выяснить состав комитета — еще не значит захватить его. Да и с разгромом организации ничего не кончается. Арестуешь один подпольный комитет, появляется другой. Захватил одну нелегальную типографию, через месяц принесут новые, свеженькие листовки. Конечно, бывало, что провокаторам удавалось изнутри подорвать революционное подполье. Но затишье после этого наступало очень ненадолго. При необычайно ловкой и усовершенствованной заговорщицкой сети даже самый умелый провокатор не в состоянии увидеть всю ее, и, как ни силен удар, наносимый революционной организации, она восстанавливается. Но самое страшное — это забастовка. Не предупредишь ее — тебе поставят в вину. Подавить же можно только с кровопролитием. А тут уж взволнуется общество. И не то чтобы известные своим либерализмом круги адвокатов, инженеров, врачей, но даже свой брат чиновник как-то конфузливо косится, словно ты, Петр Иванович Мартынов, кур крал, черт побери…
Вот если представить себе эти обстоятельства, так станет понятно, почему страшную весть о чуме бакинский градоначальник воспринял даже с радостью.
Получив донесение о вспышке эпидемии в Тюркенде, Петр Иванович, как ни умоляла его жена не ехать, тут же решил отправиться на место происшествия. Что он может сам заболеть, этого он не представлял себе — наверно, потому, что у него отсутствовало то, что называется воображением. Зато изнеженный, похожий на девушку, томно-бледный Эмин Рустам оглы бек Шихлинский, должно быть, в избытке обладал воображением: при первой же вести о чуме у него началось нечто вроде истерики. Отдав приказ «о немедленном, сразу по выздоровлении, отчислении упомянутого бека», Мартынов задержался и выехал лишь на следующее утро. Однако в Тюркенд без промедления были направлены врачи. Зачумленная местность первоначально была оцеплена силами бакинской полиции. Потом Мартынов позвонил по телефону в Тифлис и добился распоряжения наместника о переброске в зачумленный район двух казачьих сотен — «с целью создания строжайшего карантина». Впрочем, Мартынов имел еще и другие виды на эти две сотни.
В отличие от сестры своей — холеры — чума распространяется медленно. В Тюркенде она появилась две недели тому назад и за это время поразила лишь несколько семей. Но все это произошло в каких-нибудь девятнадцати верстах от Сураханов, откуда в Тюркенд, к счастью, только по праздничным дням приходили родня и свойственники. Проникни чума в Сураханы — и тогда с нею, при скученности там промыслового населения и при загрязненности жилищ, не легко было бы оправиться…
«Почему весть о заболевании так поздно дошла до начальства?» — грозно запросил Мартынов. И выяснилось, что на весь участок, в двадцать деревень, имелся всего лишь один фельдшерский пункт, находившийся в пятнадцати верстах от Тюркенда. Но, как оказалось, фельдшер был в то время болен, он заразился чесоткой при обследовании воловьих шкур на базаре. Значит, и фельдшер не виноват. Так кто же виноват? Виновного нужно найти во что бы то ни стало. В Тюркенде, однако, полагалось быть еще стражнику. Почему же он при первом случае заболевания не донес по начальству? Стали искать рапорт стражника и нашли — в нем по всей форме доносилось, что в Тюркенде, в доме Сафи оглы, начали заболевать люди. Стражник даже указывал причину заболевания: люди, как говорил мулла, поели мяса овцы, укушенной змеей. Нет, стражника винить было не в чем, он аккуратно доносил о смерти каждого заболевшего и о каждом случае нового заболевания. Но в полицейском управлении города Баку эти донесения не вызывали беспокойства и, что называется, «лежали без движения». Когда умирал банкир или нефтепромышленник, газеты выходили в черных рамках, и через весь город тянулся траурный кортеж, а в газетах печаталось заключение врачей. Покойникам из Тюркенда никакого внимания, конечно, не уделялось: люди наелись мяса овцы, укушенной змеей, умирают — пусть так и будет. И кто знает, до каких пределов разрослась бы эпидемия, если бы не случайное совпадение обстоятельств, благодаря которому ее удалось захватить еще в Тюркенде.
В больницу, принадлежавшую Совету съездов нефтепромышленников, находившуюся в Сабунчах, пришел молодой рабочий азербайджанец с сильным ожогом руки. Его оставили в больнице. Малый оказался общительным и стал рассказывать о себе молоденькой фельдшерице, русской, из молокан — местных уроженцев, обычно неплохо владеющих азербайджанским языком. Он хотя и молодой, но уже глава семьи, у него мать и шестеро сестер: есть и моложе, есть и старше его — всех надо выдать замуж. На родине, в Геокчае, кормиться нечем, они и придумали перебраться в Баку, где у них большая родня — сам Шамси Сеидов, богатый владелец нефтяных промыслов. Шамси ему двоюродный дядя, и — какое совпадение! — его тоже зовут Шамси Сеидов. Вот и приехал Шамси в Баку к дяде-тезке, и тот принял племянника на работу. Шамси зарабатывает пока немного, но дядя обещает прибавить — известное дело, родной. А в деревне Тюркенде у них тоже родня, только со стороны матери. Люди хотя и небогатые, но приняли как полагается. А как же иначе, родные! Хорошая деревня Тюркенд, сады большие и море рядом, рыбу ловят. Одна беда — болезнь напала: вздувает вот такие пузыри под мышками, рвота — зелень с кровью.
— Ты сам видел? — спросила девушка, и краски сразу сбежали с ее миловидного лица.
Не больше как десять дней до этого разговора она читала описание чумы в учебнике, который дал ей врач.
— Нет, сам не видел. Это на другом конце деревни. Когда с вечера на пятницу я возвращаюсь домой после работы, то ложусь в саду и лежу, как паша. Сестры мне еду приносят и питье, песни поют и рассказывают о деревенских делах. Они и рассказали, что в доме Сафи оглы, на другом конце деревни, люди поели мяса овцы, укушенной змеей, и начали болеть. А трое — старик и две дочки — уже умерли.
Фельдшерица сообщила тревожную весть главному врачу больницы Николаевскому, тот сразу же позвонил в санитарный отдел управы, градоначальнику и одновременно направил в Тюркенд своего помощника врача Нестеровича.
Погрузив на ослов все необходимое и захватив с собой фельдшера и двух санитаров, Нестерович немедленно двинулся в Тюркенд.
В то самое злосчастное утро, когда Эмин бек огорошил Мартынова рапортом о своей болезни, господин Достоков, управляющий делами Совета съездов, позвонил по телефону и попросил градоначальника принять двух молодых людей из столицы, представителей известной петербургской кинофирмы «Светоч», которым требуется разрешение снимать рыбную ловлю на Каспийском море. Сначала Мартынов согласился дать эту аудиенцию довольно брюзгливо, — времени у него, правда, было мало. Он недовольно поморщился, когда два долговязых молодца, одетых небрежно, ввалились к нему в кабинет. Но после первых же их слов Мартынов сообразил вдруг, что кинематографщиков можно прихватить с собой в зачумленную деревню. Шутка ли, будет целая кинокартина о том, как бакинский градоначальник Петр Иванович Мартынов борется с чумой! Дурное настроение у Петра Ивановича улетучилось, он даже посадил обоих «прощелыг» в мягкие кресла — честь, которой удостаивался не всякий пристав. Градоначальник познакомил молодых людей со своей любимицей обезьяной Люлей, довольно фамильярно сидевшей на его плече. Конечно, молодые люди тут же сфотографировали градоначальника и обезьяну.
Пусть видят, что он не какой-нибудь там на куколку похожий Эмин бек, которого ему подсунули по протекции из Тифлиса! Пусть не только Баку, но весь Кавказ — да чего там, вся Россия! — видит, какие бывают градоначальники.
Ему не пришлось уговаривать молодых людей: кинематографщики поняли градоправителя с полуслова. Проникнуть со своим аппаратом в район чумы ни при каких условиях они не смогли бы. А тут им предстояло въехать туда в составе свиты господина градоначальника! Такая неожиданная удача!
«Санитарный отряд во главе с градоначальником П. И. Мартыновым вступает в селение Тюркенд».
«Градоначальник П. И. Мартынов разговаривает с муллой Гаджи-Мамед Мавлугулу».
«Градоначальник беседует с доктором С. И. Нестеровичем, первым прибывшим в зачумленную деревню».
«Градоначальник П. И. Мартынов отдает приказ о сожжении имущества, вынесенного из дома Сафи оглы — очага заразы».
«Градоначальник П. И. Мартынов распорядился провести телефон в Тюркенд, — провода прикрепляют к телеграфным столбам».
«Градоначальник П. И. Мартынов на могилах умерших от чумы».
«Градоначальник П. И. Мартынов надевает маску, перед тем как войти в дом-изолятор, оборудованный посреди зачумленной деревни».
Так столичные кинематографщики срежиссировали всю поездку П. И. Мартынова по зачумленному селению и обещали, если им будут созданы условия, в ближайшее время выпустить кинокартину о том, как доблестно борется с чумой бакинский градоначальник.
3
Двухэтажный дом Шамси Сеидова, замыкая одну из крутых улиц Чемберкенда, внушительно возвышался среди маленьких хибарок. Белый с желтизной камень — с древности излюбленный строительный материал в Баку — от копоти и дыма потемнел, но Шамси Сеидов, получив этот дом по наследству от разорившихся родственников Амирхановых, не стал счищать со стен коричнево-серый налет, придававший, как ему казалось, важность ханскому дому. Окна полуподвала скрыты были решетками, и весь дом окружала высокая стена, среди старых, закопченных камней ее яркими заплатами краснели ряды кирпичей — проявление заботливой деятельности нового хозяина. Ворота были старые, деревянные, с потрескавшейся резьбой, на ночь они наглухо запирались. Баку в то время славился грабежами, и в доме оставлялся лишь один общий ход — через большие, массивные двери. В них, на уровне второго этажа, имелось маленькое окошечко, а на двери молоток, — медь, ударяясь о медь, издает особенно гулкий, чистый и мягкий звон. Сын — наследник Шамси, подвергшийся влиянию современной культуры, советовал отцу поставить электрический звонок, но старый Шамси сохранил этот оставшийся от ханов и позеленевший от времени молоток…
Легкий звон молотка разбудил Шамси Сеидова. В этом звуке явственно слышны были осторожность и робость. Но утренний сон чуток, и Шамси открыл глаза. Он увидел себя в своей спальне с ее расписными стенами и потолком. Свет, проникавший сквозь разноцветные стекла, всему придавал причудливо-аляповатый вид. Рядом горячо дышала жена, раскинув черные, еще без единого седого волоса косы. Весь дом спал, и потому отчетливо слышно было, как стукнуло дверное окошечко. Это служанка, исполняя строгий приказ хозяина, прежде чем открыть дверь, посмотрела, кто просится впустить его в дом. До слуха Шамси дошло ее восклицание — вполголоса, веселое. Потом осторожно звякнул запор, кого-то впустили в дом…
Шамси, еще с детства подверженный любопытству, жгучему, как изжога, накинул халат и, почесываясь, подошел к окну. Он толкнул раму — в комнату хлынули веселые утренние лучи. Бодрая свежесть ворвалась в тяжелый, застоявшийся воздух спальни. Солнце еще невысоко поднялось над морем, движущимся на горизонте и ослепительно сверкающим. Внизу зеленели, сбегая к набережной, сады вокруг губернаторского дворца. В открытое окно Шамси видел свои владения: громадный, поросший травой двор, конюшни, каретник, сараи… Все было в порядке: конюхи поили пару вороных коней — гордость Шамси Сеидова, кучер мыл экипаж. Черная шерсть коней и черный лак экипажа — все слепило глаза утренним веселым блеском. Из глубины двора донеслись вкусные запахи. Шамси, налегая своим большим животом, с кряхтеньем перегнулся через подоконник. Сочащаяся свежей кровью баранья шкура сохла на поленнице. Повар держал окровавленную тушу, а поваренок мотал из нее кишки, и Шамси на одну-две минуты залюбовался его проворной работой.
Но кто же все-таки пришел в дом в этот ранний час? Шамси еще раз оглядел двор и увидел тоненькую фигурку в старом бешмете того коричнево-желтого цвета, который имеет только некрашеная домотканая шерсть. Когда-то Шамси тоже носил такой окраски бешмет, как у этого мальчика — его племянника и тезки, сына покойного брата. Сейчас Шамси-младший старательно и ловко работал ножом — строгал палку для шампура.
«Чего это он пришел? Просить что-нибудь?» — подумал Шамси.
Приятно быть благодетелем. Но ты, облагодетельствованный, знай свое место! Восхваляй благодетеля, отнюдь не докучая ему. Благодеяние заключалось в том, что дядя определил племянника работать на своих промыслах. И Шамси-младший так горячо и так часто восхвалял за это Шамси-старшего, что «глаза и уши» господина Сеидова успели уже довести об этом до его сведения. Что ж, дядя был доволен племянником…
По всему двору прокатился зычный хозяйский голос:
— Люди, пусть будет прославлено имя аллаха во веки веков!
И в ответ одни громко вознесли молитву за хозяина, другие пожелали, здоровья хозяину и его семье, а грубиян кучер, которому Шамси спускал все за то, что тот понимал лошадей, только коротко пробурчал:
— Пусть все будет так, как есть, но не хуже.
Едва услышав голос дяди, племянник вскочил на ноги. С засученными рукавами, открытым ртом, приподняв брови, стоял он, глядя снизу вверх на дядю, и откровенное обожание видно было на его лице, почти детском. Эти чувства в их открытом выражении приятны были Шамси-старшему, и он сказал ласково:
— Здравствуй, племянник… Что, горе или радость, привело тебя в столь ранний час?
— Горе, дядюшка, горе, — ответил племянник, и так тихо ответил, что дядя угадал эти слова лишь по движению губ.
— Горе? — строго переспросил он. Но, видя, что племянник, насупившись, молчит, дядя, смягчившись, сказал: — Хорошо, что ты в горе вспомнил о старом дяде… Проведите его ко мне, — обратился он к служанкам и отошел от окна.
Оставив почти в неприкосновенности внешний вид дома, Шамси Сеидов, вступив во владение наследством, по-своему обставил комнаты. Дела фирмы шли успешно, и Шамси, который пешком пришел тридцать лет тому назад со старшим братом в Баку, сейчас хотел бы на весь мир возвестить о том, что он теперь богат. Недаром гудок сеидовских промыслов, собиравший рабочих и отпускавший их, знал весь Баку — это был чудовищной густоты звук, который самому Шамси напоминал рев старого буйвола. Шамси, слыша этот звук, каждый раз молитвой благодарил аллаха и, бывало, даже утирал слезу. Он посылал пожертвования через газету, чтобы чаще видеть напечатанным свое имя. Но особенно хотелось ему, выросшему в бедности, чтобы люди говорили о роскоши его дома. И он добился своего.
Он владел самой богатой в городе коллекцией ковров. Они внесли по степам, лежали подлогами. Коврам изумлялся весь Баку, знатоки приезжали смотреть на них из других городов. Но эти ковры не могли удивить Шамси-племянника в то время, когда он из комнаты в комнату шел следом за вертлявой прислужницей, — мать и шестеро сестер его зарабатывали на хлеб тем, что ткали ковры и продавали их. Шамси, бесшумно ступая своими поношенными башмаками по коврам, узнавал темно-синие и багровые ковры из своих родных мест и более светлые здешние, играющие бирюзовыми, бледно-розовыми и нежно-желтыми, как цвет айвы, красками, — апшеронские, сураханинские, кубинские… Вдруг он остановился перед одним ковром с узором «бурма» — две спирали расходились по всему ковру, как ветвистые рога оленя, пересыпанные цветными звездочками. Такой узор мог быть выткан только в их семье. Звездочки как бы пронизывали его светом, этим ковер отличался от темных, излюбленных в Шемахинском и Геокчайском горных краях ковров и напоминал о том, что мать его происходила из Тюркенда. Ковер этот был подарен братцу Мадату, дядиному сыну, когда тот два года назад посетил их летом, — сколько пришлось тогда кур прирезать!
Вспомнив тут же о Тюркенде, о матери своей, Шамси-младший даже всхлипнул — и так громко, что служанка смущенно оглянулась на него. Он заторопился и догнал ее. Они шли мимо незнакомых и часто даже непонятных ему предметов, блещущих лакировкой и иногда выпиравших своими острыми углами. В одной из комнат на стене был нарисован белобородый старик, сидевший среди черных и рыжих, с бровями в ниточку, красавиц. В другой — по всему потолку от угла до угла тянулся караван среди зыбучих песков. В третьей — неправдоподобной величины цветы, лилии, лотосы, розы, раскрывали свои лепестки, похожие на огромные блюда…
Но вот прислужница открыла перед ним дверь и указала в полутьму — оттуда пахнуло удушливо и влажно. Юноша шагнул, наткнулся на другую дверь, толкнул ее и вошел в комнату, посредине которой блестел сложенный из разноцветных плиток бассейн. В бассейне плескался черноусый и лысый, волосатый и жирный дядя его Шамси.
— Аллах велит день начинать с омовения, — прохрипел дядя, лежа на спине и с помощью ног и рук беззвучно двигаясь по продолговатому бассейну. — У-у-ух!.. Райское блаженство, у-у-ух!.. Ну, говори, родич любимый, любимого младшего брата сын, что заставило тебя в час, когда черной нити не отличишь от белой, встревожить твоего дядю.
— О дядя, страшная беда случилась у нас в Тюркенде! — ответил племянник. — Вчера я пришел к нашим в Тюркенд, чтобы ночь и утро провести с матерью и сестрами, но меня не впустили в деревню. Тюркенд окружен полицейскими и казаками — там чума… В Тюркенде, у Сафи оглы — почтенная семья — все уже умерли или при последнем издыхании. Мулла говорил, что они поели барашка, укушенного змеей. Но вчера приехали русские лекари и сказали, что это чума. У меня был ожог руки, я три дня провел в больнице. Вчера только вышел и хотел попасть домой, но меня в деревню не пустили казаки и велели уходить. Но я не ушел, а пробрался поближе к нашему дому и позвал мать. Она услышала и крикнула мне: «Мышонок мой, беги прочь отсюда, в Тюркенде чума! Беги к благодетелю нашему, дяде, пусть он скажет, чтобы нас выпустили… Беги скорее, дядя все может».
— О-о! — закричал дядя, хватаясь за голову. — Чума-а-а!.. Отойди от меня, а-а-а, ты зачумленный!
Выскочив из бассейна и оставив после себя волны потревоженной мутной воды, дядя, голый, пустился бежать по своим покоям, оглашая их воплями.
Племянник некоторое время стоял неподвижно. Чума точно избрала его своим вестником. Он вспомнил, как испугалась в больнице та русская девушка, которой он рассказал о страшной и тогда еще неизвестной болезни в Тюркенде, и ему же суждено было принести весть о страшной гостье в дом своего дяди, до этого безмятежно спящий.
Не прошло и десяти минут — и ничего не осталось от сытой, размеренной жизни, которой жил дом Шамси Сеидова. По комнатам мелькали полуодетые фигуры, мужские и женские, раздавались вопли и причитания, из подвалов вытаскивались заплесневелые сундуки, европейские саквояжи, круглые и поместительные бакинские мафраши, старые и новые плетеные зимбили, и все это наполнялось едой и одеждой. На двор выкатили все имеющиеся в хозяйстве повозки и щегольской поместительный фаэтон с крытым верхом и открытыми боками, карету, две брички, фургоны… Шла быстрая запряжка. В фаэтон запряжена была знаменитая сеидовская дышловая пара, в карету — разномастная шестерка цугом. Буйволов впрягали в фургоны.
Утренние газеты не внесли успокоения в жизнь дома, наоборот, под черной жирной чертой напечатано было: «Подозрительные заболевания в районе Баку». Имя градоначальника Мартынова мелькало на каждой странице.
Дядя Шамси наметил путь на Шемаху, местность, где в районе нагорных пастбищ находилась летняя резиденция Шамси Сеидова; там, в комфортабельных кибитках, он и вся его семья каждое лето прятались от удушающей бакинской жары.
А о мальчике, принесшем страшную весть, Шамси Сеидов даже не вспомнил, хотя видел, как тот изо всех сил затягивал веревки на громадных мешках-мафрашах, громоздил и увязывал сундуки… Да ведь Шамси-племянник и не просился в отъезд, а если бы попросился, его, наверно, взяли бы, ведь Сеидовы увезли с собой всю свою многочисленную прислугу, — как же можно без прислуги?.. Но Шамси-племяннику даже в голову не пришло проситься с дядей в отъезд. В Тюркенде жили те, кто был ему дороже жизни, — мать и сестры, вся нежность его жизни и улыбка ее. И когда крикливый кортеж, состоящий из нескольких повозок, нагроможденных вещами и людьми, выехал из ворот, не о себе, а только о них, запертых там, в зачумленном Тюркенде, подумал Шамси; Он ведь и прибежал сюда потому, что ждал помощи от дяди, но помощи не было. Дом опустел. Мрачный одноглазый сторож, на которого оставлен был дом, запирал сараи, каретники; потом он выгонит Шамси-племянника на улицу и замкнет ворота.
Шамси уже хотел уйти, как вдруг дверь нижнего этажа открылась и появилась старушка Меликниса, невестка дяди Шамси. Шамси-племянник знал совершенно точно, что это она принесла в приданое старшему из братьев Сеидовых те нефтяные площади, которые обогатили семью Сеидовых.
Старушка, кутаясь в зеленые и розовые шелка, скрывая ими лицо и оставляя только отверстие для глаз, мелко и часто переступая с ноги на ногу, вышла на средину двора. Очень нежным и чистым для своего возраста голосом перебирала она одно за другим имена прислужниц. Но никто не откликался ей, только старик сторож взглянул на юного Шамси своим единственным глазом, покачал укоризненно головой и откликнулся на зов старухи.
И эта укоризна заставила Шамси-младшего не только покраснеть, но что-то забормотать, махнуть рукой и опрометью броситься прочь со двора. Никогда не испытывал он такого стыда. Бросить, забыть внизу, в подвале, старенькую и беззащитную, беспомощную невестку, будучи всем своим достоянием, всем жиром своего богатства обязанным ей… Он шел по улице, бормоча и, как от шмелей, отмахиваясь от укусов стыда. Сослепу он налетел на какого-то благочестивого старика, идущего в мечеть, и вздрогнул, когда тот обругал его «хулячи» — непереводимое слово, означающее не то одержимого, не то помешанного.
4
Шамси снял свою барашковую шапку, провел рукой по бритой голове, разгоряченной и потной, и оглянулся… Ноги привели его к входу на промыслы братьев Сеидовых, где он работал, — куда же еще могли они привести его в час, когда начиналась работа? Он с недоумением глядел на новую черную с золотыми буквами вывеску, на широко открытые ворота, в которые въезжал целый караван подвод, груженных трубами, на весь широкий, огороженный забором двор, где возвышались дощатые темные вышки, где сновали рабочие и слышался непрестанный грохот и жужжание. Да, промыслы работали как ни в чем не бывало, хотя тот, кому они принадлежали и кто до сегодняшнего дня казался Шамси как бы духом, приводящим в движение все сложное хозяйство промыслов, скакал по дороге в Шемаху. Это была странная новая мысль: оказывается, личность дяди и его промыслы не были слиты воедино, как это раньше казалось Шамси. Об этом хотелось еще думать, но…
— На место, на место! — сухо и повелительно сказал прошедший мимо инженер в фуражке с молоточками.
И это приказание только подтвердило правильность новой странной мысли: промыслы продолжали работать, несмотря на то, что хозяин их потерял голову.
Когда Шамси уже был возле самой буровой вышки, его окликнул моторист Алым, высокого роста, сухощавого и крепкого сложения человек с продолговатым смуглым лицом.
— Э-э-э, Шамси! Как рука твоя?
— Вот, — ответил Шамси, показывая руку.
— Что я тебе говорил! Хорошо лечит русская ханум в промысловой больнице? — весело спросил Алым, вытирая тряпкой свои большие, сильные руки и подходя к Шамси.
Шамси кивнул головой.
Вместе с Алымом к нему подошел крепкого сложения мужчина с черными усами, в суконной куртке, кожаном картузе и синей блузе с отложным воротничком, старательно отглаженным. По наружности этого человека можно было счесть промысловым приказчиком или, может быть, техником. Взгляд его темных, почти черных глаз поразил Шамси каким-то особенным, дружелюбным вниманием.
— Ты домой ходил? — спросил Алым, заметив выражение угнетенности на миловидном, с черными бровями, молодом лице Шамси.
Шамси неопределенно мотнул головой — это можно было принять и за утверждение и за отрицание. Нет, ясно было, что с парнем приключилась какая-то беда. Алым положил на покатое плечо мальчика свою большую, темную от мазута, с длинными пальцами руку.
— Ну, — сказал он ласково, — чем мотать пудовой головой, лучше пусти в ход четвертьфунтовый язык. Что с тобой? Говори… А оттого, что тебя Буниат послушает, тебе лучше будет, он всем нам как старший брат.
Тот, кого Алым назвал Буниатом, молча кивнул головой и так взглянул, точно отворил душу Шамси. Захлебываясь от обилия слов, всхлипывая, призывая в свидетели аллаха и святых имамов, Шамси рассказал все, что с ним произошло, и даже самое страшное и постыдное, что случилось с ним сегодня утром: бегство дяди и всей его семьи в Шемаху. Алым слушал, держа свою увесистую теплую руку на плече Шамси. Лицо его было неподвижно, и только глаза то и дело взглядывали на Буниата, ожидая его оценки. Тот, склонив голову, поглаживал одной рукой свой черный продолговатый ус, другая была засунута в карман. Порой он исподлобья быстро оглядывал Шамси…
Причина, которая заставила Шамси Сеидова из родной деревни приехать в Баку, была понятна Буниату. Десять лет назад его самого унижение и бедность выгнали из деревни, а он был тогда едва ли не моложе Шамси. Но у Буниата не было, подобно Шамси, богатого дяди в Баку, и он еще у себя в родном Карсубазаре убедился в той истине, которая сейчас повергла юного Шамси в состояние горестного изумления, — что для богатого родственника бедный — это наиболее удобный предмет эксплуатации. Буниат так хорошо знал силу патриархальных предрассудков среди своего народа, что разочарование и горе Шамси не удивили его. Буниату даже казалось, что он уже где-то видел этого кареглазого мальчика с наивно приподнятыми, ушедшими под самую черную шапку, похожими на черные арки бровями… «Наверно, на саазе играет, хорошо поет», — думал Буниат, представляя себе час вечерней душистой темноты и трепещущий голос, несущий откуда-то из-за садов любовную песню. Буниату хорошо знакома была та разновидность людей, к которой принадлежал Шамси. Покладистый, уступчивый, почти женственный и при этом способный на самые неожиданные и смелые поступки — таков, наверно, этот мальчик… «Им стоит заняться», — думал Буниат. И у Алыма мелькнула примерно такая же мысль. Прислушиваясь к ровному рокоту мотора, гудевшему в маленькой пристройке возле вышки, и к звукам голосов, доносившихся оттуда, он, когда Шамси кончил рассказ, произнес:
— Слушай, Шамси, сегодня уполномоченные рабочих всего нашего района должны собраться для обсуждения одного большого дела. Можешь ты пойти со мной и там, на собрании, рассказать о том, как неприлично поступил с тобой твой дядя?
— Обо всем расскажу! — с готовностью ответил Шамси. — И о том, что чума…
Алым махнул рукой.
— Можешь, братец, не беспокоиться, об этом все знают, — сказал вдруг Буниат и вынул газету из-за голенища своего сапога.
— Вот, — сказал он. — «Подозрительные заболевания…» Есть, братец, болезнь хуже чумы, и я рад, что ты от нее начинаешь излечиваться. Запомни: хотя и зовут тебя Шамси Сеидов и отец твой был родной брат хозяина, ему родство с тобой до тех пор нужно, пока ты ему из-за этого родства как пес служить будешь. А чуть случилась беда — и он бросил и тебя, и мать, и сестер твоих…
Приподняв свои черные дугообразные брови и глядя грустными карими глазами в серые, неукротимые глаза Алыма, Шамси покачал головой.
— Конечно, вы, городские люди, — не чета мне, геокчайскому птенцу, залетевшему в Баку. Но есть ведь у народа старшие? Должны старшие о младших думать? Страшнее чумы нет болезни, она может весь Баку обезлюдить. Так кто же должен о ней думать, если не дядя Шамси, — он «городской управ»!
Алым кивнул головой, давая понять, что мысль юноши ему понятна.
— У нас, у рабочих, тоже есть свои старшие, — ответил он. — Сейчас ты узнал одного из них. — И он показал в сторону Буниата, который, заметив, что к вышке свернул какой-то инженер, уходил своим неторопливым шагом.
* * *
Буниат шел по узкому и неровному тротуару Балахнинского шоссе, мимо многочисленных лавчонок и уличных лотков, и слушал разноязычные выкрики — азербайджанские, армянские, грузинские и русские: «Хаш! Хаш! Хаш! Маццун! Маццун!», «А вот маццони!», «Блины с пылу, с жару, пятачок за пару!» Буниат чувствовал себя превосходно, может быть потому, что над всем этим господствовал гул и грохот промыслов, мастерских и заводов; особенный бакинский шум, приправленный бензином воздух, бакинское задымленное небо. В своем черном пиджаке, брюках и сапогах Буниат совсем не выделялся среди рабочей толпы, заполнявшей узкие и пыльные проходы между булыжными шоссе и рядами низеньких домиков и лавочек, пестревших вдоль шоссе. Особенно радовало его то, что здесь на него никто не обращает внимания. Весь последний год провел он на родине. А там не только в родном Карсубазаре, но и в других соседних селах Джебраильского глухого уезда каждый мальчишка знал его в лицо. И если он не попал в руки охранки и полиции, то только потому, что каждый крестьянский дом, каждая пастушья хижина считали для себя величайшей честью спрятать Буниата. И сейчас нежное выражение выступало на сурово-неподвижном лице Буниата, когда он вспоминал то одно, то другое из множества дружественных ему лиц земляков. Разве мог бы Буниат без помощи друзей вывезти из Джебраиля свою молодую жену и ребенка? Теперь они в Баку, здесь же… А в сущности, он сделал для земляков не так уж много: он лишь раскрыл им глаза, и они отказались платить помещику подлые кабальные долги. После этого Буниату пришлось уехать с родины, как год тому назад из Баку. Но друзья-единомышленники на родине остались. Придет час, и они по призыву из Баку возьмутся за оружие.
Снова началась бакинская жизнь: сходки у Волчьих ворот, на горе Стеньки Разина, в тихих узких заливчиках, на лодках, которые медленно покачивались на волнах между голыми скалами. Теперь он не Мамедов, а Визиров. Буниата Визирова полиция пока не знает, и он может свободно шагать в своих неказистых, но крепких юфтовых сапогах с одного промысла на другой, пользуясь поддельными удостоверениями различных фирм.
Проголодавшись, Буниат заходил в ближайшую чайхану, заказывал тарелку густого и жирного супа — пити. Потом хозяин, с крашеной бородой и ногтями, в зеленой чалме, архалуке и широчайших многоскладчатых красных шароварах, почему ноги его в сафьяновых, с загнутыми носами чувяках казались совсем маленькими, вежливо сгибаясь, подносил Буниату маленький стаканчик коричнево-красного чая. Только когда темнело, осторожно возвращался Буниат домой, к жене, с тем чтобы, едва забрезжит рассвет, снова начать день скитаний.
Вернувшись в Баку, Буниат сразу понял, что рабочие недовольны результатами прошлогодней забастовки. Недовольны были даже те, кто в прошлом году шли за меньшевиками, боролись против общей забастовки и отстаивали гибельную тактику частичных, разрозненных стачек. Из-за этой меньшевистской тактики, собственно, и не достигла желаемых результатов прошлогодняя забастовка. Да что говорить! Жизнь дорожала и отбирала последние крохи прошлогодних завоеваний. Тройка из членов комитета была уже выделена для того, чтобы суммировать требования рабочих. Стачка с первых же шагов должна принять высокоорганизованный характер. Ради этого стоило и пошагать и недоспать.
Первым условием успеха забастовки была крепость большевистской организации. Все время после революции пятого года царское правительство вместе с нефтепромышленниками без пощады боролось с бакинскими большевиками. Сотни большевиков были арестованы. Но как ни тяжелы удары, организация продолжает жить и бороться.
На днях вернулся из ссылки Степан Шаумян, и сразу же бодрее и слаженней пошла партийная работа. Степан Шаумян в день рабочей печати подготовил и выпустил первый номер газеты «Наша жизнь». Второй номер уже был конфискован, но первый и до сих пор горячо обсуждался рабочими.
Сегодняшний разговор с Алымом особенно обрадовал Буниата. Алыма он знает давно. На его памяти приехал Алым в Баку с Северного Кавказа, и, возможно, в этом большом городе он был единственным представителем немногочисленного веселореченского народа. Когда Алым пришел в Баку, он не говорил ни по-русски, ни по-азербайджански. Но, женившись на азербайджанской девушке, общаясь на работе с азербайджанцами, Алым за несколько лет настолько овладел азербайджанским языком, что мог свободно выступать на собраниях. Да разве он один? Лезгины, аварцы, талыши, таты — множество кавказских племен вливалось в единый общепролетарский бакинский котел, и разница языков не препятствовала классовому единству. Буниат усмехнулся, подумав о своем друге Кази Мамеде, который так же вот бесконечно ходил по промыслам, нося под мышкой или русский букварь, или русскую грамматику. Он всегда на ходу шептал: «Я могу, ты можешь, он может, мы можем…»
Да, мы многое можем и еще больше сможем! Черкес Алым, когда в 1908 году началась знаменитая забастовка, руководимая самим Кобой, еще плохо говорил по-русски и азербайджански, но с товарищами сговориться сумел и показал себя человеком стойким и бесстрашным, одушевленным благородным чувством революционной дружбы…
Потом, уехав на родину, Буниат долго не видел Алыма и вот сегодня, встретившись с ним, понял: перед ним сознательный большевик! А ведь он не один — таких много и будет все больше. Вот хотя бы этот мальчик Шамси. Конечно, он наивен, доверчив, невежествен… «Патриархальщина проклятая!» — прошептал Буниат. Но мальчик не глуп, он от своего дядюшки, от «городского управа», требует ответственного гражданского поведения, его возмущает, что дядюшка из-за скотского страха перед эпидемией удрал, спасая свою шкуру, позабыл о людях, работающих у него на промыслах, о людях, чьим представителем он был в городской думе. Такова буржуазия!
Буниату не раз приходилось бывать на Приморском бульваре в тот предзакатный час, когда там бывало гулянье. Среди чахлых кустарников, утопая выше щиколоток в песке, бродили молодые люди в чиновничьих и студенческих мундирчиках, бесшумно проходили морские офицеры в белоснежных кителях.
Ветер поднимал пыль, и она оседала на мороженом, что продавалось в киосках. Молодые люди в барашковых шапках, ухарски сдвинутых на черную подсурмленную бровь, развалившись на скамейках, красовались, вытянув вперед ноги в лакированных сапожках; ножи и пистолеты в бисерных кобурах висели на отделанных серебром поясах. Это кочи, проклятые наемники мусульман-капиталистов. Каждый из нефтепромышленников содержал для расправы с рабочими по нескольку десятков таких молодцов. Из-за кустов слышались игривые взвизги, доносились ароматы духов, море, покрытое жирно-радужной пленкой, шумело и пахло нефтью.
Однажды Буниат увидел, как по бульвару, ведя под руку хорошенькую расфранченную женщину, шел безукоризненно по-европейски одетый сам Гаджи Тагиев. Среднего роста с горбатым носом и острой бородкой старик медленно поводил во все стороны блестящими выпуклыми глазами и крепко держал выше локтя даму, всю в прозрачных кружевах, завитую, накрашенную и что-то лепечущую по-французски. У Гаджи была законная и даже единственная жена. Наряду с женами видных чиновников она задавала тон в свете, тем более что щедрые пожертвования обеспечивали ей почетное место во всевозможных благотворительных комитетах. Да и сам Гаджи щедро жертвовал на мечеть и гордился своим благочестием. Но когда мулла сделал ему замечание насчет «мамзели содержанки», Гаджи ответил, что должен изучать французский язык: он хочет сам вести коммерческую корреспонденцию.
Тиская темной и жадной рукой обнаженную розовую часть руки своей «француженки», которая в три раза была моложе его, он самодовольно улыбался, когда вслед ему молодые люди в бараньих шапках плаксиво-жалобно запевали:
Ой, аллах, ой, аллах, Потерял ты всякий стыд! Одному даешь пилав, А другому аппетит!Песенка, несмотря на содержащиеся в ней грязные намеки, звучала подобострастно. Но что уж говорить о грязи! Известно, что все богатство Тагиева началось с воровства. Он был караульщиком на нефтепроводе «Балаханы — Бакинский торговый порт», принадлежавшем Нобелю. Вооруженный винчестером, как полагалось караульщику, Тагиев простреливал трубу. Через дыру в трубе он тут же наливал ворованной нефтью целый обоз заранее приготовленных бочек. Нефть он потом сбывал задешево. Полиция была подкуплена. Так вырастало богатство: на преступлении, на обмане.
А ведь Тагиева бакинские капиталисты считали своим главой. Так чего уж ждать от этого жирного Шамси Сеидова! «Да, господствующие классы из-за своекорыстия и шкурничества, все возрастающего, теряют способность руководить обществом», — подумал Буниат. Эта мысль не раз уже приходила ему в голову. Значит, вопрос об их устранении от власти является жизненно острым и необходимым для всего общества. В постыдном бегстве Шамси Сеидова было что-то очень характерное для поведения всей буржуазии. «Ну, а мы, пролетарии, не побежим отсюда. Это наш город! — думал он, смотря на проходивших мимо него людей, молодых и старых, нахмуренных и смеющихся. — Все эти люди с печатью усталости и болезненности на лицах, и все кажутся родными и знакомыми. Условия нашей жизни на промыслах давно уже стали невозможны. Чума, ворвавшись на промыслы, при их скученности и грязи, повлечет за собой чудовищные опустошения, а надеяться нам в этом деле не на кого, кроме как на себя… — И Буниат ускорил шаг: ему надо было встретиться с Шаумяном, подготовлявшим текст первого обращения к забастовщикам. — Потому наши требования о создании рабочих поселков, о санитарном оздоровлении города надо отстаивать решительнее, чем когда-либо». В сегодняшнем номере газеты «Каспий» между прочими сообщениями об опасности, угрожающей городу от чумы, были напечатаны две телеграммы из Петербурга. В одной сообщалось, что профессор Заболотный, известный своими открытиями средств для борьбы с чумой, выехал из Петербурга на Украину и ему послан запрос, не согласится ли он заехать в Баку. Во второй телеграмме сообщалось, что согласие профессора получено и что он уже выехал в Баку.
«Найдутся среди интеллигенции передовые люди, которые в этом деле поддержат рабочих», — подумал Буниат.
5
Душа полковника Мартынова, исполнявшего должность градоначальника города Баку, всегда обращена была в сторону трона и тех, кто непосредственно находился у его подножия. Это позволяло ему даже в таких сухих и кратких документах, какими являются телеграммы министра внутренних дел, помимо официального смысла улавливать кое-какие существенные оттенки. В краткой телеграмме министра о предстоящем приезде в Баку профессора Заболотного, кроме прямого указания оказывать профессору Заболотному всяческое содействие, имелась оговорка о том, что содействие это не должно «выходить за рамки» вопросов, непосредственно относящихся к борьбе с чумой, — в этом угадывалось некое предостережение.
Бакинские газеты старались в каждом номере сообщить сенсационные сведения из биографии профессора. То, что профессор глотал микробов — возбудителей опаснейших болезней, на Мартынова, который к существованию микробов относился несколько скептически, особенного впечатления не произвело. Но, оказывается, профессор научно доказал, что страшную заразу переносят грызуны! Об этом Мартынов прочел не без интереса. Зная из отчаянных донесений портового врача о чудовищном количестве крыс в порту, Мартынов кликнул клич среди учащихся средних учебных заведений и собрал несколько крысоистребительных отрядов, составленных из учеников четвертого и пятого классов гимназии и реального училища. Вооруженные короткими, заостренными на конце металлическими спицами, крысоистребители с пением «Как ныне сбирается вещий Олег» браво продефилировали в направлении порта мимо здания градоначальства, повернув головы в сторону балкона, где, заложив руки за спину, стоял сам Мартынов.
В громадных складских помещениях порта разгорелась битва с грызунами-чумоносителями.
Такая мера борьбы, как и многое другое, должна была показать Заболотному, что чума в Баку отнюдь не оставлена без попечительного внимания начальства.
Мартынов даже предполагал собственной персоной встретить на вокзале профессора, которого все же склонен был рассматривать как некое начальство по чумной части. Но вопреки расчетам газет и самого Мартынова профессор Заболотный явился в Баку на два дня раньше. В кабинете градоначальника его появление было неожиданно. Он широко открыл дверь, из-за плеча профессора выглядывала перепуганная физиономия адъютанта… Огромная выпуклость лба и головы, широкое лицо, массивность грудной клетки и плечей — все в этом человеке производило впечатление силы. Войдя в кабинет, он не устремился к градоначальнику, как этого следовало ожидать, а сначала окинул быстрым взглядом весь кабинет и всех присутствующих, — взгляд у него был острый, примечающий каждую мелочь и, пожалуй, добродушно-хитрый, какой бывает у крестьян почтенного возраста… Подойдя к Мартынову, он протянул ему руку, назвался и сказал:
— Продолжайте, продолжайте, я дождусь.
Но у градоначальника отпала всякая охота продолжать, хотя дело, которым он занимался, имело непосредственное отношение к чуме. Мартынов отер сизое лицо и сказал жандарму и двум дюжим санитарам, показывая на белесого паренька в старой морской куртке:
— Отвести мерзавца в изолятор и держать строго.
— Почему в изолятор? — спросил Заболотный с интересом.
— Потому что, находясь под карантином, убежал и изловлен в городе возле монопольки, где хвастал своим дерзким побегом.
— А зачем вы покинули карантин? — с любопытством спросил Заболотный, обращаясь к этому худощавого сложения пареньку, которого уже тащили из кабинета.
— Отвечай! — сказал градоначальник, резко откинув голову и дернувшись всем телом назад, что всегда было у него признаком неудовольствия. — К-куда вы волочите его, дурачье? — прикрикнул он на санитаров, которые, не получив отмены приказания, продолжали тянуть из комнаты этого парня.
Отпустив его, санитары оторопело вытянулись. Почувствовав себя на свободе, парень весь встряхнулся, оправил на себе одежду и пригладил рукой растрепанные волосы, потом, отставив ногу в штиблете, хотя и заплатанном, но ослепительно начищенном, он принял вид совершенно независимый и, повернув к Заболотному свое продолговатое озорное лицо с большим подбородком и смешным коротеньким носом, стал рассказывать историю, уже известную Мартынову и казавшуюся ему изрядно глупой.
Рыбачья артель, взявшая подряд на ловлю рыбы для известного рыбопромышленника Федора Галкина, забросила невод неподалеку от деревни Тюркенд. Этот самый молодец, Семен Гуреев, работавший в артели, был послан в город, чтобы известить хозяина о нехватке соли для засола рыбы. И вдруг обнаружилось, что они находятся в линии карантина и оцеплены.
— А мы в ту деревню и не ходили никогда. Не до гулянок, когда рыба так идет — еле успеваешь сеть опростать, отчего соли-то нам и не хватило. А рыба все знай идет. Вот я и пошел за солью.
— Слыхали дурацкие речи? — с раздражением спросил Мартынов, обращаясь к профессору. — Что он заразу в город занесет, так об этом не думает. Соли ему, дураку, не хватило.
— Какая же зараза, ваше превосходительство, когда мы в деревню не ходили, а деревенские даже и не знали, что мы рыбачили, потому — мы за мысом.
— Уведите дурака и покрепче держите! — сказал Мартынов санитарам.
Профессор ничего не сказал, но Мартынову показалось, что ласковая усмешка мгновенно мелькнула под его густыми, опущенными вниз усами.
Профессор хотел тотчас же отправиться на место эпидемии, но Мартынов решительно этому воспротивился. Он повел столичного гостя к себе, в другую половину большого здания градоначальства, где находилась казенная квартира градоначальника и где на балконе, увитом цветущими глициниями, было сервировано то, что госпожа градоначальница, щеголяя подхваченным где-то словом, называла «ленч»: ветчина, сыр, яйца всмятку, кофе и гордость Баку — светло-зеленая зернистая икра, прохладная, пахнущая морем.
Петр Иванович считал свою жену Елену Георгиевну одной из самых несносно говорливых женщин на свете, за что порой испытывал к ней бессильное чувство супружеской ненависти. Но сейчас это непереносимое качество ее пригодилось как нельзя кстати. Елена Георгиевна, не забывая, правда, потчевать, как завела речь своим тоненьким, довольно звонким голоском, так и не кончила до конца завтрака. Ветчина была собственного копчения — потому подробно разъяснялось, как следует коптить ветчину, чтобы она не теряла «сюксе натюрель», после чего сообщены были сведения о том, каков должен быть погреб со льдом. Далее излагались соображения об изготовлении искусственного льда, так как в Баку, когда зима бывает теплая, льду достать не легко. Лед бывает крайне необходим также и при болезни, — тут же Заболотному сообщено было, что мартыновские «малютки» в прошлом году переболели скарлатиной. Дальше пошла речь о трудности воспитания детей в наше время, когда устои шатаются, да, да, шатаются… Беседы хватило на весь ленч. Гость ел и похваливал, иногда говоря:
— О, це гарно! О, то добре!
И Мартынову в этих «малороссийских» мужицких речениях чудилась какая-то насмешка, которую Елена Георгиевна, конечно, не замечала. После ленча господин градоначальник намекнул на то, что гостю неплохо было бы отдохнуть. Но гость решительно отказался, откланялся, поблагодарил. И гнедая пара градоначальника, запряженная дышлом и окруженная конвоем, помчала столичную знаменитость в сопровождении господина градоначальника в сторону Тюркенда, по пути, заранее намеченному: ближе к морю и в объезд промыслов. Все же никак нельзя было миновать Белый город, где располагались многие крупные предприятия. Но Мартынов рассчитывал на быстром аллюре пронестись мимо грохочущих и шипящих нефтеперегонных и механических заводов Нобеля, Шибаева, Рамазанова…
Однако то, чего он опасался, все же произошло: почти миновав Белый город, они наткнулись на цепь полицейских. Впрочем, никто и не делал попытки пройти за линию оцепления. Люди грудились по сторонам, с ужасом и любопытством глядя на то, как человек в брезентовой, пропитанной нефтью одежде корчится возле серого забора. На сухой, пыльной земле блестела под лучами солнца кучка вытошненной пищи. Околоточный, которого не помнил по фамилии, но хорошо знал в лицо Мартынов, с восторженным сиянием на красном чистом лице, уже подбежал с рапортом. Рука градоначальника машинально пошла к козырьку. В этот момент столичный профессор, раскрыв находившуюся в его руках кожаную докторскую сумку, вынул оттуда халат, марлевую маску, резиновые перчатки, надел все это на себя и кинулся сквозь оцепление. Мартынов, не дослушав рапорта, — за ним.
Заболотный схватил руку больного, подержал и отбросил.
— Конец, пульса уже нет, — сказал он, склонившись к лицу умершего.
Голубые, застланные слезой глаза с остановившимся выражением строгого и недоуменного вопроса смотрели и уже ничего не видели. Это был мужчина средних лет, с жиденькими, словно вылезшими, усиками и широким носом.
В это время раздалось дребезжание колес по неровной мостовой. Подкатила пролетка. Люди в белых халатах возились с носилками, разбирали их. Санитарный инспектор в развевающемся белом халате соскочил еще на ходу, это был тощий и длинный Эйгес. Из числа беспокойных санитарных инспекторов Мартынов считал Эйгеса самым беспокойным.
Заболотный без всякой брезгливости рукой в резиновой перчатке ворошил остатки пищи на земле. Эйгес увидал Заболотного, и суровое с длинным носом и черной бородкой лицо санитарного инспектора засияло такими чувствами восторга и умиления, какие трудно было предположить у Эйгеса, всегда казавшегося градоначальнику воплощением сварливости и ожесточения.
— Даниил Кириллович? Вы уже здесь?
Заболотный поднялся, содрал с руки резиновую перчатку и, отбросив ее в сторону, сказал так, как будто он уже знал Эйгеса и недавно виделся с ним (это показалось подозрительным Мартынову):
— Микроанализ нужен. Но, вернее всего, отравление пищей, рыбий яд может быть.
— Третий случай за два дня! — торжественно и зловеще сказал Эйгес, поднимая вверх палец. — Это в трактире Бессмертного. Я писал донесение, — с выражением недопустимой требовательности обратился он к градоначальнику, — но пока ни ответа ни привета.
Мартынов, точно не слыша, уже подхватил Заболотного под руку и повлек обратно к экипажу. Санитары клали умершего на носилки. Завоняло карболкой, известью — городовые, повинуясь повелительным окрикам Эйгеса, производили дезинфекцию.
«Тоже рад покомандовать, — со злобой думал Мартынов. — А ведь, наверно, красные книжонки прячет где-нибудь под половицей, сволочь? Мартынов уже подумал о том, что за этим ретивым и беспокойным фельдшером следовало бы установить негласное наблюдение, как Заболотный тихо сказал:
— Три случая за два дня, а?
Мартынов быстро взглянул на профессора: он сидел, склонив свою большую голову в твердой соломенной шляпе и утопив нос в пышной бороде, — похоже было, что он спит и сказал это сквозь сон.
«Возможно, что притворяется, ну и ладно», — подумал Петр Иванович. Он не чувствовал желания вести разговор на эту тему… И черт его знает! Эти отравления пищей по первым симптомам так похожи на чуму! Наверно, и раньше люди в Баку умирали от плохой пищи. Конечно, умирали! Было даже целое дело о трактире Монахова, но полиция как-то все замяла — верно, взятку получили, — и никакого шума. Восемь отравившихся похоронили с соблюдением религиозных обрядов (среди отравившихся были люди разных религий) — и всему конец. А сейчас кто бы от чего ни заболел — по поводу каждого шум, медицинский протокол. Волокут отовсюду всех харкающих кровью — ведь это один из симптомов чумы! А оказывается, туберкулез. Кто бы мог подумать, что в Баку такое множество чахоточных… В подвале на Раманинском шоссе, населенном несколькими рабочими семьями, вдруг у жильцов началась рвота. Признали подозрительными по чуме, применили карантинное оцепление. Оказалось, отравление подземным газом, просочившимся в подвал, — о чем тоже имеется протокол санитарной инспекции. Какие-то судороги, человек падает, корчится. Его тащат на носилках к врачу, приносят уже мертвого, — и опять-таки оказывается не чума, а разрыв сердца. Но всяким беспокойным людям, вроде фельдшера Эйгеса, разве это важно? Им бы политику свою делать… И уже выпущена маленькая, но колючая листовка.
В ней даже подсчитали, что в Баку за каждые три минуты погибает один рабочий — пятьсот за сутки.
Вспомнив о листовке, Мартынов нахмурился и закряхтел.
Нефтяные вышки уже остались позади. Коляска, покачиваясь, катилась среди гористых, подернутых нежной зеленью склонов, зеленью, которую скоро выжжет свирепое бакинское солнце. Коляска мягко покачивалась, профессор, склонив голову, как будто спал. «Ну и пусть его спит», — снисходительно думал Мартынов.
И не знал он, что по прибытии в Баку Заболотный сразу же на вокзале был встречен представителями медицинской общественности Баку, среди которых был и Эйгес. Профессора провезли по территории Сабунчей, Балаханов и Сураханов, и Заболотный имел полное представление о санитарном состоянии бакинского нефтяного района.
Глава третья
1
С помощью Риммы Григорьевны Людмиле сравнительно легко удалось добиться главного: Баженов согласился включить ее в состав противочумной экспедиции, «на должность медицинской сестры при лаборатории» — так значилось в ее удостоверении. Теперь надо было, чтобы Кокоша посчитал, будто она уехала в Краснорецк на каникулы. Справиться с этой задачей тоже оказалось нетрудно. Краснорецк находился на железнодорожной магистрали Петербург — Баку. С целью укрепить Кокошу в уверенности, что она возвращается домой, Люда сама попросила брата взять ей билет до Краснорецка, но непременно в том самом вагоне «международного общества спальных вагонов», в котором ехал в Баку профессор Баженов с женой, — она-де с этой профессорской четой хорошо знакома. Кокоша сначала заартачился, так как считал поездку Люды в спальном вагоне излишней роскошью, но, узнав о том, на попечении каких почтенных людей оказалась его сестра, он успокоился и согласился достать билет. Кокоша даже предполагал, вернувшись под домашний кров, приписать себе заботы по приисканию своей сестре таких замечательных попутчиков и получить за это одобрение отца и особенно матери: ее одобрение сулило также и некоторую материальную выгоду.
На городской железнодорожной станции Кокоша встретил знакомых студентов, возвращавшихся на родину, в Баку: Мадата Сеидова и Али-Гусейна Каджара. Оба студента происходили из богатых семей нефтепромышленников и тоже приобретали билеты в «международном». Вместе с ними купив билет для сестры, Кокоша поручил ее попечениям этих двух своих приятелей.
Вагон тронулся при громогласных восклицаниях Кокоши, который по количеству прощальных возгласов и взмахов то платком, то фуражкой мог бы заменить толпу провожающих.
Итак, отъезд сошел благополучно. Кокоше даже и в голову не могло прийти, что сестра его отбыла в экспедицию столь опасную. Следовательно, Люда могла не беспокоиться насчет того, что брат поднимет тревогу дома, в Краснорецке. Но старики Гедеминовы, уже получившие письмо, в котором Люда обещала на днях приехать домой без телеграммы, конечно, еще несколько дней прождут спокойно, а потом встревожатся, телеграфируют Кокоше… Теперь нужно было, не упоминая о чуме, как-то объяснить родителям, как это получилось, что вместо Краснорецка она очутилась в Баку.
Но поезд все шел на юг, часы проходили то в серьезных разговорах с Баженовыми о цели экспедиции, то в веселой болтовне со студентами. Они, ссылаясь на слово, данное Кокоше, старались угадать все желания Люды: из вагона-ресторана ей приносились пирожные, конфеты, прохладительные напитки. И когда на станции, уже за Воронежем, показались босоногие девочки с подснежниками и фиалками, один из студентов — Али-Гусейн Каджар — соскочил, купил целую корзину и едва успел вскочить в вагон, как поезд тронулся. Высокого роста, с круглым, бледно-смуглым лицом, большими черными глазами с загнутыми ресницами и нежным, оттененным черными усиками ртом, он казался сонливо-задумчивым, это шло ему и как-то гармонировало с его мягкими движениями. Но на Люду он взглядывал продолжительно и страстно, хотя смущался и краснел, когда она обращалась к нему. Говорил он или невпопад, или глупости и добродушно позволял своему другу Мадату Сеидову делать себя мишенью острот. Но в тот момент, когда Али без шапки выскочил из вагона за цветами, Мадат закричал по-русски и азербайджански:
— Ай, отстанешь, глупость какая!
И Люда подумала, что этот чернобровый, с глубоко посаженными цепкими глазами и крючковатым носом, худощавый Мадат, находчивый в разговоре, развязный и ловкий в движениях, никогда ничем не рискнет из-за желания девушки. Люда порой смеялась вместе с Мадатом над несуразными словами Али, но ей приятно было, что она ему нравится. Развлеченная этим веселым вагонным времяпрепровождением, Люда никак не могла сосредоточиться и подумать о том, что написать родителям. А когда вспоминала, какая страшная опасность ждет ее впереди, ей становилось еще веселее.
Она с вечера легла рано, для того чтобы не проспать Краснорецк, — ей хотелось посмотреть на родные места, и она смутно надеялась, что положение как-то само собой разрешится. Проснулась она ночью. В вагоне было жарко. Она вышла в коридор, подняла окно и высунулась, радуясь свежести несущегося мимо вагона ночного воздуха, пронизанного светом утренней зари.
— А может быть, Людмила Евгеньевна, и придумывать ничего не нужно? Скоро Краснорецк. Поезд остановится, мы поможем вам вынести вещи на платформу — и вы фью к папе-маме под крылышко.
— Что вы, Аполлинарий Петрович, как вы можете после наших разговоров! — обиженно возразила она.
В этот ранний предутренний час они только вдвоем были в длинном покачивающемся коридоре вагона, освещенном сильным светом зари. Все было видно четко, ясно, — и ни тени насмешки не прочла она на худощавом, спокойном лице Баженова, в этих небольших светлых глазах, испытующе-вопросительно смотревших на нее из-под нависших бровей.
Люда гордилась тем, что ей удалось добиться своего и попасть в состав экспедиции. Видно, Баженов все же доверял ей. И вдруг это неожиданное обидное предложение. Неужели она способна покинуть экспедицию и сойти в родном Краснорецке, мимо которого вот-вот должен пройти их поезд?
— Погодите, Людмила Евгеньевна, — не повышая голоса, возразил Баженов. — Только не нужно обижаться. Вы, конечно, этого не знаете, но ведь у нас с Риммой Григорьевной был из-за вас большой спор. Вы Римму Григорьевну считаете своей сторонницей, а она уговаривала меня не вовлекать вас в это опасное дело.
— А вы были уверены, что я в конце концов сама откажусь? — сердито спросила Людмила.
— Вот вы опять обижаетесь… Неужели с вами еще нельзя говорить как со взрослым человеком? — мягко, но укоризненно сказал он. — Вы поймите, что если я дал разрешение включить вас в состав секретной экспедиции, то это очень много значит. Очень. Я знаю, что Римма, конечно, сделала все, чтобы вас запугать…
— Поглядите, поглядите скорее! — перебила его Люда. — Смотрите туда, вон туда. Видите? Правда, чудно? Верно?
Поезд медленно шел по закруглению железнодорожного пути, и внизу, под высокой насыпью, видно было большое урочище, словно громадная воронка, образовавшаяся в земле. При свете зари внизу, в этом урочище, виднелась речка, вытекающая из камышей, длинные ряды черных гряд в огороде и масса неподвижно застывших яблонь и груш. Здесь был еще маленький прудок, покрытый мелкой чешуйчатой рябью, слегка розоватой и повторяющей зарю; плотина со своим большим водяным колесом, сейчас неподвижным; большой, чисто подметенный двор. Все это повертывалось вместе с движением поезда. И вот под колесами вагона прогрохотал мостик, и сразу все исчезло, точно совсем никогда и не было этого маленького прелестного мирка. Кругом была та же пустыня, пахнущая весенними травами, и темная гористая гряда под небом, розовеющим на востоке.
— Ну вот, теперь до Краснорецка минут тридцать — сорок, — весело говорила Людмила. — Это моя примета, только моя. Я когда еще маленькая была и ездила гостить к тетке в Ростов, каждый раз, возвращаясь домой, все поджидала эту мельничку… Я никогда не бывала там, и кого из домашних наших ни расспрашивала, никто этой мельнички не замечал, и где она — никто не знает. Место это довольно глухое: здесь поезд пересекает отроги Недреманных гор, это изрядная глушь. И кто здесь живет? И как живет? Наверно, обычные люди и живут по-обычному. Но для меня это с детства стало — мое место, только мое. И вот в Питере я все мечтала, как буду возвращаться домой и проеду мимо этой мельницы… И я все мечтаю побывать здесь и даже жить здесь остаться. Там ведь и огород есть, и сад, и все это защищено, спрятано, точно в ладошке, — и она даже показала ему, как это спрятано, Аполлинарий Петрович увидел полураскрытую ладонь ее большой красивой руки, розовую, затененную…
Он медленно перевел взгляд с ее ладони на темнобровое, с большим белым лбом лицо, освещенное оживлением, и вздохнул… Сожаление, сочувствие — что должен был означать его взгляд? Она не поняла. А он, достав портсигар, неторопливо закурил.
— Значит, вы и встали так рано, чтобы поглядеть в эту… ладошку? — спросил он.
— Да.
— Ну вот, теперь, я думаю, вы меня лучше поймете, — сказал он, выпустив маленькое облачко дыма в окно, — а я благодаря этой мельничке лучше понял вас…
Он помолчал.
— Вы что, приняли окончательное решение быть врачом-эпидемиологом? — серьезно, пожалуй даже сурово спросил он.
— Окончательное? — переспросила она. — Нет. Решения, а тем более окончательного, я еще не принимала. Ведь что я? Перешла на второй курс. Не рано ли мне решать?
— Это хорошо, что вы выбираете, приглядываетесь… Так почему же и мне нельзя приглядываться к вам и предоставить вам все возможности для свободного принятия решения? Ведь вы же сказали, что вам хочется всю жизнь прожить в такой вот ладошке. Да вы не оправдывайтесь, не сердитесь, я в таком желании ничего постыдного не вижу. Ведь если вы изберете, скажем, своей специальностью терапию, детские болезни, — так почему же? Вы со всей честностью и чистой медицинской совестью сможете, неся всю жизнь большой, серьезный и подчас опасный труд, прожить в большом или маленьком городе, в деревне, наконец в такой вот ладошке. Разведете свой сад, народите детей… А врач-эпидемиолог — нет, тут в ладошке не проживешь.
— Но, Аполлинарий Петрович, ведь у вас с Риммой Григорьевной двое детей.
Он покачал головой.
— Не хотите вы все-таки меня понять! Да, у нас с Риммой Григорьевной двое детей, которые оставлены сейчас с глупой гувернанткой… Ведь мы, эпидемиологи, живем как пожарная команда: «дон-дон-дон» — и мы мчимся в Монголию, в Туркестан или, как сейчас, на Апшерон. Помните наш разговор незадолго до отъезда насчет того, что наши правила — это военный устав, требующий строжайшего и педантичного исполнения? Мы ведем войну, неустанную войну против такого врага, перед которым сказочные драконы, пожирающие юношей и девушек, — это так, невинные мотыльки… И разве вы не замечаете, что Римма Григорьевна все время плачет?
— Скучает по детям?
— Ну, это было бы просто. Нет, тут дело сложнее. Она и меня оставить не хочет, и боится их оставить круглыми сиротами. Не знаю, рассказывала ли она вам, но ведь противочумная экспедиция Даниила Кирилловича в Монголию года три тому назад, где им было сделало известное вам замечательное открытие, ведь эта экспедиция оставила там на месте более десятка могил врачей-эпидемиологов.
— Мой отец — военный врач! — тихо сказала Люда, и столько гордости слышно было в ее голосе, что Баженов покачал головой и переменил тему разговора: обратил внимание Люды на то, что жаркая погода еще не установилась даже здесь, на Северном Кавказе.
Они говорили тихо. Но в двери одного из купе была оставлена щелка, и Али Каджар, сквозь сон узнав голос Люды, поднял голову, прислушался и осторожно спустился с верхнего спального места. Он бесшумно приводил в порядок свой костюм, в котором спал, причесывался и душился… Терпкий запах духов разбудил Мадата Сеидова, спавшего внизу, он чихнул и поднял свою большую, гладко выбритую бугроватую голову.
— Голос жаворонка на заре? — спросил он по-азербайджански, насмешливо глядя на товарища.
— Мы ведь обещали Коле проводить Людмилу Евгеньевну, — ответил Каджар по-русски. — К тому же должен тебе признаться, что я вчера уговаривал Людмилу Евгеньевну ехать с нами в Баку, где она не бывала, и, знаешь, она очень заинтересовалась.
— Ты обещал сводить ее на Девичью башню и в храм огнепоклонников?
— Да.
— И, конечно, сообщил, что ты внук и наследник самого Тагиева?
— Думаю, что для Людмилы Евгеньевны это безразлично, — раздельно ответил Али-Гусейн. Он уже взялся за ручку двери.
— Ты все-таки не забудь намекнуть ей насчет тагиевских миллионов, — успел сказать ему вдогонку Мадат, но Али-Гусейн уже вышел.
Мадат опустил голову на подушку и хотел заснуть. Но в купе сквозь шторы пробивался красноватый свет восхода; приглушенные голоса из коридора и в особенности тихое, но очень веселое похохатыванье Люды не давали ему заснуть. Он выругался по-персидски, применив ту орнаментальную брань, которой в совершенстве овладел в бакинских банях и опиекурильнях, оделся и тоже вышел в коридор, где у окна стояла Люда и рядом с ней Али-Гусейн. Баженов ушел к себе в купе.
Да, если сходить в Краснорецке, то было самое время. Знаменитая Краснорецкая гора, на которой самим Суворовым на страх кочевым ордам была заложена Краснорецкая крепость, сейчас видна была вся, сверху донизу, — угловатые очертания церквей, крыш и труб придавали ей причудливый вид… Огней почти не было видно, но кое-где при свете восходящего солнца вдруг сверкало окно, погасало, и вновь сверкало другое, в другом конце города. И пахло уже по-родному, по-краснорецки — откуда-то снизу — кувшинками, лилиями и одновременно коксом и железнодорожным дымом. Только на станции Краснорецк так пахло: около самых стен железнодорожного депо был зацветший прудок.
И Люда вдруг на языке ощутила вкус краснорецкой черешни, кисловатый и свежий — такой она бывает в свои первые дни… Поезд уже грохотал на переплетающихся, скрещивающихся, расходящихся путях.
— Где ваши чемоданы, Людмила Евгеньевна? — услышала она приторно-вежливый голос Мадата Сеидова над своим ухом.
И подумать, что стоит только наспех запихнуть вещи в чемоданы, защелкнуть замки, выскочить на перрон, выйти на станционный, замощенный круглым булыжником двор — и тут же подкатит извозчик, нахлестывая сонную лошаденку. «Ребровая улица, дом доктора Гедеминова».
Быстро взглянув на любезно предлагавшего свои услуги Мадата и ничего ему не ответив, Людмила всматривалась, старалась разглядеть на длинном черном горбу горы родительский дом. Она даже точно могла указать место, где он находится, она угадывала очертания сада, но дома не могла разглядеть… Сейчас, конечно, в доме темно и все спят, но когда она добралась бы на медленном извозчике, дворник уже мел бы двор и на кухне, построенной отдельно, стучали ножи…
— Мы не смеем верить нашему счастью, Людмила Евгеньевна. Неужели вы, смелая, как настоящая русская девушка, решили по-прежнему освещать лучами вашей красоты наш скучный путь в Баку? — спросил Мадат Сеидов, и в цветистой многословной риторике его вопроса слышалось неподдельное удивление.
Это же почти доходящее до растерянности выражение было и на неподвижном, нежном, как у девочки, лице Каджара. Его небольшой рот под черными франтоватыми усиками был раскрыт, брови удивленно подняты, красивые глаза глядели жадно и преданно.
Люде стало смешно. Но Мадат Сеидов продолжал глядеть на нее изумленно-вопросительно. И она сказала:
— Что ж, признаюсь вам, Мадат, ваш друг Али заинтересовал меня своими рассказами о Баку. Я сговорилась, что остановлюсь в гостинице вместе с Баженовыми. Ну, а вы, Али, вы будете моим чичероне.
— Конечно, конечно, у меня есть свой выезд, — залепетал Али-Гусейн. — У деда автомобиль можно взять…
Поезд уже стоял на станции Краснорецк. Старые каменные плиты перрона были влажны — видно, прошел дождь. Над белым зданием вокзала высились травянистые горки. Все было знакомое: станционный колокол, медлительный, плывущий мимо вагонов вокзальный жандарм и торопливый помощник начальника станции в красной шапке и с жезлом в руке. Он спешил передать «жезл» машинисту, — и сразу же, как передаст, поезд тронется и Краснорецк исчезнет. А она… Нет, она не сойдет с поезда. Никто не знает — ни отец, ни мать — о том, что она мимо них едет сейчас «на чуму». Как страшно и гордо звучит. Нет, не только звучит, а действительно и страшно, и гордо…
Люда, высунувшись в окно почти до пояса, оглядывала пустой перрон с фонарями, отражения которых бессонно посверкивали в заполненных водою впадинах и выбоинах каменных плит, и не слушала, что ей говорили спутники. Нет, никого знакомого не видно, только молоточки постукивают по колесам, все приближаясь.
Вдруг она увидела, что из станционного садика через ограду быстро перескочили, помогая друг другу управляться с какими-то тяжелыми тюками, две фигуры. Откуда-то сбоку к ним подошел третий. Те двое были одеты по-горски, в бешметах, третий — железнодорожник. В его худощавой фигуре Люда узнала того молодого рабочего, который прошлой осенью приходил к Асаду, — и они еще говорили о Константине. Как и тогда, суровой поэзией борьбы, подвига пахнуло сейчас на нее. Людмила подумала о Константине. «Что бы сказал он о моей поездке? Конечно, он понял бы меня и одобрил». И она вдруг представила себе Константина с такой явственностью, какая бывает при оборванном сне, когда сновидения еще вторгаются в мир. Она точно почувствовала на себе вопросительно-робкий и вместе с тем смелый взгляд Константина и в то же время продолжала следить за тем, как трое людей хлопотливо и дружно, словно муравьи, волокут эти свои тюки вперед, к паровозу, куда ушел дежурный по станции и откуда медлительно возвращался жандарм. Но жандарм шел возле самых вагонов, а те трое… Людмила взглянула в их сторону и сначала совсем не обнаружила их, но потом, вглядевшись, увидела: они быстро продвигались возле самой ограды станционного сада в густой тени деревьев все туда же, все вперед…
Ударил второй звонок.
«Им, наверно, нужно сдать груз в багажный вагон», — думала Люда, высунувшись из окна. Повернувшись в сторону паровоза, она следила за тремя фигурами, которые в тени деревьев продолжали все вперед волочить тюки… «Но разве они не понимают, что сейчас будет третий звонок и они все равно не успеют, — сели бы в первый попавшийся вагон. Почему они не садятся? Или проводник не пускает?» Что-то было в торопливой суете этих трех фигур такое, отчего им хотелось сочувствовать. Она уже не видела их, но в момент, когда ударил третий звонок, ей показалось, что они перебежали к паровозу…
Поезд медленно, осторожно тронулся. Люда подождала, пока не промелькнул перрон, пустые ларьки и лотки базара, пока не кончился станционный садик. Мелькнул издали фонарь знакомого постоялого двора… А трех фигур не видно. Значит, они сели.
Люде захотелось спать, и, как ни уговаривали ее студенты, она направилась к своему купе.
Когда Люда ушла, наступило молчание. Потом Али-Гусейн провел рукой по своим темным густым волосам, взглянул на Мадата, встретил его вопросительный исподлобья взгляд и засмеялся простодушно и победительно.
— Верблюда нагрузили, верблюд рад: «Мне аллах третий горб послал», — сказал Мадат. — Пойдем в ресторан.
Али, смеясь, взял его под руку. По шаткому мостику тамбура перешли они в вагон-ресторан, где, кроме них, никого не было в этот ранний час. Солнце скрыто было тучами, скопившимися на востоке, скатерти и салфетки казались голубыми.
— Что же ты, повезешь свою «матушку», — презрительной интонацией выделяя это русское слово, которым обозначалась русская женщина, — прямо к деду, домой? — спросил Мадат. — То-то он обрадуется!
— Если бы Людмила Евгеньевна хотела оказать честь нашему дому! — мечтательно сказал Али, откидываясь на спинку стула.
— А с чего другого проехала она мимо родного дома и отправилась в Баку? Нет, она видит, что перед ней плохой мусульманин, которого ничего не стоит обратить в христианство, — говорил Мадат не то шутливо, не то серьезно, во всяком случае с явным оттенком злости. — Видно, дед твой Тагиев, даром что простой амбал [3], не напрасно усыпан звездами и крестами и даже удостоен генеральского чина.
— А что в этом плохого? — удивленно сказал Али. — Можно подумать, что ты не в Петербурге учишься, а в Кербеле. Или ты сам не подданный русского царя?
Мадат сузил глаза и ничего не ответил — в этот момент заспанный официант принес им маленькие чашечки с турецким кофе, который они заказали.
— Насчет Кербеле напрасно намекаешь, — сердито сказал Мадат, когда официант отошел от столика. — Шиитские святоши меня не привлекают, и персидская кровь, как у тебя, не течет в моих жилах. Я азери.
— А я? — спросил Али обиженно.
— У тебя отец иранский принц.
Али махнул рукой.
— Какой там принц! Бедный русский офицер из знатной фамилии — таких среди русского офицерства множество. Женился на богатой дочке миллионера Тагиева, а все равно, кроме царской службы, ничего не знает, мотается с полком по уездным городишкам. Да и что значит — русский, турок, иранец? Нет, слушай, как друг скажи: что это значит, что она поехала с нами в Баку? Ведь ты не думаешь, что она всерьез собирается за меня замуж выводить?
— А, испугался! — злорадно сказал Мадат. Он отхлебнул горячего кофе и сказал задумчиво: — Русская девушка… Что мы можем знать о ее душе? Чужая кровь — чужая душа. Ведь она социал-демократка.
— Ну что ты!
— Уверяю тебя. Я это понял по тому, как она рассердилась, когда ты пошутил, что азербайджанские крестьяне во время голодовки могли бы питаться трюфелями, которые у нас растут повсюду.
— Неужели рассердилась? Но ведь она смеялась.
— Над твоей глупостью. Она тебя за дурака считает.
— Почему же она тогда поехала?
И снова Мадат пожал плечами.
— Посмотреть Баку, а?
Оба они чувствовали, что в решении Люды есть что-то им непонятное. И потому, когда спустя несколько часов Люда, розовая и свежая после сна, вышла из своего купе, они снова стали осторожно выспрашивать, нет ли у нее знакомых или родных в. Баку. И она еще раз повторила, что остановится в гостинице вместе с Баженовыми. Али никак не мог разговориться с ней, сразу сбивался, начинал запинаться. Мадат же много и охотно рассказывал о Баку и Азербайджане и особенно интересно — об азербайджанских коврах. Дома у его отца было замечательное собрание ковров, и Мадату очень хотелось показать их Людмиле. Развеселившись, Мадат даже спел с дрожью и переливами в голосе несколько любовных азербайджанских песен. Часто упоминал он и о Лондоне, где провел прошлое лето и куда отвез партию ковров, купленных им в азербайджанских деревнях и с выгодой проданных, — юношеское фанфаронство слышно было в его голосе.
Так прошел день. Весело обедали в вагоне-ресторане. Люда совсем забыла о тех, что тащили тюки по перрону Краснорецка. Она забыла бы о них навсегда. Но вдруг среди ночи поезд резко затормозил. Испуганно откинув штору купе, Люда снова увидела знакомые ей тюки: их волокли и перекатывали по земле те же двое в кавказской одежде, третьего, в котором она прошлый раз признала Васю, теперь не было. Поезд уже тронулся. Вокруг была ночь и степь, освещенная голубоватым светом высокой луны. И при свете ее Людмила видела, как двое людей изо всех сил волокут, оттаскивают подальше от дороги, в степь, в пустыню, тяжелую кладь. С какой-то особенной бережливостью ворочали они эти неудобные, угловатые тюки. Ей вспомнилось, как они с братом в детстве разрушили муравейник, и тогда муравьи вот так же, помогая друг другу, тащили свои неповоротливые личинки…
2
Машинист остановил поезд среди степи только для того, чтобы дать возможность Наурузу и Александру (люди с тюками — это были они) соскочить на землю. Как только они соскочили, поезд тронулся. Главный кондуктор, не зная, почему поезд остановился, ругал машиниста за непредусмотренную остановку, машинист признавал свою вину: он задремал, и ему почудилось, что паровоз подходит к закрытому семафору. И он обещал по приезде в Баку сводить «главного» в буфет.
Еще в Дербенте «главного» предупредили, что на бакинском вокзале пассажиры задерживаются с целью проверки паспортов. Главный кондуктор поделился этой важной новостью с машинистом, — он не знал, конечно, что машинист дал обещание товарищам из Краснорецкого партийного комитета довезти Александра и Науруза с их тюками до Баку. Потому-то машинист, не доезжая до Баку, сделал эту краткую, не более минуты, остановку и дал возможность обоим друзьям благополучно сойти с поезда.
Науруз и Александр все дальше и дальше оттаскивали свои тюки от рельсов, поблескивавших под луной. Она то скрывалась за быстро летящими облаками, то вновь появлялась, и при свете ее становилась видна поросшая чахлой травой и прорезанная рельсами пустыня и среди нее низкое странное строение, сложенное из белых камней. Теперь можно было даже заметить, что над этим строением возвышался низкий и тяжелый купол. «Усыпальница какого-то шейха», — подумал Александр.
Полусводчатая дверь была загромождена обвалившимися камнями, оттуда шел острый запах овечьей мочи. Затолкав свои тюки в глубь строения, Науруз и Александр взглянули друг на друга — у обоих лица были потные — и рассмеялись, это было непроизвольное выражение облегчения.
Они присели. Александр достал папиросы и предложил Наурузу; тот, поколебавшись, взял папиросу и закурил. Только теперь они ощутили, что ночь ветрена и прохладна, что ветер наносит одуряющий запах цветущего мака и что к нему подмешивается едкий запах — запах нефти. К нежному свету луны также подмешивался еще какой-то свет, яркий и голубой, откуда-то из-за темного купола святилища, за их спинами.
— Ну, что дальше делать будем? — спросил Науруз.
— В Баку нужно попасть, — ответил Александр. — Николай (так звали машиниста) говорил, двадцать верст. Сотни верст одолели — что ж, двадцати не одолеем?
Науруз помолчал немного.
— Я тебе рассказывал, земляк есть у меня в Баку на промыслах, Алым, — сказал он. — Я в прошлом году у него был. Пойду найду его, а ты здесь останешься, будешь ждать. Что ты думаешь? — спросил он.
— Я согласен, — ответил Александр.
Науруз встал.
— Ты только скорей давай, — неожиданно по-детски попросил Александр.
Науруз, нахмурившись, кивнул головой. Сколько пережито, переговорено, спали рядом, пили из одной кружки… Братья? Нет, ближе, чем братья, — друзья, товарищи. Они пожали друг другу руки, помолчали. Больше двух месяцев пробыли вместе — и вот Александр остался один. Ночь сразу же словно заговорила с ним на незнакомом языке.
Александр был сыном Грузии и настолько свыкся с ее щедрой природой, что она даже была докучна ему, как нежная мать — сыну. Только здесь впервые почувствовал он, как связан с ней, как нужна она ему. Природе Грузии всегда присуща какая-то теплота, ласковость, влажность, а здесь все было не так. Весна, но для весны слишком холодно и сухо, и хотя пахло цветами, но трава вокруг не шумела, а шуршала, как сухая. И потом — что это за странный свет? Александр вышел из-под тени строения и застыл, испуганный. Вдали, на самом краю земли и неба, колебался ярко-голубой, ровно светящий столб. Можно было даже разглядеть, откуда он исходил, — там была цепь овальных гор, замыкавшая горизонт с запада. Вершина одной из этих гор была точно срезана, и светящийся столб исходил из нее. При свете видны были потоки грязи, медленно обтекающие бока горы, блещущие и шевелящиеся в пламени. «Грязевой вулкан?» — подумал Александр. Он прислушался, и сквозь сухое шуршание трав ему показалось, что он слышит далекий гул…
Долго стоял он так в смятении и грусти. Он и сам не мог дать себе отчета, сколько простоял… Вдруг он услышал лай псов, блеяние овец и поскорей вернулся к своему месту в синей тени святилища.
Овчарки, свирепые белые псы, набежали на Александра. Видя, что он спокойно сидит, они, окружив его, стали лаять. Щелкнул кнут, псы разбежались. Строгий голос спросил по-азербайджански:
— Кто такой?
Александр понял вопрос, но ответить на языке спрашивающего не смог и ответил по-грузински, что заблудился, сам чувствуя неубедительность своего ответа.
— Грузин? — удивленно спросил пастух.
Это был невысокого роста старик с седой подстриженной бородой и в белой чалме. Морщины на его лице выражали насмешливость, нежность и печаль.
— Грузин… Я много жил в Грузии и только добро видел от грузин, — сказал старик и, жестом, исполненным важности, показывая на овец, пояснил: — К полуночи мы каждый день приходим сюда, чтобы ночевать здесь, — потому ты мой гость. И если рассудить, то самый знатный хан может угостить только тем, что выращивает пастух и земледелец. Ту половину ханского стола, которую он получает от пастуха, я могу тебе предложить, и ты будешь доволен угощением, если ты сам не сын хана, или эмира, или эристава.
Так говорил он, расстилая чистый платок на земле и раскладывая овечий сыр, плоские лепешки лаваша… Потом сдвинул камни у основания мавзолея и достал откуда-то из глубины кувшин. Когда он стал лить из него в деревянную чашку, то молоко текло неровно и порывисто — сливки сгустились в нем целыми кусками. Старик не переставал говорить при этом то по-грузински, то, забываясь, переходил на азербайджанский, но Александр понимал общий смысл его речи. Он с жадностью ел, отрываясь от еды только лишь, чтобы поблагодарить старика, а тот щурил свои длинные глаза, гладил бороду и снова начинал говорить.
Старик не только любил, но и умел поговорить. Александру, затосковавшему среди чужой природы, его речь была очень приятна — появился посредник между этой природой и им. Старик между тем осторожно и почти незаметно разглядывал Александра, выспрашивал его и, определив, что он, пожалуй, принадлежит к людям образованным, стал соответственно держаться с ним. Он завел речь о превратностях судьбы, нараспев прочел персидские стихи. Как бы между прочим, он сообщил, что сам является отпрыском Амирхановых, его братья Файзи и Акбар были в числе знатных людей Азербайджана.
— Но богатство и добродетель ходят, как известно, по разным дорогам, — сказал он ей вздохом. — Хотя при жизни отца меня воспитывали наравне с братьями, но я рожден от наложницы, а они от дочерей бека… Когда отец умер, они воспользовались русским законом и оставили меня без доли в наследстве, потому что завещания не было. И я стал нищий… Тогда-то я в поисках утешения и совершил хадж в Кербеле. Но, вернувшись, увидел, что братья обездолили не только меня, но и сестру нашу Меликнису они тоже оставили без наследства, хотя она им единственная сестра и такая же законная наследница, как они. Меликниса в молодости была красавица, и они насильно отдали ее замуж за богатого старика, получив изрядный калым. А старик выгнал ее, так как она не любила его…
На этом превратности Умара (так звали старика) и Меликнисы не кончились. У Амирхановых арендовали участок земли и начали добывать там нефть некие Сеидовы — худородные крестьяне, которые от большой нужды пришли из деревни. Меликниса вышла за старшего Сеидова, Сулеймана.
Тогда Сеидовы завели суд с братьями Амирхановыми, требуя ее доли в наследстве.
Но тут на место судьи воссел сам аллах, наслав на Баку холеру. Оба брата Амирхановы и муж Меликнисы Сулейман Сеидов умерли почти в один день. Все добро Амирхановых по русскому закону должно бы перейти Меликнисе. Но в доме Амирхановых поселился младший Сеидов, Шамси, со своей семьей, а горемычная Меликниса, оставшаяся после мужа бездетной, выбрала себе нижний, темный этаж, потому что от обильных слез она при ярком свете стала плохо видеть. Знахарка сказала ей, что вылечить глаза можно, но для этого нужно приготовить мазь из растертых в порошок жемчужин. Для покупки жемчуга нужны были большие деньги. Меликниса обратилась к своему деверю Шамси Сеидову, но тот, как это соответствует натуре человека, не только отказал, но еще посмеялся над ней. Нужно правду сказать, что все эти превратности, судьбы несколько затемнили рассудок сестры.
В то время и вернулся я после своего хаджа. Когда сестра мне пожаловалась, я пошел к русскому аблокату просить защиты от самоуправства Сеидовых. Составили жалобу. Но на суде Шамси на коране поклялся, что еще до того, как Меликниса вышла замуж за Сулеймана Сеидова, Амирхановы продали Сеидовым землю, «на которой я сейчас стою, клянусь святой книгой, она моя!» Русский судья был в замешательстве: клятва страшная! Да и сам я напугался, зная, что Сеидовы правоверные мусульмане, — как же он, Шамси, не боится приносить ложную клятву?.. И аллах послал мне озарение. «Пусть он снимет обувь!» — закричал я. И тут Шамси стал всячески меня ругать, попрекая тем, что я бродяга и нищий. Но я требовал своего, и аблокат, хотя и русский, но родившийся и выросший в Баку, поддержал меня. Пришлось господину Шамси Сеидову разуться; оказалось, что в башмаки его была насыпана земля, а землю эту привез он со своей родины, из Геокчая, и насыпал ее в башмаки, чтобы обмануть и людей и бога. Тут наша взяла верх, и Шамси помирился с Меликнисой. Сейчас платит он ей из своих доходов каждую неделю четыреста рублей. Меликниса получает все чистым золотом. Жемчугу мы купили за все время не меньше чем на тысячу рублей. Знахарка уносит и уносит жемчуг, но глаза у сестры пока не поправляются, да и неизвестно — есть ли в том порошке, который она приносит сестре и натирает ей глаза, тертый жемчуг? И к чему знахарке растирать жемчужины в порошок, когда она может их с выгодой для себя продать? Но это не мое дело, а дело сестры. Исполняя поручение Меликнисы, я купил здесь домик и развел овец. На лето Меликниса приезжает сюда и живет здесь, а зимой я вожу ей овечий сыр. Она очень любит овечий сыр, но брезгает покупным, а ест только тот, что сделан моими руками… Да, мы уже старики, но живем преданно, любя друг друга, как это положено брату и сестре, — хотя я и незаконный сын своего отца, а она законная… Казалось бы, так спокойно и могли мы дожить наш век. Но нет, жизнь есть дорога превратностей, — снова аллах воссел на место судьи и перст свой направил на наш нечестивый город: в Баку началась чума…
— Как то есть чума? — испуганно переспросил Александр.
— Чума, — со вздохом подтвердил старик. — Она напала на злосчастное селение Тюркенд, по ту сторону Баку, и душит там одну семью за другой. Целая армия русских лекарей, одевшись в белые одежды, как то подобает ведущим священную войну, выступила против чумы, но чем кончится эта война, кроме бога, никому не известно! Ну, а богачи уже бегут из города, и первым, конечно, побежал малодушный Шамси Сеидов и увез всю свою семью, только бедную мою сестрицу бросил… Испуганную и измученную, вчера привез я ее сюда…
Александр уже почти не слушал его. Чума в Баку! Он с испугом оглядывался кругом, и окружающая местность, сейчас освещенная пепельно-красным, печальным светом зари, вновь казалась ему чужой и враждебной. Науруз, Науруз — как хотелось бы сейчас Александру быть вместе с ним!..
3
Науруз шел, держа направление на тусклое зарево Баку. К запахам весенней полупустынной степи, сырых камней и цветущего мака, к солоноватому запаху моря все сильнее подмешивалась щекочущая ноздри нефтяная вонь. Солнце встало, и земля Апшерона заиграла красками, яркими и неживыми: среди желтого песка — ярь и киноварь, голубые и ядовито-зеленые пятна минеральных пород, жирно блестящие радуги на поверхности темных луж.
Наурузу нужно было пройти в промысловый район, где работал и жил его соотечественник Алым Мидов. Год назад Науруз побывал уже у Алыма. Он знал, что, приехав на вокзал в Баку, надо дойти до того места, где над окрестностью господствует гора — бугор Степана Разина называли ее. На этой горе будто бы некогда стояли шатры русского атамана, отдавшего свою жизнь за счастье бедных людей. С тех пор словно дух свободы поселился здесь: в ущельях и пещерах этой горы собирали свой сходки бакинские рабочие. Перед глазами Науруза высилась сейчас какая-то гора, и он подымался на нее, уверенный, что это и есть бугор Разина, но только с другой стороны. Он уверен был, что, достигнув вершины, увидит сверху широкую каменистую долину, угловатые очертания вышек повсюду, нефть, медленно текущую по деревянным желобам или недвижную, доверху заполняющую амбары — так называли в Баку эти громадные ямы. И всюду, среди нефти и вышек, копошатся люди… Но как же удивлен он был, когда, взойдя на гребень горы, увидел совсем другое. Казалось, что прямо из-под его ног, вниз ступенями уходили крыши домов, больших и маленьких. Узкие и длинные улицы разрезали каменное тело огромного города, охватившего своими широко распростертыми крыльями синий морской залив. На одном крыле видна была далекая Баиловская крепость, а другое все время как бы шевелилось — столько дыма клубилось над ним, там все грохотало, блестело, гудело. Клубы дыма поднимались не только над Белым городом. Дым стлался сбоку и откуда-то сзади, он клубами несся по небу. Порою он скрывал еще нежаркое, низкое солнце, и в мгновение все вдруг хмурилось и мрачнело, приобретало выражение грозной, внушительной силы.
— Баку, — прошептал Науруз.
Ему стало понятно, как он ошибся: чтобы попасть в Балаханы, надо было взять левее, много левее, и выйти на ту вон далекую возвышенность — она и есть, наверно, гора Степана Разина.
Но он не жалел, что попал сюда. Впервые смог он окинуть взглядом весь город, увидеть строгий и суровый, резко счерченный профиль его. При всей своей суровости и хмурости, город не казался Наурузу чужим. Невероятно, но своими подобно гигантской лестнице спускающимися вниз верхними улицами, проложенными над крышами домов, город показался ему схожим с горным аулом, но необычайно разросшимся, как во сне.
Науруз бывал в Баку. В прошлом году привез он из Ростова в Баку хурджин, набитый кусками кожи для подметок. Науруз знал, что в этих кусках кожи искусно скрыты присланные из-за границы письма — может быть, от самого Ленина. В Баку Науруз должен был в одном из промысловых районов разыскать Народный дом. При доме — библиотека, а при библиотеке — сторож, рыжий, лохматый Яша. Найдя этого Яшу и передав ему хурджин, Науруз уехал из Баку, сохранив в своей памяти и веселого Яшу, своего однолетка, и высокую, выше, чем обычно бывают женщины, библиотекаршу Лидию Николаевну. Он уехал в Тифлис, чтобы свидеться с Константином, и не нашел там его.
Казалось, проще всего было пойти именно по этому старому следу. Ведь он опять попал в Баку, только на этот раз у него тюки с литературой, — и почему бы, как и хурджин, не отнести их Яше и Лидии Николаевне? Но Науруза смущало то, что на этот раз явку в библиотеку ему никто не давал. Не зря и Константин в Тифлисе, и Вася Загоскин в Краснорецке, и Яша в Баку толковали ему об осторожности и точности при выполнении партийных поручений. Яша показывал ему шпиков, вертевшихся вокруг библиотеки и приходивших якобы для того, чтобы менять книги… Кто знает, что делается сейчас в той библиотеке?
Науруз решил, что сначала пойдет к своему веселореченскому земляку Алыму Мидову, который работал на промыслах Шамси Сеидова. У Науруза при себе ничего подозрительного не было. В чем можно заподозрить горца, который разыскивает в Баку своего соплеменника?
Когда Науруз добрался до места, где жил и работал его земляк, тени вышек и приземистых промысловых строений на желто-серой бесплодной земле Балаханской долины уже сильно укоротились. Все время оглядываясь на массивные очертания горы Разина и сообразуя с нею поиски жилища своего земляка, Науруз шел среди каменных низеньких изгородей, мимо строений без окон или с отверстиями настолько маленькими, что их нельзя было назвать окнами.
В Баташеве, где вырос Науруз, люди жили бедно. Но там был свой уклад, свой обычай и своя пристойность.
Так же, как прошлый раз, местность, где жил Алым, поразила его своим унылым, окаянным видом. Развалины каких-то старых строений, шалаши, сложенные из боковин и днищ ящиков, испещренных крупными черными буквами. В каждой щели ютились целые семьи… Некоторые жилища были вкопаны в землю и покрыты старым железом, оно звенело и дребезжало при ветре, поднимавшем волны зловонья из открытых помойных ям. Но все покрывал тяжелый запах нефти, от которого с непривычки болела голова. Мазут тускло поблескивал в почерневших ведрах, в покривившихся жестянках, в темных лужах под солнцем. Повсюду вспыхивали тусклые костерчики: женщины, простоволосые, растрепанные, разжигали мазут в кирпичных печурках и под таганками, а то и просто на земле. Они переругивались и перекликались между собой. Все предметы домашнего обихода, попадавшиеся на глаза Наурузу, были разбиты, надтреснуты или скривлены. Из черных каменных щелей, из подвалов, казалось, из самой земли, выползали дети, кутающиеся в лохмотья, — утро было свежее, хотя ярко светило солнце…
Науруз осторожно прошел мимо спящего сторожа на огромный промысловый двор Сеидовых, весь чернеющий вышками, похожими на дощатые дома, поставленные поверх серых заборов. Здесь-то и жил его земляк Алым Мидов.
Науруз добрался до жилища Алыма, когда на разные голоса, вблизи, вдалеке, хрипло, басовито, визгливо и пронзительно завыли гудки. Всюду, появились фигуры мужчин в темных одеждах. Они шли по узким переулкам между каменными стенами, настолько невысокими, что люди порою перешагивали их. Они прощались с женами и детьми, здоровались и окликали друг друга.
Науруз встретился со своим земляком у самого порога его жилища. Алым с выражением силы и важности, придававшим суровую привлекательность его молодому желто-смуглому и продолговатому лицу, своими темными блестящими глазами пристально посмотрел на Науруза, видимо сначала не узнав его. Потом улыбнулся.
— А, сын хакима [4] будь гостем моим!
В прошлую встречу они о многом откровенно говорили, но Науруз все же не счел тогда нужным рассказать Алыму, какое дело привело его в Баку и с какими людьми он здесь встречался. Этой сдержанностью он уже тогда понравился Алыму, — ведь и Алым тоже не рассказал Наурузу о том, о чем не имел права говорить. Оценив Науруза как человека верного, он сейчас со вниманием выслушал историю о тюках, присланных из-за моря и потом совершивших путешествие на ослах через Кавказ и по железной дороге. Выслушал и одобрительно кивнул головой.
— Ты запал мне в сердце, Науруз, и мы с моей Гоярчин не раз вспоминали тебя и гадали, где ты. Вижу я, что свои молодые силы отдаешь ты великому делу, и хвалю тебя за это. Ты не то что Гурдыев Жамбот, который был здесь у меня прошлым летом. Хотя он сказал, что друг тебе, и много болтал и о тебе и близких тебе людях, я не верил ему. Он пел о своей любви к замужней женщине. Нескромно пел, я даже услал из дому нашу Айсе, потому что девочке слушать такие песни не годится. Он хвастал, будто Черное море кругом обежал, а сейчас, мол, собирается плыть через Хазар по Волге в Москву… Что ж, плыви, в море всякий сор уплывает.
— Значит, он так и уплыл?
— Уплыл.
— Он хороший человек, — сказал Науруз.
Алым отрицательно покачал головой.
— Хороший человек не мотается без толку по земле, только для того, чтобы таращить глаза на чудеса и собирать отовсюду новости… Не может быть дружбы у вас. Ты вот второй раз ко мне приходишь — и опять с большим делом. Был еще тут года три, а может, и четыре назад сын муфтия Касиева. Ласковый господин и образованный. А стал я его спрашивать, за большевиков он или за меньшевиков, так он такое начал молоть, что, видно, или он обмануть меня хотел, или мозги у него куриные… Спорить я с ним, конечно, не стал — зачем мне показывать, кто я такой? Но когда он спросил, не встречал ли я Кобу, я совсем дураком притворился. И будто первый раз о Кобе слышу… А ты знаешь, кто это Коба? — спросил он Науруза.
— Знаю, — ответил Науруз.
И Алым, взяв Науруза за руку, сказал:
— Я сейчас налажу твое дело… А ты голоден, устал… Ты дождешься меня в моем доме.
Он повел Науруза в свое жилище. Возле открытой двери, которая вела в подвал, жена Алыма — Гоярчин разводила огонь. Она ласково кивнула Наурузу из-под платка, который должен был скрывать, но не скрывал ее лица. Большеглазые дети поглядели вопросительно. Науруз сунул руку в карман и протянул им два куска сахару, заранее приготовленные. Дети шепотом поблагодарили его. Алым заботливо положил один на другой все тощие, набитые мочалом матрацы, взбил и гостеприимно показал на них Наурузу.
— Ты мой гость, — сказал он с гордым довольством, — мой дом — твой дом… Здесь ты отдохнешь, и моя Гоярчин тебя накормит.
Он ушел, а Науруз с наслаждением вытянулся… Он, конечно, сразу заснул бы, но есть ему хотелось, пожалуй, так же, как и спать… Он вдыхал запахи пищи, незнакомой ему: солоноватой, рыбной, затхлой пищи. Но это была горячая еда, и он решил дождаться ее.
В подвале было полутемно, он глядел в открытую дверь и на пороге видел Гоярчин. Науруз жалел ее: с прошлого года она еще сильнее осунулась, побледнела. И все же при взгляде на ее тонкое лицо и маленький рот, на черные длинные брови и узко прорезанные опущенные глаза думалось, что нет ничего мудреного в том, что Алым из-за нее навсегда остался в Баку.
Думая о ней и жался ее, Науруз вспомнил свою Нафисат и встревожился за нее. И вот ему уже казалось, что не Гоярчин там сидит, в ярком солнечном четырехугольнике двери, а Нафисат, она варит ему пищу, котел пронзительно визжит и воет, и в этом вое скрыта какая-то опасность.
4
В это время вся широкая долина, вмещавшая и промыслы Сеидова, заполнилась скрежетом и воем железа, глухими подземными ударами. Работы начались всюду, люди взялись за свое повседневное дело. Медлительно поворачиваясь, заскрипели вороты огромных колодцев, верблюды, быки и кони двинулись в свой бесконечный путь: все кругом и вокруг одного места. Отовсюду слышен был разноголосый стон людей:
— А ну, тяни, потяни! Наддай, поддай!.. Эй, ухнем! Да ухнем!
Стон этот заглушил все и поднимался к утреннему, уже задымленному небу.
И всюду текла нефть, по деревянным желобам, широким и узким, а то и просто по канавам, продолбленным в каменистом грунте. Она отстаивалась в огромных ямах и оттуда по желобам самотеком, а то и подъемной силой насосов через трубы или попросту бочками и обозами уходила в железнодорожные цистерны, через нефтепровод Баку — Батум в трюмы морских пароходов, превращаясь в богатство для богатых и в проклятие для бедных.
Алым подошел к вышке, где он работал мотористом, и усмехнулся тому, как его буровой мастер, коренастый, с густыми, будто щеточки, черными бровями, молодой еще Али-Акбер беспокойно оглядывается, стоя на почерневшем от нефти помосте. Он повертывал во все стороны свою круглую бритую голову в желтой тюбетейке и вдруг весь просиял, увидев Алыма. Поздоровавшись с ним, Алым ушел в ту маленькую пристройку у самой вышки, где находился мотор. У Алыма всегда было все в исправности, и мотор тут же загудел.
Алым сделал знак Али-Акберу. Через минуту Али-Акбер вышел, лицо его, с круглыми щеками, выражало готовность и беспокойство…
— Ну, как насчет забастовки порешили? — шепотом спросил он.
— Это от тебя зависит, — ответил Алым.
— От меня? — удивленно переспросил Али-Акбер. — Я в этом деле все равно что женщина: сижу на своей половине и слушаю, что мужчины решают.
Алым покачал головой.
— Ты женщин обижаешь. Наши жены не хотят больше погребать детей в горькой земле Апшерона. Или ты не знаешь, что они толкуют о забастовке?
— Моя молчит, — ответил Али-Акбер не без самодовольства.
— Ты живешь лучше, чем мы.
Али-Акбер нахмурил свои густые брови-щеточки.
— Разве слышал ты от меня хоть слово возражения, Алым? Я всегда был и буду с товарищами. В партиях я не разбираюсь, да и нет у меня к этому интереса. Я лучше по нефтяному делу почитаю — для этого я научился читать по-русски. Но от людей я не отбиваюсь.
— Если бы ты был собака, а не человек, я бы с тобой но разговаривал, — ответил Алым. Он помолчал. — Так как же ты решил? — спросил он.
Али-Акбер развел руками, вздохнул и ничего не ответил.
— Подумай еще, — сказал Алым. — Ведь ты все равно будешь участвовать в забастовке, и если хозяева победят, они тебе этого так не спустят. Решай! И потом всю жизнь ты будешь с гордостью вспоминать о том, что совершил за один день!
— Что же я должен сделать? — спросил Али-Акбер.
И Алым стал еще раз разъяснять Али-Акберу то, о чем говорил ему уже не раз:
— Три человека должны от имени всех рабочих Баку войти в дом Совета союзов нефтепромышленников и вручить самому Гукасову, как представителю класса капиталистов, наши справедливые требования. Эта тройка должна состоять из русского, азербайджанца и армянина, а ты в этой тройке будешь представлять всех азербайджанцев и всех мусульман. Поверь мне, много нашлось бы наших азербайджанских товарищей, которые с гордостью и радостью согласились бы исполнить это дело. Но мы не всякого можем послать: нужен человек грамотный, знающий обхождение, потому что может зайти серьезный разговор. Мало вручить наши требования, нужно защитить их, а я слышал тебя и знаю: ты это можешь.
— Но я ведь человек беспартийный, — сказал Али-Акбер.
— Именно потому мы тебе и предлагаем совершить это дело. Только один из вас будет партийный, а двое беспартийных. Иначе наши враги могут сказать, что это партийные затеяли забастовку.
— Такого разговора не должно быть, — сказал Али-Акбер. — Эх, Алым, я даже во сне вижу, как мы войдем во дворец, где сидит главный паук Гукасов, я взгляну в его идольское лицо — и на тебе, возьми наши требования!
— Так согласен? — спросил Алым.
— Головой согласен, сердцем согласен, и живот, — и он ладонью хлопнул себя по животу, который начал, видимо, недавно округляться, — живот свое бурчит.
И он так смешно и жалобно сказал об этом, что Алым рассмеялся.
— Неужто доверился животу? — спросил Алым с усмешкой. — За голову твою обидно — она у тебя умная, за сердце твое — оно честное.
Али-Акбер ничего не ответил, выражение серьезности и даже торжественности выступило на круглом лице его. Алым понял, что может на него рассчитывать, и перевел разговор на другое.
— Случилось одно дело, Али-Акбер, надо бы мне сейчас уйти.
— Надолго? — озабоченно спросил Али-Акбер. — А если начальство о тебе спросит? О Шамси я не беспокоюсь: есть ли он здесь, нет ли его — это только мы знаем. А тебя могут позвать на другую вышку, ты среди мотористов самый толковый. А что, если без тебя этот новый станок закапризничает?
— Не может этого быть. Слышишь, как работает?
Они прислушались к гулким и равномерным звукам, издаваемым новым станком. Алым слушал, нахмурив брови, мечтательная улыбка появилась на губах Али-Акбера.
— У змея — мудрость, и у него — жало, — вздохнув, сказал Али-Акбер.
Алым кивнул головой.
Они говорили об изобретателе бурового станка Рамазанове.
Кто в Баку не знал, что Рашид Рамазанов пришел на промыслы бедняком и начал работать в нефтяной разведке простым рабочим? Но в охоте на нефть, как в охоте на дичь, нужно иметь чутье гончей собаки, говорил Рамазанов. Именно это чутье помогало ему в спекуляциях на нефтяных участках. Тогда-то он и заметил, что так называемые истощенные участки таковыми отнюдь не являются, — нужно только взяться как следует за их эксплуатацию. Нужно создать инструмент для более глубокого бурения, — этим-то и занялся втихомолку Рашид Рамазанов в своей маленькой слесарной мастерской.
Он уже тогда начал заблаговременно скупать нефтяные участки, прослывшие истощенными, — так был уверен в успехе бурового станка, который создавал. Участки скупал он за гроши, а зачем это ему нужно, стало понятно только после того, как Рамазанов запатентовал свою новую буровую машину и на пробу применил ее на своих «мертвых» участках, И мертвые ожили! Так Рашид Рамазанов за короткое время стал одним из самых богатых людей в Баку.
Теперь не приземистая мастерская, а целый огромный завод занят был выпуском «бурового станка Рамазанова». Вскоре превосходство его бурового станка вынуждены были признать даже кичливые европейские и американские нефтепромышленные фирмы. Азербайджанцы гордились Рамазановым — ведь свой человек, земляк, росток родной азербайджанской, огнем напоенной земли.
Шамси Сеидов — глава фирмы «Братья Сеидовы», несомненно самый невежественный из всех азербайджанцев-нефтепромышленников, — был упрямым противником бурового стайка Рамазанова. После того как руководство фирмой «Братья Сеидовы» в результате бегства Шамси перешло в руки сына его Мадата, Рамазанов добился своего и на выгоднейших для Сеидовых условиях поставил свой буровой станок на заброшенном из-за истощенности участке — и участок ожил. Таких заброшенных участков у Сеидовых было много. Рамазанов сам приезжал на промысловый двор Сеидовых и помогал устанавливать свой станок. Только сообразительные и толковые рабочие, такие, как Али-Акбер, Алым, были поставлены работать на этом станке. К ним не случайно присоединили также и хозяйского племянника Шамси.
Нельзя было не восхищаться сноровкой и ловкостью долговязого и длиннорукого Рамазанова, хотя оба они — и Али-Акбер и Алым — знали, что Рамазанов злейший враг бакинских рабочих.
С помощью своего главного кочи — зверя и преступника Ибрагима-ага — Рамазанов создал самую большую шайку наемных убийц, предназначенную для расправы над передовыми рабочими и для запугивания рабочей массы. И ни на одном предприятии Баку не было такой зверской эксплуатации и такого застращивания, как на машиностроительном заводе Рамазанова.
— Так я все-таки пойду, — сказал Алым. — Мне пора.
Али легонько толкнул Алыма в живот, что означало у него прилив хорошего настроения, и засмеялся, сразу во рту его обнаружился ряд белых, необычайно крепких, больших зубов.
— Иди, — сказал он Алыму весело. — Если кто из начальников ко мне зайдет, я скажу, что у тебя началась рвота с кровью и ты пошел в больницу. Я даже побрызгаю здесь карболкой. Начальство так боится чумы, что у любого отпадет охота спрашивать.
Алым кивнул головой и ушел.
У Али-Акбера голова хорошо варит, — очаг чумы не более чем в двадцати верстах от промыслов. Юный Шамси уже не рассчитывает увидеть живыми свою мать и сестер. Вот так и происходит с людьми. Приехал в Баку хозяйский племянник, перед дядей хвостом вилял, в глаза заглядывал, только и слышно было, как толковал среди рабочих: «дядя мусульманин», «мы мусульмане», «он нам родной по языку и по крови»… А как началась чума и дядя показал свою трусость и подлость, бросил в беде своего племянника, и семью его, и всех мусульман, тут человек и прозрел. Больше он уже не ослепнет. Конечно, Шамси еще таскает с собой потертый дедовский намазлык [5], молится на восходе и на закате, «омывает» ноги сухим песком и — чуть свободный час — хватается за сааз и стонет, тянет, перебивая всхлипами, бесконечные песни к возлюбленной, которой у него еще нет… А теперь сааз заброшен: понял юноша, что его горе — это общее горе.
Пройдет какой-нибудь год-два, и он сравняется с Али-Акбером, исконным бакинцем, который по праздникам надевает тройку, носит часы и читает по-русски книги и газеты.
Алым нашел дыру в заборе, отделявшем один промысел от другого, и скользнул в нее. Еще минут двадцать, стараясь держаться поодаль от вышек, он шел по неровной разбитой дороге — она вилась среди серых камней и отливающих радугой луж… Здесь, одна выше, другая ниже, стояло несколько приземистых закопченных вышек, возле них кое-где видны были люди. Не изменяя походки, Алым всматривался в каждого человека и вот наконец увидел того, кого искал. Возле вышки, более приземистой, чем та, на которой работал Алым, виден был мотор. Он то заводился и трещал, то вновь замолкал, и возле него, присев на корточки, возился невысокого роста человек в черной барашковой шапочке — видно, чинил его…
Свернув по тропке, которая шла в сторону вышки, Алым сделал несколько шагов и, сойдя с нее, присел на камень. Дождавшись, когда мотор смолк, он коротко свистнул три раза. Человек, возившийся возле мотора, оглянулся и, увидев Алыма, сделал ему жест рукой — не то махнул, не то погрозил.
Алым еще отошел в сторону — здесь было скрытое большими камнями углубление… Спустя несколько секунд человек, возившийся с мотором, стоял перед ним.
— Не вовремя пришел, Алым. Всегда лучше под вечер.
— С этим делом нельзя до вечера ждать, Кази-Мамед…
И Алым стал рассказывать.
Кази-Мамед, присев на камень, молча слушал, порою бережно трогая небольшой своей рукой черные красивые усы, точно поправляя их. Его худощавое, лишенное румянца, ровно смуглое лицо оттенялось черными бачками и черными бровями. Порой он вскидывал на Алыма темно-карие глаза, во взгляде его была и мечтательность, и доброта, и какая-то затаенная от всех печаль.
Он, не прерывая, выслушал Алыма и сказал:
— Я знаю об этом прошлогоднем восстании в Веселоречье. Мы бастовали в Баку, а в это время они бунтовали по ту сторону гор… Мне наши лезгины и аварцы рассказывали об этом. Хорошие, смелые люди ваши веселореченцы, но слишком просты душой: ждали от царя справедливости. Что же, теперь ничего хорошего ждать от царя не будут. Так это и есть их Науруз? Всякие чудеса рассказывали о его подвигах, а он не погнушался скромной долей ослиного погонщика, только бы исполнить поручение партии… Хороший революционер, настоящий большевик из него воспитается!
Так говорил Кази-Мамед, неторопливо, монотонно, словно сам с собой вслух. Как всегда, говор его казался Алыму красивым, книжным. Кази-Мамед знал много стихотворений и песен на азербайджанском языке, Алым же научился азербайджанскому языку у жены, у товарищей.
— Книги из-за границы, — задумчиво сказал Кази-Мамед. — Что ж, Алым, я упрекнул тебя, а теперь беру свой упрек обратно, правильно ты сделал, что нашел меня. Скоро обед, и мы сходим к Буниату. Что за Авез, которому посланы книги? Я такого не знаю. Осторожность в этом деле не помешает.
Алым согласился. Он рад был лишний раз свидеться с Буниатом.
Заревел гудок на обед, и Алым, оставив Кази-Мамеда на промысловом дворе, вмешавшись в толпу рабочих, вышел за ворота. Там старухи, девушки, замужние женщины, с лицами, прикрытыми черными платками, стояли у ворот, держа кто горшок с горячим варевом, кто лепешки, поджидали родных. Из ворот выходили рабочие и окликали своих, те отзывались. Люди, не имея возможности даже обмыть лица, наспех, торопливо обедали. И все же всюду видны были улыбки, слышался ласковый смех: люди радовались встрече со своими. Слышна была азербайджанская, армянская, грузинская, русская и даже персидская речь, и Алым невольно заслушался.
— Бог разъединил, капитал вместе собрал, — подойдя незаметно, сказал Кази-Мамед. Он успел снять рабочую одежду. Теперь на нем была черная со стоячим воротом куртка обычного городского покроя, но, туго перетянутая в поясе топким кавказским ремешком, она сидела на нем так щеголевато, как сидит одежда только на горце.
Они быстро шли по пыльной дороге, пыль клубами поднималась к небу и смешивалась со смрадным дымом, солнце вдруг теряло лучи и превращалось в красный круг.
— Мы научились теперь понимать друг друга, и никакие силы земные или небесные не разъединят нас, — говорил Кази-Мамед. — Любопытно, что это такое привезли твои друзья в том тюке, предназначенном какому-то нашему Авезу? Может быть, новое слово Ленина? А? Когда я пришел сюда с гор, русская речь была для меня непонятна, а теперь я могу все прочесть и перевести. Третьего дня был я в Каравансарае у амбалов, читал им «Правду» и переводил. Все поняли. И я скажу тебе: когда начнется забастовка, они не отстанут, потому что язык нужды, язык горя и гнева — один, общий у всех! В какой грязи, в какой нужде живут амбалы! Спят они вповалку, постели нет ни у одного, под ногами грязь хлюпает. Твой подвал — лучшая гостиница, если сравнить с этим клоповником… Переоделся я тоже амбалом, и пошли мы в Совет нефтепромышленников. Господин Гукасов, конечно, нас не принял, выслал управляющего своего Достокова. Я ему, будто сам амбал, рассказал о Каравансарае.
«Амбалы, — ответил нам Достоков, — Совета съездов не касаются, это городской управы касается». — «Чума, — говорю я, — очень-то разбирать не станет, что управа, а что Совет. Чума — она неграмотная, всех передушит». — «Ты уж очень грамотен, пожалуй даже слишком», — ответил мне Достоков.
— Ну, я скорее прочь, мне попадать им в лапы никак нельзя. Я-то грамотен! — со смешком, торжествующим и веселым, сказал Кази-Мамед и вынул из-под мышки аккуратно завернутую в бумагу книжечку. — «Русская грамматика», — раздельно прочитал он и покачал головой. — Хочу по-русски так научиться говорить, как будто меня мать по-русски баюкала. Но не легок русский язык! Корова — уменьшительное: коровушка, верно? А собака — уменьшительное как? Собакушка? Э, нет, нельзя собакушка, собачка или собаченька надо. Ваня — Ванечка, а Сережа — Сереженька… Спросил я у нашего Вани, а он смеется. «Можно, говорит, и собакушка и Сережечка». А ведь это нельзя, мое ухо слышит, не говорят так!
Они подошли к широкому и приземистому, старинной кладки зданию. Широкая дверь была настежь открыта, оттуда доносился визг и скрежет железа, гулкие наперебой удары молотков. Кази-Мамед кивнул Алыму и вошел в дверь, над ней была вывеска: «Желоночная мастерская А. Базарьян».
Напротив тянулся грязный забор, из-за которого доносился заводской гул и грохот. Алым перешел через шоссе и сел возле забора. Вдалеке из-за поворота показались буйволы в ярмах, они волочили за собой длинные трубы для нефтяных вышек. Трубы гудели и грохотали, густая пыль опять столбом поднялась над дорогой, скрыв все. Непривычному человеку все это показалось бы адом. Но Алым привык к Баку и знал в нем места куда более устрашающие, вроде того старого Каравансарая, куда ходил Кази-Мамед.
Что за человек Кази-Мамед! Нет у него ни жены, ни детей, вся жизнь без остатка отдана партийному делу! Подобно Алыму, пришел он с гор и сначала был на самой черной работе, а теперь уже ремонтный слесарь. Одолел русскую грамоту — и так может рассказать великое учение, что самый темный человек его поймет. А где он живет? Похоже, что нигде, — сегодня здесь, завтра там, — а всегда одет чисто, побрит, усы подстрижены и книжка в руках. Случается, что он приходит в дом к Алыму, и для каждого из домашних Алыма у него находится хорошее слово. Учтив и серьезен с Гоярчин, для детей непременно сладости припасены, веселую сказку им расскажет. Но не только к детям Алыма он такой. Азербайджанские, армянские или русские дети — для каждого ребенка у него ласковое слово на родном языке и для каждого сладости.
— Жениться вам нужно, Кази-Мамед, семью завести, хороший вы будете отец, — не утерпев, сказала раз Гоярчин.
— Зачем? — возразил он живо. — Все бедные детки несчастного города нашего — мои дети. А такие братья и сестры, как вы и Алым, есть у меня в каждом бедном доме.
— Все-таки, верно, скучаете по родному дому? — спросила Гоярчин.
Кази-Мамед покачал печально головой и ответил:
— Мой дом — между горами и небом. Горы и небо — откуда хлеба добыть? С детства лазаем мы, дагестанцы, по скалам, и по всей России разбрелись канатоходцы из Дагестана. Мы стали сильны и крепки, и есть у нас в Дагестане аул, из которого выходят борцы, которых показывают в цирках всего мира. Ну, а я пришел в Баку.
И он замолчал.
— А глаза у него печальные, — говорила потом Гоярчин Алыму. — Вы, горцы, скрытные, не то что мы, люди с равнины. Мы о горе своем поем, а вы молчите… Есть у брата Кази-Мамеда свое скрытое горе, оно, верно, и увело его навсегда с родины.
Что ж, может, женский острый глаз Гоярчин и проник в душу Кази-Мамеда, может, и права она.
Сидя сейчас на корточках возле каменной стены и дожидаясь Кази-Мамеда, задумался Алым о странной своей судьбе.
Алым был из бедной семьи, но бедность едва ли выгнала бы его из родных гор, если бы не пришла пора жениться. Он присмотрел себе невесту, узнал о калыме и отправился в Баку: говорили, что, проработав там год, можно прикопить денег. Но за год работы он убедился: чтобы собрать сумму, достаточную для выкупа невесты, нужно работать лет десять. В Баку Алым занят был на самой черной и опасной работе: копал нефтяные колодцы. Когда копаешь, снизу все время струится газ и отравляет дыхание, в любую секунду может кинуться вверх потревоженная нефть… Каждый день приносила обед своему отцу, старшему среди рабочих, сухолицему, ворчливому Ахмету, маленькая, неслышная, как мышь, девушка. Алыму удалось рассмотреть сквозь черное кружево ее нежное лицо. Статный черкес тоже поразил сердце девушки: какая-то у него была особенная, сдержанная и полная достоинства повадка.
Да и отец ее невольно способствовал тому, что дочь полюбила черкеса, — очень расхваливал он Алыма за смелость в работе. Тогда в яму глубиной не менее пятнадцати метров спускали рабочего, он черпал нефть ведрами, и ее тросами подымали наверх. Опасное дело! Но Алым не бросал этой работы и неплохо зарабатывал. У Ахмета было три дочери, и ни одна еще не выдана, а сын только один, да и тот младший, ждать от него помощи пришлось бы долго. На счастье, Гоярчин, понравившаяся Алыму, была старшая и достигла пятнадцати лет, пора было думать о женихе. «Конечно, в таком городе, как Баку, где столько достаточных людей, красавица дочь — это благодать, которую аллах посылает правоверному», — так толковал мулла, предлагая помочь Ахмету с выгодой сбыть дочку в самый знатный дом. Но это значило, что девушка попадет под гнет злой старшей жены, что она увянет в руках пресыщенного развратом богатого мужа, который, натешившись, сменит ее другой. Родители отказались устроить таким образом судьбу своей дочери. Но тут ей стала грозить другая, еще более страшная участь: чем старше и красивее становилась она, тем вернее могли ее украсть. За красивыми девушками охотились, как за дичью, и сбывали их в Персию, в Турцию. Вот почему к сватовству Алыма в семье уста Ахмета отнеслись благосклонно. Старик уже пригляделся и оценил работящего, скромного, смелого юношу.
Участвуя в великой стачке 1908 года, Алым показал себя стойким товарищем. За время стачки умер его старший сын, но и это горе не сломило мужества Алыма. В труде проявлял он такую же настойчивость и за семь лет жизни в Баку переходил от одной квалификации к другой, все время к более высокой. А когда на промыслах Сеидова совсем недавно был впервые приобретен буровой станок Рамазанова, Алым взялся применить этот станок к делу.
Конечно, не легко жить в Баку, дети умирали (шесть раз рожала Гоярчин, а в живых остались только двое), но крепко врос Алым в бакинскую жизнь. Далеким, бледным и скучным сном казалось Алыму пастушеское детство и юность в горах, и не было для него иной доли, как жить в Баку вместе со своими товарищами, делить с ними и тяжкую жизнь, и светлые надежды. Здесь он всегда был готов по зову партии исполнить любое самое опасное поручение.
5
Кази-Мамед подошел к Алыму и сказал:
— Я обо всем сговорился с Буниатом. Но он хочет сам с тобой увидеться, а это возможно будет, когда кончится совещание. Идем со мной.
Они миновали контору заведения. В этой пустой комнате, кроме курчавого мальчика-счетовода, звонко отбрасывавшего костяшки на счетах, не было никого. Они вышли в полутемные сени. Здесь скрежет и визг обрабатываемого железа стал сразу резче. Одна из дверей вела прямо в мастерскую, но они миновали ее и очутились на пустыре, окруженном высоким забором, из-за которого виднелись вышки и трубы. Пустырь этот был завален старым красновато-ржавым железом: ведра, жестянки, желонки — все продавленное, разбитое, давно вышедшее из употребления. Здесь среди груды железа стоял старичок сторож в черной папахе. Оперши на палку свой седой бритый подбородок, он неподвижно следил за тем, как Кази-Мамед и Алым пересекают пустырь.
Совещание уполномоченных происходило возле старой, наполовину разобранной вышки, сложенной из гнилых, почерневших досок. Наверно, здесь был когда-то нефтяной участок, но хозяин посчитал его истощившимся — может быть, потому, что богатые соседи стали бурить более глубоко и более совершенным способом, и нефть ушла к ним. Тогда, должно быть, хозяин забросил участок, а здание конторы сдал под мастерскую. Так думал Алым, стоя за углом вышки и прислушиваясь к негромкому, слегка хрипловатому голосу, который раздельно по-азербайджански читал требования забастовщиков… Эти требования были знакомы Алыму, они обсуждались на их участковом совещании. И все же он заслушался, справедливость этих требований, которые он знал почти наизусть, вновь поразила его. Ненависть и презрение к нефтепромышленникам, к их подлой, злой и глупой неуступчивости, с такой силой охватили его, что он почувствовал, как волна крови вдруг прихлынула к его сердцу. Сколько времени Алым работал в Баку, столько времени бакинские нефтяники требовали, чтобы созданы были рабочие поселки вне промысловых территорий. При каждой забастовке это выдвигалось главным требованием. И хотя иногда рабочие побеждали, хозяевами оно ни разу удовлетворено не было, если не считать создания поселка в так называемом Шиховом селе, возле промыслового района Биби-Эйбат. Казалось бы, этот скромный, но вполне удавшийся опыт мог убедить хозяев. Но нет, до сих пор рабочие ютились в полуразрушенных домах и хлевах тех многочисленных деревень около Баку, земледельческое население которых или растворилось в волнах пришлого рабочего люда, или уходило. А на промысловых участках предприниматели строили то, что называлось «рабочие казармы», но их нельзя было признать сносными помещениями даже для скота — низенькие, темные жилища с земляным полом и обмазанными глиной стенами. Здесь все было пропитано нефтью, здесь почти поголовно вымирали дети, а взрослые старились на два десятка лет раньше. Квартирная плата за эти жилища составляла источник дополнительного обогащения хозяев. «Все жадность ненасытная», — думал Алым, слушая негромкий голос, отчетливо выговаривавший каждое слово, — пожалуй, даже чересчур отчетливо, так сами азербайджанцы не говорят. И от злобы и ненависти Алым переходил к уверенности в мощи бакинских нефтяников, мощи, которая должна себя проявить в подготовляющейся забастовке. Вслед за скупыми словами требований картина новой светлой жизни стала вырисовываться перед ним.
— …в квартирах должны быть деревянные крашеные полы, стены покрашены и поставлены кровати железные с металлическими сетками. И чтобы проведено было всюду паровое отопление и электрическое освещение…
«Может быть, деточки наши остались бы живы, если бы все так было», — думал Алым.
— …и школ нужно столько, чтобы никому из детей рабочих в учении не отказывать, а обучать детей бесплатно. И чтобы для рабочих, которые неграмотные, тоже были открыты вечерние бесплатные школы, и детей каждой национальности обучать на родном языке…
Кто это говорит? Буниат? Но у Буниата голос другой, громче, звонче. Алым выглянул из-за угла вышки, чтобы рассмотреть говорившего, и, увидев его, изумился: среди рабочих, расположившихся по глинистой насыпи, окружавшей вышку, стоял невысокого роста русский человек. По-русски, на косой пробор расчесанные волосы, прямые и коротко подстриженные; русские, глубоко сидящие глаза смотрели, казалось, в самую душу…
«Это, наверно, и есть Ваня Столетов», — подумал Алым. Ему еще не приходилось видеть этого замечательного человека, хотя он слышал о нем с первого дня приезда в Баку. На лице Столетова лежал отпечаток болезненной бледности, негромкий голос и внешний вид — все казалось будничным, но несокрушимая сила мечты и уверенности в осуществлении ее была и в голосе, и в выражении лица Столетова.
Столетов кончил. Буниат встал и спросил, есть ли вопросы. Вопросы задавали те же, что и на совещании, где присутствовал Алым. Просили поподробнее рассказать об отдельных банях для мусульман, о квартирных деньгах и о взносах нефтепромышленников в квартирную кассу. Конечно, спросили и о наградных: надо ли от них отказываться? На вопросы отвечал Буниат.
Потом встал с места человек в черной и высокой, траченной молью барашковой шапке, с седыми усиками, белевшими на правильном, прорезанном морщинами лице, и сказал, что почтенный учитель, — так именовал он Ивана Столетова на своем витиеватом, пересыпанном персидскими выражениями языке, — почтенный учитель как бы заглянул в глубину души мусульманина, столь точно выразил он сокровенные надежды рабочих людей.
— Но мы хотели бы, чтобы досточтимый рассказал насчет чумы. Хотя, по правде сказать, страдания наши немногим лучше, чем страдания человека, болеющего чумой, все же чума — это смерть, а наша жизнь, как ни тяжела, — она жизнь.
— Жены наши, прости за упоминание о них, очень беспокоятся из-за чумы, — поддержал другой, широкоскулый азербайджанец в русском картузе.
У него были смышленые карие глаза. Алым запомнил его по прошлогодней забастовке — он был одним из уполномоченных с тагиевских промыслов.
Собрание оживилось. Задали еще несколько вопросов о чуме. Столетов, внимательно выслушивая каждого, кивал головой, и рабочий садился, довольно оглядываясь вокруг. Когда все вопросы были заданы, Столетов сказал:
— Большинство из нас, товарищи, являются членами профсоюзного общества рабочих нефтяной промышленности. Правление общества, выбранное вами, сразу же, как только обнаружилась чума, подало заявление Совету промышленников. В нем мы указали, что если только чума проникнет на промыслы, это станет общенародным бедствием, размеры которого предугадать невозможно. Потому мы потребовали, чтобы по всем промыслам немедленно были раскинуты медицинские пункты. В этом заявлении мы сослались на слова выдающегося русского ученого Заболотного, он только что посетил наши промыслы и осматривал рабочие квартиры в Черном городе, в Сабунчах и Балаханах. В ответ на вопрос одного из журналистов наш выдающийся ученый сказал, что в Индии чума свирепствует именно потому, что там под властью культурных колонизаторов население живет в таких же ужасных условиях скученности и антисанитарии, как и у нас в Баку. Бакинский журналист, задавший вопрос об условиях жизни рабочих, видно и сам был не рад, что спросил, потому что в наших бакинских газетах, которые до этого всячески превозносили Даниила Кирилловича Заболотного, вы этих прямых и честных слов его не найдете. Но пусть профессор Заболотный будет спокоен: мы, сознательные рабочие, не позволим заглушить слово правды, мы на всю Россию сообщим о ней через нашу рабочую газету «Правда».
Люди захлопали в ладоши и одобрительно зашумели. Буниат, хмурясь, поднял палец и с опаской взглянул поверх голов собравшихся. Все смолкли.
Столетов снова заговорил:
— Нужно соединить усилия врачей и рабочих и созвать специальное совещание санитарных врачей с участием наших представителей. Мы еще не получили ответа от нефтепромышленников…
— То есть как не получили? — усмехнулся Буниат. — Шамси Сеидов только услышал о чуме, убежал на эйлаги, Леон Манташев умчался в Петербург, ну, а за ними последовали и остальные, — вчера в газете была заметка, что уже билетов на поезда, отходящие из Баку, не хватает… Кроме Мешади Азизбекова, ни одного гласного думы в городе не осталось.
— Пусть Мешади за всех управляет! — крикнул кто-то.
Буниат усмехнулся и сказал, повернувшись к Столетову:
— Продолжай, Ванечка! — В обращении этом, в самом звуке голоса было столько нежности и уважения, что горло Алыма, человека, считавшего себя неспособным к слезам, что-то вдруг стиснуло.
— Итак, чуму прозевали, — неторопливо говорил Столетов. — Хватились тогда, когда в Тюркенде умерло тринадцать человек. Нефтепромышленники сидят на своих денежных мешках, а заботиться о рабочих, которые создали их миллионные богатства, они и не собираются. Помните, как в прошлом году председатель Совета съездов господин Гукасов назвал нас «живым инвентарем» нефтяной промышленности? Конечно, наш труд обходится им куда дешевле, чем оборудование и станки… Ну, а что говорит господин Тагиев, который сам прославляет себя как покровителя своих земляков и единоверцев? Он тоже молчит. И в этом вопросе у Тагиевых, Нагиевых, Асадуллаевых, Рамазановых и Сеидовых нет разногласий с Манташевыми, Лианозовыми, Гукасовыми или с Шибаевыми и Ротшильдами. Нефтепромышленники мусульмане наняли шайки кочи, наемных убийц. Армянские капиталисты снабжают деньгами и оружием дашнаков. Шибаев собирает босяков в черные сотни, Ротшильды помогают распространять среди еврейских рабочих опиум сионистской пропаганды. Все они вместе науськивают рабочих одной национальности на рабочих другой. А сами создали единую монопольную организацию нефтяной промышленности — разбойничий союз по закабалению и ограблению рабочих и дележу прибыли.
— Верно! Правильно! — раздались голоса. Среди уполномоченных было много пожилых рабочих.
— Дороговизна жизни с тысяча девятьсот одиннадцатого года все возрастает…
И Столетов стал называть цены в рублях и копейках, прежде всего на рис и горох — главные продукты питания рабочих-азербайджанцев.
— К сахару и маслу совсем не подступиться…
— А цены на нефть все возрастают, нефтяные компании, вступая в соглашения друг с другом, сговорились о разделе рынков. Господин Гукасов — его наши хозяева выбрали своим лидером за крайнее бездушие и жестокость по отношению к рабочим — добивается еще соглашения, которое будет переходом к монопольному владению бакинскими нефтяными промыслами. Не мудрено, что пароходчики собираются уже покупать нефть за границей и чуть ли не в Мексике. Нашим хозяевам выгодней повышать цены на нефть, чем увеличивать промысловые площади, и за последние годы к разработке новых площадей начинают относиться равнодушнее. Они кричат об отечестве, но это только тогда, когда им нужно натравить пролетариев одной страны, одной нации на пролетариев другой, — у них самих отечества нет! Так ответим же на разбойничий сговор Ротшильда и Нобеля, Гукасова и Тагиева, Шибаева и Рамазанова единой солидарностью пролетариев нефтяников!
Опыт показал, что время навигации — лучшее время для забастовок, так как сейчас нефтепромышленники торопятся отправить нефтепродукты самым дешевым, водным, путем… Летом повышается добыча нефти и продуктивность перегонных заводов. Если нам удастся выступить дружно и ударить господ по самому чувствительному месту их души — по карману, у нас наибольшее количество шансов сломить сопротивление врага…
С восхищением, с неотрывным вниманием глядели рабочие, в подавляющем большинстве азербайджанцы, на этого худощавого и болезненного русского человека — и не только потому, что он так свободно и ясно говорил с ними на родном языке, но и потому, что он угадывал их самые сокровенные, даже порой ими самими не осознанные побуждения.
— Стая жадных хищников, — говорил он, — налетела на землю Апшерона и по-разбойничьи терзает ее богатые недра. Вас они превратили в рабов. Но это искони была ваша земля, недаром называетесь вы азери — народ огня. Так давайте же, братья, с нашей помощью, с помощью русских рабочих, дружно ударим на врага, укротим и обуздаем хищников, сломим их сопротивление. По всему Кавказу, по всей России происходят крестьянские восстания; товарищ Буниат участвовал в одном из них, оно произошло в Джебраильском уезде. Так соединимся вместе с крестьянством, установим в России новую республику, под красным знаменем которой соединятся все народы!
Он закончил, присел, и сразу среди кепок и фуражек, испачканных мазутом, барашковых шапок и башлыков, повязанных наподобие чалмы, его стало не видно.
— Кто хочет высказаться? — спросил Буниат.
— Прошу слова! — Человек этот вскинул руку и одновременно поднялся с места — все видели его бледное лицо.
Он был в синей блузе с отложным воротничком и в аккуратном пиджачке. Соломенную шляпу он тут же снял, точно приветствуя всех. Он быстро поворачивал голову, и его небольшие темные глаза бегали по собранию.
Это был меньшевик Григорьев. Иван Столетов и Буниат Визиров знали его много лет — настолько, что могли довольно точно сказать, о чем он будет говорить. Они знали, что он им будет сейчас мешать и с этим пока еще ничего не поделаешь. Было время, он и подобные ему мешали гораздо больше. Но теперь те рабочие, которые шли за меньшевиками, ушли от них. Когда-то он начал с того, что отстаивал свои неправильные взгляды внутри рабочего движения. Теперь, как думалось Столетову, кроме неприязни и ненависти к большевикам, никаких уже взглядов у этого меньшевика не осталось. Вот и сейчас он тонким, напряженным голосом говорит свое…
— Конечно, я знаю, что товарищи большевики здесь захватили господство… и вообще в Баку. Ну что ж, я открыто заявляю, что не придерживаюсь ваших взглядов. И еще заявляю, что есть все-таки рабочие, которые придерживаются наших взглядов…
— Нету, — твердо сказал кто-то из собравшихся.
Буниат нахмурился и шикнул в ту сторону, откуда послышалось это «нету».
— Благодарю, — сказал оратор и поклонился Буниату, прижимая к сердцу руку, в которой он держал соломенную шляпу. — Вы на этот раз объективны, товарищ Буниат, как подобает демократу и марксисту. Отвечаю вам тем же. От имени социал-демократов нашего направления я заявляю, что в принципе мы поддерживаем забастовку. В принципе! — и он поднял палец. Это был нарочитый жест, казалось, что он подражает Буниату Визирову, но так старательно, точно передразнивает. — И потому во имя единства, товарищи, я прошу, как представитель меньшинства, принять несколько наших поправок. Первое… Требования, здесь зачитанные, носят слишком общий характер. А у нас на разных предприятиях создались разные условия. Потому не вижу необходимости, чтобы фигурировали эти общие требования…
Алым с ненавистью, обострявшей восприятие, наперед угадывал каждый изгиб изворотливой мысли врага. Он не знал его так давно и хорошо, как Столетов и Визиров, и потому ненавидел, пожалуй, еще сильнее. И, не удержавшись, он крикнул:
— Хочешь, чтоб за рукавицы, штаны и фартуки бастовали? А мы за жизнь детей наших, за новую демократию подымаемся!
— Прочь, уходи с дороги! — выкрикнул еще кто-то.
Зажмурившись и покачав головой, но оставив без ответа эти реплики, меньшевик продолжал высказывать те самые мысли, которые наперед угадал и на которые возразил Алым.
— В данной забастовке, преследующей жизненно важные интересы бакинских нефтяников, не следует давать обычные лозунги насчет самодержавия и демократической республики, не имеющие прямого отношения…
— Ты сам не имеющий отношения! — крикнул кто-то, и снова хлынул поток возгласов и восклицаний.
— Но я не против, я за демократическую республику.
— В принципе — за, а на практике — против? — спросил Буниат со сдержанной злостью. — И тише, товарищи; мы забываем правила конспирации. Против я никому слова не даю — все ясно. Ставим на голосование. Кто за предложение представителя меньшевиков?
Сам представитель меньшевиков высоко поднял руку, и его беспокойные глаза снова забегали по собранию. Подняли руки еще двое.
— Результаты голосования очевидны, — проговорил Буниат. — Вы еще хотите предложить что? — сказал он, исподлобья глядя на меньшевика и стараясь выражаться вежливо, что ему давалось не легко.
— Имею… имею предложить… — хрипло ответил меньшевик. — От имени социал-демократической группы электриков нашего направления предлагаю во время забастовки не лишать город и промыслы электричества.
— Штрейкбрехер! — крикнул кто-то.
— Ругань? — спросил меньшевик, держа шляпу в руке, и поклонился: — К ругани мы привыкли.
— Электрики тебя, Григорьев, на это не уполномочивали, — густо сказал, обращаясь к меньшевику, очень молодой юноша с мягким лицом, опушенным первыми темными волосами.
— Подчеркиваю, я не от имени всего союза электриков, который вследствие некоторых махинаций оказался в руках большевиков…
— Каких махинаций? — багровея, сказал юноша. Он встал с места и снял поблескивающую от масла кепку. — Прошу слова!
— Слово ему дай! — раздались голоса.
— Никто слова не получит, товарищи, — предупредил Буниат. — В распоряжении нашем считанные минуты. Вопрос ясен, и голосуем. Кто за предложение группы меньшевиков, только что внесенное их представителем?
— Он собака блудливая, а не представитель, — сказал кто-то по-азербайджански. — Мы в гору идем, а он за пятки кусает.
Азербайджанцы и все, кто понимал по-азербайджански, захлопали в ладоши.
— Что он сказал? Что он сказал? — беспокойно спрашивал Григорьев.
— Сколько лет азербайджанскую воду пьешь, а по-азербайджански не знаешь, — ответил ему Алым.
— Вы хотите поднять руку за свое предложение? — спросил, обращаясь к Григорьеву, Буниат.
— Да, да. — Григорьев поднял руку и стал опять оглядывать собрание, но ни одна рука не поднялась ему на поддержку.
— Единогласно, — пошутил кто-то.
Все засмеялись.
— Я считаю все это надругательством над демократией! — крикнул Григорьев.
— Что именно? То, что вы остались в меньшинстве?
— Не в этом дело. Но самую процедуру, это собрание уполномоченных. Надо подобные требования, раньше чем предъявлять хозяевам, обсуждать на рабочих собраниях. Вы забыли о том, что называется демократией.
Григорьев теперь уже не вертел головой, его тонкая шея вытянулась, глаза впились в лицо Столетова.
— Мы, большевики, ни о чем не забыли, — ответил Столетов. — Потому-то мы в наши требования и включаем свержение самодержавия и борьбу за демократическую республику, чтобы иметь возможность свободно обсуждать вопросы пролетарских нужд на общих собраниях рабочих.
— Рабочие нужды… — начал Григорьев.
— Уходи! Мы собрались, чтобы бороться, а ты под ногами путаешься, — сверкнул глазами Алым.
— Проверьте его! Кто он такой? — гневно по-русски, по-азербайджански, по-армянски кричали с мест.
Григорьев, приложив к сердцу соломенную шляпу, говорил что-то, но его не было слышно. Вдруг Буниат предостерегающе поднял ладонь. Все стихли.
Где-то слышен был стремительно приближающийся конский топот.
— Вот вам та демократия, на которую мы можем рассчитывать при царизме, — сказал он. — Слышите? Это нас ищут. Прения прекращаю. Есть ли возражения против проекта требований, оглашенных товарищем? Кто против? Прошу поднять руку.
— Я воздерживаюсь… Григорьев — от группы независимых социал-демократов электриков! Прошу отметить в протоколе.
— И без протокола запомним твою подлость! — крикнул Алым по-азербайджански.
— Я думаю, всем понятно, что каждый обязывается бороться за наши требования и защищать их. А теперь надо расходиться, — сказал Буниат, прислушиваясь.
Цокот подков все приближался и приближался.
— Что ж, Ванечка, спасибо тебе, — сказал Буниат по-русски.
— Все-таки не обошлось без меньшевистского шакала, — заметил Столетов по-азербайджански.
Они обменялись безмолвным рукопожатием.
Кази-Мамед и Алым подошли к Буниату, и Алым рассказал ему о Наурузе и о тюках с книгами, присланными из-за моря.
Буниат молча выслушал рассказ Алыма.
— Авез зовут того брата, которому предназначены книги? Может быть, Авез Рассул оглы? — спросил он, и волнение послышалось в его голосе.
— Чей сын, неизвестно мне, — виновато проговорил Алым.
Буниат повернулся к Кази-Мамеду.
— Литературу нужно доставить в больницу, ты знаешь, куда и кому. Теперь в городе больше всего боятся чумы. Потому нужно действовать так: достать ломовую подводу, наложить на нее книги плашмя и покрыть белой простыней, чтобы похоже было, будто под простыней лежат тела людей. За книгами поедешь ты и… — он подумал, — этот молоденький приказчик у Манташева.
— Знаю, совсем молоденький. Гурген его зовут, — вспомнил Кази-Мамед.
Буниат одобрительно кивнул головой.
— Он самый. Он хорошо грамотный и пусть на месте разберется, что за литература. Может, здесь провокация.
— Разреши слово сказать, — прервал его, поднимая руку, Алым. — Только слово одно насчет земляка моего. Это бесстрашный джигит, верный как сталь. Если ты мне веришь, верь ему.
Буниат, покачивая головой и чуть прищуря левый глаз, отчего лицо его получило выражение хитрости и насмешки, выслушал Алыма и потом обернулся к Кази-Мамеду.
— Что можно ответить на эти слова, а?
И Кази-Мамед, положив свою небольшую руку на высокое плечо Алыма, сказал:
— Конспирация, друг Алым, конспирация… Об этом говорили не раз. Если о конспирации забудешь, вреда от тебя нашему делу больше будет, чем пользы. Ты земляка своего знаешь. Ну, а спутника его ты также знаешь? Нет? Ну, а что, если это все подстроено, чтобы приманить нас, бакинцев, как диких гусей приманивают на охоте ручной гусыней?
— Погорячился я, — пробормотал Алым и стиснул зубы так, что задрожали его смуглые худощавые щеки, задрожали и потемнели от румянца.
Буниат, заметив это, улыбнулся и опросил:
— Значит, ты приютишь своего земляка?
— Он уже под моим кровом, — сдержанно сказал Алым.
— А ты, Мамед, приведи ко мне завтра утром того молодого грузина. Ты знаешь?
— Знаю и приведу куда надо, — быстро ответил Кази-Мамед.
Они прислушались: вдали снова раздался конский топот, ближе, ближе, и проскакали мимо.
— Не торопись, когда ищешь — ничего не найдешь, — усмехнулся Буниат. — Теперь, пожалуй, нам время расходиться, кажется, обо всем договорились. — Нагнув голову, он поглядел себе в ноги. — Так повторим, чтобы все было точно. Как только вы с Гургеном Арутинянцем примите книги, забирайте их, грузите на подводы и отправляйтесь в город. Да, вы должны быть в белых халатах — сказал я вам это или нет? В белых халатах, и на лицах — белая маска из марли. Понятно?
— Все понятно, все верно придумано, Буниат, — весело ответил Кази-Мамед.
Буниат опять опустил голову, словно хотел убедиться, что ничего не потерял. Все было тихо.
— Нет. Кажется, все, — сказал он. — В добрый час, друзья!
Спрятавшись в тени вышки, Буниат некоторое время выжидал, не мелькнет ли где среди куч ржавого железа этого заброшенного двора какая-нибудь подозрительная тень, шпик-соглядатай. Но все было тихо и недвижимо. Только сторож с винтовкой медленно ходил по двору, но он был свой. И тогда, из предосторожности сделав круг по двору вдоль заборов и не обнаружив ничего подозрительного, Буниат быстро вышел на шоссе. Медленной, неторопливой походкой, неотличимый от тех немногих прохожих, которые попадались ему навстречу или обгоняли его, он шел по дороге. Вид у него был довольно усталый, пожалуй даже сонный, и никто не мог бы догадаться, как взволнован он был сейчас.
Авез, Авез… Авез Рассул оглы, — этот тюк из-за моря, несомненно, предназначался ему! О поэте-философе Авезе Рассул оглы, или Рассул-заде, как его называли любители иранизмов, Буниат слышал, прежде чем научился грамоте; саркастические, острые и короткие стихотворения его, написанные языком несколько старомодным, легко запоминались наизусть. Конечно, Буниат предпочитал насыщенные жизненностью, выраженные истинно народным языком стихи Сабира. С Авезом Рассул оглы Буниату посчастливилось лично познакомиться. В 1908 году Буниат собирался к себе на родину, в Джебраильский уезд, — в Баку получены были вести о том, что там волнуются крестьяне. Размежевание земли, начатое в Джебраильском уезде, приняло характер ограбления сельского населения. Кому же, как не Буниату, следовало сплотить земляков и поднять их на борьбу? Путь его лежал через маленький городок, где жил Рассул оглы; и в Бакинском комитете Буниата неожиданно попросили завезти поэту маленький сверток, в нем брошюры, прокламации и последние номера «Гудка». И еще больше удивился Буниат, когда услышал, что поэт живет в доме при мечети. Что он, этот поэт, — мулла, получающий партийную литературу?
Поэт действительно жил в доме при мечети. Как человек, известный своею честностью, он с давних пор из года в год избирался верующими на должность казначея: через его руки проходили все сборы для мечети, он вел им счет, отчисляя то, что по шариату полагалось и мулле и муталимам. Он не давал мулле наживаться на закиате [6] и на деньги, собиравшиеся с прихожан, даже устроил при мечети убежище для престарелых. Он вел деятельную жизнь: насадил большой сад и сам ухаживал за каждым деревцем, разводил лекарственные растения и успешно лечил людей, переписывал старинные книги и изукрашивал их затейливыми арабесками. А когда Буниат залюбовался минаретом, стройный ствол которого словно покрыт был ковровой тканью, он узнал, что и это работа Авеза.
Худощавый, но крепкого сложения человек, с проседью в рыжеватой бороде, с красно-загорелым лицом и крупным носом, в старенькой чохе, запятнанной красками, с крупными рабочими кистями рук, поэт, пожалуй, больше походил на ремесленника. Но его зеленые яркие глаза словно пронизывали того, на кого он взглядывал.
Буниат приехал к Авезу утром. Выспавшись после утомительного пути, он к вечеру вышел на широкий, аккуратно подметенный двор мечети и увидел своего хозяина. С большой книгой в руках сидел Авез в тени огромной ветвистой чинары. Окруженный людьми, он что-то громко читал. Прислушавшись, Буниат предположил, что это была одна из глав «Искандер-наме». Но Авез не читал — он пересказывал по-азербайджански великолепные строфы Низами.
Буниат был наэлектризован событиями тогдашней бакинской жизни. Кампания по подготовке к совещанию рабочих и нефтепромышленников неожиданно для хозяев, а также для меньшевиков и дашнаков превратилась в демонстрацию революционной мощи бакинского пролетариата, который, следуя призыву своей газеты «Гудок», предъявил категорические требования нефтепромышленникам и выразил свою непримиримость к царизму. В статьях «Гудка» рабочие узнавали голос партии, неустанно и настойчиво ставившей самые насущные вопросы жизни рабочего класса, самые острые задачи тогдашнего дня России. Буниат ехал к своим землякам в Джебраиль, чтобы поддержать их справедливое дело.
И вдруг здесь, в тени мечети, слушать о сказочных похождениях Двурогого, похождениях вне времени и пространства… Буниат не ушел только потому, что уйти было бы невежливо. Он занял место среди наиболее молодых слушателей, которые, стоя в почтительном молчании, внимали голосу поэта, читающего нараспев, по-старинному.
Но прошло несколько секунд — и Буниат уже сопровождал мысленно Двурогого царя и философа в его странствованиях по неведомой стране, где все люди сообща, как братья, жили на берегах полноводных каналов, орошающих пышные сады. Там на площадях дети вели веселые хороводы и пели песни на всех языках земли. И на недоуменный вопрос, заданный Двурогим одному из жителей страны, тот стал пространно, обстоятельно и величественно, как это полагалось в «Искандер-наме», отвечать… Буниат недостаточно знал «Искандер-наме» и не мог бы сказать, есть ли в «Искандер-наме» такая глава, но то, что эта глава является вольным переложением мыслей «Коммунистического Манифеста», — в этом Буниат готов был поклясться.
— Да, я делаю так, — посмеиваясь, говорил ему в этот вечер поэт. — Мулла ленив и невежествен, он кое-как справляется с кораном, но персидского не знает, и проверить, есть ли у Низами то, что я из его книг вычитываю, он не может.
Долго, чуть не до розового утра, шла беседа — и Буниат узнал, как еще до революции случай свел азербайджанского поэта с молодым грузином Ладо Кецховели, злодейски умерщвленным царскими палачами.
— Из рук Ладо впервые получил я «Искру» — ту искру, которую раздует в пламя дыхание миллионов трудящихся, — сказал он.
Рассказывая о Владимире Кецховели, поэт упомянул другого Владимира и, назвав его великим, замолк, словно спохватившись.
Так не Владимир ли Ленин предназначал своему другу Авезу этот подарок, бережно передававшийся из рук в руки и привезенный в Баку этими двумя друзьями?
Глава четвертая
1
Товарный вагон, в котором на все время пути от Петербурга до Баку заключалось драгоценное имущество экспедиции (бациллы в ретортах и кролики в клетках), находился под присмотром Роберта Павловича Леуна, старейшего сотрудника и сотоварища профессора Баженова, сопровождавшего его еще во время поездки в Маньчжурию. При крепком сложении и широком лице, прорезанном мужественными морщинами, Леун обладал тонким голосом сварливой бабы и беспокойным, придирчивым характером. Но Баженов ценил и любил Леуна. И все же идея запереть именно его на все время пути внутри товарного вагона, вместе с препаратами и прочим имуществом лаборатории, исходила от Баженова. Аполлинарий Петрович мог, таким образом, не беспокоиться о драгоценных препаратах экспедиции и при этом избавлялся от назойливого, непрерывно звучащего в ушах ворчливого старушечьего фальцета Роберта Павловича. Но едва поезд остановился на станции Баку-товарная (там же, где за две недели до этого выгружались казаки), как на платформе возле «международного» вагона послышался визгливый голос, пререкающийся с проводником.
— Весь вагон всполошит, невыносимый человек! Людмила Евгеньевна, выходите скорей и уведите его немедленно, — шепотом сказал Аполлинарий Петрович.
Людмила после остановки в степи спать не ложилась и быстро выскочила на перрон.
Увидев ее, Леун немедленно потребовал, чтобы она вместе с ним отправилась к вагону с имуществом. Он настаивал, чтобы был составлен и подписан главным кондуктором акт, в котором устанавливалось, что «на двадцать шестой версте, не доезжая до Баку, вследствие резкого торможения разбилась пустая колба марки № 4».
Вагон с имуществом экспедиции должны были отцепить на Баку-товарной, и Леун, крепко вцепившись в рукав «главного», требовал, чтобы акт был составлен до того, как поезд уйдет.
Сразу же согласившись с Леуном в том, что акт составить нужно, Люда перешла в разговоре с ним на шепот и заставила старика перейти на такой же шепот.
— Ну, что вам стоит, — с улыбкой сказала она «главному», и тот, поддавшись на эту просительную улыбку, вместе с Леуном ушел составлять акт.
Люда одна осталась около «международного» вагона. «Вот они проснутся, а меня хвать и нету! — весело подумала она о студентах. — Только бы скорей уехать, чтоб они не проснулись». Но вот вышла и Римма Григорьевна, с чисто вымытым лицом, красным свежим носиком и щечками. Вот тащат чемоданы, чемоданы, еще чемоданы. Наконец и Аполлинарий Петрович, длинный в своем длинном пальто, показался на ступеньках вагона. Он оглядел сверху все выгруженные чемоданы, снова исчез в вагоне — наверно, чтобы проверить, не осталось ли чего в купе. Нет, все в порядке. Он соскочил с подножки, и во главе с ним весь немногочисленный персонал экспедиции двинулся к хвосту поезда.
Акт был составлен и подписан, вагон с оборудованием отцеплен, поезд ушел, и Люде стало еще веселее и торжественнее. «Фронт! Война!» — вспомнила она слова Аполлинария Петровича, сказанные ночью. Эти страшные слова вызывали в ее душе лишь чувство бодрости и готовности к труду, к подвигу.
* * *
В день прибытия экспедиции умерла последняя из злополучной семьи Сафы оглы — молоденькая невестка его Сарья. До самой смерти кормила она грудью своего маленького сынка Аскера, которому недавно исполнился год. Ребенок был жив, его требовательный плач доносился из маленькой палатки, куда была помещена Сарья и где она умерла.
Получив разрешение Риммы Григорьевны сопровождать санитаров при посещении этой палатки, Люда вошла туда, несколько робея, заранее готовая к ужасам. Ребенок жалобно пищал, припав к окровавленной груди мертвой матери, и возился в своих грязных пеленках. У санитаров были носилки, санитарам надлежало перенести ребенка в другую палатку — изолятор. За это время врачи должны были решить вопрос о дальнейшем режиме злосчастного сироты.
Санитары, хотя на них, как и на Люде, были марлевые маски и резиновые перчатки, вдруг замешкались. Да и какой мужчина не смутится, раньше чем взять на руки грудного грязного младенца, даже если он здоров? А Люда, услышав этот жалобный писк, забыла и робость и ужас — вообще забыла о себе и поступила так, точно этот требовательный, настойчивый и даже гневный зов, исходивший из охрипшей глотки ребенка, адресовался непосредственно к ней. Она подошла к койке, где лежал труп, взяла ребенка на руки и ловко, точно всегда этим занималась, окутала его большим куском марли. Прижав ребенка к груди, она вынесла его на дневной свет… Ребенок тыкался ей в грудь головкой и, хватая жадным ротиком халат, сердился…
— Молока достаньте! Да живо! — скомандовала Люда санитарам, которые растерянно толпились у входа с носилками, не зная, что они теперь должны делать.
Она сказала это голосом, каким говорил в решительные минуты ее отец. Заметив это, она удивилась, а потом обрадовалась, почувствовав в себе мужество отца, его опыт. Санитары кинулись выполнять полученное приказание.
Держа ребенка на руках, Люда, быстро и широко шагая, перенесла его в палатку. А Баженов и Нестерович в это время в своей палатке совещались о дальнейшей судьбе сироты. Больше всего беспокоил вопрос, кому поручить уход за ним. В служебном порядке обязать никого нельзя, да и призывать к добровольному самопожертвованию можно было только крайне осторожно. Поэтому, когда Римма Григорьевна вбежала в комнату и сбивчиво, волнуясь, рассказала о поступке Люды, Баженов и Нестерович невольно переглянулись. Самый сложный пункт проблемы решился сам собой.
— Я только позволила ей сопровождать санитаров, право, я ей ничего не поручала, — оправдываясь, говорила Римма Григорьевна.
Когда трое врачей вошли в палатку, Люда уже успела обмыть ребенка в теплой, приготовленной заблаговременно воде, разведенной сулемой, и теперь пеленала его, приговаривая:
— Такое маленькое, такое бедное…
Ребенок не давался, кричал, и она, не оглядываясь, не видя врачей и думая, что вернулись санитары, сердито сказала:
— Ну, давайте, давайте скорей молока! Дольше-то ходить не могли! Ведь он голоден, бедный мой…
Римма Григорьевна всплеснула руками, охнула и выбежала из комнаты. Она, услышав крик ребенка, вдруг поняла, что из всех тех важных проблем, которые волновали ее, важнее вопроса о безответственности Люды и вопроса об ответственности ее, Риммы Григорьевны, за то, что она разрешила Люде сопровождать санитаров, является вопрос о том, где достать молока ребенку.
Так для Люды началась новая жизнь. Несколько вешек, поставленных поблизости палатки, обозначали ту территорию, за пределы которой она не могла выходить. Возле палатки росло огромное развесистое тутовое дерево, и под ним Люда с маленьким Аскером проводила целые дни. Настала вдруг солнечная, знойная погода, но зной умерялся мягко-влажным, морским ветром. Никаких симптомов заболевания у мальчика не было, он был здоров и весел, и Люда просила снять с лица своего «паранджу», как она называла свою марлевую маску, и освободить руки от резиновых перчаток. Но Баженов, единственный оставивший за собой право навещать ее, категорически запретил даже говорить об этом.
В Тюркенде было несколько женщин, которые имели грудных детей, они оспаривали между собой право снабжать своим молоком маленького Аскера. Наконец была выбрана маленькая Разият, кормившая первого ребенка, и она каждый раз, приходя сдавать молоко, подолгу простаивала, держа на руках свою черноглазую румяную девочку, следя за русской девушкой в белой парандже и ожидая ее взгляда. А когда Людмила взглядывала в ее сторону, Разият поднимала свою девочку, а Людмила — Аскера. Приходили и другие — старые и молодые женщины, они приносили цветы, ягоды, лепешки, а то и бараний шашлык или курицу в соусе. Посетители категорически требовали, чтобы все это, предназначенное для Людмилы, было принято. Баженов, чтобы не обидеть женщин, приказал принимать эти чистосердечные подношения, но, конечно, запретил передавать их Людмиле: с ними могла проникнуть инфекция, которая осложнила бы весь ход наблюдения.
Под руководством Аполлинария Петровича с помощью Риммы Григорьевны жизнь маленького бактериологического отряда под старыми чинарами и тутовницами деревни Тюркенд приобрела размеренно-педантический характер. Из крови умершей Сарьи, матери Аскера, последней жертвы чумы, добыта была новая, свежая вакцина, и опыты над кроликами следовали один за другим. Им прививали вакцину, привезенную из Петербурга, а потом заражали их свежей вакциной — и кролики выздоравливали: вакцина себя оправдывала. Аполлинарий Петрович все чаще стал задумываться: следовало проверить вакцину на живом человеке, прежде всего на себе. Риска как будто бы и не было. Ну, а если бы он и был? И Баженов переводил взгляд на белую среди зелени палатку, возле которой возилась с Аскером Люда. И если бы в эти минуты Люда могла видеть, с каким выражением глядел на нее всегда суровый и сдержанный профессор! «Девушка, повинуясь благородному материнскому инстинкту, пошла на риск. Неужели ты ради науки не можешь на это пойти?» — говорил он себе и в такие минуты старался не встречаться взглядом с Риммой Григорьевной и не вспоминать о детях. Здесь начиналась сфера иной ответственности — ответственности перед своей семьей, а от этих мыслей ему следовало бы отрешиться… Но на всякий случай он еще и еще повторял опыты — и все они сходили удачно.
Внезапная тревога нарушила размеренную жизнь отряда эпидемиологов. Однажды в четыре часа утра, еще за час до того времени, когда Аскеру обычно измеряли температуру, Людмила дала тревожный звонок. Баженов, торопливо одевшись, прошел в палатку Людмилы. У мальчика, оказывается, поднялась температура. Первые симптомы стали заметны вскоре после полуночи: он спал тревожно, тяжело дышал. Люда не решалась будить его, надеясь, что мальчик успокоится. В четыре часа начался кашель, удушье. Она поставила термометр. Тридцать восемь и шесть — показала ртуть. Вот почему Люда вызвала Баженова. Римма Григорьевна, не решаясь нарушить строгий наказ мужа, белым призраком маячила в нескольких шагах от палатки.
— Видите, — глухо, из-под маски, сказал Баженов, взглянув на мальчика, плачущего и прерывающего плач кашлем и снова плачущего, — царица не любит отпускать от себя тех, кого посетила.
— А вдруг это какая-нибудь детская болезнь? — сказала Люда.
Глаза их встретились. Наполненные слезами глаза Люды умоляли, просили — о чем? О том, чтобы это была не чума, а какая-нибудь другая болезнь? Но что он мог сделать? Баженов отвел взгляд и сказал:
— Мы с вами возьмем сейчас все анализы, полагающиеся при пестис. Но я попрошу на всякий случай Сергея Логиновича (он подразумевал доктора Нестеровича) зайти сюда. Терапевт он, мне кажется, опытный.
Анализы были взяты, Аполлинарий Петрович ушел, бережно унося пробирки, и вскоре вернулся вместе с Нестеровичем.
Сергей Логинович, вызвав отчаянный крик ребенка, заставил его открыть рот и с помощью зеркала заглянул в маленький зев, из которого вместе с кашлем вылетали брызги слюны и оседали на марлевой маске врача. Баженов покачал головой: если чума, то вот еще один опасный в смысле заражения случай.
Выслушав легкие, Нестерович невнятно сказал из-под маски, обливая руки раствором сулемы:
— Круп, крупозное воспаление… или дифтерит…
— Ой! — радостно воскликнула Людмила.
— Погодите, я ведь не специалист по детским… И мазок нужно взять из зева… Нет, здесь без Веры Илларионовны не обойтись. Это мой помощник по промысловой больнице, врач-акушер и специалист по детским, Николаевская Вера Илларионовна.
— Но откуда здесь может быть круп при нашей абсолютной изоляции? — вслух подумал Баженов. — Вы, надеюсь, ничего от женщин не принимали, Людмила Евгеньевна? — спросил он строго.
— Нет, — сказала Людмила, марлевая паранджа скрыла румянец смущения.
Нет, она ничего не брала от женщин. Но, располагаясь в тени тутового дерева, она на одной из ветвей неожиданно обнаружила колпачок с бубенчиками, колпачок, сшитый из зеленых, красных и желтых полосок да еще при этом звенящий! Аскер лежал под деревом и, увидев в ее руках колпачок, с криком потянулся к нему… Колпачок стал любимой игрушкой, а потом Люда увидела, что Аскер сосет колпачок…
Два ближайших дня прошли в беспокойстве и тревоге. Наконец появилась худощавая, сдержанная Вера Илларионовна. Умело заняв Аскера яркой погремушкой, специально принесенной для него, она взяла мазок из его горла. Сначала поступили анализы на чуму — они ничего подозрительного не дали. На следующий день поступили анализы на дифтерит и круп — они показали дифтерит. Тут же был проведен консилиум. Решили повторить анализ на чуму, и если он снова ничего не даст, тогда проделать то, на чем категорически настаивала Вера Илларионовна: перевести Люду вместе с Аскером в больницу. Им обеспечен будет там специальный режим и уход — все то, чего больной мальчик не мог получить в обстановке кочевого эпидемиологического отряда, приспособленного для борьбы с чумой. Аполлинарий Петрович шел на это крайне неохотно. Хотя новых случаев чумы не было, он твердил, что осторожность в отношении чумы никогда не мешает. Но после того как повторный анализ никаких подозрительных симптомов не дал, Аполлинарий Петрович согласился. Люда была водворена в небольшую чистую и светлую комнату в больнице, где раньше находилась аптечка, теперь перенесенная в кабинет дежурного врача. Здесь были поставлены кровати: большая — для Люды и маленькая — для Аскера. Белизна, чистота, острый запах лекарств в палате, маслянистый аромат роз, доносящийся из маленького, но пышного садика, — таков был мир, в котором очутилась Люда.
2
Молодой Шамси каждый день после работы непременно направлялся к Тюркенду. Пройдя настолько близко к зачумленной деревне, насколько позволяли ему патрули, он перекликался с сестрами. От них-то он и узнал о русской ханум, которая не побоялась взять с груди умершей Сарьи ее маленького сынка. И вот молоденькую ханум вместе с ребенком отделили, и все кормящие матери в Тюркенде предлагали молоко для маленького Аскера, но русские лекари для этого святого дела выбрали молоденькую Разият, и она гордится перед другими матерями.
И Шамси теперь рассказывал всем, кого ни встречал, о благородном поступке русской ханум.
С того часа когда его дядя укатил на эйлаги, каждый новый день приносил молодому Шамси что-либо новое и неожиданное. А давно ли жизнь его текла безмятежно-сонно и ясно. Раньше самое главное было — это добиться благоволения дяди, всесильного Шамси Сеидова. Сколько надежд давало одно совпадение их имен! Ну, а второе дело — сестер замуж выдавать и получать за них хороший калым. Потом дядя примет его к себе в дело — или он не Шамси Сеидов, имя которого красуется под русским орлом на вывеске? А тогда настанет время, он купит себе красавицу невесту и первый поднимет покрывало, скрывающее ее лицо.
Но после того как дядя бросил в беде их семью, вся прелесть этих надежд и мечтаний поблекла. Теперь в душе Шамси место почтенного дяди заняли такие люди, как Буниат Визиров, Кази-Мамед и в особенности Алым Мидов, который отечески-нежно обходился с юношей и часто приводил его к себе домой. Там Шамси встречал Науруза, молчаливого пришельца с северных склонов Кавказа, жившего в это время у Алыма, и Науруз стал ему куда ближе братца Мадата в студенческой фуражке. А неясный образ невесты, скрытой под чадрой, затмила русская ханум с открытым лицом, которая кормит из рожка маленького Аскера. Это был новый мир, еще во многом непонятный, во многом даже пугающий, но для того, чтобы в нем жить гордо и ходить с высоко поднятой головой, совсем не нужно было ждать богатого калыма за сестер и много лет копить деньги.
Однажды Шамси в доме у Алыма — который раз! — с жаром рассказывал о благородном поступке русской ханум. Жена Алыма Гоярчин громко благословляла добрую русскую девушку и, кстати, добавила, что она знакома с другой русской ханум, хаким-ханум, которая живет при больнице и каждый раз приходит к ней сюда, когда болеют дети, — Вера-ханум зовут ее. Во время этого разговора буровой мастер Али-Акбер зашел к Алыму и подробно стал расспрашивать Шамси о русской ханум. Но что мог сказать ему Шамси сверх того, что рассказывал, — он сам знал об этом не очень много.
Конечно, Люда Гедеминова очень удивилась бы, если бы узнала, что есть в Баку человек ей незнакомый — буровой мастер Али-Акбер, на которого рассказ о благородном подвиге незнакомой русской ханум произвел глубокое впечатление и подтолкнул его самого на совершение самоотверженного поступка. Правда, согласие Алыму на участие в делегации он дал еще до того, как услышал эту историю о русской ханум, но, узнав о ней, он шел на это дело с гордым и легким сердцем.
Однако, согласившись на участие в делегации, Али-Акбер остался Али-Акбером. Он всегда был человеком в житейском отношении очень благоразумным и осмотрительным, и он принял свои меры предосторожности. Самые необходимые для жизни его семьи пожитки были незаметно для соседей перевезены на квартиру его тестя в Шихово село, в другую часть города. В тот час, когда Али-Абкер должен был отправиться в Совет съездов, жена его, сообщив соседям, что из-за наступивших знойных дней она вместе с детьми отправляется на эйлаг, однако перебралась в Шихово село, на другой конец Баку. Сам же Али-Акбер собирался оставить работу под предлогом болезни и не предполагал пока возвращаться ни на опустевшую квартиру, ни тем более к себе на работу.
И вот трое делегатов бакинских рабочих — азербайджанец Али-Акбер Меджидов, русский Петр Васильевич Хролов и армянин Акоп Вартанович Вартаньян, до этого не знавшие друг друга и друг о друге даже и не слышавшие, сошлись в чайхане на Раманинском шоссе. Узнали они друг друга по приметам, заранее им сообщенным. Присев на низенький, довольно засаленный диван, они обменялись безмолвным, но крепким рукопожатием. Перед ними тут же, как это водилось в чайхане, появился чайник с крепким чаем. Почтительный поклон чайханщика относился к праздничной одежде посетителей: они были в лучших своих, городского покроя, пиджаках и отутюженных брюках, а у Али-Акбера даже подвязан пестрых цветов галстук, охватывавший белый стоячий воротничок. Они в безмолвии выпили чай, стараясь незаметно разглядеть друг друга. Акоп Вартаньян — мужчина могучего сложения, с бугристым и смуглым, синим от бритья лицом и очень черными смелыми глазами. Чашка с чаем, казалось, совсем пропадала в его огромной, поросшей густым волосом руке, чай он пил медленно, неторопливо, глоток за глотком. На нем — белая, довольно поношенная сорочка, вроде тех, какие летом носят официанты, верхняя пуговица воротничка расстегнута. Сорочка, видимо, долго служила ее обладателю. На Петре Васильевиче Хролове рубашка была той свежей оранжевой окраски, какая бывает у ситца до первой стирки, она топорщилась и пахла обновкой; синий пиджак надет не в рукава, а внакидку. Чай он выпил залпом, крякнул так, будто выпил водки, и, вынув новый носовой платок, вытер пот, выступивший из-под его рыжеватых волос. Сощурив быстрые, с золотинкой, глаза и сложив губы трубой, он вздохнул:
— Ффу-у! — и тут же, жестом подозвав хозяина, расплатился за всех. Потом он быстро оглядел круглого и румяного Али-Акбера, допивавшего последний глоток чаю, и Акопа, неторопливо смакующего драгоценный напиток, и тонким, дребезжащим, но очень верным голоском неожиданно пропел:
«Тореадор, смелее в бой… тореадор, тореадор!» — И такая веселая лихость выступила на его молодом, раскрасневшемся после чая лице, что Али-Акбер, у которого в ушах еще продолжали звучать всхлипывания и проклятия жены и свояченицы, вдруг с облегчением почувствовал, как точно тяжелый камень отвалился от души, стало ясно, торжественно и весело.
Петр Васильевич — самый младший и единственный из трех делегатов, с недавнего времени член партии большевиков — взял на себя руководство делегацией. К своей задаче делегаты были уже подготовлены; главное сейчас: добраться до председателя Совета нефтепромышленников Гукасова или же до его первого помощника, управляющего делами Совета — Достокова. Петр Васильевич сообщил сотоварищам последнюю новость: здание Совета съездов находится с сегодняшнего утра под усиленной охраной.
— Какой-то провокатор уже донес о предстоящем нашем визите, — говорил шепотом Петр Васильевич. — Но кто именно пойдет делегатами, это ему не может быть известно, так как мы уже знали, что в нашу среду проникла охранка. Поэтому сразу втроем нам появляться перед зданием Совета съездов не следует, проберемся в здание поодиночке и встретимся перед самой дверью Гукасова.
— Ну, и как будет потом? — спросил Али-Акбер.
Петр Васильевич дробно и весело рассмеялся, сказав:
— Уж как-нибудь! — И, похлопав Али-Акбера по круглому плечу, наставительно добавил: — В драке все наперед не рассчитаешь, дорогой друг!
* * *
Как только дверь в кабинет стремительно открылась и управляющий делами Совета съездов Достоков увидел на пороге огромного, в белом официантском костюме, Акопа, а за ним круглого, по-городскому одетого, Али-Акбера, с радужным галстуком и густыми, по-детски приподнятыми бровями, и, наконец, деловитого, в синем пиджаке поверх оранжевой косоворотки, в зеркально начищенных сапогах, Хролова, — он сразу понял, кто такие эти отмеченные странной торжественностью посетители. С пренебрежительной насмешкой подумал Достоков о жандармском ротмистре Келлере, уверявшем, что «приняты все меры» и что никакой делегации рабочих не удастся проникнуть даже в здание Совета, а тем более в кабинет председателя Совета или управляющего делами Совета.
— В чем дело, господа? — громко спросил Достоков.
Кабинет был велик, пустынен, и глуховатый, с писком, голос Достокова не заполнил его, прозвучав как-то невнушительно.
— У нас серьезное дело, господин управляющий, и потому просим принять меры, чтобы, пока мы вам его изложим, нас не арестовали… — сказал Хролов. И, словно подтверждая его слова, дверь приоткрылась, и там мелькнули медные пуговицы, мундирное шитье.
Достоков позвонил и сказал, обращаясь к длинной и бледной, с круглыми от испуга ртом и глазами, секретарше, появившейся на пороге:
— Никого ко мне не пускать!
Дверь захлопнулась и внушительно щелкнула.
Делегаты переглянулись.
— Так будет надежней, — успокоительно сказал Достоков. — Теперь нас не потревожат.
Крахмальная манишка и черный пиджак — все выглядело на нем несуразно; он был горбатый, и это придавало всем движениям его характер неуклюжести. Схватившись за край своего огромного письменного стола, Достоков приподнялся и глядел на делегатов своими печально-томными, красивыми глазами, которые мгновенно заставляли забывать о его физическом уродстве.
— С кем имею честь?
Делегаты назвались своими собственными именами, как и предполагалось, — подобного рода важный документ, в котором излагалась жизненная программа бакинского пролетариата, нельзя было вручать анонимно… Впрочем, Достоков отнесся не очень внимательно к этому церемониалу, и только когда Акоп Вартаньян назвал себя, он поднял на него вопросительно-удивленный взгляд.
— Итак, предо мной представители трех бакинских великих наций, — сказал он. Насмешка слышна была в его голосе.
— Представители рабочих нефтяников города Баку, — внушительно прервал его Петр Васильевич. — Нам поручено, господин Достоков, вручить Совету съездов требования, обсужденные и выработанные на четырехстах собраниях рабочих промыслов и предприятий, в которых принимали участие сорок две тысячи человек…
И как только Петр Васильевич закончил, Али-Акбер — так это и было условлено — положил на стол большой конверт.
— Итак, господа, забастовка? — спросил Достоков, отодвинув конверт в сторону.
— Все будет по желанию наших господ, — по-армянски сказал Акоп. — Если вы наши справедливые требования примете, забастовки не будет.
— Ты бы вот лучше помолчал, если не можешь сказать своего слова, а тянешь с чужого голоса, — ответил ему по-армянски Достоков, и откровенная злость слышна была в этих словах.
— Это для вас, для дашнаков, на золотом бубне играют Гукасовы, Манташевы, Лианозовы, и вы под эту музыку пляшете, — сказал Акоп, и голос его загудел, как орган, заполнив весь огромный кабинет.
Хролов напряженно прислушивался к этой перебранке. Он понимал лишь отдельные слова и смутно улавливал общий смысл разговора. Но Али-Акбер, который хорошо понимал по-армянски, с восхищением и нежностью глядел на своего товарища, до этого молчаливого. Достоков круто отвернулся от своего соотечественника и сказал, обращаясь к Хролову:
— Ответ через неделю!
— У нас здесь сроки указаны: три денечка, — мягко произнес Хролов.
Достоков пожал угловатыми плечами и промолчал. Глаза у него стали неприязненны и тусклы, резко выступили черты жестокости на его болезненно-костлявом лице.
— Во всяком случае, переговоры считаю законченными.
— У нас нет полномочий вести с вами переговоры, наше дело только передать этот пакет, — быстро сказал Хролов. — Но беда вот в чем: ведь едва мы выйдем отсюда, ваши цибики на нас накинутся.
Достоков быстро оглядел трех рабочих, стоявших перед ним, и вдруг усмехнулся, но недобрая это была усмешка. Он резко позвонил.
— Передайте господину Кудашеву, пусть он проводит этих господ и от моего имени скажет охране, чтобы их не трогали.
— Нет, уж лучше мы сами как-нибудь, — угрюмо сказал Хролов.
— Почему? — изумился Достоков. — Кудашев — наш служащий. Или он имеет какое-нибудь отношение к вам?
— Пошли, товарищи, — сказал Хролов, не обернувшись в сторону Достокова.
Когда дверь за делегатами захлопнулась, Достоков резко захохотал. Потом вскрыл конверт и, не читая, пробежал взглядом всю бумагу… «Так и есть, это шрифт машинки системы «Ундервуд», той самой последней марки, которая имеется только в канцелярии Совета съездов. Николай Иванович Кудашев даже не считает нужным особенно скрывать свое участие в подготовке к забастовке — ну и пусть получит свое».
Охранное отделение давно уже осведомило господина управляющего делами Совета съездов о том, что среди служащих Совета есть несколько большевиков, в частности и Николай Иванович Кудашев. От Достокова зависело — оставить этих людей на службе или изгнать. Он примерно догадывался о том, какую пользу эти большевики приносили своей находившейся в подполье партийной организации. Так, например, он подозревал, что, подготовляя забастовку, большевики пользуются точными сведениями о состоянии экономических и финансовых дел Совета нефтепромышленников, сведениями этими располагали большевики Стефани и Кудашев, служащие статистического отдела Совета.
Но Достоков свои наблюдения и догадки хранил про себя, предчувствуя, что придет момент — и этим можно будет воспользоваться. Как воспользоваться — сообщить ли о деятельности большевиков в охранку, или, наоборот, дать понять революционерам, что он всегда, сочувствуя революции, покрывал их, — Достоков еще не знал. Но он понимал, что держит крепкую карту в азартной жизненной игре, которую только сам за себя ведет. Однако сейчас Достоков, взбешенный дерзостью единоплеменника армянина, вдруг позволил себе эту злую шутку с делегатами и с Кудашевым.
Достоков неуклюже вылез из-за стола и подошел к окну…
Так и есть, внизу, на ослепительном солнцепеке, отбрасывая короткие тени, стояла та самая тройка, которая только что побывала здесь, у него в кабинете. С ними находился и Кудашев, в летнем чесучовом костюме, как всегда аккуратный, моложавый, но уже лысеющий, что особенно заметно было сверху. Кудашев объяснял что-то подошедшему жандармскому офицеру. Поодаль в своих синих черкесках виднелись верховые казаки. Лошади мотали головами и переступали с ноги на ногу.
Кудашев указал подошедшему жандармскому офицеру на окна кабинета Достокова. Это был все тот же хорошо знакомый Достокову по картежной игре в клубе жандармский ротмистр Келлер. Сделав Достокову снизу приветственный жест рукой, он выразительно показал на трех делегатов, смирно стоявших под солнцем.
Достоков утвердительно кивнул головой и сделал рукой тот жест в воздухе, который мог обозначать только одно: отпустите их!
Правильно поняв жест своего клубного партнера, Келлер, предварительно записав имена и фамилии (на этот раз делегаты сообщили вымышленные имена и фамилии, а Хролов показал даже фальшивый паспорт на имя некоего Воскобойникова), отпустил делегатов.
Кудашев во время всей этой процедуры не уходил от своих попавших в беду товарищей, которых он видел первый раз, но которым глубоко сочувствовал. Несколько раз он взглядывал наверх, на второй этаж, и видел там неясный облик Достокова. Кудашев всегда опасался этого человека, каждый раз в разговоре подчеркивавшего, что он чуть ли не сам социалист, а после этого странного, с оттенком издевательства, случая стал опасаться еще более.
3
За то долгое время, пока Науруз и Александр волокли от Черного моря к Каспийскому тяжелые и неудобные тюки, Науруз так привык заботиться об их сохранности, что, просыпаясь иногда ночью, с ужасом ощупывал все кругом: пусто — ни мешков, ни Александра.
Уходя на работу, Алым каждый раз советовал Наурузу не очень часто выходить из подвала: его крупная фигура сразу бросалась в глаза. И хотя он носил обыкновенную русскую косоворотку, синюю в горошек, было во всей его повадке нечто обращавшее на себя внимание.
Гоярчин показала ему кочи, тех людей, которых особенно надо опасаться. Молодые кочи по большей части щеголяли в ярких черкесках, старики же донашивали когда-то пестрые, а теперь поблекшие архалуки. Но у всех у них было оружие, которое они носили открыто: браунинги в расшитых бисером чехольчиках, маузеры в деревянных футлярах, кинжалы в изукрашенных ножнах. Старшин над ними был Даниялбек, сукой, верткий старик с пышными усами и бритым, выдающимся вперед подбородком. У него на поясе висела кривая сабля с золотой насечкой на рукояти.
— Кочи, — со страхом и ненавистью произносила Гоярчин. — Кочи — хозяйские псы, на кого им укажут, того изувечат! Твое счастье, что старший хозяин уехал на эйлаги, иначе ты к нам даже в ворота не вошел бы.
Науруз понимал, что женщина права, и старался не показываться из Алымова жилища.
Сидя на нарах, поближе к свету, падавшему из двери, плел он корзиночки из жесткой травы, которую приносила шестилетняя дочь Алыма, Айсе; за этой травой, душистой и жесткой, ходила она куда-то далеко за Сураханы. Плести из травы было нелегко: она ломалась в руках и не походила на гибкие и мягкие горные травы. Но очень уж хотелось порадовать эту маленькую и бледную девочку — она часами могла сидеть возле Науруза и молча глядеть, как быстро работают его пальцы.
— Ты даже на руки не смотришь? — с восхищением спрашивала Айсе.
— Меня один слепой старик учил, — ответил Науруз. — Он завязывал мне глаза и заставлял плести. «Будет тебе ремесло на старости лет, когда ослепнешь», — говорил он.
— Дедушка мой говорит, что люди от слез слепнут, — серьезно сказала девочка.
— Твой дед — мудрый человек, — так же серьезно ответил Науруз.
Он плел, не глядя на пальцы, и глаза его были устремлены на светлую рамку двери, где изо дня в день происходило все то же.
Перед глазами его была безводная и бесплодная долина, над которой низко и непрестанно летели клубы дыма. Он привык к движению людей и подвод по долине, и тяжело-грузное, медлительное струение нефти по черным деревянным желобам больше не удивляло его.
Прошло довольно много дней с того момента, когда Науруз, взойдя на гору, впервые увидел похожее на гнездо гигантских кристаллов, громадное, угловато-каменное тело города и поселился на грохочущем и смрадном промысловом дворе Сеидовых, в каменной развалине среди вышек, которую Алым важно называл своим домом.
Науруза точно приковало к этим безрадостным местам. Шла борьба, большая, напряженная. Его не осведомляли о ходе этой борьбы, и он не домогался узнавать что-либо. «Любопытство не подобает бойцу, посаженному в засаду», — так думал он о себе. Да и о чем спрашивать? Главное он знал: начинается забастовка — об этом говорили и Алым, и Али-Акбер, и даже молоденький Шамси. Об этом плакала Гоярчин, оставаясь дома с Наурузом, когда ее слез не мог видеть Алым. «Все с голоду умрем», — говорила она. И Науруз думал: «Пригнать бы сюда стадо тяжелых баранов и накормить этих людей, не знающих вкуса настоящего мяса». Но он молчал — мечты эти бессмысленны. «Баранов сюда не пригонишь, денег бы принести! По две копейки каждый крестьянин отдаст, не пожалеет, и тысячу рублей собрать можно», — вспомнил он слова Батырбека. «Верно, так можно было бы помочь бакинцам. На родину нужно, к себе в Баташей». И ему казалось, что откуда-то с запада, с гор, прилетал пресный и травянистый ветер. На какой-то короткий миг он перешибал стоявший в долине запах нефти. Науруз вздрагивал, словно его окликали по имени. Ему представлялись зеленые ковры пастбищ, мелодичное позвякивание колокольчиков, девушка с белым барашком на руках…
Ни травинки не было видно на желтых и красновато-серых склонах окружавших его гор. Но Науруз сердцем знал, что наступило то радостное время, которое называется временем желтых цветов — тех, от которых желтеет и становится вкусным и душистым молоко коров, коз и овец, — время исполнения любовных желаний. «Нафисат, ты зовешь меня, но я не могу уйти отсюда, Нафисат! Нет, не приносил я обетов и не клялся на мече, сам добровольно наложил я зарок на себя, и этот зарок держит меня вдали от тебя».
Однажды, когда Науруз и Алым сидели на нарах и молча пили чай, в багровом от заката отверстии двери обозначилась невысокая стройная фигура. Алым встал навстречу пришедшему. Науруз последовал его примеру.
— Селям алейкум, будьте здоровы! — сказал пришедший и ловко сел на корточки. Одет он был по-русски, но Науруз сразу признал в нем горца.
— Садись, садись, — приветливо сказал он Наурузу. — Ты меня не знаешь, а я тебя знаю: ты Науруз — Новый день, — пусть будет тебе суждено принести начало новых дней для веселореченских пастухов, земляков твоих.
Он повернулся к Алыму. По темному, с алыми, падающими из двери отблесками лицу его Науруз понял, что Алым взволнован: посещение Кази-Мамеда всегда было связано с новостями.
— Плохую весть принес я, и лучше тебе услышать ее от меня, чем узнать от посторонних людей. Вчера ночью начались аресты и сегодня весь день продолжаются. Берут членов забастовочного комитета. Ты не знал об этом?
— Нет, — ответил Алым. — Так как же наше дело? — вырвалось со стоном из его груди.
— Совершится наше дело, — спокойно сказал Кази-Мамед. — Оно в наших руках, и от нас зависит его совершить. Я затем и пришел.
— А что я должен делать? — спросил Алым.
— То же, что и до сегодняшнего дня, — ответил Кази-Мамед.
Алым кивнул головой, он не любил зря тратить слова.
Кази-Мамед допил круглую чашечку чая, прикрыв глаза, покачал головой в знак того, что чай ему нравится и он благодарен за него.
И, видя, что ни Алым, ни Кази-Мамед не начинают разговора, Науруз счел этот момент подходящим, чтобы высказать свое намерение вернуться в Веселоречье и там собрать денег в помощь бастующим братьям в Баку.
Внимательно слушая, Алым и Кази-Мамед переглядывались и одобрительно кивали головами.
— Вижу, тропа подвигов по-прежнему влечет тебя, молодец, — ответил ему Кази-Мамед. — За это можно только похвалить. Я расскажу то, что ты надумал, нашим старшим и посоветуюсь с ними. Такому молодцу, как ты, скучно целыми днями сидеть в подвале, — сказал он по-русски. — Ничего, отдыхай пока. Ты большое дело сделал, великие слова привез от самого Ленина. Отдыхай хорошенько, сокол, скоро выпустим мы тебя на волю.
Кази-Мамед легко и мягко, как кошка, поднялся с места, поклонился — и вот его уже нет, он ушел бесшумно и стремительно, так же, как появился.
В эту ночь Алым не вернулся домой. Гоярчин до самого рассвета просидела у дверей, а наутро все у нее стало валиться из рук, глаза блестящие и сухие, губы потрескались, она, казалось, постарела лет на десять. Когда у нее горшок с водой опрокинулся в мангал и дом наполнился шипением и чадом и надо было снова кипятить воду для того, чтобы готовить обед, Науруз подошел к ней, взял ее руку и сказал:
— Отдохни, сестра… идем.
Она, услышав веселореченское слово «сестра», которое знала от мужа, как ребенок, послушалась его и, едва положив голову на нары, заснула.
А Науруз весь день провозился с детьми. С помощью Айсе сварил обед и накормил детей. Он вынул из колыбельки маленького Сафара, обмыл его, напоил молоком и уложил спать. После этого он снова принялся за чистку вонючей соленой рыбы, чтобы, если Алым вернется, было чем его покормить. Он так погрузился в это непривычное для него дело, что растерялся, когда Гоярчин с отчаянным криком: «Алым!» — вскинулась с постели, точно крыльями большой птицы покрыла мужа своим большим головным платком и повисла на шее его. Высокий и прямой, Алым стоял на пороге. И тут же, засуетившись, Гоярчин отпрянула от Алыма, присела на корточки возле мангала, уткнула голову в колени и, держась за его руку своей худой длинной рукой, беззвучно зарыдала… Шаги Алыма она услышала во сне, Науруз же и наяву не расслышал их. Потом спохватилась, подняла лицо и пытливо взглянула мужу в глаза, — он не должен был знать, что она покинула свое место возле очага.
— Ужин готов, — кратко сказала она.
— Ничего, я сыт… — проговорил он. — Ночью вас не беспокоили?
— Нет, — испуганно ответила она. — Должны были за тобой прийти?
— Никто этого знать не может, — сказал он. — Но могли, конечно, взять и меня, вот я и решил их перехитрить.
Он жестом пригласил Науруза сесть и сел сам.
— Поговорим тайно. Словоохотливость — слабость, недостойная мужчин. Между этой субботой и следующей начнется наше великое дело, — шепотом выдохнул Алым, вкладывая в эти слова и затаенные надежды всей своей жизни, и опасение за неудачу всего дела, и уверенность в победе. — Наверно, наши старшие уже наметили день, но когда этот день настанет — никто не должен знать. Среди нас есть враги самые страшные, они говорят нашими словами и кощунственно произносят наши клятвы. Все, что они узнают у нас, несут начальству и получают за это деньги. И врагам нашим уже известно, конечно, что забастовка должна начаться на этой неделе, но не знают когда. Они ждут, что мы не выйдем на работу. Но на работу мы выйдем. Мы все станем на свои места. Враг усомнится: значит забастовки не будет? А после, когда пройдет час, или два, или три, будет дан гудок — один долгий гудок. Так начнется забастовка и волной пройдет по всем промыслам.
Алым помолчал.
Он не сказал, не имел права сказать того самого важного, что больше всего волновало его: решено было, что гудок дадут сеидовские промыслы, которые в результате честолюбивых стремлений хозяина Шамси Сеидова оборудованы были самым мощным и зычным гудком. Кази-Мамед и Алым должны подготовить и провести это дело, и оба они решили вовлечь в него Науруза.
— Науруз, ты наш гость. Вместе с другом своим Александром, принимая большие лишения, привез ты к нам драгоценное слово Ленина. Только благодарность чувствуем мы к тебе за это, одну благодарность. И мы тебя можем только просить помочь нам в одном деле, только просить.
Он замолчал.
— Говори, какое дело, — ответил Науруз.
— Я знал, что именно это услышу от тебя, дорогой земляк! — радостно сказал Алым.
4
После того как Мадат Сеидов по возвращении в Баку обнаружил, что отец его, забрав всю семью, уехал на эйлаги, родной дом опротивел ему. Все дела фирмы разом свалились «а него. С непривычки управлять огромным хозяйством Мадату было очень трудно, и чтобы целиком отдаваться этому делу, ему даже пришлось переселиться в здание конторы промыслов. Там при кабинете отца была маленькая, пропитанная щекочущими нос пряными запахами комнатка с низеньким диваном. Мадат, конечно, угадывал назначение этой комнаты. Он велел выкинуть диван и поставить новенькую пружинную кровать. Убрал вышитые на шелку картины непристойного содержания и несколько дней держал окно открытым. Но все равно сквозь запах нефти, вливавшийся в окно, порой пробивался еле слышный пряный аромат, напоминавший об отце, — и Мадат брезгливо морщился. Все, что напоминало об отце, сейчас внушало ему отвращение.
В поведении отца Мадата возмущало даже не то, что он испугался чумы, — в первые дни возникновения эпидемии в Баку была такая паника, что в поездах не хватало мест и градоначальник выступил со специальным увещеванием в газетах. Мадата возмущали глупость и невежество отца: ведь после разговора с врачом Мадат уяснил, что из жарких мест бежать в прохладные — значило скорее бежать к чуме, а не от чумы. И потом бросить дела фирмы так, как они брошены были отцом!.. Только добравшись до эйлагов, отец нацарапал бессвязное письмо главному инженеру, которое, кроме извещения о том, где он находится, содержало еще назидательный совет «чаем-кофием развлекаться, а от пива-водки отвлекаться». Как взбесился главный инженер Отто Готлибович Баухлебен, прочитав этот совет! Он действительно любил пиво, но на служебной деятельности эта его склонность никак не отражалась. Показав Мадату письмо, немец долго возмущался и от полноты чувств даже ругался по-немецки: «андертхальбтойфель», «доннер веттер унд ейн тойфель, дрей хексен дацу» — ругательства, которые звучали слабо и как-то неубедительно.
А ведь отец как-никак гласный думы, о чем не без откровенного издевательства напомнил Мадату Рашид Рамазанов, приехав к нему в контору. Среди владельцев промыслов, и особенно среди мусульман, некоторые относились враждебно к такой новинке, как буровой станок Рамазанова, и продолжали придерживаться дедовских способов бурения — с помощью рытья колодцев, хотя известно было, что подобные способы истощают верхние слои и приводят к взрывам газа и несчастным случаям. Во главе борьбы против «безбожника Рашида» стоял не кто иной, как Шамси Сеидов, отец Мадата. Рамазанову все же удалось на льготных условиях, почти даром, уговорить Шамси Сеидова поставить на пробу один станок у него на промыслах. Новая буровая машина себя вполне оправдала, и теперь, когда брюзгливо-самодовольный и невежественный старик исчез из города и в конторе фирмы «Братья Сеидовы» появился молодой наследник, студент-технолог, Рашид Рамазанов задался целью продать этой ранее враждебной ему фирме большую партию своих машин. Зная, что Сеидовы не хотят трогать своего основного капитала, Рамазанов предлагал Мадагу выгодный кредит, который будет покрыт из текущих доходов фирмы. Но Мадат чувствовал все огромное значение такого шага для судьбы фирмы и колебался. Рамазанов сам звонил Мадату, давал ему дельные, вполне себя оправдывающие советы и даже порою приезжал к нему в контору.
— Скажи, любезный Мадат, почему отец твой всюду говорит, что я безбожник? — говорил Рамазанов, человек сухощавого сложения, с длинными руками, чисто выбритым смуглым лицом и с черными густыми бровями. Он и наружностью и свободными, несколько резкими манерами сразу приковывал к себе внимание. — Я объехал все мусульманские страны, побывал даже в Испании, чтобы своими глазами увидеть памятники мусульманской культуры, и скажу тебе: этим стоит заняться. Я построил на Кавказе несколько мечетей и сам все проекты с архитекторами разрабатывал. Но, конечно, денег муллам не давал, так как не хочу, чтобы меня обворовывали. Вот они и хулят меня, как если бы я был навеки заключен в темницу и не мог сказать слова в свою защиту.
Рамазанов говорил горячо, взволнованно, но блестящие глаза его бегали по комнате, и Мадат невольно с опаской следил за его взглядом. Мадат понимал, что его занимает совсем не то, о чем он говорит.
— Почему же я безбожник? — настойчиво спрашивал Рамазанов. — Потому, что, сам мастеровой человек, я не могу быть врагом технического прогресса нашего времени? Потому, что машины изобретаю и на этом богатею? Или, может, потому, что люблю свою жену и не завожу себе на каждой улице сийгу?
Мадат покраснел и откашлялся, — его отец с большой легкостью вступал в эти временные браки — «сийга», являющиеся узаконенной мусульманством проституцией. Рамазанов замолчал: ссориться с, молодым хозяином этой всегда ранее враждебной ему фирмы, которой он теперь впервые получил возможность сбыть на солидную сумму оборудования, — нет, это было совсем не в его интересах. Он быстро оглядел комнату в поисках предлога, чтобы перевести разговор на другую тему, кивнул на электрический вентилятор, мягко шумевший на столе и навевавший прохладу, и сказал:
— Сколько баб с опахалами нужно поставить, чтобы заменить одну такую штуку? Это немецкая «Бергман Электроцитейтс»?
— Я у Никитина купил, жара настала невыносимая, — хрипло сказал Мадат.
Он сидел в тоненькой рубашке-сеточке с отложным воротничком, черный галстук висел возле на стуле. Не только на лице, но и на бритой голове его выступил пот. Рамазанов был во всем черном; черные, красиво уложенные волосы, казалось, выкроены из того же материала, что и костюм.
— У Никитина? Ну конечно, он контрагент Бергмана.
Его длинные руки схватили вентилятор.
— Скажу тебе, Мадат, по совести: все эти чудеса техники можно превосходно выделывать на петербургских заводах, и — аллах керим! — будет не хуже, чем у немцев. Да что в Питере, даже в нашем Бакю-ба — я доказал это своими собственными руками — можно в смысле техники обойтись без иностранцев!
Дверь вдруг открылась, и в комнату вошел Али-Гусейн Каджар, с которым Мадат после возвращения из Петербурга так и не виделся.
— Саол! — дружественно крикнул он Мадату. Но увидел Рамазанова и поклонился ему с церемонной вежливостью.
— А, сколько лет, сколько зим, ваше высочество! — по-русски сказал Рамазанов. — Как это ваше высочество смеет глядеть столь бесстыдно в глаза своим друзьям? Сколько времени в Баку, а глаз не кажете.
— Жарко, — вяло проговорил Али-Гусейн, опускаясь в кресло. Его белая шелковая рубашка была заправлена в брюки, тонкий стан охвачен широким поясом — костюм этот особенно подчеркивал стройность его сложения. — Нет, до чего жарко, даже кожа на кресле раскалилась, как железная сковородка!.. — Али встал с места и наклонил свое бледное, с нежным, чуть выступившим на щеках румянцем и полуоткрытым румяным ртом лицо к вентилятору. — Ах, хорошо!
— Ну, как Баженовы? — спросил Мадат.
— Нету… Ни в одной гостинице нету. И даже не останавливались… Может, они ее обманули, украли?
— Красивая девушка? — спросил Рамазанов.
Али-Гусейн с выражением страдания покачал головой так выразительно, что оба его собеседника переглянулись и засмеялись. Потом Рамазанов сказал:
— А что ж, в Баку все может случиться… Вон, — и он подошел к окну, откуда виден был сверкающий, весь в блестках, залив и белокрылый парусник, огибающий Баилов мыс, — может быть, вон там, в трюме, со скрученными руками и заткнутым ртом лежит ваша красавица и ее через Энзели продадут в какой-нибудь гарем.
— Ну, неужели это возможно? — вскочив с места, крикнул Али-Гусейн.
Рамазанов усмехнулся.
— Не забывайте, высокорожденный, что мы на грани двух миров: тут — Европа, там — Азия… Я, конечно, за Европу.
Он вдруг умолк, поиграл пальцами по лакированной поверхности новенького письменного стола, недавно приобретенного Мадатом, вздохнул, поднял свои продолговато прорезанные блестящие глаза и вкрадчиво сказал:
— И прежде всего потому, что в отношении кредита без иностранцев не обойдешься.
«Где ни гуляли, а к тетке попали», — вспомнил Мадат поговорку отца. Сохраняя неподвижность лица, он внутренне усмехнулся и продолжал внимательно и настороженно слушать своего собеседника.
— Вся суть в том, с какими банками иметь дело, Мадат… Я знаю, что отец твой по старой памяти держит свои деньги в немецком «Дисконто Гезельшафт».
Он быстро взглянул на Мадата — тот по-прежнему оставался вежлив и неподвижен.
— Что ж, — продолжал Рамазанов, — конечно, солидная фирма. Но надо быть таким неосведомленным в кредитных делах, как твой почтенный отец, чтобы продолжать держаться этого банка и довольствоваться шестью копейками на рубль, когда, как я уже обещал тебе, ты можешь иметь рубль на рубль.
— Но зато сейчас мы независивая фирма, а если принять ваше предложение, мы попадаем в общий загон, — ответил Мадат.
— Ничего, — со смешком сказал Рамазанов. — Ротшильд, как ты знаешь, в этом загоне отлично пасется и нагуливает жир, а ваша почтенная фирма, если не обезопасит себя моими буровыми машинами, может, как я тебе уже объяснял, остаться без нефти.
Мадат, якобы сомневаясь, покачал головой. Но он знал, что Рамазанов предупреждал о серьезной угрозе. Случаи, когда, применяя глубокое бурение, лишали нефти соседа-конкурента, неоднократно происходили в бакинском нефтяном районе и были причиной краха ряда старинных фирм.
А Рамазанов продолжал мягким, поучающим голосом:
— Не знаю, известно ли тебе, что дела Манташевых, имевших дело с Немецким банком, сильно пошатнулись после так называемой керосиновой войны с Рокфеллером, войны, после которой Немецкий банк вынужден был отказаться от русской и, в частности, от нашей бакинской нефти.
— Но наше «Дисконто Гезельшафт», насколько я знаю, конкурирует в Германии с Немецким банком, — возразил Мадат.
Рамазанов пожал плечами.
— Я не допускаю мысли, чтобы ты не знал о том, что англичане создали в Южной Персии Англо-Персидскую компанию. Ими же десять наиболее могущественных русских фирм, с капиталом около полусотни миллионов рублей, объединены в Русскую генеральную нефтяную корпорацию.
— Но при чем тут англичане? — вдруг недоуменно спросил Каджар. — Зимою, когда я был в Баку на каникулах, дед принимал у себя на даче в Мардакьянах господина Шибаева. Разговор шел при мне. Шибаев предлагал деду вступить в эту самую Русскую нефтяную корпорацию, которую вы упомянули, и говорил, что цель ее истинно русская, патриотическая: выжить иностранный капитал.
Рамазанов покачал головой и усмехнулся.
— Ну, а чем дело кончилось? — спросил он.
Каджар зевнул и отмахнулся.
— Не знаю, право. Я уехал в Петербург, и если бы вы сейчас не завели этого разговора, я бы и не вспомнил.
Рамазанов взглянул на Каджара и быстро отвел взгляд, но Мадат уловил в этом быстром взгляде выражение презрения…
— В каких ресторанах высокорожденный проводит свободное время в Петербурге? — со смешком спросил Рамазанов.
Али весело рассмеялся.
— Уж не взялись ли вы, Рашид-ага, точно сообщать деду, куда уходят его щедрые вспомоществования, посылаемые бедному студенту? Извольте: у Донона, у Палкина… Очень люблю «Стрельну». Но уверяю вас, все это не в ущерб моим учебным успехам, моя зачетная книжка в отличном состоянии.
— Если бы вы, даже в ущерб вашему институту, чаще бывали у Кюба… Почему вы не бываете у Кюба?
— Да как-то не по пути… Помнишь, Мадат, как-то мы были, Показалось скучновато.
— И тебе, Мадат, тоже было гам скучно?
Мадат поморщился.
— Я вообще не большой любитель ресторанов. Отец просил меня зайти к Кюба и найти одного человека.
— Нефтяного человека? — продолжал настойчиво спрашивать Рамазанов.
— Да. Представителя компании «Нафталан», — уже с Неохотой ответил Мадат.
Рамазанов рассмеялся.
— Дети, дети, играете золотыми слитками, считая их за камешки. Ресторан Кюба — это Мекка и Медина нефтепромышленников, место, где происходят грандиозные сделки, где можно с точностью узнать, как идут нефтяные дела в Мексике и Венецуэле, не говоря уже о Баку. И вам обоим, нефтяным наследным принцам, надлежит бывать там возможно чаще. Если бы в эту зиму, дорогой Али, вы бывали у Кюба, то причина, по которой истинно русский человек Шибаев приехал к такому праведному мусульманину, как ваш дед, была бы вам ясна. Вы бы знали, что все это генеральное объединение русской нефтяной промышленности пытается прибрать к рукам через посредство своих кредитов не кто-нибудь, а могущественная «Роял Деч Шелл». А во главе ее стоит, как вам, конечно, известно, сам сэр Генри Детердинг, главный поставщик нефти Великобританского адмиралтейства.
Рамазанов взглянул на Мадата. Но по лицу Мадата можно было только понять, что ему жарко. И Рамазанов сказал раздраженно:
— Впрочем, ты, Мадат, хотя изображаешь собой дервиша в состоянии священного столбняка, но тебе, конечно, известно, что и Англо-Персидская компания и «Роял Деч Шелл», формально независимые друг от друга, все же обе являются поставщиками нефти британского военного флота. Твой лондонский знакомый мистер Седжер гостит сейчас у меня и велел передать тебе привет. Ты, надеюсь, его не забыл? — с добродушной насмешкой сказал Рамазанов и удовлетворенно отметил смущение на лице Мадата. — Насколько я понял из разговора с ним, вы при встрече беседовали не только об узорах азербайджанских ковров, которые ты с такой выгодой продал в Лондоне, — продолжал Рамазанов.
— А давно мистер Седжер в Баку? — спросил Мадат.
Но тут опять открылась дверь в контору. На пороге возникла субтильная фигурка конторщика сеидовской фирмы Мушеира Рустамбаева. Мушеир был в красной феске и черной тройке, лысый и краснолицый, такой, каким Мадат помнил его с тех пор, как Мушеир в детстве учил его русской азбуке. А за ним, теснясь в дверях, показались несколько человек рабочих; Мушеир отчаянно махал на них руками, как машут на пчел, залетевших в комнату. Почти все вошедшие были знакомы Мадату с детства. Среди смугло-румяных азербайджанцев резко выделялся своими русыми волосами и бледным, со слабо обозначенными веснушками лицом механик Сибирцев, в чистой расстегнутой блузе с белым, охватывавшим жилистую шею отложным воротничком. Вид у Сибирцева был настолько торжественный и праздничный, что Мадат вопросительно обернулся к нему. Но вперед неожиданно протиснулся исчерна-смуглый, с седой реденькой бородкой, щупленький человек в стареньком, вылинявшем архалуке — по этому архалуку и по желтому, без полей, куполообразному, свитому из соломы головному убору в нем можно было безошибочно узнать пришельца из-за Аракса. Он поклонился Мадату так низко, что тот, кто не знаком с обычаем восточной вежливости, счел бы подобный поклон за проявление крайней приниженности, и протянул Мадату большую бумагу. Он держал ее обеими руками, темными и морщинистыми, и Мадат заметил, как дрожат руки старика. Развернув бумагу, Мадат увидел, что написана она по-русски, крупными, с нажимом буквами, как учат писать в школе, и что отец, которому она адресована, именуется в ней без всякого титулования, русского или мусульманского, — попросту господином Шамси Сеидовым, даже без отчества: «Владельцу и главному директору фирмы «Братья Сеидовы». И ниже одно только в строчку выписанное слово:
«Требования».
Прочитав это, Мадат почувствовал, что его точно кнутом ударили.
Сдерживая себя, он отложил в сторону бумагу. Длинная, обросшая черными волосами рука Рамазанова потянулась к бумаге и взяла ее.
— Я не знаком с вами, отец, — сказал Мадат, обращаясь к старику, стоявшему перед ним, сложив на груди руки ладонь на ладони и слегка наклонив голову, с видом скромности и достоинства. — Однако готов говорить с вами. И с каждым, кто вошел сюда ко мне, готов говорить о ваших нуждах. Но в эту бумагу я даже заглядывать не буду, ибо она озаглавлена недопустимо дерзко. Ни я, ни отец мой никаких требований от вас не принимаем и принимать не будем, и читать их я не стану.
— А вы бы все-таки прочитали, господин Сеидов, право, прочитали, — по-русски сказал Сибирцев, и в спокойной силе этого голоса было нечто такое, что сразу вызвало у Мадата уверенность в том, что эти четкие, старательные строчки выведены им. — И слово это — «требование» — мы не зря написали, — продолжал Сибирцев, — мы не о милости просить вас пришли, а потребовать то, что по справедливости должно быть вами выполнено…
— Иван Никитич, да что вы! — укоризненно быстро заговорил по-русски Рустамбаев. — Ай, что же это? Такой благоразумный человек, семейный, интеллигентный… И разве вы наградами обижены?..
— Наградные можете себе взять, мы отказываемся от подачек, — возвышая голос, сказал Сибирцев; лицо его так покраснело, что веснушки утонули в румянце.
— Верно, Ваня, — по-русски сказал высокий, с продолговатым лицом рабочий, и Мадат сразу вспомнил: черкес Алым звали его, один из давних сеидовских рабочих, и как раз тот самый, что работал на новом бурильном станке Рамазанова.
Старик, вручивший бумагу, сделал шаг вперед и вытянул свои коричневые руки с искривленными пальцами.
— Молодой хозяин, вот погляди: тридцать лет эти руки работали в глубине иранской земли, прокладывая путь для подземных потоков воды, выводя их на землю, да еще семнадцать лег работают эти руки здесь, в Баку, — добывают нефть для вас, Сеидовых… По-русски я понимаю, но язык мой не привык к русской крепкой и твердой речи, и я не могу произнести это слово, из-за которого зашел спор. Но спор этот свой смысл имеет. В прошлом году мы еще просили, и отец твой нам обещал все, а ничего не выполнил… Потому взгляни на эти руки и не возносись перед нами — мы требуем того, что по праву наше. Здесь подписаны все наши имена и мое имя тоже, хотя я настолько неграмотен, что письма домой пишет мне писец, который сидит возле мечети, а я плачу ему пятак за каждое письмо.
— Почитай, почитай, хозяин, — густо сказал Сибирцев. — Верно, почитай.
Они уже уходили. Старик опять подчеркнуто вежливо поклонился, Сибирцев небрежно кивнул головой. Но Мадат вдруг увидел у самых дверей своего двоюродного брата Шамси, — что-то новое было в выражении его миловидного лица: удивление? внимание?
— Здравствуй, Шамси, — сказал Мадат, выходя из-за стола, и сделал шаг к брату. — Почему раньше не приходил? Останься, поговорить надо.
— Нет, я пришел вместе с моими товарищами и с ними уйду, — быстро ответил Шамси.
— Ты пришел с ними? — растерянно спросил Мадат.
— С ними… с ними… навсегда с ними! — ответил Шамси и, повернувшись, вышел под причитания Мушеира о человеческой неблагодарности вообще и неблагодарности облагодетельствованных родственников в частности.
В это время Рамазанов подошел к стенному телефону старого устройства, вертел ручку, снимал трубку, вызывал номер, опять вешал и вертел и, дождавшись ответного звонка, снова снял трубку.
— Это я. Да, да, я. Что нового, Василий Терентьевич? Прочтите. Да, да, пункт за пунктом…
Держа в одной руке «Требования», а в другой слуховую трубку, он следовал глазами за строчками и кивал головой.
— Ну, хватит.
Он повесил трубку и повернул ручку аппарата вперед, обратно, вперед, обратно — три раза, дал отбой.
— Позови-ка сюда человека, который приехал со мной, — сказал он Мушеиру.
Мушеир, горестно бормоча что-то, вышел, и в двери тут же появился, чуть-чуть открыв ее и протискиваясь всем своим тучным телом, грузный человек с длинноствольной винтовкой-винчестером в руках. Поверх шелковой ярко-голубой с низеньким воротничком рубашки надет был черный, обычного городского покроя пиджак, а под ним виднелись ленты патронов. Деревянный приклад маузера свисал с пояса рядом с кинжалом, на узорчатых ножнах которого сверкали каменья. Широкие шаровары из такого же, как и рубашка, блестящего голубого шелка подвязаны были красной тесьмой и спускались на красносафьяновые туфли с носками, щеголевато загнутыми кверху. Он бесшумно притворил за собой дверь.
Мадата сразу же поразила форма головы этого человека, снизу вверх, от мясистых, расплывшихся щек к вискам, сужающаяся. Крючковатый нос и черные усики над припухшими губами, мохнатые брови, из которых одна приподнята, маленькая черная барашковая шапка, как будто бы предназначенная для того, чтобы прикрывать лишь бритую макушку. Так выглядел постоянный спутник Рашида Рамазанова, оберегающий его жизнь, Ибрагим-ага, глава всех рамазановских кочи и непререкаемый авторитет среди всей этой многочисленной корпорации наемных убийц. Войдя в комнату, он с достоинством поклонился и устремил на хозяина свои блестящие карие выпуклые глаза. Жестокость, хитрость, коварство — все пороки открыто выражали себя на его лице, и над всем господствовала готовность все эти пороки поставить на службу хозяину.
— Я звонил сейчас к нам. В утреннюю почту мы получили письмо будто бы от наших рабочих, они угрожают нам забастовкой, — сказал ему хозяин.
— Кто осмелился подписать подобное богохульство? — откашлявшись, спросил Ибрагим-ага.
Рамазанов недоуменно развел руками.
— Никто! — сказал он. — Группа рабочих-металлистов.
Ибрагим-ага удовлетворенно кивнул головой.
— Я знал, что подписать никто не отважится, иначе умрет. — Он выразительно потряс винтовкой. — У нас не то что здесь вот, где стая псов врывается в комнату к хозяину… Прости меня, молодой хозяин, — и тут Ибрагим-ага поклонился Мадату, — я простой человек, и перед пророком и братьями мусульманами душа моя открыта…
— Что ж, пожалуйста, конечно, — по-русски пробормотал Мадат.
— Порядка, значит, у них здесь нет? — подмигивая Мадату, спросил Рамазанов. — А что твой приятель Даниялбек смотрит?
— Даниялбека обидели, — ответил Ибрагим-ага и снова поклонился Мадату. — Прости меня, молодой хозяин, я скажу все, что у меня на сердце. Твой верный пес укусил чужого человека, ты побил пса — теперь пес не знает, кто свой, кто чужой.
— О-о-о! — подняв палец, многозначительно сказал Рамазанов, которому, видимо, этот разговор доставлял удовольствие.
— Он грубо поступил с русским инженером, которого недавно взяли на службу, — сердито ответил Мадат. — У инженера потребовали, чтобы он открыл сумку, и когда тот не дался, у него силой отняли сумку и при этом больно толкнули его.
— Ай, толкнули! — воскликнул Рамазанов. — И неверный рассыпался в прах от одного толчка, как если бы он был сделан из китайского фарфора.
Все засмеялись, и даже Мадат принужденно усмехнулся.
— В сумке оказалась пара белья, полотенце, одеколон, зубная щетка. И ни к чему весь этот разговор, — сказал Мадат.
Ибрагим-ага с откровенным презрением сверкнул на него глазами, вздохнул и вдруг повернулся к Каджару, который, приопустив веки на глаза, со скучающим видом слушал все это.
— Не вижу ли я своими недостойными глазами потомка великого шах-эн-шаха и славного из славных и внука его величества Насыра сына Джафара?
Али-Гусейн неохотно кивнул головой.
— Ну, ну, какое у тебя ко мне дело, говори? — сказал он.
— У меня к тебе дела нет, — живо ответил Ибрагим-ага. — Но если тебе потребуется кого-нибудь зарезать, сообщи хозяину моему, что я тебе нужен.
Все засмеялись.
— Вряд ли мне понадобится подобная услуга, — лениво промямлил Али.
— Время такое, что от лишнего ножа грех отказываться, — сказал Ибрагим-ага. — Мне можно идти, хозяин? — повернулся он к Рамазанову.
— Иди и всю свору держи наготове, может быть большая охота. Скажи, этот нечестивый Буниат, он не вернулся в Баку?
— Есть слух, что его убили в Джебраиле.
— Слух… слух… Ну ладно, иди.
И после того как грузная фигура так же осторожно протиснулась в двери, как и вошла, Рамазанов сказал, обращаясь к Каджару:
— Ты сейчас сделал большое приобретение, и, уверяю, оно тебе пригодится. Я что-то слышал от Ибрагима, что дед твой как-то спас ему жизнь?
Каджар пожал плечами и ничего не ответил. Рамазанов повернулся к Мадату.
— Дорогой, выслушай меня, как если бы с тобой говорил старший любящий брат. Ты учишься в институте, мой институт здесь, — он хлопнул себя по широкому лбу под блестяще-черными, как вороново крыло, гладко зачесанными волосами. — Ты с детства не работаешь руками, а если ты спросишь обо мне любого рабочего, который давно в Баку, он, может, и выругает меня, уж непременно с гордостью скажет: «Как же, из нашего брата, его отец был простой мужик».
— Да и я не аристократ, — перебил его Мадат. — Мой отец и дядя…
— Знаю, твои старики пришли в Баку пешком и сами лазили в нефтяные колодцы, пока покойный Сулейман не женился на ханской дочери, все знаю! Вот потому-то отец твой, если бы он был здесь, или покойный дядя, если бы он был жив, ни за что не обидели бы, и к тому же из-за гяура, такого человека, как Даниялбек или этот вот Ибрагим-ага. Потому что, если не держать народ в страхе божием, все к шайтану пойдет.
— Это верно, — сказал вдруг Али, казалось занятый своими мыслями. — Дед мой тоже так говорит.
— Слышишь? Сам Гаджи Тагиев, аксакал наш, то же самое говорит. Ему Менделеев руку жал и хвалил его, а ты образованный человек, ты знаешь, кто это такой Менделеев: его взор проникал сквозь толщу земли. Будь я царем, ему в Баку памятник поставил бы. Ты видел, мой Ибрагим-ага красные туфли носит. Так мне всегда кажется, что после него след кровавый по земле остается, хотя эти туфли я сам ему подарил. Но кровь, которую он выпустил из гяуров или таких отступников мусульманства, вроде этого дерзкого Мешадибека или того неуловимого, как ветер, Буниата, о котором я сегодня спросил, за эту кровь я перед аллахом отвечу.
Он мрачно замолчал. Юноши переглянулись. Они вспомнили рассказы о страшной резне в Баку; и тогда еще говорили, что резня эта подстроена Рамазановым — его подручным Ибрагимом-ага.
— Этот ишачий зад Мартынов вчера хвалился в клубе, будто все беспокойные элементы в Баку арестованы, — про себя проговорил Рамазанов, шагнул к телефону, позвонил и вызвал кабинет градоначальника. — Ваше превосходительство? Приветствую вас и Елену Георгиевну. Нарциссы ей доставили? Слово правоверного крепко, как алмаз… Могу сообщить неприятные новости. Я сейчас говорю из конторы Сеидовых. Господина Мадата Сеидова, сына нашего боязливого Шамси, только что при мне посетила, как это говорится, делегация рабочих и предъявила требования… Это для вас не новость? Интересно…
Присев на ручку кресла и покачивая своей длинной ногой в лакированном штиблете, Рамазанов молча слушал, и усмешка дрожала на его тонких губах.
— Вы простите меня, ваше превосходительство, я, конечно, простой мужик и, с вашего разрешения, задам неучтивый вопрос. Выходит, что ваши слова, сказанные вчера господину Тагиеву в моем присутствии, о том, что вам удалось обезглавить забастовку, — эти ваши слова следует считать шуткой?
Он опять замолчал. Трубка громко застрекотала. Рамазанов слушал, покачивая головой, потом сказал, нарочито коверкая русский язык на тот лад, как это делают азербайджанцы, еще не выучившиеся говорить по-русски:
— Ай, спасиб, господин начальник, большой спасиб, утешиль, слез высушиль… — И добавил хорошим русским языком: — Приветствую и шлю мое нижайшее и всепокорнейшее почтение сладчайшей Елене Георгиевне.
Он повесил трубку, дал отбой.
— Говорит, что уже есть сведения от нескольких десятков фирм. Везде предъявлены такие же требования. Одним владельцам требования вручены лично, как у вас, некоторым присланы по почте, как у меня, а есть и такие, кому переданы через швейцаров, через секретарей, даже просунуты в дверные ручки парадных дверей. А требования повсюду дословно совпадают. Но при этом господин градоначальник сказал, что, если курице огрубить голову, она немножко и без головы бегает.
Он взял «Требования» и вновь стал перечитывать.
Каджар зевнул, потянулся и сказал:
— Все какая-то ерунда. Поедем, Мадат, на Парапет, мороженое будем кушать.
— Какое тут мороженое! — досадливо отмахнулся Мадат. — Можно подумать, что мы в Петербурге.
— А что ему? — возразил Рамазанов. — Если бы у меня был такой дедушка, как Гаджи Тагиев, я только о мороженом и думал бы. И о девушках, понятно… Ну, а у тебя, дорогой Мадат, конечно, в связи со спешным отъездом родителя «совсем другое настроение», как выражается моя жена. И должен тебе сказать, как хозяин хозяину: в этой бумаге все изложено очень дельно и продуманно — особенно насчет того, чтобы убрать с промысловых площадей все гнилые постройки. Ведь под ними находятся сотни, если не тысячи, десятин нефтеносных площадей. А это значит, что десятки миллионов рублей превращены в мертвый капитал. Ты уж поверь мне. До того как я стал промышленником, я брал подряды на бурение — и в том, где под землей ходит нефть, кое-что понимаю. Да ты не качай сомнительно головой, а закажи своему милому Рустам-заде произвести соответствующий подсчет. Ведь я знаю, что твой папаша считает взимание оплаты с несчастных, населяющих ваши рабочие квартиры, делом куда более доходным, чем добычу нефти.
— Так, значит, вы считаете, надо согласиться с их требованиями? — недоуменно спросил Каджар.
Рамазанов покачал головой и сказал со странным выражением — не то сожаление, не то раздумье слышалось в его голосе:
— Не можем, ваше высочество дорогой принц, никак не можем согласиться мы с этими требованиями, хотя они ничего неосуществимого в себе не заключают. А почему — это вам лучше, чем я, объяснит ваш дедушка мудрый Гаджи Тагиев. Во время прошлогодней стачки он сказал: «Я сам в юности был амбалом, перетаскал на своем горбу многие тысячи пудов для обогащения людей и без того богатых и потому лучше вас всех знаю, что забастовщики не требуют чего-нибудь неисполнимого, все их требования выполнить можно. Но если мы их требования выполним, они через пять лет станут той силой, которая превратит нас в их приказчиков».
Зазвонил телефон. Мадат снял трубку.
— Господин Сеидов? — спросили по-русски.
— Я сын его.
— Это не важно, сын или брат. Мне нужен представитель фирмы.
Голос был хрипловатый, срывающийся на писк, такой, что можно было подумать, будто телефон испорчен…
— Я — Мадат Сеидов, в настоящее время по доверенности отца веду дела фирмы.
— Очень хорошо. С вами говорит управляющий делами Совета съездов Достоков. Председатель Совета господин Гукасов просит вас сегодня в четыре часа пополудни быть в помещении Совета съездов.
— Почему так срочно? — спросил Мадат. — А на завтра утром нельзя отложить?
— Вам ваши рабочие предъявили требования? — спросили по телефону.
— Да, — ответил Мадат. — И мне известно, что это произошло на многих фирмах.
— Но вам, очевидно, неизвестно, что Совет съездов также получил требования от общества рабочих нефтедобывающей промышленности. И считаю нужным поставить вас в известность, что в этих требованиях есть пункт о создании при Совете съездов постоянного совещания уполномоченных от рабочих.
— То есть как?
— Господин Сеидов-младший, я прошу извинения, но господин Гукасов именно потому и просит вас прибыть сегодня в четыре часа, что положение создалось чрезвычайное., требования должны быть обсуждены в срочном порядке. Можно рассчитывать, что вы прибудете?
— Буду, — ответил Мадат и положил трубку.
— Кто звонил? — быстро спросил Рамазанов. — Достоков? Ну вот, видишь, слово в слово то самое, о чем мы сейчас говорили. Постоянное совещание уполномоченных! Видишь, что они придумали… то, чего твой дедушка опасался. Нет. Ненавижу я этого гяура Гукасова, и если бы он попался мне в те благочестивые дни, когда с дозволения господина градоначальника наши кочи резали армян, я бы его зарезал собственной рукой. Но как на председателя я на него пожаловаться не могу, он знает, когда надо бить тревогу. Смотри, что выдумали! Править будут уполномоченные, а Рашид Рамазанов на своем заводе будет у них приказчиком?
Он замолчал. Невесело и мрачно блистало на его злом лице выражение деятельного ума. Оба юноши с восхищением и ожиданием смотрели на него.
Рамазанов глубоко вздохнул, словно желая глотком воздуха прогнать злость, которая, подобно изжоге, ела его, и сказал, обращаясь к Мадату:
— Хорошо бы, Мадат, чтобы ты сегодня вечером посетил наш дом, мистер Седжер с нетерпением ждет встречи. И вы, ваше высочество, — шутливо поклонившись, сказал он Каджару, — осчастливьте наш скромный очаг.
— Не знаю, я, наверно, к деду в Мардакьяны уеду, жарко в городе.
— Узнаю царственный девиз шах-эн-шахов: истинный властитель с дивана не встает.
И Рамазанов снова, не скрывая насмешки, поклонился.
Глава пятая
1
Наверно, во всем огромном городе только два человека не имели никакого представления о тех больших событиях, которые назревали в эти дня: Алеша Бородкин и Миша Ханыков. Произведя съемки в зачумленной деревне, они сейчас трудились над «видовой», как тогда говорили, кинокартиной под зловещим и вызывающим интерес названием «Чума в Тюркенде».
Господин Достоков, действуя по рекомендательному письму господина Нильского, своего петербургского приятеля, оказал им протекцию, и теперь молодые кинематографисты имели все условия для работы. Несколько суток подряд не выходили они из большого темного подвала при одном из самых респектабельных и богатых фотоателье в Баку «Миллий и Мэнский». Потому изготовление «праздничного платья короля», как между собой называли Алеша и Миша свое будущее произведение, двигалось быстро и споро. И франтоватый Мелик Менакьян, владелец этой столь внушительно-звучной фирмы, не раз недоумевал и любопытствовал, почему взрывы оглушительного хохота, доносящиеся из подвала, сопровождают создание такой глубоко печальной по содержанию картины? Мелик предлагал странным кинематографщикам свои услуги, но это любезное предложение было категорически отклонено. Подсмотреть тоже ничего не удавалось.
Алеша и Миша работали, не уступая в трудолюбии лесковскому Левше с товарищами, и когда они наконец вылезли из своего подвала, глаза у них были красные, голоса хриплые. «Чума в Тюркенде» теперь представляла собой мутновато-серый моток пленки, смирно лежащей в картонке из-под шляп, любезно предоставленной молодым людям мамашей Мелика. Эта картонка вместе со своим содержимым была отнесена в кино «Аполло» — фешенебельное кино, где фильм вскоре предполагали показывать. А Миша и Алеша разрешили себе в ознаменование окончания работы маленькую прогулку. Их давно уже привлекала голая гора над Балахано-Сураханскими промыслами. Алеша хотел с этой высоты произвести несколько пробных фотоснимков, чтобы испытать сконструированное им приспособление к фотоаппарату, дававшее возможность производить съемку ландшафта вширь, то есть получать панораму местности. Для этого надлежало подняться на облюбованную ими гору с утра и возможно пораньше, когда условия для съемки наиболее выгодны. Так они и сделали.
Сырая весна с сокрушительными нордами и туманами, затянувшаяся в этом году чуть ли не до половины мая, оборвалась сразу и резко. Зной вспыхнул, как огромный костер. Пять дней уже стояла жара. Но для друзей весна наступила только сегодня, и они, проходя по городу, еще спящему, к вокзалу, вверх и выше, по шоссе, уходившему в глубь промыслового района, наслаждались сухим и свежим воздухом, которому запах моря и нефти придавал особенную прелесть. На шоссе было совсем безлюдно, все лавки заперты, только там и тут видны возле дощатых заборчиков распростертые фигуры людей, наверно предпочитавших еще сохранивший ночную свежесть воздух зараженному воздуху рабочих казарм и подвалов.
Дважды повстречались им казачьи патрули в синих черкесках, черных круглых барашковых шапках и с белыми, откинутыми назад башлыками. Лица у казаков были невыспавшиеся, сумрачные. Настороженно разглядывали они этих двух долговязых юношей, их необычного покроя темно-синие блузы с отложными воротниками. Но у казаков было лишь одно указание: «Не допускать на улицах скопления толп, препятствующих движению».
Миша и Алеша, занятые тем, чтобы поскорее добраться до намеченной ими вершины, не уделяли должного внимания такому зловещему симптому, каким было в то время появление конных патрулей на улицах промышленных городов. К шести утра Миша и Алеша были уже на вершине горы и тут же, почти не разговаривая (они понимали друг друга с полуслова), принялись за установку аппарата. Три первые пластинки были испорчены: автоматика, поворачивавшая аппарат и действовавшая в помещении безотказно, на свежем воздухе почему-то закапризничала. Миша стал уже подсмеиваться над своим другом, но тот, не обращая внимания на насмешливые предложения дать телеграмму в Америку и вызвать в помощь Эдисона, ходил вокруг треногого таинственно-молчаливого аппарата, поворачивая его то вправо, то влево. Вынул камень из-под одной его ноги, переставил вторую, вставил еще одну пластинку, пригнулся, щелкнул — и аппарат с сухим, шелестящим звуком повернулся. Алеша щелкнул еще раз — еще один поворот…
— Так что, Миша, мы на этот раз без Эдисона обойдемся! — сказал Алеша, победоносно взглянув на притихшего Михаила.
Оказывается, дело было в неровности почвы… Установив аппарат, они несколько раз сфотографировали раскинувшийся под их ногами промысловый район с его неисчислимыми вышками, черно-дощатыми и резко выделяющимися на желто-песчаном грунте. Особенно много вышек сосредоточено в низинах, где неподвижно поблескивали отливающие радугой нефтяные озера-хранилища. Но были вышки, карабкавшиеся по голым склонам вверх. Одна из таких вышек чернела совсем близко. Через некоторое время возле нее появились люди. Застучал мотор. Этот звук резко выделялся среди смягченных расстоянием волн гула и грохота, которые катились по всей местности, одушевляя ее и придавая ей особое выражение — торжественно-величественное и мрачное. Справа, где виднелись трубы Белого и Черного города, уже клубились массы белого и черного дыма, непрерывно рождающегося и уносимого ветром влево, — там свежо синело море, и паруса обозначались на нем, обещая волю.
Солнышко пригревало все сильнее, Алеша и Миша несколько суток подряд провели в темноте и сырости лаборатории и сейчас кряхтели от наслаждения, предоставляя солнцу «проутюживать», как говорил Алеша, их кожу. Зной увеличивался. Ветер, порою налетавший с моря, точно ласковой прохладной рукой проводил по разгоряченному телу. Разговоры замерли. После долгого молчания Алеша спросил:
— Ты что, вчера из Питера письмо получил?
— Угу, — не поднимая головы, сонно пробурчал Миша, он грел спину, уткнув лицо в песок.
— Ну, и как там, в Питере? — стараясь попасть в тон Мише, безразлично-сонно спросил Алеша.
— А разве тебе из Питера не пишут? — И Миша повернул к другу лицо. На щеках его и на носу налипли песчинки, но прищуренные глаза смотрели насмешливо и с интересом.
— Нет, Ольга мне не пишет, — ответил Алеша. Голос был грустен, и даже в самой позе, в том, как лежала на сгибе локтя русая Алешина голова, чувствовалось, что он опечален. — Отправил ей два письма, а сколько открыток — и не счесть; помнишь, когда ехали, с каждой станции посылал. И ничего.
— Значит, обиделась, — подумав, сказал Миша.
— За что? Я и сам чувствую: обиделась. А за что?
Миша долго ничего не отвечал. Потом вдруг гибко вскочил и сел по-татарски, подогнув под себя ноги.
— А ты все-таки руки и сердца так ей и не предложил? — спросил Миша.
— То есть как?
— А очень просто. Я ведь ваших отношений не знаю, но если ты канителился с девушкой несколько недель, а потом уехал, не сказав ей самого главного, значит ты пижон.
— Я пижон?
— Не знаю. Я говорю «если»… Это условное наклонение, на него обижаться никак нельзя.
— О чем ей говорить, она все знает!
— Так. Значит, о руке и сердце речи не было? Ну и выходит, что пижон.
— Ты бы, чем шутить и насмехаться, посоветовал, как быть. Разве могу я, не имея никакого положения и установленного заработка, предлагать Ольге Яковлевне совершить такой шаг?
— Какой шаг?
— Ну, замужество.
— Так вот что я тебе скажу: то, что ты сказал, — это не только пижонство, но еще и пошлость. У тебя ясная голова, золотые руки… Чего тебе еще надо? «Грядущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе…»
— Вот ты опять шутишь! Нет, я вижу ты не понимаешь…
— Погоди-ка минутку, — сказал вдруг тревожно Миша. — Что это такое?
Волны грохота и шума, доносившиеся снизу с промыслов, во время этого разговора утеряли свой мерно-успокоительный характер. Резкий и угрожающий вой вдруг раздался где-то совсем близко. Оба друга сразу подняли головы. Казалось, что все было по-прежнему: голые, обсыпающиеся холмы, вышки, трубы и дым, рождаемый ими. Этот вой звучал тем более внушительно, что он постепенно как бы тушил прочие шумы и грохоты. Алеша своим острым взглядом нашел серое здание котельной с большой трубой и маленьким гудком. Именно там вместе с белым паром рождался этот непрерывающийся звук. Постепенно к нему присоединились другие зычные звуки: басовитый рев, пронзительное гудение. В каждом из этих звуков не было ничего устрашающего — так гудят и ревут при начале и конце работы гудки и сирены каждого предприятия: и могучего завода, и маленькой мастерской. Но начало и конец работ на разных предприятиях отнюдь не совпадают, а сейчас слитно ревел весь заводской, весь промысловый Баку.
— Смотри, уходят, — сказал Миша, показывая на ближнюю вышку: оттуда вниз по склону спускались вереницей черные фигурки людей.
— Не только здесь, повсюду уходят, — ответил Алеша. — Гляди вон туда и туда.
Повсюду в одиночку и группами шли люди, встречались, разговаривали. Сверху видно было, как они сбиваются в кучки.
— Забастовка! — сказал Алеша, и странно было Мише слышать восторг в речи своего обычно такого спокойного товарища. — Эх, ни одной пластинки свободной нету, вот заснять — что за панорама получилась бы! Подумай только: начало забастовки — какая картина!
2
В это утро Алым, уходя на работу, сказал Наурузу:
— Придет сюда Кази-Мамед. Будешь делать так, как он прикажет.
Не прошло и двадцати минут после ухода Алыма, Кази-Мамед вошел в подвал. С ним было еще двое.
— Ну, Науруз, настал твой день, новый день! — Видно было, что Кази-Мамед хотел пошутить, но волнение сказывалось в выражении глаз и в чертах его бледного лица, оттененного черными усиками и бачками.
Один из пришедших, усаживаясь рядом с Наурузом, по-приятельски толкнул его локтем в бок, и Науруз с радостью признал в нем того тоненького армянина Гургена, которого — так, кажется, давно это было! — привел он к гробнице, где поджидал Александр с заветными тюками. Гурген тогда увел с собой Александра. И Науруз шепотом спросил сейчас:
— Где Александр?
Гурген нахмурился, сделал серьезное лицо и махнул рукой, что значило: далеко!
Второй спутник Кази-Мамеда был незнаком Наурузу. Невысокого роста крепыш в тюбетейке и холщовой рубахе. Звали его Эйюб. Круглое лицо Эйюба выражало откровенное волнение, готовность выполнить, что прикажут — все эти чувства обращены к Кази-Мамеду, который неторопливо растолковывал по-азербайджански, порою поясняя для Науруза по-русски:
— Сейчас в помещении котельной находится только один человек. Но он свой человек. Надо сделать вид, будто мы на него напали. Только сделать вид, сопротивляться он нам не будет. Нападешь на него ты, Эйюб, а Гурген в это время даст гудок. Условлено, что этим гудком начнется забастовка на всех промыслах. Сначала пойдем мы с Наурузом в разведку. Если набегут кочи, наша задача будет удержать их и дать вам возможность уйти. Поняли?
— Конечно, — весело ответил Гурген.
— А ты понял? — спросил Кази-Мамед, обращаясь к Эйюбу.
Тот вздохнул и сказал:
— Не могу я сделать вид, что нападаю.
— Почему? — недоуменно спросил Кази-Мамед.
— Не могу, — с сокрушением вздохнул Эйюб. — Руки у меня такие… — и он, как бы желая подтвердить свою мысль, показал руки, едва ли не в два раза большие, чем бывают руки у человека. — Я не драчлив, но понарошку драться не могу, и если уж пустил их в дело — конец, задушу.
— А почему ты раньше не отказался? — удивленно и сердито спросил Кази-Мамед. — Я по дороге сюда объяснял, что в деле этом не должны участвовать люди, работающие у Сеидовых, — для них это дело каторгой пахнет. Конечно, охотники нашлись бы и здесь, хотя бы наш Алым. Тот парень у Сеидовых, на которого вы должны будто бы напасть, он на редкость здоровый — и кто поверит, что таких два комара, как я и Гурген, скрутили его? Да ты и гудка дать не сумеешь?
— Не сумею, — грустно подтвердил Эйюб.
— Погоди, — сказал Гурген. — А пусть этим парнем Науруз займется. Такой может удушить. Этому всякий поверит.
Он перешел на русский и объяснил Наурузу, что от него требуется.
— А ты его все-таки вправду не удушишь? — с опаской спросил Гурген.
Науруз посмотрел на свои довольно крупные кисти рук.
— Зачем зря человека душить! — ответил он.
— У него руки добрые, — неожиданно сказал Эйюб. — Это мои — злые.
Кази-Мамед взглянул на руки Науруза, в лицо его и согласился.
— Ну, дети, — сказал он, — время наше настало. Значит, будет так: мы с Эйюбом идем в разведку, в случае чего отвлечем на себя внимание, а Гурген и Науруз должны непременно добраться до котельной и совершить то, что надлежит.
Во все это время Гоярчин ни разу не вошла в помещение, где шел разговор мужчин. Но то и дело в ослепительно-солнечном четырехугольнике раскрытой двери мелькала ее светло-желтая, застиранная косынка. И когда Науруз с Гургеном вышли из двери, она взглянула на них беспокойно-вопросительно.
— Сегодня? — спросила она шепотом.
— Еще не знаю, — ответил Науруз и, взяв с земли Алымова мальчика, обошел вокруг каменной развалины, в которой жил Алым. Отсюда видно было, как вдоль серой каменной ограды, охватившей весь двор Сеидовых промыслов, быстро, почти бегом, движется своей легкой, подпрыгивающей походкой горца небольшая, подобранная фигурка Кази-Мамеда, рядом с ним грузен и неуклюж казался Эйюб.
Сторожа, со своими длинноствольными ружьями в руках ходившие посредине двора, отвлечены были в это время громкой перебранкой, которую нарочно, как это впоследствии узнал Науруз, чтобы отвлечь внимание, завели между собой двое рабочих.
Увидев, что Кази-Мамед и Эйюб благополучно приблизились к красному приземистому зданию котельной с его толстой трубой, Науруз передал мальчика его сестренке, которая в это время подошла к ним. Он поцеловал девочку в голову, как бы отправляясь в долгий путь, и они с Гургеном быстро, почти бегом, двинулись к кочегарке.
Перебранка на дворе все продолжалась. Она явно носила шутливый характер. Один из сторожей, в башлыке, повязанном вокруг бритой головы, прижав ружье к плечу и будто бы целясь, кричал ломано по-русски и, конечно, шутливо:
— Э-эй!.. Разойдитесь! Стреляю вас обоих! — и ругался, соединяя вместе ругательства всех национальностей, проживающих в Баку.
Науруз и Гурген почти бегом добежали до котельной, где возле входа их поджидали Эйюб и Кази-Мамед.
— Там еще есть кто-то, — шепотом сказал Кази-Мамед.
В глазах его была та отвага, которая придает лицу человека выражение гордой неустрашимости, свойственной орлу.
— Но это ничего. Гурген займется этим другим человеком… Так?
— Так, — ответил Гурген.
Они открыли дверь. Котельная была освещена тревожным, прыгающим пламенем. Большого роста человек стоял спиной к двери. Держа в руках ведро, доверху полное мазута, он разговаривал с каким-то русским парнем, долговязым, с цигаркой в зубах. Науруз схватил его за руки.
Ведро откатилось в сторону. Мазут неторопливо пролился в землю. Большой парень, едва Науруз схватил его, сразу же стал валиться так податливо и легко, точно он был слеплен из теплого воска. Наурузу, хотя он и знал, что все заранее условлено, даже стало как-то не по себе. Засовывая в рот своему «пленному» заранее приготовленную тряпицу и связывая его по рукам и ногам принесенной веревкой, Науруз прислушивался к разговору Гургена с неизвестным парнем.
— Вот ты не кричишь, это хорошо, что ты не кричишь.
— А чего мне кричать, какое мое дело! — ответил парень. По легкой дрожи его губ можно было понять, что он все же ошеломлен происходящим.
— Умный человек! — одобрил Гурген. — А ты нас знаешь?
— Откуда мне знать вас?
— И это тоже хорошо. Если начальство будет спрашивать, кто мы такие, ты так и говори: «Первый раз увидел».
Взревел гудок, и все прочие звуки исчезли. Связанный приоткрыл до этого зажмуренные глаза — они были веселые, с золотинкой — и озорно подмигнул Наурузу.
В дверях котельной появился Кази-Мамед. Его лицо, обрамленное черными волосами, казалось особенно бледным. Он поманил Науруза к себе и указал на двор, — говорить ни о чем нельзя было, все покрыл оглушительный и непрерывный вой гудка.
Науруз кинулся из котельной. Увидев, что на Эйюба насели несколько человек из тех, кого Гоярчин называла кочи, Науруз мгновенно пришел ему на помощь: с наслаждением освободив свои силы, связанные во время притворной возни, он стал разбрасывать сторожей… Вдруг — ружейный близкий выстрел и короткий вскрик. Кази-Мамед стоял, схватившись за бок и шатаясь. Он был бледен, но глаза его, как всегда, неустрашимо смотрели на сухонького, с подстриженной седой бородкой Даниялбека, старшего сеидовского кочи. Даниялбек торопливо перезаряжал винчестер. Но Науруз тут же прыгнул на старика, вырвал из рук ружье и ударил его прикладом по голове. Оглянувшись на Кази-Мамеда и увидев, что тот лежит, Науруз кинулся к нему и поднял его, Кази-Мамед оказался легок, легче, чем можно было подумать. Кочи, суетливо и растерянно размахивая револьверами и ножами, взблескивающими на солнце, бегали вокруг толпы, уже сгрудившейся около Науруза. Но что могли кочи сделать против слитной и дружной силы людей, — силы, секунду за секундой все нараставшей? Ворота послушно открылись и выпустили людей на улицу…
3
— Туда, вон туда скорее гляди! — говорил Алеша, указывая вниз, на шоссе, которое вилось прямо под горой узенькой желтоватой лентой.
Раньше почти пустынное, оно вдруг заполнилось людьми. Они выходили с того огромного двора, откуда взвыл первый гудок забастовки. Заливая пространство между заборами, толпа медленно двигалась вперед всем своим серо-коричневым сплошным потоком. Люди несли кого-то. Неужели мертвого?
— Смотри, полиция уходит, — сказал Миша.
Им видно было все шоссе — от начала до конца. Полицейские в своих грязно-зеленых мундирах и в фуражках с белыми верхами, расставленные на всем протяжении шоссе, почти бегом сходили со своих постов. Придерживая шашки, торопливо уходили они в переулки и дворы. Толпа надвигалась с медленностью и непреодолимостью наводнения. Она уже затопила шоссе и все увеличивалась, принимая в себя тоненькие струйки с других улиц и переулков. Хор гудков, все нарастающий, придавал этой картине какое-то единое выражение.
— Сила! — сказал Миша. — Пробужденная сила.
— Какая панорама — и хоть бы одна годная пластинка! — с горечью говорил Алеша.
Рев гудков вдруг стих. «Так стихает музыка в самое страшное мгновение циркового номера», — подумалось Мише. Но тут же, заглушенные ранее ревом гудков, прорвались другие звуки: с разных сторон слышалось пение. Оно казалось слабым и нестройным. Но мужество людей, вышедших на борьбу за великое дело, чувствовалось в этих высоких, струнных голосах.
Темные силы нас злобно гнетут…«Да ведь и меня с детства гнетут темные силы, — думал Миша. — И за мое счастье идет этот бой».
Для него эта мысль была нова и неожиданна. В спорах с Олей Замятиной он не раз выражал высокомерное презрение к движению масс. Ему забавно было, когда она, сердясь, говорила, что это индивидуализм и анархизм и что он деклассированный тип, люмпен…
По-новому видел, слышал Миша происходящее. И как он понимал сейчас Алешу с его стремлением снять и навеки запечатлеть эту картину, красивей которой он ничего сейчас не представлял. «Не панорамой сверху нужно снимать это, нет. Спуститься вниз и крупным планом, вместе и рядом с этими людьми, так снять, чтобы видно было каждое лицо!» — думал он.
Нас еще судьбы безвестные ждут… —пели люди. И в этот момент, как бы подтверждая грозную правду песни, вдали на шоссе появились всадники. Демонстранты еще не видели их — между ними и всадниками шоссе делало крутой изгиб, почти поворот. И вдруг, схватив Алешу за руку, Миша показал ему вдаль, крикнув:
— Гляди, казаки!
— Шашки вон! — скомандовал Булавин, едва увидев за поворотом черную, медленно приближающуюся массу. И шашки, послушно взвизгнув, вылетели из ножен.
Всего лишь полувзвод вел он за собой, но знал, что каждый из казаков разделяет его чувство: чем ездить по пустырям и враждебным улицам, по длинным шоссе, пусть будет так, как будет! Но едва Булавин перевел свой полувзвод с шага на рысь, как прямо перед казаками, откуда-то из двора или переулка, выехал вперед на рыжей большой лошади жандармский офицер и предостерегающе поднял руку в белой перчатке… Булавин узнал ротмистра Келлера, встретившего казаков в первый же день, когда они приехали в Тюркенд для несения карантинной службы.
Казаки, увидев Келлера, тут же стали придерживать коней. Но Булавину вдруг захотелось поближе взглянуть на людей, которых он должен был избивать. Он дал поводья лошади и совсем близко подскакал к голове демонстрации. Мельком и не сразу успел он охватить взглядом всех людей, запрудивших шоссе, и красное знамя над ними. Он приметил также, что они несут кого-то на руках, но не разглядел Науруза, который нес раненого Кази-Мамеда. Да и Науруз не узнал Филиппа и не подумал о нем. Филипп заметил только, что перед ним все бедно одетые люди, самые обыкновенные, к каким в глубине души причислял он себя и свою семью. Особенно запомнился ему какой-то старичок, который шел, семеня в туфлях, с самого краю, тощий, словно обглоданный, с белой бородой. Он без всякого страха смотрел прямо на Филиппа. Филипп повернул коня и вернулся к своему полувзводу.
— Ты что же это, урядник, на гауптвахту захотел? — спросил его черноусый жандармский ротмистр, не отвечая на приветствие, лихо отданное Филиппом. — Без команды господина офицера — шашки вон? А?
— Имею приказ препятствовать скоплению толпы на шоссе, ваше благородие, — ответил Булавин, не отнимая руки от шашки и впившись бешеными синими глазами в темные, без блеска, глаза ротмистра.
— Вольно! — небрежно махнул на него ротмистр. — Препятствовать! — ворчливо повторил он, видимо чувствуя некоторое затруднение. — Препятствовать можно по-разному.
— Разрешите доложить, ваше высокоблагородие, их благородие есаул Ханжин находится при втором взводе, который пошел по Раманинскому шоссе… и они предупредили…
— Что же, ты думаешь, он будет с полувзводом на тысячи людей скакать? Ну, сам подумай, дурья ты голова. Вас тут всего в городе две казачьи сотни… А тут, видишь, что поднялось? Только здесь, по моему участку, не меньше пяти тысяч поднялось. А по всему городу?
«Боитесь, значит?» — отчетливо, с неожиданным злорадством подумал Булавин.
— Ты, конечно, молодец, хвалю за усердие!
— Рад стараться! — механически прокричал Булавин, думая совсем о другом.
— Молодцы, станичники! — возвысив голос, обратился жандарм к казакам и, прослушав в ответ: «Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!» — сказал, похоже что про себя, с некоторым удивлением: — Каков порядочек у сук-ки-ных детей! Прямо как на параде! — Он прислушался. — Поют, — проговорил он, поморщившись. — Сколько лет все одно и то же: «Знамя великой борьбы всех народов…» Какое это может быть одно знамя у всех народов!
Из-за угла выскочил человек в ярко-зеленом архалуке и тюбетейке на голове. Он бежал изо всех сил. Подбежав к жандарму, он, тяжело дыша, не в силах от задышки сказать хотя бы слово, протянул беленькую бумажку.
— Ваше высокобла-а-а… вот разбрасыва-а-а-а… — наконец выговорил он, превозмогая одышку.
Филипп разобрал, что вопреки костюму этот человек чисто говорит по-русски.
«Ряженый шпион», — с отвращением подумал Филипп.
4
Ротмистр Келлер строго придерживался тактики, преподанной ему градоначальником: если забастовка все же начнется, вести наблюдение и в события по возможности пока не вмешиваться. Дождавшись, когда стачечники разошлись, ротмистр поскакал с подробным донесением о ходе событий к Мартынову. Пренебрегая предупреждениями начальника канцелярии, что их превосходительство сильно не в себе (Мартынова титуловали «превосходительством» по занимаемой им должности, а не по действительному его чину), ротмистр Келлер вошел в кабинет градоначальника. Петр Иванович сидел один за письменным столом в своем большом кабинете. Увидев ротмистра с бумажкой в руках, он порывисто дернулся назад, что у него было признаком плохого настроения, и при этом ударился затылком о резные, в виде яблок и груш, украшения на спинке кресла. Стоя выслушав рапорт ротмистра и этим исключив возможность для него завести сколько-нибудь продолжительный разговор, Мартынов, когда ротмистр протянул ему листовку забастовочного комитета, брезгливо поморщился и указал на край своего обширного стола. Там лежала стопка таких же листовок. Экземпляр, доставленный ротмистром, отличался только ослепительной чистотой и крепким ароматом любимого ротмистром одеколона «Джоконда», а листовки, лежавшие на столе, были все смяты. На одной отпечатался след сапога и было размашисто написано красным карандашом: «Долой самодержавие!» Нетерпеливо и болезненно морщась, Петр Иванович дождался прощального приветствия ротмистра и, едва Келлер вышел, сердито выругался.
Такой же экземпляр «Воззвания» забастовочного комитета, какой принес сейчас ротмистр, градоначальнику был доставлен еще вчера вечером. Тогда он с удовольствием несколько раз перечел: «Мы еще не успели приступить к забастовке, как из наших рядов уже стали вырывать товарищей…» В этой фразе ему почудилась растерянность забастовщиков. «Шутка ли, удалось прихлопнуть весь забастовочный комитет сразу», — с удовольствием подумал он тогда. А сейчас он даже закряхтел, погладил болезненную шишку, вскочившую на затылке, и снова взял в руки газету, чтение которой прервал ротмистр Келлер. Это был номер газеты «Рабочий» от 24 мая, только что пересланный господину градоначальнику из столицы с кратким предложением «дать объяснения». При всей краткости этого предложения, чутье Мартынова уловило в нем интонации строгости. Конечно, ничего приятного от этой газеты нельзя было ожидать. Если бы даже она не сопровождалась партийным лозунгом социал-демократов, по одному характеру объявлений и даже по шрифту Мартынов сразу узнал «Правду». И, взяв газету, Мартынов снова нашел в ней упоминание о профессоре Заболотном.
«Так вот, значит, как! В Баку не нашлось газеты, которая напечатала бы опрометчивые, недостойные разумного ученого слова этого профессора, так слова эти до столицы долетели! И как это у них получается: выходит, что чума чуть ли не причина забастовки?» Он, кряхтя, нагнулся, схватил газету и прочел: «И только Совет нефтепромышленников не хочет признать этого. Поданное ему заявление до сих пор остается без ответа. В результате 22 предприятия Биби-Эйбатского района и четвертая часть рабочих Бакинского района объявили забастовку…»
Мартынов перевернул газету, внезапная мысль поразила его… Номер вышел 24 мая, в день ареста забастовочного комитета. Арест произошел сразу же после предъявления требований. Казалось бы, этот арест должен был поколебать уверенность газеты в том, что забастовка произойдет. Но нет, статья появилась, забастовка в ней предсказана — и вот она произошла. И даже не одна, а целых две статьи о положении в Баку напечатаны. Чума, видите ли, грозит городу. Пишут так, как будто бы нет в Баку попечительного градоначальника, который первым начал борьбу с чумой. О городе заботятся рабочие — можно подумать, что им вверена забота о городе… А ведь сам профессор, побывав в Тюркенде, сказал: «Да разве это карантинное оцепление? Это тюрьма, это же форменная тюрьма, и надо удивляться, как этот ловкач отсюда выбрался». (Он имел в виду рыбака, который бежал из карантина).
Тогда это слово «тюрьма» прозвучало для Мартынова похвалой, а теперь — кто его знает, что он имел в виду, этот самый главноначальствующий по чуме… И далась им эта чума! Больше месяца уже нет ни одного случая — и все благодаря распорядительности господина градоначальника (Мартынов, когда был в приподнятом настроении, думал о себе в третьем лице). И хоть бы какая-нибудь благодарность!
Он начал перебирать в уме события, последовавшие после ареста забастовочного комитета, рассчитывая обнаружить какую-то ошибку в своем поведении.
Воскресенье. Он проснулся в бодром и даже приподнятом настроении. Как это водилось каждое воскресенье, он после утреннего чая повез своих «оболтусов» — так называл он сыновей — сначала в парикмахерскую, где под его наблюдением их обрили наголо, а потом в собор, к обедне. Он стоит навытяжку, и они — навытяжку. Он — на колени, и они — на колени. Он приложился к иконе, и они следом за ним, старательно вытягивая губы и косясь на страшного папашу. Елена Георгиевна к обедне с ними не ездила — это был молчаливый протест против еженедельного бритья голов мальчикам.
«Глупости, зачем мужчине прическа — одна неряшливость. Вот я отлично обхожусь без прически. Если девушка полюбит будущего мужа за прическу — значит глупа. Болтлива, надоедлива и всю жизнь об одном и том же: институтские воспоминания, папочка, мамочка и братцы.
И о том, что мальчики худеют, мальчики бледнеют: глисты, бессонница, онанизм».
Вернувшись после обедни домой, Петр Иванович почтительно поцеловал жене руку и позволил ей тоненькими, сухими губами коснуться своей бритой головы. Как всегда, поднес ей несколько просфор, взятых и «за упокой» и «за здравие», и, терпеливо слушая стрекотание Елены Георгиевны, в полном молчании выпил кофе, развлекаясь только подсчетом сдобных булочек, сожранных «оболтусами».
Зато после кофе наступило настоящее воскресенье — его воскресенье.
— Ты уже? — зеленея от ревности, спросила Елена Георгиевна.
Он безмолвно и строго откашлялся, — запряженный парой в дышло экипаж уже стоял у парадного подъезда.
— Люля! — позвал он, и обезьяна, выскакивая откуда-то из задних комнат (в столовую в результате энергичных протестов Елены Георгиевны обезьяну не пускали), прыгнула ему на плечо. Так, с обезьяной на коленях, Мартынов, мягко покачиваясь на рессорах, катил по проспекту.
— К своей поехал, — говорили молодые люди в ярких черкесках с кинжальчиками на поясах и в лакированных сапожках или во франтоватых тройках с галстуками окраски фазаньего хвоста — те молодые люди, которые целые дни проводят на Парапете в кондитерских и кафе.
— К Изабеллочке в Бузовны?
— Какая там Изабеллочка, после нее уже была фрейлен Ингрид, датчанка. А сейчас, забыл я имя, — борчиха. В женском чемпионате она представляет республику Венесуэлу, и вся коричневая — какао с молоком. Обезьяну держит одну, а мамзелей меняет каждый месяц, — завистливо вздыхая, говорили молодые люди.
И можно сказать, что эти суждения приблизительно верно выражали нравственные правила Петра Ивановича Мартынова. На его служебном столе всегда стояла фотокарточка очередной содержанки.
— Жену нам посылает сам господь бог, с ней нас соединяет святая церковь, жена у нас должна быть одна, — так поучал он своих подчиненных, начиная от полицмейстеров и кончая последним канцеляристом. — Мамзели — другое, мамзели — для развлечения. Одни и те же развлечения надоедают, мамзелей следует менять.
…Посвятив весь этот воскресный вечер развлечениям с борчихой и с обезьяной, Петр Иванович в отличнейшем настроении вернулся домой и, как всегда, пожелал через дверь спокойной ночи жене.
В понедельник, хорошо выспавшись, Петр Иванович у себя в служебном кабинете заслушал донесения по городу.
После воскресенья, как и полагалось, в городе было несколько убийств в увеселительных заведениях, два ограбления. Воскресенье как воскресенье. Но оно прошло несколько тише и трезвей в промысловых районах, и над этим следовало задуматься. В понедельник вечером из охранного отделения поступили сведения, что на ряде промыслов рабочие в среду на работу не выйдут. Тут-то и произнес Петр Иванович афоризм о курице с отрубленной головой, который ему самому настолько понравился, что он повторил его, разговаривая по телефону с Рамазановым.
Однако на следующий день сообщения о предстоящей забастовке стали еще настойчивей, и Петр Иванович принял все меры на случай, если начнется забастовка, хотя в широкий размах ее он все же не верил. Кроме установленных постов полиции и введенных по городу патрулей законной жандармерии, к несению патрульной службы привлечена была также сотня Гребенского полка. Нет, он ни в чем решительно упрекать себя не может. Но забастовка, которая не могла произойти, произошла.
В кабинет бесшумно вошел начальник канцелярии. Его превосходительство, поглаживая затылок и морщась, ходил по широкой комнате. Начальник канцелярии застыл на цыпочках: сделал стойку, что при известной грузности его фигуры было достаточно трудно. Но, видя, что господин градоначальник погружен в размышления, начальник канцелярии на цыпочках пронес себя к столу, положил бумаги и ушел, проделав все это без единого звука.
Петр Иванович, который все видел, тут же подошел к столу. Это были срочные бумаги, приготовленные в связи с забастовкой: приобретение револьверов для дополнительного вооружения городовых, о выдаче вне всякой очереди проездных билетов чинам полицейской стражи.
«За невозможностью», «через посредство», «снабжать», «следовать»… Мартынов подписывал и довольно кивал головой. «Это, наверно, Кусиков составлял. Что значит старый полицейский служака: умеет выразить все по-служебному, так гладко, точно по натертому паркету скользишь».
Телеграмма наместнику: «Ввиду начавшейся забастовки, которая приобрела грозные размеры, просьба перевести в мое распоряжение второй казачий полк, в настоящее время расположенный в городе Елисаветполе, где его присутствие не вызывается необходимостью…»
Мартынов недовольно пожал плечами и расстегнул воротник. Это распоряжение отдано было в первый час забастовки, когда стали ясны грандиозные размеры ее и обнаружилось, что силы, находящиеся у него в распоряжении «на случай подавления имеющих вспыхнуть беспорядков», до крайности ничтожны и эфемерны. Если не считать полиции, которая в таких случаях — Мартынов знал это по опыту 1905 года — существенного значения не имеет, силы его сводятся к двум эскадронам конной жандармерии и двум сотням казачьего полка. А количество забастовщиков превысило, по первому подсчету, двадцать тысяч… Но страшно было отнюдь не количество забастовавших — страшен был стройный порядок, в котором выступление произошло: его поразительная одновременность и подготовленность.
И все это после того, как в ночь с 23 на 24 мая был произведен арест забастовочного комитета! Казалось бы, какой это был триумф! Аресты продолжались весь день двадцать четвертого, удалось арестовать одиннадцать из пятнадцати членов комитета, четверо, по донесениям агентуры, скрылись из города… Главным успехом проделанной операции Мартынов считал арест нескольких большевиков, в том числе и Георгия Стуруа, который уже был замечен как агитатор на недавних первомайских митингах.
В комнате темнело; Мартынов всматривался в темноту, точно силясь разглядеть в ней своего вековечного, каждый раз повергаемого и снова подымающегося врага. Нет, не может быть, чтобы забастовкой никто не руководил. Шаумян, конечно, в Баку, и прокламация написана им. Мартынов протянул руку, взял прокламацию и стал, раздраженно морщась, еще раз перечитывать. Право, он не хуже того, кто писал прокламацию, знал, что нефтепромышленники после прошлогодней забастовки не выполнили своих обещаний и многие взяли обратно. Об опасности чумы для города совсем неприятно было читать, тут что ни слово, то правда, и страшная правда. И того, кто говорил эту правду, хотелось стереть с лица земли, чтобы смолк этот ненавистный, не дающий покоя голос. Кто писал? Может, Шаумян писал, а может, и не он. Азизбеков, Стефани… у них грамотные есть… Или, может, снова появился в Баку Григорий Орджоникидзе, которого уже несколько раз брали и «за недостаточностью улик», а если говорить по правде, по неуклюжести судебных органов снова выпускали. Он открыто работал в качестве фельдшера на промыслах — и вдруг оказалось, что он и есть тот неуловимый Серго, к которому идут нити связей из-за границы, от самого Ленина… Может, это он?..
Внезапно загорелся электрический свет, сразу и на столе, и во всех четырех углах огромной комнаты, и на потолке, — градоначальник не любил темных углов. Тьфу, наваждение — да «неуловимый Серго», сиречь Григорий Константинович Орджоникидзе, уже давно сидит в Шлиссельбурге, оттуда не убежишь!
Мартынов вернулся к столу и снова прочел свою телеграмму наместнику. В ней чувствовался испуг. Нет, пугаться нельзя, начальство этого не любит. Что такое толковал ротмистр Келлер о каком-то младшем уряднике, который чуть ли не на рысях повел свой полувзвод прямо на многочисленную толпу забастовщиков? Мартынов взял рапорт Келлера и перечел, подчеркнул красным карандашом фамилию урядника Булавина. Фамилия бунтовщическая, какой-то Булавин еще против Петра бунтовал. А этот действовал как истинный верноподданный согласно присяге, слепо, не рассуждая: раз приказано — бей, хотя бы их тысячи скопились… Молодец казак! «Представить к награде», — подумал и написал на рапорте Мартынов. «Пока не нужно просить перевести полк, нет — еще подождем. Придет еще, казак, твой час, спустим мы тебя с цепи. А пока пусть измотаются, наголодаются «товарищи забастовщики», мы же будем действовать — как это говорит Елена Георгиевна? — респектабельно… Мы ничего не испугались, нет. Просто не видим причин вмешиваться. Забастовка, протекающая мирно, может обойтись без вмешательства полиции… именно так. Объявление нужно расклеить такое по городу, пусть прочтут и видят, что начальство ничуть не напугано и что все предусмотрено, именно так». Он вышел на балкон и увидел охваченную электрическими огнями бухту между двумя мысами, глубоко вдающимися в море. Огни дрожали, переливались, и в этом, как и в звуках музыки, глухо доносившейся с Парапета, и в уличном шуме слышна была та настоящая, бессмысленная жизнь, столь любезная градоначальнику. Жизнь без опасных раздумий. Каждый занят самим собой, никуда не лезет и головы не поднимает. Вот именно к таким благонадежным людям и должно адресоваться объявление градоначальника.
В этот миг, как бы выражая силу государства, в порт медленно кильватерной колонной вошли четыре канонерские лодки — длинные, серые — и сразу осветили темную бухту теми огнями, что горели на мачтах, и теми, что отражались в воде.
Мартынов вернулся к креслу и стал быстро, почти без помарок писать:
«Объявление
Ввиду прекращения работ на многих предприятиях в Бакинском промысловом районе, считаю необходимым поставить в известность как владельцев и управляющих промышленных предприятий, с одной стороны, так и рабочих и служащих, с другой стороны, что забастовка, протекающая вполне мирно и при полном соблюдении обеими сторонами надлежащих законов, может обойтись без вмешательства полиции…»
Он перечел. «Хорошо получилось: «при полном соблюдении надлежащих законов»… «Надлежащих»… Очень красиво выражено… Но при нарушении законов?.. — Он поглядел в сторону окна. — Да, да… именно о нуждах написать. Вы — о нуждах населения, и мы тоже».
Он быстро, почти без помарок, перечислял все виды прекращения работ: водонапорные и электрические станции, конно-железные дороги, водопроводы и нефтепроводы, охрану промыслов и заводов на случай пожара (поддержание пара), по освещению, водоснабжению и на телефонах. Закончил он угрозой: «В отношении виновных в прекращении перечисленных работ мною будут приняты самые решительные меры в целях установления общественного порядка, согласно ст. 125 Угол. улож. и ст. 13593 Улож. о наказ.».
Он перечел написанное и остался доволен. Но это еще не все. Несколько часов тому назад поступило донесение о том, что на сеидовских промыслах забастовщики связали кочегара и, овладев насильно котельной, дали сигнал для начала забастовки. Мартынов прекрасно знал, что кочегар притворялся. Но разве градоначальник обязан знать об этом? И Мартынов продолжал писать…
«Вместе с сим (именно так — «с сим»!) считаю необходимым объявить, что к защите рабочих, желающих работать, от посягательств со стороны бастующих будут приняты меры охраны, в случае же учинения бастующими рабочими каких-либо насилий и угроз виновные будут привлекаться к ответственности…»
— Так, так, — шептал Мартынов, — покрепче предупредить, пугнуть мерзавцев.
Он предупреждал о недопустимости скопления толп на улицах и площадях, он запрещал создание заводских комиссий и, так как знал, что его не послушают, ссылался на обязательные постановления по градоначальству и на Уголовное уложение о наказаниях.
Он вышел из-за стола и подошел к книжному шкафу, где золотом поблескивали тома свода законов, чтобы сверить, правильно ли он по памяти написал номера пунктов Уголовного уложения и обязательных постановлений.
Он сделал несколько шагов в сторону шкафа, и вдруг точно черную ткань неожиданно развернули перед глазами: внезапная темнота скрыла все. Петр Иванович стоял, словно ослепнув. Прошла секунда — выступили светлые окна, полуоткрытая дверь на балкон… Еще несколько мгновений — и зазвенел телефон. Петр Иванович нащупал трубку и взял ее.
— Петр Иванович? — картаво спросили в трубке.
— Я, — раздраженно ответил он, узнав голос жены.
— У тебя тоже погас свет?
— Ну конечно.
— А что это?
— Забастовка…
— Как забастовка? — недовольно заговорили в трубке. — Это же так нельзя… Сегодня свет выключат, потом воду… Это надо пресечь.
— Вы меня еще поучите, Елена Георгиевна, поучите… А вот в пятом году во время всеобщей забастовки в некоторых местах мельницы хлеб не мололи и булочные его не пекли.
— Я ведь только спросить, — виновато прострекотали в трубке. — И потом дети хотят к тебе прийти и Люля скулит.
— Детей не нужно, а Люлю пришли.
В трубке всхлипнули и замолкли. За время пока он разговаривал по телефону, в кабинет принесли две свечи. Медь, бронза и стекло письменного прибора тускло поблескивали, но в углах комнаты была неприятная темнота.
Дверь тихо открыли, там обозначился силуэт человекоподобной фигурки. Люля, маленькая мартышка, с нежным писком проскользнула в кабинет, вскочила ему на плечо и, мурлыча, стала своими ловкими пальцами гладить его шею… Вот Елена Георгиевна ревнует его к этой твари, а Люля уже тем хороша, что никогда не задает глупых вопросов.
«Да, ничего не сделаешь, столбовая дворянка, институт благородных девиц окончила, в любом обществе разговор поддержит, задает тон среди дам, но глупа. И оболтусы оба в нее — дураки».
Поглаживая Люлю по мягкой шерсти, градоначальник снова вышел на балкон. Вид бухты изменился, количество огней несколько уменьшилось. Еще светло было небо над Балахано-Сабунчинским районом, но стоило Мартынову взглянуть туда, сразу по тому месту точно кто-то ладонью хлестнул: огни погасли так внезапно, что Петр Иванович не удержался, дернулся головой, и хотя ему не обо что было удариться, он испуганно схватился за шишку. Потревоженная обезьяна, пригревшаяся на плече, недовольно заворчала, и он погладил ее…
А начальник охранного отделения еще на прошлой неделе уверял, что в предстоящей забастовке меньшевики, в отличие от большевиков, считают невозможным приостановить работу электростанций и других предприятий, обслуживающих нужды города, и что будто бы именно меньшевики влиятельны среди электриков. Вот тебе и влиятельны!
Теперь многие кварталы города погрузились в темноту, и тонкие красноватые нити керосиновых огней только подчеркивали ее. Мартынов не сводил глаз с бухты, ярко освещенной четырьмя канонерками, стоявшими посреди рейда. Они зажгли прожекторы, свет которых, пробегая по мелкой, точно в рыбьих чешуйках, волне залива, выхватывал деревья бульвара, угловатые постройки Старой крепости и высящийся над городом плоский массив Девичьей башни. Вид серых стальных чудовищ, стоявших на рейде и похожих на долгоносых и тонких хищных рыб, ободрял Петра Ивановича, и он опять вспоминал о казаках, которые под командой неустрашимого и преданного младшего урядника шли в атаку на забастовщиков. «Непобедима империя, пока незыблемы ее армия и флот, — думал он, любуясь игрою огней на судах и их отражениями в глубине бухты. — Видно, мощные электростанции есть на каждом». И вдруг даже подпрыгнул от удовольствия так, что испуганная обезьяна соскочила с его плеча.
«Ну конечно, электростанции на каждой канонерке. Следовательно, на каждой — целая команда электриков. Немедленно созвониться с военно-морским начальством и по возможности скорее занять все главные электростанции города командами моряков». Мартынов торопился к столу, и обезьяна на четвереньках, подпрыгивая, бежала за ним…
* * *
На следующее утро на заборах и воротах по Балаханскому и Раманинскому шоссе, на промысловых вышках Биби-Эйбата, на предприятиях Белого и Черного города появились новые воззвания бастующих — они разложены были на скамьях приморского бульвара, и один свежий экземпляр был прислан господину градоначальнику с утренней почтой.
«Дикий гнет объединенного капитала, — говорило воззвание, — дошел до своих крайних пределов. Необходимо противопоставить капиталу организованную силу рабочего класса. Необходимо свергнуть царское правительство, сковывающее цепями всю Россию».
«Социальный пролетариат Петербурга и других крупных центров вновь развернул за последние годы красное знамя борьбы — знамя социализма, знамя республики. Под руководством РСДРП он смело идет навстречу новому революционному взрыву, который уже сметет окончательно царское самодержавие…»
«Смести самодержавие! Это — большевики. Это их удар. Их дерзость, ничего святого не признающая. Так и пишут: смести… Словно о соре говорят. Нет, господа революционеры, это у вас не выйдет. Есть еще у царя верные слуги». Но Петр Иванович должен был с досадой признать, что в начавшемся сражении он силы противника с самого начала недооценил, почему сразу и потерпел жестокое поражение. А противник дерзко поднял в городе красное знамя, и сама по себе эта демонстрация силы должна была подбодрить, собрать вместе всех ненавистников монарха, а таких в Баку особенно много.
Необходимо ответить демонстрацией силы. Для этого нужно сосредоточить в городе войска. Но раньше чем что-либо — зажечь в городе свет. Пока свет в городе не зажжен, революционеры — хозяева города. Он уже схватился за трубку телефона, чтобы переговорить с адмиралом. Но тут телефон сам зазвонил, и Мартынов узнал металлический голос Гукасова:
— Ваше превосходительство, не смею приветствовать вас с добрым утром.
— Какое уж там доброе! — буркнул Мартынов.
— Значит, читали? Что думаете предпринять?
— Я не предприниматель. Это вам нужно предпринимать, вы их распустили.
— Лично я в этом не грешен, и за это некоторые мои либеральные коллеги порою даже упрекают меня. Нет, не грешен. А что следует предпринимать в настоящих условиях, мне лично вполне ясно. Но вслед за той мерой, которую я предлагаю, воспоследуют беспорядки. Готовы ли вы, ваше превосходительство, к ним?
— Что вы имеете в виду?
— Расчет! — отчеканил Гукасов. — Остановились работы уже на всех самых крупных фирмах: промыслах Каспийско-Черноморского общества, братьев Нобель, Каспийского товарищества, Бакинского нефтепромышленного товарищества, у Манташевых, Мирзоевых, Сеидовых, Асадуллаевых. В ряде случаев рабочие не предъявляли никаких требований, а, уходя с работы, говорили, что присоединяются к общей забастовке, к требованиям, которые были предъявлены Совету. Я обращаю на это внимание вашего превосходительства, так как эго подтверждает политический характер забастовки, и пресловутый вопрос о постройке поселков вне промысловых территорий не играет такой большой роли.
— Все играет роль, господин Гукасов. Когда вы предполагаете произвести расчёт?
— Я для того и звоню, чтобы выяснить, подготовлены ли вы к этому.
В бесстрастном, металлическом голосе Гукасова Мартынов услышал оттенок насмешки. Или это показалось?
— Торопиться некуда, — с притворным спокойствием ответил Мартынов. — Когда наступит подходящий момент, я вам позвоню.
— С момента расчета мы юридически ничем не будем связаны с нашими бывшими жильцами и сможем их, как лиц посторонних, попросить очистить помещения, принадлежащие нам. Юридический отдел Совета съездов берется провести эту операцию. А после этого власти поступят вполне разумно, если препроводят беспокойный и бездомный элемент по месту жительства.
«Препроводят, — с удовольствием повторил про себя Мартынов. — Хорошо говорит, далеко глядит».
Но тут гладкая речь Гукасова вдруг оборвалась.
— Скажите, ваше превосходительство, — и поток живого волнения необычно зазвучал в его металлическом голосе, — а не могут ли забастовщики так же приостановить все нефтепроводные приспособления, как они остановили электростанции…
— Меры приняты! — буркнул Мартынов и повесил трубку.
«Или я дух святой — чтобы знать о намерениях и возможностях забастовщиков? Да, восстановить электрический свет в городе — это первое, с чего нужно начать. Подтянуть войска — второе. И тогда пусть действуют промышленники — всеобщий расчет. Тут уж, кто послабее, задрожит, пощады запросит. Подстрекатели, чтобы разжечь страсти, пустятся на митинги. А тут уж спустим на них казаков… Как его, этого урядника? Да, Булавин, — подумал он с удовольствием. — Булавин не выдаст!»
Часть третья
Глава первая
1
Вскоре после того, как Константина под арестом прислали в Самару, судебные власти без особого труда установили, что Матвей Андреевич Борецкий, сыном которого называл себя Константин, видный казначейский чиновник, перебрался на жительство в Петербург еще в восьмидесятых годах прошлого века, что полностью совпадало с показанием Константина, сделанным при аресте. Таким образом, утверждение Константина, что он во время событий пятого года, находясь на иждивении отца, учился в Петербурге в реальном училище, как будто бы полностью подтверждалось. Из Петербурга сообщили, что и отец и мать Борецкие умерли, что тоже совпадало с показаниями Константина.
Если бы судебные власти города Самары занялись поисками в самом городе Самаре или в уездном городе Ставрополе лиц, знавших семью Борецких (в Ставропольском уезде находилось их родовое имение, проданное лет за пятьдесят до описываемых событий), то легко можно было бы на месте обнаружить подложность всех документов Константина. Но, как это подчас бывает с чиновниками всех ведомств, ни прокурор, ни председатель судебной палаты не стали утруждать себя обдумыванием этой проблемы и снова послали запрос в Петербург, в Главное управление уделов, документы которого были у Константина в момент ареста. Пока же его держали в доме предварительного заключения, и сравнительно вольно, как дворянина да еще чиновника управления, входившего в состав министерства императорского двора, — кто знает, в каких отношениях придется еще быть с этим Борецким, если он действительно является тем, за кого себя выдает.
С ответом из Петербурга почему-то медлили, недели шли за неделями, тихо прошла зима. За это время Константину удалось обеспечить себе некоторые льготы и, в частности, добиться перевода в первый этаж.
Однако Константин понимал, что рано или поздно ответ из Петербурга придет и что судебные власти уяснят себе, кем в действительности является арестант, именующий себя Борецким. И потому в страстную пятницу вечером, когда в дом предварительного заключения через кухонный ход доставлены были продукты для предстоящего разговения, он, воспользовавшись вызванной этим суматохой, ускользнул во двор, а со двора — в арестантскую мастерскую. В доме предварительного заключения арестанты носили ту одежду, в которой были арестованы, и Константин в своем чиновничьем пиджаке небрежной походкой человека, не имеющего никакого отношения ко всему окружающему, прошел по низкой и полутемной мастерской. С арестантами, склонившимися над своими верстаками, его спутать никак нельзя было.
В скором времени хватиться его не могли, так как, покидая свою камеру, Константин позаботился, чтобы часовой, время от времени заглядывавший в «глазок» камеры, видел на кровати неподвижную фигуру — это была искусно накрученная из одеяла и нижней рубашки кукла.
Константин прекрасно помнил Самару еще со времени своей поездки по Волге под видом агента по продаже швейных машинок. Рядом с домом предварительного заключения была церковь, в этот час улицу должны были заполнить идущие к вечерне. Выйдя на улицу, Константин вмешался в густую толпу. Была ранняя весна, пахло талой водой, распускающимися почками. У Константина было в памяти пять знакомых домов, где он мог рассчитывать на помощь, во всяком случае мог быть уверен, что там его не выдадут. Ему сразу повезло. В первом же доме дальняя родственница, старушка учительница, расцеловала его, спрятала, дала денег. От нее он получил первую смутную весть о том, что мать его больна. Старушка уговаривала его скорей навестить мать. Ему самому хотелось так сделать, но он не мог: он должен был явиться в Петербург, в Центральный Комитет партии. Даже по номерам буржуазно-обывательской газеты, жадно просмотренным в первый же вечер, — старушка выписывала и хранила «Русское слово», — видно было, сколь бурно нарастают события в стране.
* * *
Бережно держа в руках клочок бумаги с адресом Людмилы, полученным в адресном столе, Константин шел бесконечно прямыми линиями Васильевского острова, считая номера домов: «145, 143, 141, 139…»
Как медленно убывают номера домов!.. Он волновался и укорял себя за свое волнение. Вернее всего, что Людмила будет попросту удивлена — ведь он ничем не дал ей знать о своих чувствах, если не считать коротенькой открытки с упоминанием о «Песне без слов» Чайковского… Но что такое песня, да еще без слов, и всего лишь упомянутая на почтовой открытке.
Девушка в расцвете красоты и молодости, независимая и свободная, провела эту зиму здесь, в Петербурге, где столько новых впечатлений, новых знакомств… И он мотал головой, кряхтел и ускорял шаг.
Но вот наконец заветный номер. Огромный дом, первый этаж. Сейчас он увидит Людмилу.
Ему открыла незнакомая девушка, волосы ее были туго оттянуты назад, казалось, что вместе с ними оттянуты были и брови и углы глаз. Взгляд — вопросительный, грустный. Она стояла на пороге и не впускала его, и взгляд у нее такой же — не впускающий. Выражение глаз любопытствующее, но совсем не удивленное, как будто она его уже знала. Но он не помнил ее.
— Люды дома нет. То есть не дома, а в Петербурге нет… — Девушка помедлила секунду-две. — На родину уехала — в Краснорецк, надо думать, — добавила она. — Ведь вы у них в прошлом году были в Краснорецке… Да, я тоже краснорецкая… Да чего же мы стоим, — она посторонилась, — зайдите, пожалуйста, я вас чаем напою.
И он следом за ней прошел по темному коридору. Людмилы нет, но хоть комнату ее увидеть.
Комната его разочаровала. Портреты купцов и чиновников по стенам, бархатные скатерти на столиках, какие-то затейливо-бездарные, выпиленные из дерева рамочки и полочки. Ни рояля, ни нот, ни книжной полки… Ни на чем не улавливал он отпечатка души Людмилы.
Когда Ольга вышла из комнаты, чтобы заняться приготовлением чая, Константин стал рассматривать книги, раскрытые на письменном столе: Ключевский, Платонов, Кареев — все русская история…
— Ваш предмет? — спросила Ольга, вернувшись с чайником. Она несколько раскраснелась и похорошела.
— Почему мой предмет? — удивился Константин.
Ольга усмехнулась.
— Помните сказку: голос слышу, а лица не вижу? Позапрошлой зимой я после долгой прогулки на лыжах по краснорецким горкам добралась до своего деда, который живет на окраине, и уснула на диване. А когда проснулась, услышала ваш голос, вы спорили с дедом — и кто-то еще у него был, кажется Альбов и Анисимов, — разговор шел о судьбах России. Вы очень интересно говорили тогда, что именно следует понимать под самостоятельностью исторического развития государства, и приводили данные о вторжении иностранного капитала в Россию.
— Позвольте, — с удивлением сказал Константин, — так это я у старика Спельникова спорил с эсерами. Значит, вы Спельникова внучка? Старик он у вас симпатичный и, пожалуй, единственный из них порядочный человек, но в голове у него такая путаница!..
Ольга, опустив глаза, разливала чай. Подвинув Константину стакан с чаем, кизиловое варенье в вазочке и нарезанный лимон, она взглянула строго и сказала:
— Дедушка арестован после веселореченского восстания и до сих пор не выпущен.
Наступило молчание. О том, что после веселореченского восстания в Краснорецке были аресты, Константин знал. Но он так же хорошо знал, что старик Спельников не имел никакого отношения к веселореченскому восстанию, как, впрочем, и все краснорецкие эсеры. Так почему же его так упорно и долго держат под арестом? Очевидно, какое-то недоразумение.
Ольга, видимо, очень любила деда.
— Дед потом поминал вас, — сказала она.
— Ругался? — со смешком спросил Константин.
— И это было. Но хвалил вас тоже, говорил, что вы настоящий революционер. Он даже книгу, на которую вы ссылались, достал: «Развитие капитализма в России» Ильина — ему Евгений Львович дал, Гедеминов. Когда при аресте был обыск, эту книгу нашли и все спрашивали деда, от кого он ее получил.
Константин молча кивнул головой.
Так прошел этот вечер. Ольга рассказывала о своем детстве и ни о чем не расспрашивала Константина, что ему пришлось по душе. Он обещал к ней заходить. Но не скоро пришлось ему выполнить это обещание.
Он приехал в Петербург в те дни, когда рабочий класс столицы проводил трехдневную забастовку протеста против сугубо насильнического акта черносотенно-либерального большинства Государственной думы, исключившего на пятнадцать заседаний думскую фракцию большевиков. Одновременно с этим правительство привело в движение карательные силы, аресты следовали один за другим, каждый день из рядов партии выхватывали лучших людей.
Константин сразу, с вокзала, пришел в редакцию «Правды» и тут же получил предложение съездить на один из заводов и написать для «Правды» сообщение о митинге. Когда он уже подходил к воротам завода, товарищ, который его поджидал, чтобы провести на завод, сообщил, что агитатора, присланного для выступления на митинге, полиция только что арестовала, явно рассчитывая, что заменить арестованного будет некем.
Тогда Константин сам выступил на митинге, и речь его о Баку взволновала рабочих. Корреспонденцию он написал и после ее напечатания получил возможность выслать немного денег матери. Теперь он уже выступал каждый день — у металлистов, у булочников, на Кексгольмской мануфактуре, у студентов. Посчастливилось ему попасть на одно совещание к Алексею Максимовичу Горькому — и по его выступлению Горький заметил и запомнил Константина.
* * *
Двадцать четвертого мая вышел номер «Правды», со статьями об угрозе чумы, нависшей над Баку. Как только этот номер попал на заводы, волна сочувствия поднялась среди рабочих — новая волна из тех следующих одна за другой и все нарастающих волн, которые вместе составляли грозный шквал 1914 года.
Константину из-за ареста так и не пришлось побывать в Баку. Но все прошлое лето, проведенное в Тифлисе, бакинские события были в центре его внимания.
Вот почему, когда Петербургский комитет партии посылал его то на один, то на другой завод, он так рассказывал о Баку, как будто бы только что вернулся оттуда.
Однажды в жаркий летний день Константин приехал на Путиловский завод для выступления. Его провели к тому месту, где огромный двор Путиловского завода, раскинувшийся среди множества разнообразных заводских зданий, несколько сужается и где издавна высится пирамидальная, сложенная из серо-голубых камней часовня.
Константин говорил о справедливости требований, предъявленных бакинскими нефтяниками, о грандиозном размахе забастовки, о высокой политической сознательности бакинских пролетариев.
Раскаленная солнцем, перетертая сотней тысяч ног, мельчайшая пыль заводского двора жгла лицо Константину и лезла ему в рот. Он говорил хрипя, с усилием. Издалека доносились какие-то отчаянные крики. И несколько тысяч человек, которые окружали Константина, слышали эти крики. Но люди стояли сплошной стеной, и никто не уходил.
— Вот она — великая рабочая солидарность! — подумал и тут же сказал Константин.
На его призыв помочь бакинцам все множество людей всколыхнулось.
— Да здравствуют наши товарищи в Баку! — крикнул кто-то, и трепет этого голоса подсказал Константину, что говорить больше не надо. Весь двор гудел: речь его дошла до рабочих сердец.
— Эй, товарищи! Подмогнем бакинцам! — рявкнул кто-то простуженным басом. — Эй, подмогнем!
И сразу же молодой рабочий, стоявший впереди (по каким-то ему самому необъяснимым признакам Константин угадал в нем токаря — может быть, по черточкам пристального внимания в глазах), сорвал с себя черный картуз и пошел с ним, между людьми. Константин издали видел в толпе его преждевременно облысевшую голову, отчего особенно заметен был высокий, красивый лоб.
Так на слово «солидарность», взятое из международного словаря пролетарской борьбы, отозвалось это русское «подмогнем», родившееся в глубине большого сердца одного из стариков путиловцев. И надолго запомнилось это слово Константину.
Сбор денег еще не закончился, когда проходные калитки, ранее запертые, открылись и рабочие хлынули в них. Но тут откуда-то сбоку во двор ворвалась конная полиция — оскаленные морды коней, белые кители полицейских, нагайки, взметнувшиеся к пыльному небу. Раздался ружейный залп. И вдруг среди общего смятения, криков и стонов раздалось:
— На баррикады, товарищи!
С разных сторон с силой и гневом кричали:
— На баррикады! На баррикады!
И тут же с возвышения, состоящего из каких-то старых досок, посеревших от времени, полетели в полицейских увесистые куски железного лома, камни, гайки — все, что попадалось под руку. Константин не заметил, как тоже очутился по ту сторону этого возвышения и, нагнувшись, поднял из кучи старого лома какую-то покрытую ржавчиной отливку. Но в этот момент кто-то с силой схватил его за руку. Высокий лоб, безволосый череп, молодые глаза и улыбка, мечтательная и воодушевленная. Перед ним был тот самый токарь, который собирал деньги. Он сунул Константину в руку тяжелый картуз, весь до краев наполненный медной монетой. Эта же заботливая сильная рука схватила Константина за локоть и потащила за собой. Константин, повинуясь токарю, быстро уходил от места побоища по бесчисленным переходам огромного Путиловского двора, который то расширялся до размеров городской площади, окруженной мрачными громадами цехов, то сужался и превращался в тесный и ломаный переулок. В одном из таких переулков проложены были рельсы, здесь стоял паровозик «кукушка» с длинной старомодной трубой. Машинист махал им из окошечка. Провожатый подсадил Константина, машинист протянул ему жесткую руку и помог подняться. Паровозик, шипя и отфыркиваясь, тронулся. Вдогонку раздалось:
— Так ты передай!
«Я передам», — подумал Константин, бережно держа картуз. Наверно, впервые в жизни Константина деньги, которые всегда связывались у него с представлением о мучительстве и надругательстве, сейчас вызывали чувство благоговения. «Священные копейки», — подумал он.
* * *
Следующий вечер выдался свободным. Константин зашел к Оле Замятиной узнать, нет ли писем от Людмилы, какой-либо весточки о ней.
На этот раз открыла ему не Ольга, а толстая хозяйка.
— К барышням? — спросила она, ощупав его цепким взглядом, и, не дожидаясь ответа, ушла, шурша шелковым подолом.
По темному коридору Константин на память добрался до двери. В комнате все было перевернуто, один чемодан стоял уже упакованный, другой Ольга, растрепанная и раскрасневшаяся, набивала вещами и, видно, никак не могла всего уместить — книги громоздились на полу. Константина она встретила приветливо, как старого знакомого.
— У меня есть опыт быстрой упаковки книг, — сказал он и стал помогать ей.
Да, она собиралась домой, сдала уже последние зачеты и перешла на второй курс.
— Нет, письма от Людмилы не было, — коротко сказала она.
Покончив с книгами, он подошел к столу, чтобы напиться воды, и увидел газету со своей статьей о событиях на Путиловском заводе. Некоторые места статьи были отчеркнуты и в том числе слово «подмогнем», возле него поставлен был вопросительный знак.
— Что это за статья? — спросил Константин.
— Очень интересная статья.
— А что у вас здесь отмечено?
— Да вот оборот речи неправильный, «Подмогнем», «подмогнуть» — уродливое словообразование. И почему бы просто не сказать: «поможем», ведь речь идет о помощи.
— Не только о помощи, — ответил Константин. — Речь идет о подмоге. В помощи нуждается слабый, подмога предназначена тому, кто сам может, и на Путиловском речь шла именно о подмоге бакинцам.
Ольга не спускала взгляда с его оживленного лица.
— Значит, вы были там? Может, это вы и писали? — спросила она.
— Почему я? — спохватился Константин, досадуя на себя за то, что проговорился.
Она усмехнулась и снова занялась укладкой вещей.
— Напрасно вы, Костя, от меня скрываетесь, — сказала она неожиданно, и сердце у него повернулось: как давно никто не называл его по имени! — Я не болтлива. И достаточно, взглянуть на ваше лицо, чтобы понять все. Вы, конечно, были там, и не только на Путиловском заводе, но и в Баку были, судя по статье.
— А вот в Баку и не пришлось мне побывать, — сказал он мечтательно и с сожалением. — Но я буду, непременно буду там. — И про себя подумал: «Да, я доставлю бакинцам питерскую подмогу».
— Будете в Баку? — спросила Ольга и, широко раскрыв глаза, глядела на него.
Он не понимал выражения ее глаз и какой-то личной заинтересованности, которая слышалась в ее вопросе:
— Вы правда будете в Баку?
Константин помолчал. Решение Петербургского комитета о его поездке в Баку еще не состоялось, но оно могло быть вынесено каждый день. Обо всем этом он, конечно, не мог ей рассказать.
— Очень хочется поехать, — ответил он со вздохом.
Теперь молчала она. Сидя на полу, она собирала в новенький несессер всякие мелкие вещи.
— Ну, а если бы я поехал, что бы вы сказали?
— Сказала бы, что вам судьба встретиться с Людмилой. — И, подняв голову, она снова взглянула ему в лицо.
— Людмила Евгеньевна в Баку?
— Да, она в Баку. И ни слова я вам больше не скажу. Это не только ее секрет.
— Но вы поможете мне найти ее?
— Представьте, я не знаю точно, где она находится. Попробуйте найдите в Баку петербургского профессора Баженова, он знает.
— А что петербургский профессор делает в Баку?
— А здесь уже начинается тайна. Не моя и не Людина тайна.
— Тайна пещеры Лейхтвейса, — шутливо сказал Константин.
Но Ольга не улыбнулась на его шутку и, кивнув головой, сказала со вздохом:
— Очень жуткая пещера.
И тут же вскочила с пола. Несессер был собран и замкнут, она его положила рядом с чемоданами.
— Чаем вас на прощанье, что ли, напоить?
— Да ведь у вас все упаковано.
— Пустяки. Домашнее варенье я обратно в Краснорецк не повезу, все равно оставлю хозяйке, посуда вся ее.
Они снова пили чай с кизиловым вареньем. И среди уложенных чемоданов это чаепитие проходило особенно беззаботно и весело. Ни о Людмиле, ни о Баку больше речи не было. Константин рассказывал о некоторых подробностях путиловского митинга, не попавших в газеты. И, только уже прощаясь, Ольга спросила, взглянув ему в глаза прямо и настойчиво:
— Значит, в Баку вы будете?
— Не знаю еще, — искренне ответил Константин. Ведь он, правда, еще ничего не знал.
— Ну, а если будете, я попрошу вас, там есть один человек, вдруг вам удастся увидеть его…
— Я должен ему что-то передать от вас?
Ольга рассердилась, лицо ее вспыхнуло.
— Передать? Нет, ни слова. Он даже и знать не должен, что мы с вами знакомы. Я о другом хочу вас просить. Узнайте, как он живет, что он делает и какой он. Вы удивлены? Но ведь вы хотите мне помочь, правда? Не знаю, но почему-то с вами хочется быть откровенной. Я бы брата родного не могла попросить об этом, но вас…
И вдруг она засмеялась весело и лукаво:
— Это потому, что вы Людмилин, а не мой.
— То есть как? — удивленно спросил он.
— Но ведь вы… вы ведь любите Людмилу?
— То есть, позвольте, Ольга Яковлевна…
— Да что там позволять, мне это еще в Краснорецке ясно было. И любите на здоровье, — она даже руку ему на плечо положила. — И я очень рада. Потому-то я и могу давать вам такие странные поручения, что для меня-то вы ведь никакой, — говорила она, приблизив свое нежное, пышущее жаром лицо к его лицу.
2
Решение было вынесено в тот же вечер. Константину надлежало в ближайшее время выехать в Баку. А перед отъездом ему предстояло еще одно дело: встреча с рабочим депутатом четвертой Государственной думы, избранником петербургских рабочих.
Был еще утренний час, но в воздухе не чувствовалось свежести, и открытое, без единого облачка, небо над Петербургом теряло голубизну, приобретало светло-оловянный тон, обещая такой же жаркий день.
Подходя к тому дому, где проживал депутат, Константин издали узнал крупную и осанистую фигуру его возле парадного крыльца. Депутат держался за ручку двери, его большая, с высоким лбом и коротко остриженными волосами голова была открыта — видно, что он вышел ненадолго.
— И еще так же будет. И мои избиратели, честные рабочие люди, которые приходят ко мне со своими нуждами, снова будут спускать с моей лестницы ваших бесчисленных шпионов, — громко говорил депутат надзирателю и указывал на щупленького, с морщинистым бритым лицом человека в кепке и блузе, — неподдельные слезы текли по его щекам, он корчился и стонал.
— Я ваших депутатских прерогатив не отрицаю, — приложив руку в белой перчатке к козырьку и тут же отдернув ее, сказал участковый надзиратель в белом кителе, молодой, с черненькими усиками, по-столичному лощеный и щеголеватый. — Но ведь человек этот тоже ваш избиратель, вот паспорт его, вот прошение…, И только он шагнул через порог, как буйные личности, и посейчас находящиеся у вас в подъезде…
— Узнали в нем шпика, и причем нахального шпика, потому что он, минуя очередь, двинулся вверх по лестнице, заглядывая в лицо каждому… Да не суйте мне паспорт, подлая профессия написана на его лице…
— Оскорбление личности, — захныкал шпик. — Избиение и оскорбление.
— Э-э-э, толкуй тут с вами!..
И депутат неожиданно для своих собеседников широко шагнул с крыльца, взял под руку Константина и, открыв дверь, ввел его в дом.
На полутемной, довольно узенькой лестнице толпились люди, здесь пахло углем и металлом, крепким запахом заводской работы.
— Товарищи, я прошу прощения, у меня внеочередной случай, — громко сказал депутат.
— Да чего там…
— Ну конечно…
Они прошли вверх по лестнице, депутат ввел Константина в свой кабинет, полутемный, заставленный книгами.
— Входите, садитесь, товарищ Константин. Историю с картузом у путиловцев мне уже рассказали. Все до копейки переведем в Баку… «Рабочею кровью политые, священные копейки» — так, кажется, вы написали? Вот завтрашняя газета. Видели?
— Нет.
— Вот. — И он быстрым движением протянул Константину пахнущий типографией пористый оттиск.
Константину сразу бросилось в глаза: «По поручению и от имени петербургского пролетариата шлем горячий привет героическому пролетариату Баку, подающему пример единодушия и стойкости. Петербургский пролетариат с чутким вниманием следит за вашей борьбой».
— А вот из Ижевска пишут, — говорил депутат. — Поглядите: «Мы, группа рабочих, всесторонне обсудив создавшееся положение конфликта в Баку между трудом и капиталом, постановили приветствовать товарищей бакинцев в их стойкости и осудить произвольные действия бакинской администрации. Победа бакинцев — наша победа…»
— Приветствовать товарищей бакинцев в их стойкости, В стойкости — верно как выражено, а?.. А вот квитанция, последний перевод в Баку — полторы тысячи рублей.
— Но ведь сборы запрещены как будто? — спросил Константин.
Собеседник засмеялся.
— Вот, глядите! — и другой номер «Правды» очутился в быстрых и спорых руках его. — Разве не обратили внимания? Вот распоряжение градоначальника, категорически воспрещающее сбор денег «на цели, противные государственному порядку и общественному спокойствию». Видите, как жирно напечатали, типографской краски не пожалели, и самое видное место предоставили. А вот тут — мое объявление, сразу здесь же, под распоряжением градоначальника, мой адрес и час приема. И, конечно, рабочие прекрасно разобрались, что к чему. Видите, сколько народу на лестнице? Да и полиция, судя по количеству шпиков, которые вертятся возле моей квартиры, тоже, пожалуй, догадалась. Плачет, прохвост. Как не плакать? Чуть ли не все ступеньки пересчитал… Такая работа… Значит, едете?
— Да, — ответил Константин.
Живой блеск глаз, легкая точность движений, пламенный тон речи — все нравилось Константину в этом депутате, одном из нескольких подлинно народных избранников в черносотенно-кадетской Думе.
— Ну хорошо. Вы были эти месяцы здесь, у нас. Расскажите обо всем, что вы видели, нашим товарищам в Баку. Надо сразу нажимать, отовсюду — и все крепче. Враг уже начинает понимать серьезность положения. Сегодня утром я был у Джунковского, в семь часов утра. Разговор был крутой. Мы хотели его опубликовать в «Правде». Но кто знает, удастся ли? Расскажите о нем бакинским товарищам…
Начав свой рассказ сидя, депутат через несколько минут встал и выпрямился во весь рост. Константину пришлось уже видеть Джунковского, и он по рассказу депутата въявь представил себе этого любимца романовской семьи, крупного и мясистого генерала, с его несколько одутловатым лицом и небольшими яростными глазками. И перед этим царским сатрапом стоял рабочий депутат — такой, каким Константин его видел сейчас: правдивое и бесстрашное лицо человека, воплощающего мощь, проснувшуюся в народе.
Даже опрятный, новый костюм депутата, белоснежный воротничок, большой светлый лоб, его черные тщательно подкрученные усики и черные брови — все в нем выражало гордое достоинство истинного и неподкупного избранника народа.
«Мы не допустим, чтобы рабочие избивали булыжниками полицейских, которые имеют винтовки и шашки. Полиция будет стрелять и впредь в таких случаях, для этого она и вооружена», — сказал мне глава жандармов. «Другого ответа от наших министров никто и не ждал, — ответил я ему. — Я знал заранее этот ответ и передам его на фабрики и заводы. Запретить мне туда ездить вы не можете. Депутат от рабочих, в то время когда в участках водой отливают избитых, никогда не ограничится одними разговорами в Думе». Беседа эта, товарищ Константин, произошла в семь часов утра. Странно, не правда ли? Совсем не генеральский час? Так вот что мне удалось установить: в то время как мы вели этот разговор, поезд Джунковского под парами стоял уже на станции. В восемь часов утра сегодня он выехал в Баку.
Он засмеялся и вопросительно взглянул на Константина.
— Очевидно, не только мы, но и враги наши понимают все значение тех событий, которые происходят в Баку, — медленно сказал Константин. — А Джунковский… Товарищ Сталин назвал его «сладкопевцем». Помните?
— Как же… А теперешнего градоначальника Баку товарищ Сталин припечатал еще крепче — погромщик.
Депутат встал с места. Заложив руки за спину, он, казалось, глядел куда-то далеко за стены этой комнаты.
— Да, погромщик Мартынов… Значит, погромщик не справился — посылают «сладкопевца», более хитрого и гибкого, но не менее свирепого. «Старый тифлисский клоун» — еще называл товарищ Сталин Джунковского. Значит, будут и медоточивые выступления, и кровавая клоунада провокаций… Трудно придется бакинским товарищам… И вот тут-то и начинается ваша задача: дать бакинцам почувствовать эту самую питерскую подмогу, о которой вы так хорошо написали.
— Да, мне посчастливилось, я был свидетелем путиловских событий. И это путиловское «подмогнем» я не забуду, не забуду! И то, как в ответ на подлое нападение конной полиции на безоружный митинг раздалось: «На баррикады!» Сегодня удалось подавить, а завтра, когда сразу весь пролетариат выйдет на улицы столицы… — говорил Константин медленно, точно разглядывал что-то в дали времени.
— Ну, я вижу, вам все понятно. Еще хочу я через ваше посредство передать Шаумяну то, что никакой почтой и телеграммой не сообщишь: я постараюсь потихоньку от властей предержащих сам приехать в Баку.
— Это очень хорошо, — сказал Константин не вставая.
Депутат быстро взглянул на него.
— У вас еще что-то есть ко мне?
— Хочу посоветоваться с вами, как с товарищем. Да что рассказывать, прочтите сами.
«Спасибо тебе, Костенька, за денежки, а того больше за сыновью любовь, — написано было крупными, старательно и неумело выведенными буквами. — Деньги твои очень кстати мне пришлись, потому что я расплатилась с долгами. Я ведь больна еще со святок, вот долги у меня и скопились. Колола дрова, зашибла топором ногу — и даже кровь не пошла. Похрамывала я, конечно, но и на постирушки свои ходила. А потом нога распухла, даже валенок невозможно натянуть. И тут уж никуда из дома не выйдешь. Потом соседки фельдшера позвали — молоденький, сердитый, все ругался, почему раньше не позвали. Отвезли меня в больницу земскую, и лежу я здесь в чистоте, и есть кому напиться подать. Только спокоя нет, что кругом долги, всю ночь считаешь — ведь всем соседям задолжала и в лавочку тоже… Знаешь старика Возьмилкина, он приходил, когда я болела, и грозился: когда, мол, помрешь, так все добро твое если и продать — и то долга не покрыть… А я и без него знаю, что не покрыть. И всю ночь лежишь, считаешь — и все ошибаюсь: или двенадцать с полтиной рублей, или тринадцать рублей пять копеек, трудно без бумажки считать. А тут, как твои денежки мне принесли, я сразу все долги раздала, и теперь одна у меня забота: тебя бы увидеть, Костенька, а то два раза резали, а лучше не стало». И больше ничего не было написано в письме, и даже подпись была смазана.
— Гангрена, верно, — тихо сказал Константин.
— Ну, уж и гангрена! — быстро перебил депутат. — Ну конечно, надо бы тебе к ней попасть. Мать! — вздохнул он и опустил голову.
— Я узнал о ее болезни еще в Самаре, только из тюрьмы вышел. И надо бы мне туда, а я — сюда, — виновато сказал Константин.
Депутат поднял голову и блестящими, свежими, точно омытыми глазами взглянул на товарища.
— Ну и молодец, что сюда! — громко сказал он. — А как же иначе? — И встал с места.
Константин тоже встал.
Депутат положил на его плечо свою сильную, тяжелую руку.
— Мы так условимся, — сказал он, — сейчас отправляйтесь в Баку. Дело там неотложное, верно?
— Верно, — ответил Константин.
— Ну, а как кончите, только одно задание: проведать матушку. — Он помолчал. — И мне напишите, как она там. Чудные дела: прочел письмо, и кажется, что давно уже знаю ее. Видно, хороший человек. И грамотная, — с оттенком удивления сказал он.
— Я обучал, — ответил Константин.
Крепкое рукопожатие. Не выпуская руки Константина, депутат подвел его к другой двери кабинета — не той, в которую он вошел.
— Лучше вам здесь выйти, вас проводят.
Константин ушел. Депутат подошел к двери в приемную и открыл ее. В маленькой приемной на ступеньках, на подоконниках — везде разместились рабочие. Едва дверь открылась, как вперед шагнул белокурый, с широким бледным лицом рабочий. В его голубых ярких глазах пылало откровенное волнение. Депутат кивнул ему. Это был Иванин, активный партиец, работавший токарем на большом петербургском заводе.
— Вы извините меня, товарищ депутат, мне бы только один вопрос задать. Товарищи, простите, только на секунду, — обернулся он к людям, наполнившим приемную.
Депутат покачал головой и впустил Иванина в кабинет. Тот, войдя, оглянулся кругом.
— А где Константин? — спросил он.
— О ком вы говорите?
— Да кто у вас был здесь… То есть, простите, не мне спрашивать. Это был Костя? То есть Черемухов Константин?
— Он самый, — подумав, ответил депутат, вопросительно вглядываясь в взволнованное лицо Иванина.
— Ну, я его узнал. Хоть он и стал очень солидный, но ведь он, он… Мы в ссылке вместе были. Где он? Ведь он у вас где-то здесь?
— Нету его здесь.
— Ушел? Так я догоню. — Иванин двинулся к двери.
— Горячитесь, товарищ Иванин, — предостерегающе сказал депутат. — Во-первых, вам его не догнать, во-вторых, если бы это даже удалось, так, короче говоря, кроме вреда, ничего бы из этого не получилось. Он исполняет важное поручение партии, и вряд ли в ближайшие месяцы вам удастся его встретить.
— Значит, увидеться с ним нельзя? — Иванин покачал головой, видно было, что он очень огорчен.
— Нет. Ну, привет от вас я, может быть, вскорости смогу ему передать, — мягко сказал депутат.
Глава вторая
1
С моря день за днем дул мягкий ветер — теплая и влажная «моряна», — день за днем над Баку раскидывалось голубое небо, изукрашенное легкими, идущими с моря облаками — точно караваны верблюдов, груженных бурдюками, наполненными водой. Облака отбрасывали тени, быстро бегущие по рыжим, песчано-желтым, голубоватым и горюче-зеленым землям Апшерона. Безмолвно стояли черные вышки, и только из нефтяных скважин продолжала струиться нефть — жирное молоко из щедрой груди матери-земли — и медлительно стекала в нефтяные амбары, переполняя их и превращая в нефтяные озера.
После того как Науруз вынес раненого Кази-Мамеда со двора Сеидовых и донес его до промысловой больницы, ему, понятно, нельзя было вернуться к Алыму, на сеидовские промыслы. Но он не остался без дела. Руководители забастовки, которым подчас нельзя было встречаться из соображений конспирации, посылали Науруза друг к другу с поручениями. И Науруз ночевал — то под кровом русской рабочей семьи и ел кислые щи, а на другой день в азербайджанской семье угощали его довгой, заправленной кислым молоком…
Однажды он из Шихова села в продолжение нескольких самых жарких часов дня шел через весь город к Соленому озеру. Его послали предупредить людей, собравшихся там на сходку, что они выслежены полицией. Науруз пришел, когда стемнело и рабочие уже собрались. Партийный товарищ, проводивший сходку, — это был тот самый молодой Петр Хролов, который вручил Достокову требования рабочих, — не захотел распустить собравшихся и решил перевести их в другое место. Но как произвести этот переход, чтобы люди не заблудились в пустынной, пересеченной ложбинами, бугристой и изрытой местности?
И на всю жизнь запомнил Науруз, как по предложению Петра Васильевича Хролова несколько тысяч людей, взявшись за руки и образовав большую шеренгу, пошли в глубь пустыни. Под ногами может оказаться рытвина, камень, ты можешь каждую минуту оступиться, споткнуться — ничего: горячая рука справа, горячая рука слева тебя поднимут, тебе помогут. И дальше пойдешь под слабым светом звезд, достаточным лишь для того, чтоб отличить небо от земли. Рука справа, рука слева. И оттого, что ты не знаешь даже имен тех, чьи руки держишь, на душе делается еще спокойнее, еще надежней, и сильнее чувствуешь небывалую силу товарищества. Сходка состоялась, правда, не в двенадцать, а в два часа ночи.
Другой раз Науруз получив только что отпечатанную и еще мокрую листовку, доставил ее в ложбину среди голых, песчаных, расцвеченных алыми маками скал.
Здесь происходило собрание уполномоченных Сураханского района, почти сплошь населенного азербайджанцами. Собрание проводил Буниат. Он очень обрадовался этой очередной листовке большевистского комитета. Сначала по-русски, разделяя слово от слова, он громко и медленно прочитывал фразу, а потом, потрясая прокламацией, переводил на азербайджанский, повторяя и разъясняя свою мысль:
— Дикий… гнет… объединенного… капитала… достиг крайних пределов… Необходимо… противопоставить капиталу… организованную силу… рабочего класса…
Возгласы одобрения раздались в толпе. Буниат сделал ладонью жест, призывающий к тишине, снова поднес к глазам большой листок прокламации и снова громко читал вызов, брошенный в лицо могущественному врагу:
«Необходимо свергнуть царское правительство, сковывающее цепями всю Россию».
Тут переводить уже было не нужно. Все поняли, зааплодировали. Науруз тоже хлопал в ладоши. В ушах его еще раздавались торжественно-внушительные слова, произнесенные Буниатом. Науруз думал о той силе, которая так внушительно заявляла о себе в этих беленьких бумажках. Эта сила прекратила добычу нефти во всем Баку, окутала город покровом темноты, остановила движение нефти по нефтепроводам к пристаням и докам, к водным и железнодорожным цистернам, на нефтеперегонные заводы Черного и Белого города. Смолкли, замерли и тихо уснули на приколе возле пристаней пароходы и баржи. Эта единая разумная воля останавливала одну за другой все отрасли промышленности: забастовала конка, прекратились работы на товарных железнодорожных станциях. Еще ходили пассажирские поезда — очевидно, та разумная воля, которая направляла ход забастовки, не находила нужным их останавливать, — продолжали работать и опреснитель, и водопровод, и, вопреки опасениям градоначальника, хлебопекарни и булочные.
Но не только в Баку проявила себя эта сила. Буниат читал о том, что «сознательный пролетариат Петербурга и других крупных центров вновь развернул знамя борьбы за социализм, знамя республики…»
Он громко читал, переводил и объяснял:
— Как хищные звери набежали капиталисты со всего мира на нашу красавицу землю… С кровью и мясом рвут твою грудь, Апшерон. Но придет наше время, отгоним мы хищных псов. Уничтожим мы все границы между владениями хозяев и бережно, по-научному наладим добывание нефти… Это и будет социализм! Не проливая ни единой капли зря, будут мощные насосные станции выкачивать нефть из недр земли и перегонять в трюмы пароходов и на нефтеобрабатывающие заводы. Наука поможет нам поглотить и уничтожить дым и ядовитую вонь: И тогда над родным нашим Апшероном навсегда раскинется такое же, как сегодня, синее, незадымленное небо, по склонам гор проведем мы воду, и виноградники прикроют наготу апшеронских гор… Среди зелени раскинутся наши поселки — вольные поселения социалистических нефтяников, и наши румяные, смуглые дети не будут, едва придя в мир, покидать его… Так будет при социализме!
Науруз; подумал о детях Гоярчин и Алыма, — они тянули руки в то будущее, в социализм, который обещал этот заставляющий трепетать сердце голос. Буниат обладал редким даром слова, в своих речах он мог рисовать исполненные поэзии картины. Он был поэт, хотя, если бы ему сказали об этом, он подумал бы, что с ним шутят.
Резкий свисток вдруг оборвал думы Науруза, и сразу мяч, большой мяч, сшитый из пестрых лоскутных тряпок, взлетел над головами собравшихся.
— Друзья! — громко сказал Буниат. — Сейчас сюда прискачут казаки. Но тот, кто побежит, выдаст нас всех. Мы играем в мяч. Делись: кто со мной, кто с другом моим Эйюбом.
И Науруз сразу узнал: это был тот самый силач Эйюб, которого Кази-Мамед привел на сеидовский двор, чтобы дать гудок, призывающий к забастовке. С широкой шеей и крупными бицепсами, точно шары перекатывающимися под курткой, Эйюб с такой силой бросил мяч, что тот помчался вверх, будто ожил и в нем возникла своя сила.
Топот копыт по твердой земле, нарастая, звучал все звонче, и вот раздалась резкая команда. Казаки веером разлетелись и замкнули в своем кругу людей, которые весело, как дети, прыгали, готовясь принять возвращающийся сверху мяч.
Игра прекратилась. Люди собрались в кучу. Ротмистр Келлер выехал вперед.
— Кто здесь выступал с чтением?
— Какое чтение?
Эйюб, поймавший мяч, сказал:
— В мяч играем… Апшеронская игра, все равно что футбол, только инглиз ногой бьет, а наш — кулаком.
— Ты мне зубы не заговаривай! Кто прокламацию читал?
Он шарил глазами по толпе. Он знал, что здесь, среди собравшихся, есть подосланный им соглядатай, который должен указать агитатора. Но соглядатай, сразу же при вопросе ротмистра неосторожно рванувшись вперед, выдал себя этим движением, и ему мгновенно заткнули рот и где-то в глубине толпы топтали его, как кони топчут ядовитую змею…
— Я вас, м-мерзавцы, б-бездельники, нагайками пороть буду! — не возвышая голоса, отчетливо-раздельно, так, что каждое слово было слышно, говорил ротмистр. — Какая еще тут игра? — Его взгляд, бегавший по рядам в поисках своего доносчика, остановился на старческом, исчерна-смуглом лице, оттененном белой бородкой, узеньком, со впалыми щеками. Это был тот самый перс, который от имени рабочих Сеидова вручил «Требования» хозяину. — Или ты, старый хрыч, тоже в мяч играешь?
— Ты сказал, — ответил старик, — я старый…, старый хрыч, — с усилием выговорил он. — Хрыч — это ничего, это все равно старик, русский, мусульманский, франкский, все равно старик… Мяч не играл. Сила где? — Он обнажил свою руку и показал дряблую кожу, охватившую кость. — Мяч не играл, а смотреть весело, весело старикам.
Неизвестно, что предпринял бы Келлер, оправившись от неприятного ощущения, что его провели, если бы из толпы не вышел вдруг в своей синей рубашке с открытым воротом и лохматой папахе, сдвинутой на затылок, юноша. Держа в руках сшитый из ярких лоскутков кисет и потрясая им, он пошел в сторону казачьего строя. И оттуда вдруг раздался удивленный возглас:
— Кунак?!
— Это сказал Филипп Булавин — он сразу признал Науруза, Кисет в его руках, сшитый руками жены, сказал Филиппу не только о куначестве, но и о доме, о мире, о вековечной мирной дружбе. Естественным побуждением было двинуться навстречу дружественной руке, протягивающей это по-русски веселое и пестрое изделие родных рук. Но строгое ощущение строя, службы задержало Филиппа, и, повернувшись к ротмистру, он прокричал:
— Разрешите доложить, ваше высокоблагородие, земляка встретил, из веселореченских черкес.
— Ты его знаешь?
— Кунак, ваше благородие.
— Спроси его по совести, что тут было.
— Слушаюсь.
И Филипп, переходя на веселореченский язык, который здесь никто не понимал, строго сказал:
— Спасибо за память, кунак! Ты слышал, что от меня хочет начальник?
— Слышал. Ничего я тебе не скажу, кунак. Но знаю, не по душе тебе рубить хороших людей.
Глаза их встретились. И, весь покраснев, точно от натуги, Филипп прокричал, повернувшись к Келлеру:
— В мяч они играли, ваше благородие.
Казаки ускакали, и теперь можно было разойтись. Буниат посмотрел на Науруза, и его взгляд, пристально-внимательный и отчужденный, навел печаль на душу Науруза.
Буниат взял Науруза к себе домой. На следующий день за утренним чаем они, против обыкновения, молчали. Наурузу было грустно.
— Откуда ты знаешь этого казака? — спросил наконец Буниат.
«Вот оно!» — подумал Науруз. И ответил сдержанно и обстоятельно, как молодому подобает говорить со старшим:
— Его зовут Филипп. Он из станицы Сторожевой, кунак мой.
— Он по лычкам унтер-офицер, у него медаль повешена «За усердие». Какой может быть он кунак тебе, врагу царя, врагу богатых?
Науруз молчал, опустив глаза. Рассказать о том, что так крепко связывало их с Филиппом и с каждой встречей вязало все крепче, было очень трудно — слов не хватало, да и мешала привычная стыдливая сдержанность. И как без стыда рассказать о том, что тебя на глазах у множества людей ударил по лицу этот малорослый казак, которого ты мог стереть с земли одним ударом — и все же не сделал этого?
Науруз посмотрел на Буниата, но тот, не отводя глаз, выдержал этот обиженно-вопрошающий взгляд.
Но что же ему делать — он расскажет. Всего несколько минут занял этот скупой, лишенный подробностей рассказ. Да и о чем говорить? Две встречи: первая — на дворе у князя; вторая — в лесу, где Филипп выпустил его из круга облавы и подарил ему кисет, — вот и все.
— Как же это ты, горец, стерпел удар по лицу? — спросил Буниат.
— Я в ответ ударил подстрекателя-пристава, который хотел, чтобы мы подрались, — тихо ответил Науруз.
— Ну, в том, что ты ударил пристава, в этом, конечно, показал себя джигитом, — одобрил Буниат. — Но как же это он выпустил тебя во время облавы?
Науруз молчал. Ему и о себе трудно было рассказать, хотя он ясно помнил весь свой молниеносный ход мыслей в те страшные минуты: мгновенное раскаяние на лице Филиппа, и дышащее подлым восторгом лицо пристава — конечно, только в это лицо и нужно было двинуть кулаком. Но объяснить Буниату чувства и поступки Филиппа он совсем не мог, да, признаться, и не задумывался над ними.
— Хороший человек, — пробормотал он.
Буниат сомнительно покачал головой и, помолчав, сказал:
— Ты мой гость, я твой хозяин. Побудь сегодня у нас до вечера, и только об одном тебя прошу: не уходи без крайней необходимости.
И Науруз подчинился, хотя не легко ему было выносить вопросительные взгляды молоденькой жены Буниата. Науруз смирно сидел в комнате Буниата, помогал ей хозяйничать и старался не развязывать того темного узла, который завязан был в его душе. Разве кто-нибудь над ним властен? Разве не может он выйти из этого дома и уйти, бесследно исчезнуть в родных горах? Но нет, он не мог. Он сам добровольно связал себя покорностью перед своими старшими.
2
О том, что Петр Митрофанович Стефани по убеждениям и партийной принадлежности был большевиком, бакинское начальство знало хорошо. За каждым шагом Стефани следили. Когда «Митроныч» — так Петра Митрофановича Стефани называли друзья — с невозмутимым видом шел на службу в Совет съездов и возвращался домой, его сопровождал «эскорт», как он выражался, из двух шпиков. Митроныч прекрасно знал их и даже порой позволял себе с ними шалости. Если у него гасла папироса, он круто поворачивался и просил прикурить. Шпик был некурящим, но спички у него имелись всегда. Обжигая пальцы, он держал огонь и снизу вверх, так как Стефани был высокого роста, испуганно-жадно вглядывался в невозмутимо-высокомерное лицо. Никак не давала себя изловить и тем обеспечить наградные к рождеству Христову эта человеческая добыча! Шпики дни и ночи дежурили возле квартиры Стефани. Даже Ванечка Столетов, обладавший способностью, как о нем говорил Петр Митрофанович, «дематериализоваться» и, подобно привидению, входить в стены и растворяться в воздухе, — даже он не решался приближаться к квартире Стефани. Связь с ним поддерживалась лишь в служебном помещении Совета.
Когда мусульманин, в черной барашковой шапке и длинном халате, с двумя бурдюками за спиной, крича: «Вода, вода, вода, кюринский холодный вода!» — прошел мимо окна квартиры Стефани, шпики остались спокойными. Они на эту типичную бакинскую фигуру не обратили никакого внимания, хотя среди городского шума и торговых выкриков этот голос особенно выделялся, перекрывая даже речитатив-скороговорку: «Угли-угли-угли, а вот угли!.. Угли-угли-угли, а вот угли!..»
— Вода, вода, вот вода, холодный кюринский вода!
Услышав этот голос, прославляющий свежесть куринской воды, Стефани по условленной расстановке слов признал Буниата и подошел к окну.
Всюду темно. Электрические фонари погасила забастовка, но улица эта, как всегда, шумна и многолюдна. Внизу, во дворе, находилась армянская булочная, и молодые булочники, воспользовавшись перерывом, вышли подышать воздухом. Среди басовитого гула их голосов выделялся задорный красивый голос девушки — она весело подшучивала над ними. Все это происходит у самого входа в ворота. Это хорошо.
При свете, падающем из окон, видны мелькающие тени. Во двор все время входили, выходили, — здесь удобный проходной двор, доставляющий множество огорчений шпикам. На той стороне улицы Петр Митрофанович видел темный силуэт наиболее надоедливого «телохранителя» — того, у которого он несколько раз прикуривал. Коренастый, румяный человек в котелке и тройке — пиджак, несмотря на жаркую погоду, наглухо застегнут, возможно, чтобы скрыть оружие, — не сводил своих маленьких, как мухи, глаз с открытых окон квартиры Стефани, и Петр Митрофанович представлял себе жадно умоляющее выражение его лица: «Ну, дай я тебя слопаю… Мне так хочется тебя слопать». Занятый квартирой Стефани, шпик никакого внимания не уделял «обыкновенному мусульманину», кричавшему: «Вода, холодный кюринский вода!» Но Стефани, услышав этот крик, как было условлено, снял с керосиновой, еще не зажженной лампы зеленый абажур, засветил маленький огонь, надел стекло и абажур и поставил лампу обратно на край своего письменного стола. Он прибавил огня, зная, что в эти минуты две пары глаз следят с улицы за всеми этими действиями. Шпик следит даже с некоторой скукой, он знает, что этот зеленый огонь зажигается в кабинете Стефани каждый вечер в эти часы. А для Буниата этот огонь должен означать: «Друг, входи в дом, все безопасно».
Стефани вышел из кабинета в соседнюю темную комнату и снова взглянул в окно. Все на своих местах: шпик, освещенный зеленоватым светом, падающим из окна, привалился к стене противоположного дома и, использовав как точку опоры небольшой уступ ниже окон первого этажа, присел в скучливой позе. А продавец воды исчез, значит сейчас у входной двери раздастся условный звонок — длинный, короткий, снова длинный… Стефани прислушивался… Шли минуты. Только милые мягкие голоса жены и дочери слышал Петр Митрофанович из-за притворенной двери в спальню… Буниат все не шел. Неужели что-либо случилось во дворе? Стефани прислушался. Нет, булочники продолжали пересмеиваться с девушкой, все было спокойно. Там, где-то во дворе, находился второй шпик, но он боится подходить к воротам. Булочники его знают, сообщали о нем Стефани и уже не раз предлагали «повернуть ему лицо на спину», как выразился один из них. Но Стефани просил этого не делать: «Все равно другого пришлют, этого хоть знаем…» Нет, во дворе было тихо.
Прождав еще несколько минут, Стефани шагнул к окну. Шпик стоял на своем месте. Продавец воды снова появился, но теперь он не кричал. Шпик попросил у продавца «стаканчик воды». Продавец громко, на всю улицу, ответил:
— Кончал базар, вода продал.
Шпик его выругал, продавец исчез в темноте. Ничего не понятно.
Стефани, взволнованный, продолжал прислушиваться. Нет, звонка не слышно, только веселые голоса жены и дочери. Девочка расхохоталась вдруг звонко и весело, — такой детский смех побуждает жить, работать, радоваться жизни. Стефани прислушался: опять это «угли-угли-угли, а вот угли».
— Угли-угли-угли, а вот угли!
В нетерпении, не сознавая, зачем он это делает, Стефани прошел в переднюю, тускло освещенную маленькой керосиновой лампочкой, подошел к входной двери, открыл ее, постоял, прислушался — и вдруг услышал тот самый голос, который некоторое время тому назад так звонко, на всю улицу, выкрикивал: «Вода, кюринский вода, холодный вода!»
— Митроныч! — тихо, почти шепотом, и в то же время очень ласково сказал этот голос за дверью.
— Буниат!
Очень обрадовался Буниат, увидев эту знакомую, высокую, осанистую и несколько сутуловатую, всегда внушавшую ему доверие и уважение фигуру. Он и любил и почитал Стефани. Пожимая ему руку, Буниат с обычным волнением подумал: «Эту руку много раз дружески жал Ленин». Стефани был делегатом Второго съезда партии и с того времени шел вместе с Лениным. Как будто углубленный в себя и рассеянный, Стефани был настоящий конспиратор, — градоначальник Мартынов никак не мог уловить его в свои сети.
Своими научными трудами по экономике нефтяных промыслов Стефани внушал уважение даже врагам своим — либералам нефтепромышленникам и в особенности управляющему делами Совета съездов Достокову, у которого было особенное чутье на людей незаурядных.
Служба в Совете съездов давала возможность Стефани быть в курсе всего огромного хозяйства бакинских нефтепромыслов. Поэтому руководителем тройки, выделенной Бакинским комитетом партии для изучения вопроса о будущей забастовке и для подготовки ее, был именно Стефани. Зная наличные запасы нефти по предприятиям и расход ее, он подытожил и определил запасы нефти на бакинских промыслах и дал прогноз: пройдет два месяца забастовки — и нефтепромышленники вынуждены будут капитулировать! И он же собрал воедино и выразил в едином документе — в требованиях, предъявленных Совету съездов нефтепромышленников, — все надежды и чаяния бакинских рабочих. Эти требования стали программой забастовки.
— Я ведь сразу услышал ваше «вода… вода». А потом вы исчезли? Куда? — спрашивал Стефани, ведя Буниата в маленькую комнату с занавешенными окнами. В этой комнате сразу же бросались в глаза книги. Они стояли на полках у стены, загромождали небольшой столик, даже из-за дивана выглядывали корешки книг.
Усаживая товарища, Стефани продолжал:
— Я видел из окна, как вы, наверно, не меньше десяти минут фланировали вокруг нашего дома… Почему, думаю, не идет? Чего ждет? И потом, вижу, вы где-то переоделись? — удивленно спросил Стефани, оглядывая черную, поношенную, но, в общем, довольно приличную пару, которая была на Визирове, белый воротничок и аккуратно повязанный галстук.
— Э-э-э, какое там переодевание! — усмехнувшись, ответил Буниат. — Это у меня все было под халатом, он удобен тем, что его можно мгновенно скинуть. Я и скинул его и вместе с бурдюками сунул у вас под лестницу. Бурдюки пригодятся, а халат — так, старье. Ну, а почему я не торопился к вам, Митроныч, так это уж вы сами нас учили осторожности.
— Но ведь вы не могли не видеть, как я зажег зеленую лампу?
— Видел. Но кто знает, чья рука зажгла ее? Может, провокатор уже узнал о нашей сигнализации и вы уже в тюрьме, а лампа зажжена рукой врага? Мне показалась подозрительной тишина в вашей квартире… И тут вдруг ваша Ниночка расхохоталась так звонко, весело. Ну, думаю, значит в доме все благополучно.
Стефани быстро поднял и опустил руки, словно взлететь собрался. Это был жест, которым он выражал свое веселое настроение. Он засмеялся и закашлялся.
— Ну конечно, такой сигнал точнее всякой зеленой лампы. Да-да, Ниночка рассмеялась, это верно. Для меня ее смех — обыденность, а для вас… у вас все обострено: зрение, слух, как у горного оленя.
Буниат потупился. Он не любил, когда о нем так говорили. Ничего оленьего он в себе не находил. Но, понимая, что собеседник, которого он уважал едва ли не больше, чем кого бы то ни было, этими словами выражает самые добрые чувства, Буниат не стал возражать и прямо перешел к разговору, ради которого они встретились, стал рассказывать о последних событиях в Балаханах и Сураханах.
Буниат говорил коротко, ясно — так, чтобы за короткое время сказать возможно больше.
Он называл новые промыслы и предприятия, присоединившиеся к стачке, перечислял митинги и сходки и сообщал количество их участников. Говорил мало, сухо, но в самом голосе слышалось торжество. Вывод был ясен: силы стачки нарастают…
И после краткого молчания Стефани сказал:
— Начало забастовки Мартынов прохлопал, она застала его врасплох. У градоначальства, не считая полиции и жандармов, было в распоряжении всего две казачьи сотни. На вчерашнем заседании Совета по предложению Гукасова ассигновано шестьсот тысяч рублей на содержание шестисот городовых, — отчетливо выговорил Петр Митрофанович. Так он всегда выговаривал статистические цифры — отчетливо, почти скандируя.
— Шестьсот тысяч рублей, наших кровных, добытых тяжелым трудом… против нас же, — тихо сказал Буниат.
Стефани внимательно взглянул на него. Визиров сидел молча, опустив голову. Потом вдруг вскинул на Стефани свой смелый взгляд.
— Э-э-э… Чего там, все наше будет! Но сколько живу, душа не может примириться с этим подлым порядком… Листовку о последних событиях вы напишете, Митроныч?
— Напишу, — ответил Стефани. — Знаете, парни, которые до нас литературу довезли из-за границы, молодцы, большое дело сделали! Ведь там полный гектографический отчет последнего совещания ЦК и резолюции о стачечном движении.
— Я читал, — коротко ответил Буниат.
— Вы, конечно, обратили внимание на пункт шесть? Его в печатном тексте не было.
— Ну как же: «Установка более правильных и тесных сношений между политическими и другими организациями рабочих разных городов», — наизусть сказал Буниат.
— Вот именно. И я в нашей новой листовке хочу во главу угла поставить лозунг всероссийской политической стачки.
Визиров кивнул головой.
Все это время он непрестанно и напряженно прислушивался.
— Новостей из Петербурга и Москвы еще нет? — спросил он.
— Номер «Рабочего», где напечатаны наши статьи о чуме, вы видели?
— Видел. Но я не об этом. Должен быть прямой отклик на нашу забастовку.
— Конечно, он будет, — со спокойной уверенностью сказал Стефани. — Не может не быть. И насчет сношений с нашими соседями — этого мы добьемся. Есть уже отклики из Ростова и Владикавказа. Александр, тот молодой грузин, который привез нам литературу, оказался, как мы и предполагали, достаточно сообразителен и ловок. Мы уже имеем письмо из Тифлиса.
— От Алеши? — быстро спросил Визиров.
— От него. Александр разыскал в Тифлисе Джапаридзе, сиречь Алешу Балаханского, и, видно, вполне толково передал все то, что мы не хотели доверять бумаге. Тифлисцы уже действуют. Пишет Алеша, что сбор в наш забастовочный фонд начался.
— Видел я сон, — тихо сказал Буниат, — будто бегу я вверх, на высокую гору. Тяжело бежать, сердце перешибает, а надо еще, чтобы те, кто позади, тоже не отставали, и машу им рукой и зову. А наверху дворец такой — башни высокие, много башен, и на каждой — красный флаг. Я будто знаю, что это и есть дом общий наш, о котором мы в гимне поем: «Мы наш, мы новый дом…», то есть не дом, конечно, а «новый мир построим», но, знаешь, ведь сон, и во сне я вижу дом… Добежал я до ступеней этого дома и вижу: Степан стоит. Сердито смотрит он на меня, а мне стыдно, потому что я знаю: за дело сердится он на меня. «Не ждал, говорит, я от тебя, Буниат, что ты опоздаешь, идем скорей». А я говорю: «Степан, ведь я бежал от самого Джебраиля». Тогда он смеется и берет меня под руку. Входим мы во дворец. Светло там на диво, цветов много, фонтан посредине бьет, повсюду красные знамена и много-много народу — и всякие нации: немцы тут, и французы, и англичане, и Китай, и все расступаются. И вдруг Степан говорит: «Вот товарищ Ленин». И как подумал я, что Ленина сейчас увижу, — запел от счастья, как ашуг, как соловей запел… Тут вдруг жена тянет меня за руку и говорит: «Перевернись, дружок, ты на спине спишь и стонешь очень, перевернись, ляг поудобней». Ах, досада, ни разу я ей дурного слова не сказал, а тут чуть не обругал: такой сон, такой сон досмотреть помешала.
— Вы что, недавно Степана Георгиевича видели? — понизив голос, спросил Петр Митрофанович.
— Так же, как вас сейчас вижу, — ответил Буниат. — Ненадолго, правда, но необходимость была по работе. — Он словно бы извинялся. Охранка гонялась за Шаумяном, и встречи с ним старались свести до минимума.
— А мне после его возвращения из ссылки не пришлось с ним свидеться, — со вздохом сказал Стефани. — Ну как он?
— Такой же. Расспросил о всех моих семейных делах. Веселый. И сказал, что большое письмо Ленину написал о нашей забастовке.
— Это хорошо. Это для Владимира Ильича будет большая радость. — Стефани вдруг громко рассмеялся. — Так вот, значит, откуда возник ваш сон! Выходит, обоснование его вполне материалистическое.
— Да, наверное обрадуется товарищ Ленин, — тихо сказал Визиров.
Они оба замолчали. В имени Ленина, в живом образе его было то, в чем эти суровые души находили неиссякаемый источник вдохновения и бодрости.
— У меня ведь к вам, Митроныч, еще разговор есть. Вы знаете, что их было двое, которые нам литературу привезли?
— Как же, знаю. Это который Кази-Мамеда вынес, когда его ранили. Тоже молодец. Он в Краснорецк должен был ехать — деньги для нас собирать. Что, уехал уже?
— Об этом посоветоваться нужно, Митроныч, — ответил Буниат.
И он рассказал о том, что произошло на его глазах между Наурузом и казачьим урядником, а также все, что узнал от Науруза о его отношениях с ним.
— Очень интересно, — сказал Стефани, пристально разглядывая свои большие руки. — Горца ударил казак, а горец ударил пристава, который науськал на него казака? Это признак высокой сознательности горца. Как вы понимаете?
— Вот это меня и смущает, Петр Митрофанович: откуда такая сознательность? Науруз, как я узнал, сын правоверного мусульманина и воспитывался при мечети, долгое время был муталимом. И казак какой-то непонятный, на других казаков не похожий.
— Вот уж насчет казака разрешите с вами не согласиться, — горячо заговорил Стефани. — Представьте себя в его положении. Ударив горца, он ждал, что горец полезет с ним в драку, и готов был к этой драке… А горец вдруг бьет не его, а пристава. То есть он этим ударом как бы говорит казаку: «Я знаю, тебе приказали, тебя натравили. И не тебе я буду мстить, а тем, кто тебя натравил». Такая наглядная пропаганда, знаете ли, может перевернуть душу человека. Ведь мы уверены, что настанет день, когда солдаты и казаки прекратят стрелять в народ. И, уверяю вас, вот этот казак перестанет стрелять один из первых.
— Науруза я на сегодня оставил у себя, и он ждет решения своей участи. Я ни в чем не обвиняю его, — угрюмо добавил Буниат. — Судя по всему, он надежный, хороший человек. Но пусть я лучше покажусь людям излишне подозрительным и жестоким, если только есть хоть какой-нибудь риск, что может пострадать организация… — Говоря это, он понизил голос почти до шепота.
Стефани вдруг понял его душевное состояние и взглянул в окно. Зловещий силуэт шпика по-прежнему вырисовывался на той стороне улицы — он стоял теперь возле прилавка маленькой табачной лавчонки.
— Вы убедили меня, — сказал Буниат. — Завтра я направлю его в Краснорецк.
Буниат ушел.
Стефани, взглянув в окно, увидел, как темный силуэт Буниата скользнул в черную тень домов.
«Таких, как он, еще мало, но их будет все больше и больше», — подумал Стефани.
Статистика была всю жизнь любимым предметом Петра Митрофановича. Изучение количественных изменений в хозяйстве современного общества неизменно давало ему уверенность в том, что капитализм идет к концу и подготовляет социализм.
Постоянно и пристально следя за изменением состава бакинских рабочих, Стефани один из первых установил возрастание год от года числа рабочих-азербайджанцев, их переход от занятий неквалифицированных ко все более квалифицированным. Появление таких людей, как Мешади Азизбеков, Кази-Мамед, Буниат Визиров, его не удивляло — статистика предсказала ему их появление. Но в начале века они насчитывались единицами, а сейчас стоят в ряду самых передовых.
Стефани усмехнулся и сунул руку в ящик. Тоненькая книжечка, которая была ему нужна, лежала сверху, но он не удержался и провел рукой по переплетам других заветных книжек, там хранимых. Он узнавал их на ощупь: «Капитал» Маркса, «Развитие капитализма в России» В. Ильина… Стефани вынул брошюру и в полутьме на обложке разобрал: «Извещения и резолюции летнего 1913 года совещания. Цена 40 сантимов». Какой путь на пароходе, на спинах ослов и на санитарной фуре проделала эта книжечка!
Вдруг в комнате стало светло. Чтобы разглядеть напечатанный на обложке текст, не надо было и наклоняться, все видно, как днем. Стефани поднял голову. Ярко горело электричество. Он взглянул в окно и там увидел вереницу огней. Забастовка на электростанции в этом районе была прекращена. Неужели электрики все же послушались меньшевиков?
* * *
Об этом же подумал и Буниат Визиров, отпрянувший от света в тень невысокого дома, мимо которого шел. Оглядев себя и убедившись, что ничто в его одежде не бросается в глаза, он быстрым шагом пошел в сторону электростанции, все время стараясь идти в тени домов. Вереница электрических фонарей ровно светила на протяжении всей улицы.
Куча мошкары вилась возле каждого фонаря, а на некоторых, сливаясь с чугунными столбами, неподвижно сидели ящерицы. Привлеченные сильным светом и загипнотизированные им, они карабкались вверх по столбу и пялили на свет свои блестящие глазки.
Невысокое здание электростанции с большими окнами, занимавшими всю стену, выглядело сейчас особенно ярко освещенным, словно назло… Возле главного входа стояли казаки; синие их черкески казались черными, белые бляшки на ремешках блестели, как серебряные. Заседланные лошади, привязанные к перилам невысокой, но широкой лестницы главного входа, мотали головами — их донимала мошкара, которой здесь, на свету, скопилось особенно много. И в этом непрестанном мотании Буниату почудилось нечто зловещее.
Буниат шел по другой стороне улицы и осторожно оглядывал освещенное здание. Он знал, что оно имеет входы со всех четырех сторон.
Буниат больше всего надеялся на ту дверь, что выходила во двор. Сюда обычно, доставлялся мазут, которым отапливалась электростанция. Чтобы узнать, нельзя ли этим путем пройти в здание, надо было проникнуть на маленький дворик, вплотную примыкавший ко двору электростанции. Калитка в этот дворик обычно не закрывалась, Буниат не раз ею пользовался. Она и сейчас оказалась открытой. Пройдя через нее и дворик к забору, Буниат ухватился за него и поднялся на руках. Двор электростанции был освещен так же ярко, как и фасад здания. Земля, покрытая мазутом, блестела, точно сковорода, намазанная маслом. Казак в черкеске, с карабином в руках, сидевший на лавочке, увидел Буниата и сразу вскочил. Буниат спрыгнул вниз и покинул дворик, свернув в маленький темный переулок. Здесь находился еще один ход на электростанцию — правый боковой, для рабочих, — на него Буниат не очень надеялся: этот вход, наверно, охраняли строго. Но ведь и через парадное проникнуть невозможно, а левый боковой заколочен изнутри, им не пользовались.
Едва попав в проулок, который вел к правому боковому входу, Буниат увидел, что на каменном крыльце и на больших каменных плитах тротуара толпятся люди. В глаза ему бросились плечистые, в своих белых летних матросках, с синими широкими воротниками и открытыми шеями, военные моряки вперемежку с темными фигурами рабочих. Буниат свободно мог сойти за рабочего электростанции и тихо подошел поближе. Теперь он даже узнал некоторых рабочих, стоявших у крыльца. Здесь были и казаки в своих темно-синих черкесках. На Буниата никто не обратил внимания, все были заняты оживленным, но тихим разговором. В нем участвовали и казаки и матросы. Вон казак прикурил у матроса. Осветились их лица — оба русые, темно-загорелые, как братья. Прикурив, казак что-то невнятно сказал. В ответ послышался голос, и Буниат вздрогнул: только Столетов мог говорить так раздельно, неторопливо и совсем негромко.
— Это вы верно сказали, — говорил Столетов, — не только о присяге тут разговор, а об отечестве. И для нас, рабочих, отечество наше не меньше дорого, чем для вас, военных. А вот для господ нефтепромышленников, против которых мы боремся, интересы своего кармана выше всего, а на отечество им наплевать. Известно ли вам, что с девятьсот второго года цена нефти поднялась больше чем в шесть раз: с шести копеек до тридцати восьми копеек, а добыча уменьшилась с шестисот — семисот пудов до пятисот — пятисот восьмидесяти пяти пудов?
— А разве им выгодно нефти меньше производить, если с каждого лишнего пуда имеет он своих тридцать восемь копеек? — недоверчиво спросил казак. — Где это ты цифры взял? Сам выдумал, верно?
— Эти цифры оглашались в Государственной думе и были в газетах напечатаны. А насчет производства пусть каждый рассудит: чтобы лишний пуд добыть, надо и на оборудование потратиться и нашего брата нанять. А зачем беспокоиться-трудиться, когда можно накинуть в этом году копейку на фунт, в будущем — еще две копейки и заставить платить того, кто керосин, бензин, мазут покупает. О себе он побеспокоился, а что из-за его корысти у нас в России меньше нефти производится, ему что! Вот у кого, правда, что отечества нет. Да какое может быть у них отечество, когда большая половина нефтяных богатств принадлежит иностранцам. Нобель и Ротшильд — вот самые главные нефтяные тузы. А они знают: чем в России меньше нефти производят, тем она слабее.
— Это так и есть, — подтвердил вдруг один из моряков. — Теперь даже и наш военный флот ладят переводить на дизеля.
Опять заговорил Столетов — снова о нефтепромышленниках и о рабочих, о том, что рабочие борются не только за улучшение своего положения, но и за то, чтобы двинуть вперед нефтяную промышленность… Иногда посреди речи ему вдруг задавали вопросы, прерывали его, оспаривая или соглашаясь. Он терпеливо выслушивал, отвечал, охотно повторял снова и разъяснял. Он всегда так говорил: не доклад, не лекция, не выступление на митинге, а разговор, простая беседа. Но как бы его далеко ни уводила неожиданная реплика собеседника, он упрямо приводил мысль к главному: нравственному оправданию бастующих, к утверждению того, что моряки и казаки, которых прислали на электростанцию заменить бастующих рабочих, совершают нехорошее дело, им лучше отступиться…
Невысокого роста, в косоворотке под пиджаком, Столетов, когда говорил, так смотрел на людей своими глубоко посаженными глазами, светлыми и смелыми, что впечатление незыблемой правды его слов еще больше усиливалось. Худощавая небольшая фигура, звук голоса, улыбка, весело открывавшая зубы, и в особенности прямой, внушавший доверие взгляд — все в нем казалось ладно, даже как-то мило, и притягивало. Становилось понятно, почему при всем том уважении, которым он пользовался в организации и в среде рабочих, его уменьшительно-ласково называли «Ванечка».
Буниат молча слушал Столетова. Все, что говорил Столетов, ему было знакомо, но слушал он с волнением, как слушают хорошую музыку. Буниат говорил с людьми совсем по-другому, несколько нараспев. А у Столетова обыденно-простая разговорная манера, то с цифрами, то с шутками, и потому она казалась Буниату замечательной.
Внимание Буниата неожиданно привлек к себе высокий молодой матрос, появившийся в толпе. Худощавый и черноволосый, сросшиеся брови, размашистые движения — все это так знакомо было Буниату, Моряк тоже взглянул на Буниата, веко его карего горячего глаза чуть дернулось — он подмигнул. Буниат признал его. Это один из рабочих электростанции, большевик. В руках он держал большой слесарный ключ. К нему подошел другой моряк, тоже высокого роста, с лейкой в руке, какие употребляются для заливки масла в машины. Эти переодетые моряками рабочие осторожно протиснулись на крыльцо. Казаки, занятые разговором со Столетовым, пропустили их. Предчувствуя то, что произойдет сейчас, Буниат поближе подошел к крыльцу — на случай, если потребуется его вмешательство.
— Вот видишь, друг, — говорил Ванечка, обращаясь к казаку, — ты дома у себя лампу заправлял керосином и не думал, наверно, что этот керосин мы для тебя своим трудом добывали и что из твоего трудового гривенника девять копеек берет себе буржуй, а только одна копейка доходит до нас. Ну, а теперь подумаешь об этом…
Он не успел договорить, как случилось то, чего, волнуясь, ожидал Буниат: все снова погрузилось во мрак, и только несколько мгновений спустя белые стены электростанции с ее большими черными окнами выплыли из темноты.
— Товарищи, спокойствие! — повелительно сказал Столетов. Совсем не похоже было, что это он же несколько секунд тому назад говорил так ласково. — Забастовочный комитет обратился к военным морякам, присланным на электростанцию, и разъяснил, какую позорную и штрейкбрехерскую роль им навязывают. Моряки прекратили работу…
Моряки выходили из темных дверей, вытирая тряпками руки.
Свисток, раздавшийся в темноте, заглушил слова Ванечки. Молоденький флотский офицер, весь в белом, только погоны и пуговицы поблескивали в темноте, кричал срывающимся, мальчишеским голосом:
— Почему безобразие? Почему нет освещения?
— Машина дурит, ваше благородье, — послышался насмешливый голос.
— Да чего говорить, не наше это дело! — сумрачно сказал еще кто-то из темноты.
Казак-постовой стоял покуривая и глядя себе под ноги. Рабочие с веселым говором свободно проходили в темное здание и выходили — он не препятствовал им. Ванечка подошел к Буниату, тот кивнул ему на казака.
— Ничего, пускай подумает.
И Буниату вспомнились слова Стефани о казаках и солдатах, сказанные сегодня.
Матросы построились и пошли строем ровно, весело и запели какую-то песню; лад песни был длинный и размеренный, как звук прибоя, а припев короткий, озорной до отчаянности.
Эх, постой! Эх, постой! Морячок молодой!.. —пели они.
— Как поют! Так бы и зашагал с ними, — сказал Ванечка. — Нам нужно, Буниат, уходить отсюда, здесь все налажено.
3
«Итак, петербургские дела закончены. Теперь только на почтамт — и в Баку».
Выйдя на простор Мариинской и Исаакиевской площадей, Константин невольно задержал шаг. Большая Морская, откуда он вышел, была в этот самый жаркий час бесконечного летнего дня вся покрыта тенью огромных своих домов, там свежо и смолисто пахли торцы…, А здесь солнце висело над темной громадой Мариинского дворца, и просторные площади эти казались Константину раскаленной булыжной пустыней, над которой Исаакий сиял ослепительной желтизной, подобно второму солнцу. Остолбенелый, как кегля, Николай I похоже что прямиком с неба упал на своего полного жизни, изваянного Клодтом, коня. Взглянув на то, как этот царь-пугало, превративший в пытку смотры и парады, жарится на солнцепеке в своих чугунных каске и мундире, Константин со злорадной усмешкой подумал: «Поделом тебе».
Почтамт был на той стороне площади. Но пересекать площадь напрямик не хотелось — что-то опасное чудилось ему среди пустынных этих двух площадей, — и, свернув, Константин пошел по фасаду новой и по-новому роскошной гостиницы «Астория». Но только он поравнялся с великолепным ее входом, как оттуда высыпало много людей, — их выталкивали из дверей гостиницы швейцары в галунах и полицейские.
Константин хотел уже сойти с тротуара и обойти стороной всю эту кутерьму, как вдруг человек, с силой вытолкнутый из дверей гостиницы, с размаху налетел на него. Константин инстинктивно, чтобы ослабить силу столкновения, схватил его за плечи. Студенческая фуражка с голубым околышем была сбита набок, русые волосы выбивались из-под нее, миловидное, почти кукольное лицо сохраняло выражение стремительности. Константин узнал в студенте Николая Гедеминова, Кокошу, брата Людмилы.
— О-о-о! Здорово! — без особенного удивления сказал Кокоша, пожимая руку Константину, хотя они последний раз виделись в Краснорецке более года тому назад. — И как этот фараон чертов в меня вцепился! — заворчал он, почесывая плечо. — Ну, да к дьяволу его! Главное — вот оно! — Кокоша победоносно потрясал блокнотом. — Ведь самоубийца при мне пришел в сознание и сказал: «Красивой жизни нет, Кокоша». «Жизни нет», — так и сказал. Ведь он мой приятель, Леончик-то…
— Да что случилось? — спросил Константин, взяв Кокошу под руку и вместе с ним направляясь через площадь, — идти вдвоем ему казалось менее опасным.
— Попытка самоубийства — вот что! Леончик Манташев, сын и наследник недавно умершего бакинского миллионера, стрелял себе в сердце. Но в ресторане гостиницы случайно оказался молодой военный хирург. Была тут же проделана виртуозная операция, и хотя положение тяжелое, но есть надежда на выздоровление; А я тоже был в это время в вестибюле гостиницы. Мне нужно было взять интервью у этой румынской дивы, которая поет и танцует, ну, вы, верно, знаете, — Сильвия Жоржеску… И только меня с ней соединили по телефону, вдруг — бах! — выстрел, близко так! Я бросил трубку — и вместе с прислугой прямо в номер. А я уже говорил, что с покойником… то есть — тьфу, пусть он живет и здравствуем? — с этим Леончиком я знаком и даже приятель по всяким студенческим благотворительным вечерам, и потому, изобразив чуть ли не ближайшего родственника, вбегаю в номер с криком: «Ах, Леончик, Леончик!» Стаскиваю с него рубашку, всю в крови, кровь так и хлещет. Тут входит этот хирург. Я вижу: сейчас начнут выяснять, что с ним. Я — в соседнюю комнату, там на столе — письмо, адресовано поверенному в делах, фамилию забыл, да это и не важно, письмо — вот оно! И он прямо пишет здесь: «Вчерашний разговор с вами об отказе в кредите убил меня». Так и пишет: убил… Сенсация! А кто, кроме меня, это имеет? Никто! И дальше тоже здорово, погодите-ка. — Кокоша достал письмо. — «Забастовка на промыслах сверкнула как меч, и я понимаю, краха фирмы нужно ждать в продолжение ближайшей недели…» — Кокоша победоносно потряс письмом. — И, прихватив письмо, я успел все-таки забежать в соседнюю комнату, и как раз он пришел в сознание и, узнав меня, сказал эти слова насчет красивой жизни… Но тут меня узнала одна сволочь — пристав: «Газетчик, а?» У меня с ним уже были неприятности. И я вылетел из «Астории» со скоростью пушечного ядра… Кстати, насчет ядер. Переписка эта между европейскими правительствами, как думаете, чревата войной? Или нет?
— Думаю, что война возможна, — сдержанно ответил Константин.
— Но ведь воевать-то никто не хочет, — говорил Кокоша. — Россия определенно не хочет. Франция, конечно, мечтает о реванше, но… интересно, что даст приезд президента к нам, — ведь ждут его… Вильгельм — вот не люблю молодчика! — фанфарон, маньяк, в нем вся загвоздка.
— Он уверен, что Англия воевать не будет, и заранее чувствует себя победителем, — сказал Константин.
— Но ведь Англия, правда, воевать не будет.
— Вы уверены? — с усмешкой переспросил Константин. — Один умный человек утверждает, что миролюбивая поза Англии насквозь лицемерна. Делая вид, что воевать не будет, она толкает грубого и жестокого, недалекого кайзера первым начать войну. Но воевать она намерена, чтобы сокрушить морскую мощь Германии и пресечь ее колониальные притязания.
— Значит, война будет? — спросил Кокоша.
— Есть одна сила, которая может предотвратить войну, — это международный пролетариат, — сказал Константин. — Если предстоящий в Вене конгресс Интернационала скажет «нет» — войны не будет. Остановите железные дороги, угольные шахты, промышленность — и конец! Войны не будет! — И слова эти прозвучали веско.
— Здорово! Скажет «нет» — и конец! Пролетариат — великая держава современности, а? Хорошая тема для статьи.
— У вас мало шансов напечатать подобную статью, — усмехнулся Константин.
— Вот в том-то и дело! — огорченно воскликнул Кокоша. — А куда мы идем? — опросил он вдруг, останавливаясь. Они уже были посредине площади.
— На почтамт, — ответил Константин.
— Чудесно! И я на почтамт. Сейчас я из Леончика такую корреспонденцию приготовлю для одной московской газеты — москвичи пальчики оближут. Потом в Киев маленький фельетончик, а в «Биржовке» меня золотом осыплют… Но Леончик-то? А? Римлянин, Петроний! Или дай красивую жизнь, или пулю в сердце… Принц! — И вдруг, видно вспомнив о чем-то, Кокоша покачал головой и сказал озабоченно и печально: — Беда с этими бакинскими принцами. Представляете, что наша Людмила учудила? По дороге к Краснорецку она в поезде, очевидно, влюбилась в одного тут, из Баку, — тоже принц… черт бы его побрал! — и, не заезжая домой, отправилась с ним в Баку! И главное, я совершенно дурацкую роль сыграл в этом деле. Именно я познакомил их! Разве мог я ожидать? Дома меня ждет такой компот, не дай бог…
Константин шел, сомкнув губы, шел молча… «Так вот она, тайна, о которой говорила Ольга. Она жалела меня и не хотела сказать правду. Пойти бы к ней и сказать: «Я все знаю», — и упрекнуть за молчание». Но вчера он сам усадил Олю в вагон.
— Черт бы побрал всех принцев на свете, — бормотал Кокоша.
— Ничего не поделаешь, волшебные принцы продолжают и, видно, долго еще будут царствовать в душах девушек, — сказал Константин. Он явно шутил, но в голосе его слышно было принуждение, шутка давалась ему не легко. — Волшебные принцы, если употреблять ваше метафорическое выражение, остаются таковыми, пока в них верят девушки, — говорил он. Ведь надо было о чем-то говорить.
— Какое там метафорическое! Самый настоящий персидский принц. А со стороны матери — внук бакинского миллионера Тагиева, что, конечно, тянет больше, чем эфемерный титул этого самого принца Али-Гусейна, а попросту говоря, Алика Каджара. Он довольно, в общем, приятный, хотя и совершенно бесцветный малый, студент Технологического института. И чем он мог прельстить нашу Людмилу, девушку, если вы помните, мыслящую и, как это говорится, «с запросами и направлением»? И что это будет? Законный брак или какое-нибудь безобразие? Но какой может быть брак между ними, ведь он мусульманин… И что в таком случае должен делать я? Морду ему набить? Вызвать на дуэль? Но ведь это просто даже смешно — дуэль? Пожалуй, действительно морду набить. Но тоже нелогично. Какой бы он там ни был, этот черномазый принц, но Людка-то его ведь полюбила. Значит, какое право имею я вмешиваться? А?
— Вполне логично рассуждаете, — сказал Константин.
Они уже вошли в дверь почтамта. Старинное здание обвеяло прохладой их разгоревшиеся на уличной жаре лица.
Облизывая сохнущие губы, Константин почти машинально вывел на бланке перевода вытверженный адрес матери, адрес, который когда-то был его адресом. Закончив операцию по переводу денег, он перешел к окну телеграфа. Неподалеку за столиком Кокоша, сбив на затылок фуражку, сочинял депешу в какую-то редакцию, чернильные брызги так и летели из-под его борзого пера. Константин передал в окошечко свою телеграмму, в которой некто Зуев извещал доктора Микаэлянца, проживающего в Баку, что больная поправилась и должна проследовать в Баку.
Под «больной» подразумевался сам Константин, а что такое доктор Микаэлянц — об этом Константин не имел никакого понятия. Сдав телеграмму, Константин разглядывал девушку-телеграфистку, которая, подсчитывая слова, напряженно шевелила подкрашенными наспех губами. Милое выражение рта проступало сквозь грубую краску. У нее были черные, кудряво завитые волосы, приятное, но усталое лицо.
«Тяжелый труд. Славная девушка», — подумал Константин. Она взглянула на него, улыбнулась ему. «Тоже ждет богатого принца, — подумал Константин. — И обижаться нельзя. Что может предложить этакий странствующий рыцарь вроде меня? Избавить от труда? Нет, труд станет еще тяжелее. Да к этому прибавится еще постоянный страх за любимого человека, пропадающего целые месяцы и, может быть, заточенного, может быть, убитого. Ну, а если дети!»
Константин уплатил за телеграмму, взял квитанцию и прочел ее, прежде чем изорвать. Микаэлянц, Баку…
Баку… Баку…
Он попрощался с Кокошей, и так как тот, вынув записную книжку, попросил Константина назвать свое имя, отчество и фамилию («необходимо для журналиста»), Константин назвался Голиковым, по паспорту, с которым он побывал в районе восстания и которым больше не пользовался.
Когда Константин, возвращаясь с почтамта, опять проходил мимо «Астории», все было чинно и благопристойно у роскошного подъезда гостиницы. Как будто юный Манташев, удрученный падением бумаг, не стрелялся совсем и не толкалось здесь столько зевак и газетчиков. Но Константин, вспомнив о том, что здесь творилось некоторое время тому назад, почувствовал удовлетворение — удовлетворение личное. Оба бакинских принца — армянский и персидский — слились вместе, и несчастье, случившееся с одним, как бы предвещало несчастье другому. Вопреки тому, что рассказывал Кокоша о реальном Али-Гусейне Каджаре, студенте-технологе, воображение Константина одевало его в чалму и пышный халат вроде фокусника-факира, приезжавшего в их городок, когда он был еще мальчиком. И вот рядом с этой глянцевито-оливковой физиономией с черными, округло наведенными глазами — Люда, с ее высоким белым лбом, крупными кудрями, и все в ней крупно и проникнуто молодым весельем… Как она играла на рояле эту «Песню без слов»… И он ускорил шаг, чтобы убежать, уйти от этой песни, от сердечной боли. Но куда убежишь? Ведь он едет в Баку, где свободно может встретить ее вместе с принцем… И ведь совсем недавно, еще сегодня утром, он надеялся отыскать ее в Баку… Словно дверь замкнулась, захлопнулась в душе Константина. Он всегда считал, что разлука его с Людмилой будет временная. Нет, оказывается, дверь замкнулась навсегда.
«Навсегда — и пусть будет так! У меня есть свое счастье — такое, которое никто никогда не отнимет». И то гордое счастье, которое охватило его, когда он выступил на митинге на дворе Путиловского завода, вновь пробудилось в его душе…
«И Люды больше нет у меня, и с мамой плохо. Ну что ж… Снова тысячи, десятки тысяч людей будут слушать меня, будут любить меня. Скоро я буду в Баку, и я им скажу… Им всем тяжелее, чем мне. Но я скажу о том, что пролетариат начал выпрямляться, и, по мере того как он будет выпрямляться, полетят вверх тормашками — одни раньше, другие позже — все паразиты, облепившие великана», — мысленно повторил Константин один из любимых образов «Коммунистического Манифеста». Он повторял, не замечая, что сейчас этот образ прозвучал в его душе, окрашенный чувством личной ненависти к бакинским богачам… «Сегодня сорвался один. Придет время — вы все полетите!» — так думал он.
Глава третья
1
В этот знойный вечер гортанные и визгливые голоса бакинских газетчиков с какой-то особенной резкостью доносились в тихий кабинет градоначальника. Петр Иванович, просматривавший ежедневные донесения, слыша эти крики, морщился и чертыхался.
Дверь отворилась, в кабинет бесшумно скользнул мальчишка адъютант с зализанными височками и светлыми лживыми глазами. Этот юный носитель титулованной фамилии, только что окончивший пажеский корпус, был выслан из столицы по какому-то скандально-грязному делу.
Тихо положив лист газетной бумаги необычного продолговатого размера, адъютант скрылся из кабинета. Это был экстренный выпуск газеты «Баку»… «Убийство в Сараеве австрийского эрц-герцога Франца Фердинанда с супругой».
«Сараево — какое-то деревенское название, а между тем столица Боснии. Аннексия Австрией Боснии и Герцеговины, — припоминал Мартынов. — Тогда еще Извольский правил министерством иностранных дел, предшественник теперешнего Сазонова. Убийцей его высочества оказался какой-то гимназист с неприятной фамилией Принцип…»
Сфера иностранной политики всегда чужда была Петру Ивановичу, союз же с республиканской Францией вызывал у него негодование, он предпочел бы кайзеровскую Германию. Идеи Вильгельма и особенно его речи о желтой опасности восхищали Мартынова. И участвовать под водительством немецкого кайзера в грандиозной расправе над желтой расой, к чему призывал Вильгельм, было излюбленным мечтанием Мартынова, неосуществимость которого в настоящий; момент он с сожалением вынужден был признать…
А в общем, он, конечно, эти свои воззрения, симпатии и антипатии никому не доверял, сознавая, что они могут в настоящее время повредить ему по службе. Да и какое ему дело? Он слуга своего царя, должен исполнять свой долг верноподданного и поменьше рассуждать. Но, конечно, основные события международной политики он фиксировал в сознании и сохранял в памяти. Таким событием была аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 году Австрией, из-за чего особенно не любимый Мартыновым изворотливый Извольский слетел с поста министра иностранных дел.
Что из себя представлял убитый кронпринц, Мартынов совсем не знал. Но убивать кронпринцев так же недопустимо, как убивать великих князей. Личность отчаянного гимназиста-убийцы была ему антипатична еще из-за фамилии: слово «принцип» — из лексикона его врагов; споря между собой, они постоянно твердили: «беспринципность», «принципиальность».
Международные последствия этого события ясны: у православной Сербии вся надежда на Россию. Может быть, начнется война? Неужто война? Петр Иванович при мысли о войне даже почувствовал облегчение, чисто личное, как будто бы эта война должна была сбавить напряжение той затяжной, изматывающей нервы войны, которую он вел в Баку.
Теперь каждый день Петр Иванович разворачивал газету и, против обыкновения, не заглядывал в официальный отдел, а жадно читал международные телеграммы и сообщения. Но ничего утешительного пока не находил. Император Франц-Иосиф хотя и «сражен скорбью», но настроен миролюбиво. Английский премьер говорит, что и Англия не хочет войны. О том, что русскому императору не хочется воевать с Германией и что России воевать опасно, Петр Иванович непререкаемо знал своим монархическим чувством. Нет, похоже, что войны не будет.
Бывали дни, когда ни на промыслах, ни на бастующих заводах как будто и не происходило никаких столкновений, так же как бывают дни затишья на войне. Но ведь работа нигде не возобновлялась, стачка продолжалась, и не было никаких признаков ее близкого прекращения. Да, это была война, военная кампания, длинная цепь сражений, схваток, рекогносцировок в глубь лагеря противника. Мартынов понимал, что в этой кампании он с самого начала потерпел ряд жестоких поражений, и должен был признаться, что причиной этих поражений была недооценка силы врага, его боевого могущества.
Но ни одно поражение не воспринял Мартынов с таким бессильным гневом, как отказ военных моряков-электриков заменить бастующих рабочих на электростанции. Всего на два часа удалось восстановить полное освещение в городе, как появился какой-то агитатор, по всем признакам — Иван Столетов, — и снова по ночам только тусклые керосиновые фонари не столько освещают центр города, сколько распространяют чад и вонь.
Моряков предали военному суду, но электрического света в центре зажечь не удалось.
Некоторые фирмы делали вид, что работы у них продолжаются. Проходя по шоссе, можно было видеть, что на вышках, которые были поближе к шоссе, вертели подъемное колесо, слышен был стук и грохот металла. Но, конечно, вертелось все это впустую; по листам железа для виду только били молотками два или три штрейкбрехера, завербованные из сторожей или кочи и прочей хозяйской челяди: кучеров, прислужников. Рабочие смеялись над этой затеей, выглядевшей довольно убого.
Большинство фирм, произведя расчет, выжидали, и лишь немногие, как, например, «Братья Шибаевы», объявили прием новых рабочих и даже широковещательно через газету сообщали о возобновлении работ. Но та кучка штрейкбрехеров, навербованных среди босяков и громил, с которыми связаны были черносотенцы-хозяева, едва собралась, как тут же была разогнана рабочими шибаевских промыслов. В количестве нескольких сотен человек рабочие заняли все входы на промысловый двор и не допустили штрейкбрехеров к вышкам.
Забастовка еще в полной силе, конца ее не видно. Мартынов бесился, но заставлял себя не забывать, что ему, как представителю власти, надлежит всячески показывать перед рабочими видимость своего беспристрастия, свою якобы нейтральную позицию. «Требования» забастовщиков были адресованы к нефтепромышленникам, нефтепромышленники отказались их удовлетворить, рабочие забастовали. «Если бы рабочие не нарушали порядка и закона, я бы не вмешивался», — такова должна быть его позиция… Но рабочие, понятно, не могли не нарушать того, что он называл «порядком» и «законом».
На заводе Манташова бастующим рабочим перестали выдавать марки на право лечения в амбулатории завода. На заводах Шибаева и Лианозова рабочим больше не отпускали мазут для приготовления горячей пищи. При этом Шибаев, взбешенный тем, что ему не удалось возобновить работы, пригрозил рабочим, что скоро им перестанут выдавать особые, только в Баку существовавшие водяные марки на право получения пресной воды. Рабочие за разъяснением обратились в градоначальство: неужели возможно оставить людей без питьевой воды?
Гукасов действительно несколько дней назад сделал предложение о прекращении выдачи бастующим водяных марок. Это предложение представилось даже Мартынову несколько, как он выразился в своем донесении по начальству, «носящим чрезмерный характер». Но когда ему показалось, что шибаевские рабочие напуганы этой угрозой, он решил провести проект Гукасова.
Было самое жаркое время бакинского лета. И, конечно, Мартынов понимал, что значит в это время оставить людей без воды, хотя бы даже без той горьковатой, которую в Баку добывали с помощью опреснителя.
Сам Петр Иванович водой из опреснителя брезговал, и в кабинете его постоянно стояло ведро со льдом и в нем бутылка боржома, который он сдабривал красным вином — шамхор или мадрасса, — Петр Иванович любил здешние несколько грубоватой выделки, однако безукоризненно натуральные красные вина. Но когда он начинал волноваться, количество вина, прибавляемого в боржом, увеличивалось, и бывало, что он за день выпивал до двух бутылок красного вина. А красное вино, выпитое в жару, сильно горячит.
Каждый день арестовывали несколько десятков человек, но что были эти несколько десятков по сравнению с пятьюдесятью тысячами бастующих!
Предоставив нефтепромышленникам полную свободу действий, Мартынов настойчиво просил у наместника и министра внутренних дел войск для будущей расправы, так как нетрудно было догадаться, к чему приведет то хладнокровное и медленное затягивание петли на шее рабочих, которое начали нефтепромышленники. В начале забастовки они уже объявили расчет рабочим. В обращении от 14 июня они угрожали, что паспорта рабочих, не получивших расчета, будут 17 июня переданы полиции, и предупреждали, что всех не вставших на работу выселят.
И Мартынов тут же сообщил в Петербург о том, что конец забастовки близится, что рабочие, не приступившие к работе, фирмами рассчитываются и что до пятнадцати тысяч паспортов переданы в полицию для вручения рассчитанным рабочим.
В Тифлисе вняли просьбам бакинского градоначальника: гарнизон города Баку был усилен еще несколькими казачьими сотнями. Через три дня после этого произошла демонстрация. И когда на улицы и шоссе промысловых районов под красными знаменами вышли не только Биби-Эйбат, Сабунчи, а и весь огромный Балахано-Сураханский район — по самому приблизительному исчислению двадцать тысяч человек, — упование Мартынова на то, что разгоном демонстрации забастовка будет сломлена, развеялось.
Люди неустрашимо пели «Вихри враждебные», даже когда на них наскакивали в конном строю. Они отбивались, как могли — песком, камнями, — и не разбегались. Демонстрацию разогнать не удалось.
После демонстрации забастовка стала расширяться, останавливались все новые и новые предприятия, ранее не бастовавшие. Об этом приставы, полицмейстеры доносили градоначальнику, и Мартынов чувствовал, что силы забастовщиков не спадают, а нарастают.
Среди множества происшествий, которые в виде рапортов и донесений от чинов полиции и жандармерии и от охранки непрерывно стекались на письменный стол к Мартынову, одно особенно поразило его.
Недели через три после начала забастовки ротмистр Келлер с торжеством сообщил, что ему удалось задержать двух рабочих, совершивших, по донесению полиции, насилие над дежурным по котельной в первый день забастовки, — они связали его и дали сигнальный гудок, обозначавший начало забастовки. Мартынов не очень доверял «насилию», — дежурный, вернее всего, сам дал себя связать. Но фамилии виновных настолько поразили его, что он перечел их дважды, думая, что его сбивает с толку витиеватый полицейский почерк, которым был написан рапорт: Гурген Арутюнов и Эйюб Вели Муслим оглы… Армянин и мусульманин!
Мартынова это настолько взволновало, что он тут же взял трубку телефона и позвонил Рашиду Рамазанову, с которым его связывало одно кровавое дело. Между собой говорить об этом деле они избегали, но оба помнили, что являются сообщниками одного преступления. Дело в том, что никогда Рамазанов не дал бы поручения своему верному Ибрагиму подготовить резню армянского населения в Баку, если бы Мартынов предварительно не дал понять ему, что наемные убийцы-кочи в этом деле будут безнаказанны. Но Рамазанов так и не узнал, что Мартынову, кроме этого, было известно и о прибытии из-за границы контрабандного транспорта английского огнестрельного оружия для вооружения дашнаков.
Бакинский градоначальник даже точно знал, где будут расположены склады оружия, но не мешал вооружаться дашнакским террористам. И все получилось так, как задумано было градоначальником: кочи резали мирных армян, дашнаки стреляли по мирному мусульманскому населению. Нужно было навеки разобщить рабочих двух национальностей, а это могла сделать только кровь! Но кровавая шутка была разгадана. Бакинский комитет большевиков выступил с призывом к единству, из глубины подполья раздался по адресу Мартынова грозный окрик: погромщик! И Мартынов узнал этот голос. То был голос Кобы. И он уже ничего не мог сделать, позорное клеймо погромщика приклеилось навеки к бакинскому градоначальнику.
Рамазанов молча слушал то, что по телефону сообщал ему Мартынов.
— Эйюб Вели… Муслим… оглы… — записывал Рамазанов. — Мои люди, Петр Иванович, сделают все, что могут. Но должен вам на этот раз признаться, что нашим джигитам больше приходится обороняться, чем действовать, — революционеры в своих гнусных бумажках указывают наших людей по именам и фамилиям и призывают расправляться с ними.
Петр Иванович молча положил трубку телефона и дал резкий отбой. Он знал эти прокламации. В них забастовочный комитет перечислял имена штрейкбрехеров, агентов и наемных убийц — кочи. Эти списки сопровождались краткими, но убийственными комментариями, точно свист бича раздавались они в напряженном воздухе Баку. Забастовочный комитет существовал и действовал, хотя Мартынов и сообщил в столицу о его аресте. Это все дело рук Шаумяна… И зачем только нужно было выпускать его из Астрахани! А теперь обычная история: его ловят в Баку — он в Тифлисе. Только удалось наладить за ним наблюдение, а он бесследно исчез, словно растворился в воздухе, и его уже нет ни в Тифлисе, ни в Баку. А голос его слышен во всех этих прокламациях и листовках!
2
Больница Совета съездов на четыреста мест (так же как два народных дома и несколько маленьких библиотек в промысловых районах Баку) была завоевана долгой и напряженной стачечной борьбой рабочих с предпринимателями.
В 1910 году освободившуюся вакансию главного врача занял хирург Николаевский. Жена его тоже была врачом — специалистом по внутренним, детским и женским болезням. Заняв официальную должность в штате больницы, она одновременно вступила на партийный пост. И вот шли месяцы, уходили годы — она с этого поста не сходила.
Вера Илларионовна вела прием. Каждый день беседовала она с несколькими десятками рабочих и их женами, которые приходили к ней со своими болезнями и нуждами. Вера Илларионовна не ограничивалась тем, что ставила диагноз и выписывала лекарство, — она расспрашивала и выслушивала каждого пациента. И если видела, что перед ней человек, который думает не только о себе, но и о своих товарищах и копит в душе своей гнев и негодование, она начинала отвечать на его вопросы, объяснять, растолковывать. А потом уже к ней обращались и за советами. Как быть с хозяином? Он без предупреждения сбавил вдруг заработную плату. Как отвечать на произвольное удлинение рабочего дня?.. Она объясняла, а потом, убедившись в стойкости и мужестве своего собеседника, давала брошюры, прокламации. Проделывала она все это так умело, что ни разу не попалась и отличала шпика от честных людей, словно у того на лбу был знак его позорного занятия.
Сама костромичка, Вера Илларионовна хорошо была знакома со своим земляком Стефани, одним из руководителей партийной организации в Баку. Стефани в Костроме был руководителем революционного кружка, куда она вступила еще в юности. Стефани ввел ее в партию. Но здесь они встречались не чаще чем раз в год, когда ей нужно было почему-либо попасть в Совет съездов, где работал Стефани. С Орджоникидзе, когда он работал фельдшером на нефтепромыслах, ей удавалось видеться чаще. Но опять-таки только тогда, когда это требовала партийная работа. Больница была удобным местом для подобного рода встреч, как будто бы случайных: люди приходили на прием, записывались к врачу — и в приемной встречали того, кого нужно. Таким образом, видела она у себя в больнице и Шаумяна, и Азизбекова, и Джапаридзе, и приезжих из Москвы товарищей. Сказан пароль, сказан отзыв и шепотом: «Все в порядке, товарищ, вас ждут». И только в это слово «товарищ» вкладывалась такая затаенная сила страсти и самопожертвования, что тот, кого она называла «товарищ», навсегда запоминал темные брови на бледном лице, преждевременную седину в волосах и заботливый, предостерегающий взгляд.
Среди персонала больницы эта женщина была единственным членом бакинской партийной организации. Но она сделала доктора Нестеровича, несмотря на его одиночество и нелюдимость, своим верным помощником. Старушка фельдшерица Екатерина Аветиковна охотно выполняла ее поручения, а на должность санитара Вера Илларионовна просила принять веселого прибауточника, человека с круглым лицом и смешливыми глазами, — это был ее связной и главный помощник в партийных делах. Любую возможность, которую давала ей жизнь, она стремительно и гибко использовала для целей партии. Так, однажды дышловая упряжка генерал-губернатора, звонко отбивая подковами по мостовой, подкатила к крыльцу больницы, и франтоватый, нахальный, с усиками и бакенбардами адъютант, звеня шпорами, принес записку от ее высокопревосходительства. Сама супруга генерал-губернатора фон Клюпфеля просила господина Николаевского помочь сыну, который, упав с верховой лошади, «получил какие-то внутренние повреждения». Василий Васильевич хотел отказаться, но Вера Илларионовна настояла…
И Николаевский вынужден был с ворчанием извлечь из ящика своего нелюбимого Станислава с мечами, прицепить к петлице и отправиться в дом генерал-губернатора. Так Вера Илларионовна добилась своего: под наблюдением Василия Васильевича сломанное ребро губернаторского сынка срасталось великолепно, а Василий Васильевич стал любимым домашним врачом в семье фон Клюпфеля. Теперь Вера Илларионовна получала ценнейшую информацию прямо из первоисточника и узнавала о готовящихся мероприятиях и правительственных распоряжениях задолго до их опубликования и через своего связного сообщала Бакинскому партийному комитету, о составе которого она ничего не знала и не стремилась узнать.
Когда по договоренности с Баженовым и Николаевским в больнице была отведена одна из палат для «чумного изолятора», Вера Илларионовна сразу оценила эту новую возможность. Пригляделась к Людмиле — она ей понравилась — и решила проверить Люду в деле.
Жизнь в больнице шла своим ровным, по часам и звонкам, размеренным шагом: дежурства врачей, обходы ординаторов, обход главного врача, амбулаторные приемы, консилиумы и консультации «Черномора», как называла чернобородого Николаевского веселая сестра-хозяйка. День укладывался в точно установленные часы завтраков, обедов, ужинов. Но рядом с этой больничной жизнью шла другая, незаметная для непосвященных людей жизнь.
Людмила, вначале целиком поглощенная борьбой за «жизнь ребенка, не обращала внимания на то, что делалось вокруг нее. И когда в первый день забастовки Науруз в сопровождении большой толпы принес раненого Кази-Мамеда в больницу, Люда восприняла это событие лишь с точки зрения интересов своего маленького больного. Аскеру впрыснули противодифтерийную сыворотку. Это стоило ему немалых мучений. Накричавшись, он наконец заснул. И вдруг плач женщин и крики мужчин донеслись с улицы. Даже не полюбопытствовав, чем все это вызвано, Людмила сердито захлопнула окна…
Аскер выздоравливал. Обтянутый кожей скелетик, вчера он мог только жалостно и хрипло пищать, как кутенок, и не в состоянии был сам перевернуться, но судорожно и жадно двигал губами, требуя пищи. А сегодня он хватался за переплет кроватки, старался себя поднять и требовал, чтобы Люда взяла его на руки. И вот уже круглая голова на тонкой шее стала отрываться от подушки, ноги упирались, чтобы поднять тельце, с каждым днем все розовее и смуглее становилась кожа. Он был еще очень худ, но выздоравливал и с каждым часом все дальше уходил от смерти.
Однажды Вера Илларионовна, под наблюдением которой был Аскер, выслушав мальчика, молча подошла к окну. Песчано-знойный, злой ветер приносил не прохладу, а песок, он сотрясал раму, затянутую марлей, сквозь густую сетку ее видно было желтое и синее — пустыня и небо.
— Что значит коренной здешний житель, — сказала она. — Ребенок с севера погиб бы от одного только климата, а наш мальчик начинает поправляться.
— Да? Правда? — радостно спросила Людмила.
Вера Илларионовна обернулась и в упор посмотрела на Людмилу. В глазах Веры Илларионовны, серых, без блеска, с четко вырисованными зрачками, было какое-то особенное, пристальное выражение, они точно впервые разглядывали Люду.
— Он будет жить только благодаря вам, — сказала она.
— Ну что вы… ведь это все больница, это вы… — торопливо и смущенно возразила Люда.
Вера Илларионовна покачала головой.
— Больного ребенка, да и вообще любого тяжело больного одни врачи спасти не могут, я убеждена в этом. Дело врача — дать правильное направление лечению. Спасти больного может только тот, кто безотлучно находится при больном, весь отдается ему. Конечно, это может быть и врач и сиделка. Но чаще всего это мать, жена, сестра… Вы полюбили его? — спросила она, кивая на Аскера.
Люда ответила кивком головы.
— Очень хочется взять его к себе, навсегда, — сказала она. — Но как это сделать? Дома у нас ничего, дома рады будут.
— У него и здесь найдется где жить. У азербайджанцев сирот не бывает. Если у него есть хотя бы какая-нибудь троюродная тетка или родня еще более отдаленная — пусть там будет хоть десяток детей и самый скудный заработок, — они возьмут одиннадцатого… Детей здесь очень любят. А растить трудно — такая нужда! И смертность страшная… А что может быть страшнее смерти ребенка! — вдруг громко, с негодованием сказала она и тотчас же ушла.
Несколько ночей подряд Людмилу будили какие-то тихие женские голоса, приглушенные восклицания, доносившиеся из открытого окна, и при этом слышался непрекращающийся звон и плеск, словно поблизости лили воду. Наутро Люде казалось, что это ей снилось, а в следующую ночь происходило то же самое, но она никак не могла заставить себя подойти к окну. Однажды утром она спросила Веру Илларионовну.
— Это женщины приходят сюда за водой по ночам, — ответила Вера Илларионовна. — Совет съездов нефтепромышленников закрыл водопровод, хотят заставить рабочих прекратить забастовку.
— Но как это можно? — воскликнула Люда.
— Капиталисты считают, что раз они строили водопровод на свои деньги, они вольны поступать с ним, как им заблагорассудится, — очень отчетливо выговорила Вера Илларионовна. — Однако оставить без воды больницу они все-таки боятся. Женщины идут за водой сюда, к нам, и стараются идти по укромным тропинкам, на рассвете, чтобы избегнуть встречи с конными разъездами, которым дан приказ выливать их воду.
Она молча выслушала негодующие восклицания Люды и добавила:
— В обычное время у нас в районе из ста новорожденных в первый год жизни умирает восемьдесят — за месяц забастовки эта цифра достигла девяноста шести. На каждые сто выживает только четверо! — сказала она, глаза ее гневно сверкнули, и она снова ушла, не вслушиваясь в негодующие возгласы и восклицания Людмилы.
Вера Илларионовна в своих отношениях с Людой не выходила из должностных рамок лечащего врача и никогда не задавала Люде никаких посторонних вопросов. Но Люда, чем больше узнавала Веру Илларионовну, тем больше восхищалась ею.
Пройдет еще три года, и Люде самой предстоит стать таким же вот врачом, как Вера Илларионовна. Люда расспрашивала, Вера Илларионовна рассказывала сдержанно, немногословно — о бесконечной веренице людей обожженных, задавленных, захлебнувшихся в мазуте, о громадном количестве чахоточных, о желудочных заболеваниях в результате недоброкачественной пищи.
— А ведь мы еще не всех имеем право лечить, — говорила она. — Есть рабочие фирменные, их мы обязаны лечить, нефирменных же, а их, кстати сказать, большинство, мы не имеем права лечить. Не имеем права лечить, — раздельно повторяла она, как бы сама вслушиваясь в эти чудовищные слова. — Но, конечно, лечим всех… Сейчас здесь жара, а ведь зимой, и особенно когда дует норд, у нас довольно-таки холодно, — со спокойным лицом и ровным голосом говорила Вера Илларионовна, не стараясь придать своей речи какую-либо особую выразительность.
Но тем сильнее действовали на Люду эти разговоры. И мысли о справедливости и необходимости забастовки, о значении той борьбы, которая происходила вокруг, как бы сами собой рождались в голове Люды.
С утра, открыв окно, она вглядывалась и вслушивалась в то, что происходило на улице. Все тихо. Небо над Баку было необычайно сине и чисто, но ведь это потому, что трубы Черного и Белого города, видные с той возвышенности, на которой находилась больница, перестали дымить. Недвижны и тихи стояли среди буро-желтой пустыни темные дощатые вышки, нефть медленно стекала в квадратные вместилища, переполняя их, она заливала тропинки и дороги… И женщины в черных одеждах непрерывно несли в больницу детей. Восьмилетних и десятилетних они несли на руках, как носят грудных, и длинные, тоненькие, точно палочки, ножки свисали из-под платков и покрывал.
Палата, отведенная для детских болезней, уже не вмещала больных, детей стали размещать в соседней пустующей, отведенной под хирургическое отделение.
Впрочем, хирургическое отделение пустовало недолго. Наступил день, и люди десятками — поодиночке, поддерживая друг друга, а иногда в сопровождении жен — потянулись в больницу. Спины, плечи, а то и лица их иссечены были ударами нагаек. Из-под повязок, сделанных неумело и наспех, сочилась кровь…
И в этот день матери, как всегда находившиеся в маленьком садике при больнице и неотступно следившие за безмолвными, задернутыми марлей окнами палаты, в которой помещались их дети, кинулись навстречу раненым. Они плакали и причитали на разные голоса. Можно было слышать, как азербайджанки призывали благословения на раны, полученные армянином, и русская мать слала проклятия палачам за кровь юноши азербайджанца.
Вера Илларионовна рассказала Люде, что в этот день утром состоялась демонстрация протеста против массовых увольнений забастовщиков — демонстрация, на которую «палач Мартынов ответил тем, что спустил с цепи своих псов», как выразилась Вера Илларионовна.
* * *
Был обычный знойный полдень. Завесив окно темно-зеленым покрывалом, Люда бесшумно ходила из угла в угол, укачивая Аскера, который сегодня расшалился и не хотел засыпать — он то хватал ее за нос, то болтал ногами.
Люда уже который раз начинала петь колыбельную песню про кота-бормота, у которого «была мачеха люта, она била кота, колотила кота, как схватила кота поперек живота, как ударила кота об мать сыру-землю…» Аскер, вместо того чтобы засыпать, начинал подпевать ей тоненько и хрипло, но очень верно. Люда, смешливая по натуре, фыркала, Аскер тоже смеялся, и всю колыбельную процедуру нужно было начинать сначала…
Вдруг крик, донесшийся из-за занавески, нарушил уютно-зеленую тишину комнаты. Послышались визги и пронзительный плач детей. Люда, подбежав к окну, отдернула занавеску. Легкие безводные облачка плыли над Апшероном, и вся буро-желтая земля была в пятнах, подобно шкуре леопарда. Вышки неподвижно чернели далеко и близко. Высунувшись в окно, Люда увидела, что возле длинного ряда невысоких строений, у ворот под вывеской с орлом, собралась толпа женщин с детьми. Казаки в синих, знакомых Люде с детства черкесках преграждали женщинам доступ к воротам.
— Эй, бабы, р-р-разойдись, давить будем! — кричал красный от натуги жандармский офицер в светло-голубом с золотыми пуговицами мундире, выделявшемся среди синих черкесок.
Крики женщин и плач детей усилились, и того, что продолжал кричать этот размахивающий черной нагайкой, с красным лицом и черными полосками усов и бровей, голубой жандарм, совсем не стало слышно. Он даже принужден был попятиться и скрыться за конной шеренгой синих черкесок, которые оставались неподвижны. Только кони беспокойно переступали с ноги на ногу и мотали головами, — платки и покрывала женщин сновали перед самыми их мордами.
Потом вдруг над толпой поднялась женская фигурка, она была по-русски повязана платочком, ярко-желтым, с синими цветами.
— Эй, слышь, подруги! — закричала она звонким красивым голосом. — Мы никуда не уйдем отсюда! Верно я говорю? Они наших мужьев в каталажку запрятали, а нас, вишь, с квартир гонят? Куда мы пойдем с малыми детьми? А мы, подруги, хоть к самому черту, не то что к Мартынову пойдем. Нам нечего бояться, страшнее того, что есть, не будет.
— К самому черту окаянному, к Мартынову! — поддержал ее хрипло-басовитый женский голос.
— К Мартынову! К Мартынову! — кричали женщины.
Опять выскочил вперед голубой жандарм и, повернувшись к казакам, прокричал что-то. Что он прокричал, не слышно было, но сразу казачьи нагайки взвились вверх.
Бабы взвизгнули, кинулись прочь. Люда тоже взвизгнула и с Аскером на руках кинулась из комнаты. Вдруг Вера Илларионовна, точно встав из-под земли, схватила ее за руку.
— Людмила Евгеньевна, куда вы?
Аскер плакал в голос.
— Вернитесь сейчас же, ведь вы в карантине!.. Ну, будьте умницей, ну, не теряйте головы.
Люда почувствовала на своих плечах ее руки и заплакала, уткнувшись в ее худенькое плечо.
Они вернулись в комнату. Взвизги и плач детей достигли такой силы, что обе они поспешно подошли к окну.
— Эй, подруги, клади им детей под копыта, бросай под коней, все равно погибать! — кричал все тот же звонкий голос.
Женщины, нагибаясь, клали детей перед лошадьми и сами садились возле на землю. Кони подымались на дыбы, но не шли вперед. А голос все не умолкал, продолжая напоминать о насилиях и издевательствах, о переполнившейся чаше гнева. Похоже, что призывную песню выводил этот голос.
— Это Жердина Маня… Мужа у нее арестовали, а она всего год замужем, ребенка недавно похоронила, — говорила Вера Илларионовна. — А казаки-то ускакали! — сказала она удивленно и радостно. — На этот раз обошлось.
Людмила взглянула в окно. Женщины поднимали с земли и брали на руки детей, баюкая и успокаивая их. Люда взглядом нашла Маню Жердину в ее желтой косыночке. Окруженная толпой женщин, она говорила что-то. Слов не было слышно — она, очевидно, не считала сейчас нужным тратить всю силу своего голоса, — но ее рука выразительно указывала в ту сторону, где небо над городом было омрачено дымом.
— Вчера подобного же рода бабьи бунты были и в других районах Баку, — тихо говорила Вера Илларионовна, — а это значит, что забастовка вступила в стадию еще более ожесточенную и что недалек тот момент, когда она может перейти в восстание…
Она вдруг, точно спохватившись, замолчала и взглянула на Людмилу. Та, видимо задумавшись о чем-то своем, успокаивала Аскера. Своими большими блестящими глазами смотрела она куда-то перед собой, косынка ее распустилась, крупные кудри обрамляли лицо, сейчас особенно привлекательное. Тихо напевала она колыбельную, и ее полные яркие губы чуть шевелились.
На следующий день Вера Илларионовна рассказала Люде о том, что произошло вчера. Началось с того, что женщины мирно и организованно подошли к конторе промыслов общества «Кавказ — Каспий» и попросили, чтоб к ним вышел кто-либо из начальства. Они собирались передать ему требование об освобождении их арестованных мужей и об отмене судебных распоряжений о выселении рабочих семей из общежитий. Вместо того чтобы выйти к женщинам, находившийся на месте происшествия заведующий хозяйством промыслов позвонил градоначальнику, и тот прислал жандармского офицера с полувзводом казаков. Тут-то и произошла та сцена, свидетелем которой была Людмила. После этого женщины действительно пошли к Мартынову. По мере приближения к городу толпа достигла двух тысяч. Возле вокзала их поджидала засада конной и пешей полиции. Женщин и детей избивали нагайками и арестовывали. Число избитых дошло до четырехсот человек, среди них десять было тяжелораненых…
Однажды, часов в одиннадцать утра, когда Аскер уже второй раз позавтракал и засыпал, крепко держа своей темно-смуглой маленькой ручкой белые пальцы Людмилы, за открытыми окнами раздался звук подъезжавшего экипажа, цоканье копыт и какие-то окрики, настолько визгливые, что Аскер вздрогнул и поднял голову. В больнице поднялась суета, беготня, зазвучали непривычно громкие шаги, кто-то прошел в сапогах. Потом в комнату бесшумно влетела, как влетел бы халат, наполненный ветром, Вера Илларионовна. Она быстро оглядела комнату. В руках ее было сложенное полотенце. Она одернула скатерть на столе, поправила одеяло и кровать Людмилы, кинулась к Аскеру — и все это у нее получилось как-то быстро и легко.
— Мартынов прикатил. Держитесь! — сказала она. — Сейчас к вам пожалует.
Полотенца в руках ее уже не было. Она вышла из комнаты. Люда оглянулась: полотенце должно бы лежать где-нибудь здесь, но нет, его не видно.
Людмила еще не разобралась в происшедшем, как вдруг услышала из-за дверей звон шпор, быстро приближающийся.
— Эт-то что еще? — спросил пронзительный голос.
— Здесь, господин градоначальник, находится чумной бокс, — с неторопливой обстоятельностью ответил доктор Николаевский.
Он широко распахнул дверь и вошел в палату. Его глаза под выпуклыми очками посверкивали, он гладил свою черную бороду.
— Вы, наверно, слышали, ваше превосходительство, о единственном ребенке, выжившем из всего чумного семейства…
— Почему вне карантина? — кричал Мартынов, топчась и прыгая на пороге.
— Он заболел дифтеритом, необходим уход… Да вы войдите, осмотрите, пожалуйста.
— Мне все видно! — Взгляд его так и летал по комнате. — Бога не вижу… И царь отсутствует! Делаю вам замечание!
Дверь стремительно закрылась. Василий Васильевич мигнул Людмиле.
— Где бог? Где царь? А? — пошутил он, округляя под очками веселые глаза, и последовал за начальством.
Аскер спал, смуглый, круглолицый, с выпуклым лбом, среди белизны простыней и подушек.
Людмила оглядела комнату. Все было в порядке, только белое покрывало на ее постели показалось ей лежащим неровно. Она встала, чтобы поправить. Вдруг что-то мелькнуло под покрывалом — пестрые продольные полоски. Вот оно — полотенце, так таинственно исчезнувшее из рук Веры Илларионовны. Из него что-то стало вываливаться. Людмила подхватила — это были листы бумаги…
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — прочла Людмила. — «Бакинским рабочим. Ваша самоотверженная борьба вызывает живейший отклик в сердцах рабочих всей России. В Петербурге в знак протеста против чинимых над вами насилий забастовали десятки тысяч рабочих. По всем заводам и фабрикам собираются пожертвования. В рабочих газетах печатаются приветствия со всех концов России…» — читала Людмила.
Она дочитала до конца, завернула в полотенце и спрятала туда, где нашла. Потом она подошла к окну и открыла его. Синее небо, трубы без дыма, серо-зеленая пустыня и вышки, чернеющие повсюду. Все тихо, только где-то внутри больницы слышен с визгливыми раскатами голос Мартынова, бессильно звучащий в этой все поглощающей тишине. Да, десятки тысяч людей сказали: «Не будем работать!» — и вот все остановилось. И в Петербурге собирают помощь самоотверженные люди — такие, вроде Константина Черемухова… Вся Россия, огромная страна, смотрит и слушает то, что делается здесь, на этой странной, на землю не похожей земле…
Люде показалось, что кто-то вошел в комнату. Она оглянулась. Вера Илларионовна была уже посредине комнаты, ее точно ветром несло прямо в сторону постели Люды, туда, где спрятаны были прокламации. Но она не успела их взять. Людмила сама прошла через комнату к своей постели, достала полотенце, в котором завернуты были прокламации, протянула их Вере Илларионовне, которая, точно застыв, стояла среди комнаты, и сказала:
— Не надо от меня прятаться, Вера Илларионовна. Я ни о чем у вас спрашивать не буду, но если вы захотите, я всегда вам помогу. Я сочувствую революции.
Так Люда оказалась вовлечена в тайную жизнь, внешне вполне подчиняющуюся педантическому распорядку больницы, но имевшую свою цель, свой благородный, далеко за пределы больницы уводивший смысл. О существовании этой тайной жизни, жизни революционеров, Люда знала с детства.
И она охотно помогала Вере Илларионовне. Но какой-то границы, отделяющей эту тайную жизнь от явной, медицинской, она не переходила. И когда ее навещал кто-нибудь из их маленького отряда в Тюркенде, чаще всего Римма Григорьевна, Люда жадно расспрашивала о ходе работ Аполлинария Петровича, и ее очень волновало, что все-таки один из кроликов после прививки чумы заболел и умер, — вакцина для него оказалась недействительна. Опыты продолжаются, пока кролики все выздоравливают. А когда Люду навестил сам Аполлинарий Петрович, для нее это было настоящим праздником. Она не смела ни о чем расспрашивать и, вся раскрасневшись, смотрела на него блестящими глазами. Аполлинарий Петрович выслушал Аскера с тщательностью, которая показалась Люде, при всем ее благоговении перед Аполлинарием Петровичем, совершенно излишней. Он просмотрел анализы крови Аскера, сделанные за все время болезни, взглядывая время от времени на самого Аскера, который, держась за стульчик с колесами, уже передвигался по полу, И когда падал, то не плакал, а смеялся, и сказал, обращаясь к Людмиле и Вере Илларионовне, находившимся в комнате:
— Случай исключительный… Все предпосылки для того, чтобы заразиться чумой, были налицо. Ребенок находился при больной матери, и до последнего дыхания она кормила его грудью. После ее смерти он весь был в ее кровавой мокроте. На его месте девятьсот девяносто девять из тысячи умерли бы, а он уцелел, чума пощадила его. Чудо? Но чудес не бывает. Очевидно, есть какой-то природный иммунитет, его предохранивший.
Он помолчал и вдруг, переходя на шепот, добавил:
— Я установил, Людмила Евгеньевна, совершенно эмпирически следующую закономерность: чем жизнерадостней организм, тем больше у него шансов не подвергнуться заболеванию чумой. Следовательно, вам, Людмила Евгеньевна, прямой путь в эпидемиологию, — добавил он, и она покраснела от радости, вспомнив, как он раньше предостерегал ее от этого пути. Он задумался, вынул папиросу, но, оглянувшись, сунул ее в карман и встал. — Приятно чувствовать, когда что-нибудь можешь объяснить, — сказал он с усмешкой. И, прощаясь с Людмилой, добавил: — Вы молодец, Людмила Евгеньевна!
От удовольствия она даже засмеялась.
Однажды Вера Илларионовна привела в палату Люды молодого невысокого роста человека.
— Значит, Ванечка, опять с глазами плохо? — как-то особенно ласково спросила Вера Илларионовна.
— Плохо, — сказал он со смешливым вздохом.
— Что я вам говорила, ведь придется очки напялить.
— Что ж, раз нужно, напялим.
Он оглянулся на Люду. Его небольшие не то серые, не то синие глаза взглянули бодро и весело, и похоже, что от нее потребовали бодрости и веселья. Невысокого роста, худощавый, в пиджаке поверх синей косоворотки, он, наверно, незаметен был бы в толпе. Но лицо его привлекало умным и независимым выражением и приятными, ладными очертаниями: небольшой нос, красиво, нежно и выразительно очерченные, выдающиеся вперед губы, мягкие пряди волос над открытым лбом, очень русское лицо…
— Читать трудно, — вздохнув, сказал он. — Приходится по ночам читать… глаза режет.
— Очки подберем, Ванечка. Хотите сейчас?
— Сейчас некогда. Ну, я пошел!
— Ольге Ивановне привет от нас передайте.
— Спасибо.
Он вышел. Вера Илларионовна подошла к окну. Люда тоже взглянула туда. Худенькая фигура Ванечки показалась на дороге. Навстречу ему ехали казаки, они остановили его… Люда схватила за руку Веру Илларионовну. Так, держа друг друга за руки, они напряженно, до кругов в глазах, следили за тем, как, показывая рукой, Ванечка что-то объясняет. Казаки внимательно выслушали, потом вдруг повернули коней и поскакали прочь.
Ванечка оглянулся на больницу, снял с головы картуз, махнул им и зашагал дальше.
— Если б они знали, кого сейчас упустили! — сказала Вера Илларионовна. — Когда прошлый раз Мартынов здесь был, он за ним охотился. На час опоздал! За час до его прихода Ванечка принес те самые прокламации, которые я у вас прятала.
— Как я испугалась, когда казаки его остановили! — сказала Люда. — И вы тоже?
— Конечно. Но я все-таки уверена была, что он вывернется, как это бывало много раз, и они оставят его в покое. Здесь главное — не показать виду, что испугался, а он неустрашимый человек.
— А что у него с глазами? — спросила Люда.
Вера Илларионовна рассказала, что Ванечка в продолжение нескольких лет нарочно нанимался работать в ночную смену, потому что ночная смена более удобна для выполнения партийных поручений.
— К тому же он читает очень много. Первый том «Капитала» так проштудировал, что ведет по нему кружок среди рабочих, пожалуй, лучше многих партийных интеллигентов. Охранка постоянно теряет его из виду. Он появляется неожиданно и вновь исчезает бесследно.
Она рассказывала. А Люде представлялся сейчас не Ванечка, нет. Перед ней, точно из тумана, выступало другое лицо, ей казалось, что совсем недавно она видела его, встретилась с ним. Но нет, это только мальчики говорили о нем, тогда, на балконе, летним вечером, она слушала их разговор. Подумать, что с того времени прошел уже год. И открытка — «Песня без слов»… Она тихонько пропела этот мотив…
Встречаясь каждый день с Верой Илларионовной и ее «гостями», Люда все чаще вспоминала Константина, точно все это была одна семья, отмеченная одним общим сходством, и к этой семье принадлежал также и он, Константин.
Глава четвертая
1
Науруз снова появился в Веселоречье. Он переходил с одних пастбищ на другие, нигде не задерживаясь дольше одного дня. Побывал он и в ауле Дууд, и в глухом Астемировском ущелье. В день, когда Баташевы праздновали урожай, собранный с нового поля, среди гостей появился Науруз.
Одного года не дожил старик Исмаил Баташев до первого урожая, собранного с того поля, которое он всю жизнь расчищал между камнями. И вот уже первый стожок из двенадцати снопов встал посреди колючего желтого жнивья, и кажется, что суровые камни, нависшие над маленьким полем, приземистое жилище Верхних Баташевых, вросшее в гору, и сама серо-каменистая гора, украшенная высоко наверху гребнем соснового леса, — все точно осветилось, стало приветливей, ближе человеческому сердцу.
Старшие Баташевы встретили Науруза настороженно, а младшие восторженно смотрели на него: сколько легенд слышали они о нем — и вот он живой перед ними. Науруз отпустил черную бороду, она делала его старше, мужественнее. Одет он был просто, по-пастушески. Его приняли как почетного гостя и проводили в самый дом, где было место только почетным старикам, молодежь расселась во дворе, на больших камнях возле дома. На деревянных блюдах и свежестроганных досках навалены были горы мяса, сваренного с чесноком, даже хлеба сегодня было с избытком: и старинной просяной, круто сваренной каши, нарезанной ломтями, и белых, из пшеничной муки испеченных, поджаристых лепешек.
Во главе стола, ближе к окну, стояло деревянное кресло, изукрашенное резьбой. Это было место хозяина, и, как водится в доме, где умер отец, его должна была занять мать. Но Хуреймат, прикрыв темным платком свои еще черные волосы, сидела возле очага, она приказывала дочерям и невесткам, сама обжаривала шашлыки для гостей, передавала их Азрету, прислуживавшему почетным гостям, и указывала, кому поднести шашлык и как величать его.
Науруз был обходителен и ласков, но, как всегда, немногословен, и казалось, что мысли его отвлечены какой-то заботой. Муса и Али сидели рядом с ним, по правую и левую руку, вздыхая, поглаживали свои редкие бороды. Оживленной застольной беседы долго не получалось.
Да и пустое кресло во главе стола смущало многих. И долгое время чувствовалась преграда, поставленная веселью. С неподвижными лицами сидели по обе стороны рядом с молчаливым Наурузом старшие Баташевы, и то, что хозяева невеселы, смущало многих. Но вот вслед за почетными тостами пошли веселые. Разгоряченные питьем и едой, люди стали забывать о пустом кресле. Голоса становились громче, и даже кое-кто, потеряв власть над собой, затягивал песню. Али призывал со двора молодых людей и произносил тосты. Одному желал поскорей жениться, другому — избавиться от заиканья, третьему — отрастить усы. И эти незатейливые шутки смешили людей. Никто не заметил, как Али перемигнулся со старшим сыном своим, синеглазым крепышом Касботом, и тот принес старую, с расшатавшимися колышками и слабо натянутыми струнами веселореченскую пшину. Эту старинную вещь Исмаил унес еще из родительского дома Баташевых потому только, что она принадлежала его отцу. Сам он за всю свою жизнь не притрагивался к ней, но Али в молодости, когда выходил погулять, всегда брал ее с собой, и слышно было издалека, как он своим звонко-веселым голосом складно и смешно подбирает слово к слову, обращается или к другу, или к любимой девушке и, перебирая струны, заставляет их вторить себе.
А сейчас, встав с места, он положил на стол это старинное, с птичьей головой, голосистое изделие рук человеческих, которое многие из молодых, сидевшие за столом, и не видели никогда, так как пшину вытеснили гармоники, балалайки и скрипки. Слушая восхищенные возгласы, Али широко улыбался, отшучивался и, неторопливо закрепляя колышки, подтягивал струны. Потом, обратившись к Мусе и изобразив на лице, выражение нежности и страдания, запел-заговорил:
— «Эй, Муса, старший наш брат, почему мрак ночи лег на наши сердца?
Солнце не светит нам целый год, тьма упала на землю.
Эх, легко ли без солнца живой твари жить на земле?
Эх, нет певчей птице охоты летать во тьме!
Эх, даже гад ползучий, когда солнца нет на земле, без просыпу спит в трясине.
Э-эх, если бы солнце свое горячее лицо нам показало!» — пропел он, подняв к потолку свое широкое лицо. Потом, положив ладонь на струны, сказал, не возвышая голоса:
— «Умер у солнца любимый сын. Скорбь придавила материнское сердце. Черным покрывалом скрыло солнце лицо свое и не выходит из своего небесного жилища».
Так сказал он, и многие из гостей посмотрели в ту сторону, где прыгал огонь в очаге Баташевых, где, скрыв черным покрывалом лицо свое, сидела мать Верхних Баташевых.
И Али опять коснулся пальцами струн, снова запели они, и он заговорил дальше:
— «Из болотной топи, из-под старой коряги пошли пузыри, забурлила вонючая тина. Захлюпало, застонало болото, и вылезла на берег старая жаба.
Кряхтит она, плачет и — прыг, прыг, прыг — поднялась на глинистый берег. Посидела, отдохнула и с камня на камень все прыг да прыг, все выше и выше. Добралась она до горной тропы — и вверх, все выше и выше. Через нагорные леса и пастбища добралась до вечных снегов, туда, где от века ни одна жаба не побывала. Обморозила она свои зеленые лапы, а лезет все выше и выше, все вверх и вверх…»
Уже давно не звучали струны, Али перешел на плавный рассказ, поворачивая то к одному, то к другому из зачарованных слушателей свое круглое лицо.
— «Вот добралась жаба до светлого-пресветлого дома, где живет само солнце. Двери затворены, окна закрыты. Села жаба на ступени крыльца, отдышаться не может. А потом, когда отдышалась, крикнула изо всей силы: «Эй, люди добрые, кто там есть, откройте скорей двери! Пришла я к солнцу с большим делом». Голос у жабы, как известно, зычный. Квакнула раз, два и три — открылись тут двери, и вышли на крыльцо младшие солнечные духи из семейства солнца. Видят: сидит на светлых ступенях вся в прыщах и слизи болотная жаба. «Что тебе нужно от солнца?» — спросили младшие духи из семейства солнца. «Солнце мне нужно увидеть и сказать ему важное слово». — «Не до тебя теперь солнцу, тетушка жаба. Или ты не знаешь, какое горе у нашей хозяйки? Сын любимый у нее умер». — «Если бы не знала я об этом, не стала бы лезть на эти кручи из своего славного болота», — сказала жаба.
Переглянулись младшие: разве можно отогнать от своего порога такого дальнего гостя? Пустили они жабу в солнечный дом и доложили о ней хозяйке. И хотя не хотелось хозяйке солнечного дома, чтобы чужой увидел ее горе, но допустила жабу к себе, где возле погасшего очага сидела она, скрыв лицо черным покрывалом…»
Али встал и, наигрывая на пшине, сделал несколько шагов в сторону, где сидела мать возле очага, в котором погасал огонь, так как она тоже заслушалась и не подкладывала дров. Низко поклонился ей Али, и она, быстро утерев слезы краем своего покрывала, сразу подбросила в огонь охапку сухого хвороста. Ярко вспыхнул очаг, а Али заиграл и запел так пронзительно звонко, как причитает женщина, оплакивая покойника.
— «Э-э, мать горемычная, высокое солнце, — зажмурившись, пел он, играя роль жабы. — Узнав о твоем горе, пришла я погоревать вместе с тобой и тебя утешить. Знаю, я, хорош был твой светлый сынок, но не может быть спора, что мой горемычный сынок из болотной топи был во много раз лучше. И горе мне, горе, проглотила сынка моего живьем прожорливая цапля. Ой, солнышко-солице, если бы ты видело моего сынка — какие у него были большие блестящие глаза, а рот такой большой, что ни у одной твари небесной не было такого большого, красивого рта, а голос его слаще пения любой певчей птицы. Подумай же, что я потеряла, и утешься, и верни нам твой свет».
И удивилось сначала солнце, слушая эти глупые речи, а потом усмехнулось из-под своего черного покрывала. И только оно усмехнулось, как улыбка его побежала из-под темных облаков, побежала по земле, погруженной во тьму, блеснула на высоких снегах, на вершинах дубов и сосен, скользнула по зеленому лугу, засверкала, заиграла по бегущей воде, и весело запели птицы, и радостно закричали звери.
И повсюду засмеялись люди…
И великое солнце, утирая слезы, не брезгая, обняло теплыми своими лучами горемычную жабу и поцеловало ее.
И вновь поднялось над землей».
Тут Али, подойдя к очагу, протянул матери руку и помог ей подняться с земли.
— Так и ты, наша мать, — ласково сказал он, — из-за скорби по нашему отцу и по младшему брату Хусейну не забывай других своих сыновей и внуков, которые ждут твоей улыбки. Сядь на осиротевшее место отца нашего, свети нам всем, наша хозяйка.
Торжественно подведя ее, всхлипывающую и утирающую слезы, к столу, Али посадил ее во главу стола. И сразу же улыбка побежала по неподвижному и печальному лицу Мусы, когда он взглянул на мать, детская улыбка, как луч солнца по старому, изрезанному трещинами утесу.
Едва Али поднял тост за мать, за хозяйку, как большая деревянная чаша с бузой, приятно пахнущая хлебом и медом, пошла от одного пирующего к другому. Каждый из гостей, раньше чем пригубить чашу, обращался к почетному месту, к резному креслу, где сидела старая Хуреймат. А она в ответ на те добрые слова, которые говорили ей соседи и родичи, только кивала головой.
Когда же чаша пришла к Наурузу, он высоко поднял ее и сказал слово о старом Исмаиле, который «камни раздвинул, землю с хлебом повенчал». И столь складна была его речь, что струны под пальцами Али сами зазвенели, — так родилась песня уже и о самом старом Исмаиле.
Обернув неподвижное, все в глубоких морщинах лицо к Наурузу, прослушала мать Верхних Баташевых эту песню, посвященную памяти ее мужа. Но не только внимание — строгий вопрос прочел Науруз в выражении ее лица. Он понял, о чем спрашивает она, — о судьбе любимой дочери. Да он и сам бы хотел свидеться с Нафисат, узнать, как живет она… Науруз догадывался, что Нафисат на пастбищах, — наверно, потому и задержалась там, что ждет его.
Науруз кончил песню. Мать поблагодарила его: низко поклонилась и поднесла чашу, наполненную молочно-мутной бузой. Но не было ласки в церемонной этой благодарности. А ведь когда-то Науруза сиротой приютили здесь, в доме Баташевых, и мать Верхних Баташевых не делала различия между ним и своими родными детьми и внуками. Оправдаться? Но в чем? Разве он виноват? Разве он не хотел бы мирно поселиться с Нафисат и прожить с нею всю жизнь в тяжелом труде и счастье, как прожил старый Исмаил и как живут другие Верхние Баташевы — Муса, Али и Элдар? Очень хотел бы. Но тропа подвигов уводит его все дальше от мирного, тихого счастья. Все круче вверх идет тропа подвигов, все яростнее дует ветер. Сурово свел брови Науруз и поднял чашу в память погибшего друга своего Хусейна, любимого сына Хуреймат, отдавшего жизнь за достояние бедной вдовы и за всех, кто борется за правду. Не выпуская чаши из рук, рассказал он о славном городе Баку, на берегу того моря, в которое вековечно уносит Терек воду, рожденную в Кавказских горах, о том, как поднялись там люди за свое и за общее счастье и как вся Россия откликнулась на их борьбу, везде идут сборы — и в Петербурге, и в Москве, и в Тифлисе. Ни словом не призвал Науруз своих земляков к сборам в помощь бакинцам, но, выпив чашу до дна, вынул из кармана серебряный гривенник, положил его на липкое дно. Потом оглянул всех собравшихся и, увидав стоящего возле дверей синеглазого крепыша Касбота, любимого племянника Нафисат, прислуживавшего гостям, кивком головы подозвал его, отдал ему чашу. И пошла пустая чаша вокруг стола, быстро наполняясь тяжелой медью. А кое-кто брал со стола маленький кусочек хлеба и говорил: «Приходи ко мне завтра, выкуплю этот кусок». И, чувствуя, что сделали большое дело, люди, тихо переговариваясь, разошлись.
Утром вместе с Касботом Науруз сосчитал деньги и записал: пятьдесят четыре рубля восемьдесят копеек собрали за один вечер.
— Я уйду, братец, мне долго нельзя оставаться, а ты продолжай собирать, — сказал он Касботу.
— Нафисат тебя ждет. Когда ты к ней придешь? — густо краснея, спросил Касбот.
Науруз велел передать Нафисат, что непременно у нее будет, и ушел.
* * *
Ночью в лесу, в той пещере, где когда-то ловили и едва не поймали Науруза, встретились Нафисат и Науруз.
Прижавшись к широкой груди мужа, говорит Нафисат:
— Когда не могу одолеть тоску по тебе, прихожу сюда, где мы видели столько счастья и едва не погибли, и провожу я здесь ночь. А недавно, прекрасный мой, ночевала я здесь и видела хороший сон: будто родила я двойню, двух сыновей-богатырей. Обнявшись, лежат они будто здесь на овчине, и так я рада, что плачу от счастья. Но нет тебя со мной, и не могу я придумать, как их назвать.
— Не всякому сну можно верить, — вздохнув, ответил Науруз. — Но хотел бы я, чтобы было все так, как тебе привиделось. И если меня не будет с тобой и все случится так, как ты видела во сне, прошу тебя, назови наших сыновей Юсуф и Жакып.
— Я так и сделаю, как ты говоришь, — послушно ответила Нафисат. — Но чьи это имена? Я хочу знать, кому должна посвятить наших сыновей?
Была середина ночи. И из входного отверстия тянуло холодом и слышно было, как шумят сосны. Костер потух, осталась только куча углей, в которой мерцали и переливались огоньки. Пахло смолой.
Прижавшись к Наурузу, покрывшись одной овчиной, она в блаженной полудреме слушала то, о чем он ей рассказывал. Новое учение, святое и чистое, но без бога. Проповедь дружбы людей, призыв к борьбе бедных против богатых. И короткое, простое имя — Ленин, имя учителя.
Учеников у него много, но были два самых близких — Юсуф и Жакып. Смело боролись они за правду, но царь изловил их обоих и заточил далеко-далеко, за студеное море, туда, где в морозные ночи на небе горят три красных солнца и ни одно из них не греет. Чудище с недреманным оком сторожит их днем, свирепые белые медведи держат стражу по ночам. Но придет время — в соколов обернутся Юсуф и Жакып. Полетят они — один на запад, другой на восток — и подымут все народы против князей, против богачей, против царей и султанов…
Так рассказывал Науруз о Сталине и Свердлове. Это была сказка. Но ведь на ее глазах Науруз, совсем еще недавно юноша пастух, которому она принесла белого барашка, превратился в богатыря. Он сокрушил одного за другим орла и медведя, бросил на землю пристава, поднял народ на князя и продолжает бороться, неуловимый и грозный любимый муж ее.
— Ты утром уйдешь от меня? — спросила она.
— Уйду, Нафисат, — ответил он. — Товарищи ждут меня в Баку. Те деньги, что собрали мы по нашим аулам, прибавлю я к деньгам, собранным по всему Краснорецкому краю, и сам отвезу их в Баку… Но я скоро вернусь. А вы с Исмаилом Хасубовым и племянником твоим Касботом продолжайте собирать. Большая борьба предстоит еще нам, и в борьбе этой копейка, пожертвованная бедняком, превращается в могучую силу…
2
Для Евгения Львовича и Ольги Владимировны Гедеминовых этот год был первым, когда не только сын, но и дочь провели зиму в столице. Большой, поместительный дом показался бы Гедеминовым совсем пустым, если бы обстоятельства не сложились так, что два мальчика-подростка из Арабыни — пятнадцатилетний Асад Дудов и шестнадцатилетний Гриша Отроков — должны были провести весь этот год в Краснорецке.
Отец Асада оставил сына в Краснорецке лечиться у врачей-специалистов, а жене своей сказал, что Асаду лучше не появляться в Арабыни, где ходили слухи о пребывании его среди веселореченских повстанцев. Госпожа Дудова с этим согласилась и лишь просила мужа свезти ее в Краснорецк, чтобы повидаться с сыном. Хусейну Дудову ничего не оставалось делать, как под разными предлогами оттягивать встречу матери с сыном и надеяться, что зрение Асада в какой-то степени со временем вернется. Действительно, врачи говорили, что слепота у Асада проходит. Но Асад пока этого не ощущал. Даже две пары сильнейших очков, посаженных на его крупном носу специально, как он сам подшучивал, предназначенном для очков, не давали ему еще возможности разглядеть что-либо. Правда, если Асад вплотную подходил к какому-либо предмету, тогда в мире, заполненном радужными дугами и кольцами, становилось как-то темнее, и он не то чтобы видел, но зрительно ощущал очертания стоявшего перед ним предмета. Этих скудных ощущений было достаточно для того, чтобы он мог не только двигаться по всему хорошо ему знакомому гедеминовскому дому, не налетая на стены и отличая открытую дверь от закрытой, но и с помощью палочки выходить на террасу, спускаться в сад, гулять по нему и даже переходить по каменным ступеням с одной дорожки на другую. Надо лишь научиться все делать по возможности самостоятельно — это являлось для него источником самоуважения, столь необходимого в том положении, в котором находился он.
Вначале Асад ходил, отсчитывая шаги (дорожки, расположенные одна под другой, были одинаковой длины) и тыкая палочкой перед собой, но потом необходимость счета постепенно стала отпадать, ноги сами «наизусть» вытверживали путь, и, доверяясь им, он научился почти безошибочно определять конец дороги. И все же иногда он ошибался — поворачивал раньше времени. Палка его тогда не нащупывала ступеней, попадала в пустоту. В таких случаях Асад не сдавался. Подняв лицо к небу, он пытался определить, не падает ли на него тень дерева, а если падает, то старался догадаться — тень какого дерева. Когда же и это не удавалось, он сердито и требовательно кричал: «Гриша!» И если Гриша не слышал, кто-либо из гедеминовского дома бежал ему на помощь…
Осенью тринадцатого года Гриша, провалившись на экзамене за четыре класса реального, пришел в отчаяние и хотел уже вернуться в Арабынь, но вмешался Асад и с помощью доктора Гедеминова добился того, чтобы Гриша на зиму остался в Краснорецке готовиться к весенним экзаменам четырнадцатого года. Пришла весна, Гриша заколебался и, по выражению Асада, «спраздновал труса» — на экзамен не пошел. Тщетны были упреки Асада, не подействовали даже язвительные насмешки Василия Загоскина, оказавшегося при одном из этих разговоров. «Срежусь», — твердил малодушный музыкант — и экзамен был перенесен на осень 1914 года.
Занятия с Гришей стали потребностью Асада и вместе с тем постоянным источником волнений.
— Ты вот опять не слушаешь меня, а? Ну куда ты смотришь? — кипятился Асад.
— На тебя смотрю, — спокойно отвечал Гриша.
— Ты думаешь, я слепой, меня обмануть можно, так? Слепого трудно обмануть. Вот я знаю, ты в окно опять смотришь… Ну что может быть в окне? Девушка прошла, да? Дуся-Муся…
Гриша молча краснел, он был влюбчив, и Асад безжалостно бил его по самому больному месту.
— А еще вздыхаешь по Оле Замятиной, ревнуешь, что она с Петькой Колмогоровым время проводит. Так ведь она начитанная девушка, на второй курс перешла, а ты… С Петькой можно о чем хочешь говорить. А с тобой? Весною, когда она тебе о Фурье сказала, а ты спросил, кто такой Фурье, и Колька Карпушев еще сказал, что у Фурье собственная кондитерская на Ермоловской улице, и ты поверил, — я чуть со стыда не сгорел…
— А там, правда, есть французская кондитерская, и я сам видел вывеску, — возразил Гриша.
— Фурнье — кондитерская, а Фурье — это был великий социалист-утопист.
— Ну вот видишь, социалист! Его в реальном не проходят — так зачем о нем учить? — отвечал Гриша и доводил Асада до бешенства подобной аргументацией.
Но, может быть, потому, что Асад чувствовал свое превосходство над Гришей, он предпочитал Гришино общество всякому другому и заметно отдалился от своих одноклассников, время от времени навещавших его. Не проявлял он никакого интереса и к Оле Замятиной, хотя она явно приходила к Гедеминовым только ради того, чтобы поговорить с ним.
— Вы молодец, Асад. Вы герой, — сказала она и даже, на зависть Грише, один раз осторожно провела рукой по жесткокурчавым черным волосам Асада.
Асад отдернул голову, густо покраснел и потом, когда Ольга ушла, даже выругался:
— Тоже воображет себя взрослой тетей, по головке поглаживает… Древнегреческий язык, видите ли, на трех диалектах изучать будет! А какому черту это нужно?
— Но ты ведь сам говорил… — хотел возразить Гриша.
— Молчи! — прервал Асад. — Для тебя что греческий язык, что политическая экономия — все одно…
Первый раз по приезде из Петербурга Ольга пришла к Гедеминовым. Она должна была выполнить поручение Людмилы: сообщить Евгению Львовичу, что Людмила находится где-то возле Баку в составе противочумного отряда профессора Баженова. Как и представляла Людмила, Евгений Львович оценил по достоинству поступок дочери. Он весь выпрямился, глаза его заблестели. «Моя кровь», — тихо сказал он. Они условились, что матери Людмилы, Ольге Владимировне, будет сказана лишь половина правды: Люда находится в районе Баку в составе медицинской экспедиции…
3
День этот, как обычно, начался у Асада с того, что, постукивая перед собой палочкой и подняв к небу худенькое, напряженное лицо, он с двумя парами очков на носу вышел на веранду и без чьей-либо помощи спустился по лестнице в сад.
В золотисто-зеленом тумане с радужными дугами и кольцами перед глазами Асада все время с шумом точно пролетали дикие ширококрылые птицы. День был солнечный и ветреный, и Асад понял, что это тени ветвей, раскачивающихся под ветром. Ветви шумели и шелестели и заставляли Асада напряженно вслушиваться — он не хотел, чтобы к нему кто-либо подошел незаметно.
И все же его застали врасплох. Сильные руки неожиданно обняли Асада, чья-то щека коснулась его щеки, и добрый знакомый голос по-веселореченски сказал:
— Светлого дня желаю тебе, братец!
— Науруз?! Откуда ты?
— Ш-ш-ш! Братец, не кричи. Я эту ночь просидел у вас здесь в овраге. Сюда должен скоро прийти Василий.
— Вася?.. Но откуда ты знаешь?
Науруз засмеялся и сказал по-русски:
— Телеграмм давал. Механика Максима на Пантелеевой мельнице знаешь? Пришел веселореченский горец с мешком кукурузы, — кому до него дело? Кто знает, что его Науруз зовут? Большевистская пошта (он выговаривал — пошта): я — Максиму, Максим — жене своей, она — Броне. Ты Броню знаешь, Василия невесту?
— Знаю. Все понятно, — ответил Асад. — Но если с вечера у нас в саду сидишь, значит ты ничего не ел утром?
— Немного было у меня с собой хлеба.
— Пойдем к нам домой. Ведь у Гедеминовых никто не выдаст.
— Знаешь, лучше бы сюда принести. Сам ты, конечно, не сумеешь, пусть друг твой, музыкант, постарается, уж я ему тоже когда-нибудь услужу.
— Конечно, конечно.
— Так я дождусь вас внизу, в старой сакле, туда и Василий должен прийти. Я там ночевал сегодня и еще ночи две переночую, пока меня Василий не отпустит.
И, сказав это, Науруз скрылся, даже чуткий слух Асада не уловил звука его шагов.
— Гриша-а! — крикнул Асад.
* * *
В овраге, у полуразрушенной сакли, они нашли Науруза и Василия.
На земле, на разостланном большом кумачовом, сильно застиранном платке, было навалено множество денег — и серебра, и меди, и грязных бумажных кредиток, желтых, синих, зеленых.
— Здорово, Асад! — однотонно сказал Василий. — Здравствуй, Гриша! Это хорошо, что вы пришли. Дело общественное, и я все равно хотел обратиться к доктору Гедеминову, чтобы засвидетельствовать факт передачи денег, собранных в Краснорецкой губернии, господину Наурузу Керимову, — сказал он, выделив слово «господин» добродушно-насмешливой интонацией.
Науруз засмеялся.
— Господин Керимов! — сказал он весело и горделиво развел свои большие руки.
— Но разве я могу…, — проговорил смущенно Гриша.
— Если, конечно, не боитесь, — сказал Василий, — и можете ручаться за себя, что не проболтаетесь.
— Я не боюсь и не проболтаюсь, — сердито ответил Гриша. — Но я просто не понимаю своих обязанностей.
— Обязанности самые простые, — весело ответил Загоскин. — Примите сейчас участие в подсчете этих денег, собранных среди жителей Краснорецкой губернии для увеличения забастовочного фонда бакинских нефтяников. Я при вас передам эту сумму Наурузу Керимову, а он должен будет перевезти эти деньги в Баку. Вы должны засвидетельствовать точно в рублях и копейках эту сумму, а также и самую передачу. И потом, как я уже сказал, молчать обо всем этом деле, пока вас не спросит представитель Союза бакинских нефтяников с целью проконтролировать нас…
— Но кто же окажет недоверие таким честным и идейным людям, как ты и Науруз? — спросил Асад.
— Э-э-э, брат! Денежки счет любят. И особенно общественные денежки, священные копейки, как недавно прочел я в газете о деньгах, собранных на Путиловском заводе для этой же цели. Статья подписана буквой «Ч». Кажется мне, что наш Константин ее писал, и слог у нее такой, — сказал он задумчиво.
Все замолчали, только слышен был монотонный говор быстрой воды горного ручья и шум ветра…
Уцелев во время волны арестов после краснорецкого восстания, Василий Загоскин и механик пантелеевской мельницы Колющенко восстановили партийную организацию в Краснорецке.
Максим Колющенко, вернувшись на прежнюю должность, продолжал свою работу на дворе мельницы, среди помольщиков, и постепенно стал восстанавливать связь с деревнями и станицами.
Воспользовавшись тем, что ему сейчас уже доверяли водить паровозы с товарными составами, Василий побывал во Владикавказе. А там, в редакции газеты «Терек», где работал Сергей Миронович Киров, можно было узнать партийные новости и, что еще важнее, получить оценку быстро следующих одно за другим политических событий. События бурно нарастали, промышленные центры перекидывали огонь стачек из одного города в другой: из Баку — в Петербург, из Петербурга — в Москву, из Москвы — в другие места страны.
Обо всем этом надо было поведать погруженному в провинциальную дрему Краснорецку. Василий Загоскин восстановил связи с губернской типографией, наладил там печатание листовок, и организация стала распространять эти листовки по предприятиям Краснорецка. Центр организации по-прежнему был в железнодорожном депо. Отсюда нити теперь тянулись в разные ремонтные и другие мастерские, в кожевенные, мыловаренные, дрожжевые заведения и даже в реальное училище и учительскую семинарию.
Первого мая результаты этой кропотливой деятельности сказались: бастовало не только депо — обе городские типографии, мельницы, нескольких мелких заводов и почти все магазины. Остановилась даже электростанция. Праздновать маевку на Волковом кладбище собралось около двух тысяч человек: там выступал друг и сверстник Василия Загоскина — молодой машинист Айрапетян, переодетый по этому случаю в студенческий костюм и выглядевший так солидно, что версии о приехавшем из Ростова ораторе поверили не только участники маевки, но и полиция, нагрянувшая с опозданием и схватившая лишь некоторых рядовых участников стачки, которые ни о чем не могли рассказать, если бы даже и хотели.
В работе организации Асад Дудов тоже занимал свое место. Каждый раз, сочинив новую листовку, Василий Загоскин, раньше чем печатать, старался повидаться с Асадом и прочесть ему ее.
Бедой воссозданной партийной организации в Краснорецке было то, что самые грамотные люди в организации — почтовый чиновник Алексей Стельмахов и провизор городской аптеки Дора Рутберг — были после веселореченского восстания высланы. Максим Колющенко, человек зрелого возраста, обладая известным партийным опытом и большим здравым смыслом, был не очень грамотен. Василий Загоскин был грамотнее других и сам мог написать хорошую листовку, но он хорошо запомнил наставление Константина Черемухова: «Даже устную речь нужно учиться строить грамотно, складно и по возможности красиво. Конечно, это не всегда возможно. Раз требует момент — говори как можешь, от души, смело. Речь произнес, слова разлетелись и сделали свое дело. А печатное слово остается в руках читателя. Листовку можно перечитать еще и еще раз, она идет из рук в руки, потому каждое слово взвесь, не бросайся им, клади на бумагу только весомое, крепкое, мчащее вперед слово. Особенно следи за грамотностью…»
Тут-то и пригодился Василию Асад: он мог поправить не только неуклюжий оборот, но был придирчив и требовал ясности в выражении главных мыслей. На Асаде Загоскин как бы проверял будущую листовку. Но чем больше дорожил он своими встречами с Асадом, тем большими предосторожностями обставлял эти встречи. Железнодорожный поселок Порт-Артур, где жил Василий, находился на другой стороне города, оттуда до дачи Гедеминовых было не менее десятка верст по прямой. А Василию по прямой через город ходить нельзя было: не хотелось наводить шпиков на дом Гедеминовых. Да и времени свободного оставалось мало. Но долго не видя Асада, Загоскин скучал по нему. В разговорах с Асадом можно было помечтать о том, как при коммунизме громадные воздухоплавательные машины будут переносить путешественников из страны в страну, как на светлых фабриках среди благоухающих цветов будут радостно трудиться люди коммунистического завтра. Василий рассказывал об этом и на собраниях деповского кружка, и при изучении «Коммунистического Манифеста», и при чтении залетных, из столицы, номеров «Правды» и «Просвещения».
Асад познакомился с Василием Загоскиным, уже будучи слепым. Не видя его, он только слышал глуховатый, переходящий в шепот голос. Но именно этот голос немного в нос, усмешка и манера в минуты обдумывания и умственного напряжения, посапывая, произносить «так, и так, и так, и так»… и снова «так, и так, и так, и так», — все это показывало Асаду самую душу Василия, может быть, глубже, чем если бы он видел его… И не будь этих не очень частых встреч с Василием, этой совместной работы с ним над листовками и сознания своей необходимости — кто знает, мог бы Асад так настойчиво и энергично бороться со своим страшным несчастьем?
Сегодняшняя встреча, да еще связанная с посещением Науруза, которого они любили, была для них обоих нежданным радостным праздником.
— Так начнем, что ли! — весело сказал Василий. — Вас смущает что-то? — спросил он Гришу. — Может быть, вам все-таки не по душе это дело? Тогда будем считать весь предыдущий разговор несостоявшимся.
— Да не это совсем его смущает, — с досадой сказал Асад. — А то, что эту цифру в рублях и копейках нужно будет запомнить наизусть, а в его голове цифры не держатся… Верно?
— Верно, — ответил Гриша тихо.
Все засмеялись.
— Ну, так это уж я запомню, — сказал Асад. — Из-за своих дурацких глаз, которые ни черта не видят, я, понятно, быть свидетелем не могу. Слух у меня сохранился, и всякую нужную цифру, которая будет сказана вслух, я сохраню до конца дней моих!
Василий считал, бормоча цифры за цифрами и время от времени прерывая счет:
— Пятая сотня! Запомни, Асад!
Потом снова шло бормотанье, быстрые движения ловких Васиных пальцев.
«У него музыкальные руки, — подумал вдруг Гриша, — может без усилий взять на рояле целую октаву».
— Седьмая сотня! — говорил Загоскин. — Запомни, Асад… Трешки на исходе, пойдут рубли… А потом серебро и копейки… Ну, давай дальше…
Науруз, расставив ноги в своих плетеных ремешковых башмаках, сидел на камне и осторожно, самыми кончиками пальцев, брал с тарелки куски нарезанного мяса и поедал его. Есть ему хотелось сильно, но Гришу поражало, что, хотя он ест руками, в его движениях совершенно отсутствует торопливая, обо всем забывающая жадность, ел он пристойно, даже красиво… «Да это тот Науруз, который так некстати разбил окно, когда я играл в зале у Батыжевых… Почему время от времени он то и дело появляется вновь и вновь в моей жизни?» — подумал он.
Ветер все шумел и шумел, вода немолчно клокотала, и пятнистые отсветы солнца бежали по траве, по платку, где беспорядочная куча денег в скорых музыкальных руках Загоскина превращалась в ровные стопки — одна за другой, одна за другой.
— Девятая сотня, — сказал довольный голос Василия, — за тысячу скоро пойдет.
И сердце Гриши вздрогнуло при этих словах. Сколько Асад рассказывал ему и о бакинской стачке, и о сборе пожертвований, открытом в газете «Правда», и о грозных стачках солидарности в Петербурге, в Москве, по всей России, но только вот сейчас ощутил он грозную красоту и величие происходящего. Гордо и радостно стало на душе от сознания, что он, хотя бы всего лишь как свидетель, принимает участие в этом деле.
Глава пятая
1
Алеша и Миша давно уже управились с «Чумой в Тюркенде». Но их произведение никак не могло добраться до экрана: дорогу ему преградили такие «боевики», как «Слава и смерть», «В оковах жизни», «Отвергнутый людьми».
— Это все обо мне, — шутил Миша, прочитывая афиши.
Съемка «Каспийских рыбаков», ради которой друзья прибыли в Баку, совсем приостановилась. Кончилась пленка, нужно было дожидаться, когда пришлют из Петербурга новую.
Денежные запасы Алеши и Миши оскудели. Они продолжали жить в гостинице, снимая на двоих самый дешевый одинарный номер, и питались по преимуществу на базаре. Здесь вся пища, как сырая, так и вареная, была покрыта мухами. Но Алеша был до крайности неприхотлив, а Миша, брезгливый по натуре, питался тем же, чем питались персы и южные азербайджанцы, пришедшие на заработки в Россию: утром — чай и чурек, посредине дня, в самое жаркое время, — горсть сладкого изюма и снова чурек, вечером, когда уже становится прохладнее, — тарелка пити или хаша где-нибудь в духане. Изжелта-смуглый, с полотенцем на бритой голове, чтобы предохранить себя от солнечного удара, Миша вмешивался в толпу, не вызывая подозрений, и свободно упражнялся в народном говоре на персидском и азербайджанском языках.
— Вон стоит оборванный человечек ростом тебе по плечо и кричит. Видишь его?
— Ну, вижу, — ответил Алеша.
— А знаешь, о чем он кричит?
Алеша вслушался.
— Ничего понять не могу! Сумасшедший? — высказал он предположение.
— Ты почти угадал, — торжественно ответил Миша. — Это Меджнун, одержимый любовью, он поет о своей любви.
Ресницы твои как гвозди, На них подвешено бедное сердце мое, Подвешено оно и кровью истекает, Как в лавке мясника Истекает кровью мясо, подвешенное На гвозде… —переводил Миша.
— Ну, для объяснения в любви это грубо, — поморщился Алеша.
— А что, соловьев и роз захотелось? Ты вот с соловьями и розами не очень успел.
Алеша насупился и ничего не ответил.
— Хочешь узнать, откуда такая страшная метафора? — продолжал Миша. — Очень просто, погляди вон туда. Влюбленный поет около мясной лавки, он не вымучивает метафору, как книжные поэты, — он берет ее прямо из жизни базара, к тому же он, может быть, и влюблен в дочь мясника. И, будь спокоен, поэт добьется своего, не то что ты, сбежавший от девушки, которая была к тебе благосклонна…
— Не надо об этом, — морщился Алеша.
Миша на рынке приобрел балалайку. По вечерам, услаждая слух Алеши песнями, подслушанными на базаре, он садился прямо на пол, ставил стоймя балалайку и пел, переводя на русский:
Эй, мальчики, собирайтесь на мой зов, Пойдем туда, где стоит ее дом, Дуйте в дудки — ду-дур, ду-дур, Бейте в барабан — тах-тах, тах-тах! Обещала она мне: «Стану женой барабанщика Или женой трубача». А когда пришел к ней свататься С трубами и барабанами, Говорит: «Не пойду за тебя — ты рыжий»…— Какова серенада! — прекратив пение, восклицал Миша и наставительно поднимал палец. — Да, я тебе откровенно признаюсь, до приезда в Баку я был весьма высокого мнения о своем знании Востока… Теперь я вижу, что ничего не знал о подлинном Востоке и только сейчас начал немного узнавать… Сюда на заработки сходится народ со всей Персии. Знаешь, как они называют Россию? «Арасей». И послушать их, так здесь обетованная земля, хотя каждый год сотнями тонут они здесь в нефтяных колодцах, отравляются пищей, заболевают чахоткой. Но ведь в Иране рабочих грабят безвозмездно, а здесь их тяжелый труд оплачивается золотыми червонцами. А заработав за год три таких червонца, они, возвращаясь к семье, чувствуют себя богачами. Но в этом году и они поняли, что оплата их труда все же нищенская, что Тагиевы, Нагиевы, Сеидовы, Асадуллаевы, их единоверцы, у которых они по преимуществу работают, обманывают и обсчитывают их. Русские товарищи помогли им разобраться в этом… И вот они бастуют вместе с русскими, грузинами, армянами и портят настроение своим хозяевам…
— И нашему приятелю Мартынову, — мрачно добавил Алеша.
— Хорошо бы наш боевик вышел на экран к Петрову дню, — мечтательно говорил Миша. — Такой именинный подарочек! Я уже внушил эту идею мадам Апфельзон, владелице кинотеатра. «Доставьте, говорю, удовольствие господину градоначальнику».
Алеша мрачно усмехнулся.
— Да, это будет удовольствие, — сказал он.
— После этого, конечно, мы срочно ретируемся отсюда, потому что Мартышка в гневе страшен! (Так порою друзья называли между собой господина градоначальника).
— А как будет с «Каспийскими рыбаками»? — напомнил Алеша.
— Шут с ними! Мне сдается, что и Лохмач забыл о них, иначе он подослал бы нам и денег и пленки.
Лихорадочная жизнь города, переживавшего героический подъем забастовки, заслонила идиллический замысел той картины, ради которой Алеша и Миша прибыли в Баку.
Конный патруль с шашками наголо ведет арестованного, на бритой голове его и под глазом — кровоподтеки. Они движутся между двумя стенками, сложенными из желто-серых ноздреватых камней, шашки блестят на солнце.
Люди, запрягшись в бочку, везут откуда-то издалека, из деревенских колодцев, воду — везут вверх, в крутую гору. Седой тонконогий старик в архалуке и папахе, из-под которой струйки пота стекают на лоб и находят себе русла в глубоких морщинах, тащит на белой перевязи через плечо черный гробик и торопится, убегает, а позади совсем молодые отец и мать тянут за собой еще двоих детей — живых, но очень тихих…
А шатров, наспех изготовленных из одеял и из паласов, становится среди пустынных, выжженных солнцем песков Апшерона все больше — то поселки людей, изгнанных судом из своих жилищ.
Алеше и Мише случилось раз забрести в здание участкового суда в Сабунчах. Зал был заполнен рабочими. Судья, тучный и белесый, вытирая обильный пот полотенцем, с поразительной быстротой и ловкостью решал одно за другим дела о выселении. Он называл имя, отчество и фамилию рабочего, рабочий выходил, и, краем глаза зафиксировав его, стоящего с повесткой суда в руках, судья предоставлял слово секретарю «для зачтения иска фирмы». Чтение продолжалось минуту, после чего защитник зачитывал встречный иск — три минуты, — и едва он кончал, судья, даже не повышая голоса, только растягивая слова, читал решение: «Да-ется… Павлову Игнату Сергеевичу трехдневный срок для очистки квартиры…»
Обычно рабочий ничем не выражал своего протеста и отходил в сторону, к скамьям, где сидела публика. При Алеше и Мише прошло около десятка таких дел, но никто из зала суда не уходил: здесь все были рабочие с одного промысла.
Вдруг плавный ход судебной машины застопорился. Один из ответчиков, невысокого роста крепыш, после оглашения иска о выселении, исподлобья глядя на судью, сказал:
— Судите, нам не страшно.
— Разве вас об этом спрашивают, страшно вам или не страшно? — Впервые за все время живое чувство удивления всколыхнуло голос судьи.
Ответчик молча, чуть приоткрыв рот, смотрел в белое, как выросший в темноте гриб, лицо судьи.
Судья отвел взгляд, провел по лицу полотенцем и по-прежнему, не тратя излишнего выражения на то, что он произносил, сказал:
— Ответчик, не волнуйтесь, отвечайте на вопросы! Вы живете в помещении фирмы и не работаете?
— Не работаю! — сказал ответчик и оглянулся на публику, точно ища людей, которые могли бы подтвердить, что он еще не работает.
В публике заметно было движение, вздохи, шепот…
— Семейный? Холостой, — спросил судья.
— Есть маленько, — неторопливо произносит ответчик.
В публике послышались смешки.
— Непонятно выражаетесь, — подняв белесые брови, сказал судья. — Что вы хотите сказать этим словом — маленько?
— Семьи у меня маленько, — с охотой ответил рабочий. — Жена, двое детей… Да вам, господин, разве это не все равно?
— Встречный иск предъявляете? — размеренно спросил судья.
— Собирался предъявить, а поглядел, как вы здесь расправляетесь, — раздумал.
— Дается три дня на очистку квартиры, — торопливо произнес судья, точно не слыша. — Следующий, Азизов Алихан-Азиз оглы!
— Не ходи, Алихан, нечего нам перед ним петрушку показывать, — вдруг сказал предыдущий ответчик следующему, тому, который вышел вперед, тоже широкоплечий, крепкий и чем-то даже схожий с предыдущим, но с черными, блестящими глазами и густыми бровями.
— То есть что это? Подстрекательство? — вставая с места, спросил судья. — Что?
— Ништо. Не страшно нам — и все!
Он круто повернулся и пошел; за ним, помедлив, пошел второй ответчик, а следом, пересмеиваясь и переговариваясь, тронулась и вся публика. Алеша тоже хотел уйти.
— Погоди, — шепотом сказал Миша. — Что он будет делать?
— Дела будем решать заочно, — как бы отвечая на этот вопрос, не поднимая головы от бумаг, сказал судья.
И в присутствии судебного пристава, двух стражников, Алеши и Миши, оставшихся на местах публики, судья монотонной скороговоркой провел двадцать дел и выбросил из домов на улицу двадцать рабочих семей.
Вскоре на одном из промыслов вспыхнуло столкновение из-за того, что рабочие, в большинстве молодые, освободив помещение барака, вынесли из общежития железные кровати и хотели расположиться на них под открытым небом. Сторожа стали отнимать кровати, рабочие не отдавали. Возникла драка, которая после появления полиции приняла характер избиения рабочих. Об этом Миша слышал на базаре и рассказал Алеше.
Зной и недоедание различно действовали на друзей. У Алеши появилась сонливость, которая внушала некоторые опасения Михаилу, он даже поговаривал о враче, но не очень настойчиво, так как предвидел, что врач предпишет улучшенное питание. Сам он спал очень мало, худел, ел еще меньше, чем Алеша, но все время находился в состоянии возбуждения.
— Знаешь чайхану возле мечети? — возбужденно рассказывал Миша, садясь на пол посреди комнаты и сдвинув на затылок свою тюбетейку. Алеша, истомленный жарой, весь голый, лежал на постели. — Вдруг слышу по-азербайджански; «Эй, люди, слушайте о новом злодеянии, совершенном мужем обезьяны», — они так называют нашего приятеля; мы, именуя его Мартышкой, почти угадали прозвище Мартынова. Я прошел вперед, вижу: на мешках с кукурузой стоит человек, талия у него, как у балерины, лицо бледное, черные усы и бакенбарды, похож на горца. И вот он очень правильно и ясно рассказал обо всех этих безобразиях с выселением и объяснил, что дела у нефтепромышленников вследствие забастовки идут неважно, потому они и пускаются на эти крайние меры. Потом он разбросал листовки. А когда наскочила полиция, этот самый оратор исчез, как будто сквозь землю провалился. Люди его называли: «Кази-Мамед — наш Кази-Мамед неподкупный», — так же, как называли Робеспьера.
2
Прокламация эта распространена была Кази-Мамедом на базаре в час, когда туда собирались на обед «амшара» — земляки, так прозвали в Баку рабочих, происходивших из Южного Азербайджана, в большинстве своем поступавших на промыслы к своим единоверцам.
Одновременно во дворе завода Нобеля в Черном городе — в обеденный перерыв (как докладывали Мартынову) — невысокого роста молодой рабочий, худощавый и бледный, вскочил на сломанный стол, стоявший у входа, и остановил рабочих, уходящих из цеха. Он требовал, чтобы нобелевцы примкнули к стачке. И они это сделали. Тысяча человек старых мастеровых, находившихся в лучших условиях, чем рабочие-нефтяники, примкнули и даже требований не предъявили — и это чуть ли не после месяца забастовки! По донесениям агентов охранки, бывших среди рабочих, оратор, выступавший у Нобеля, на этом заводе не работал и вообще похож был больше на типографского рабочего, чем на нефтяника или металлиста. Но его встретили как своего.
— Так это же Столетов! — исступленно закричал Мартынов на начальника охранного отделения. — А ваших агентов нужно разогнать всех, раз они Столетова не знают.
Но винить агентов было трудно. За Столетовым гонялись по всему Баку, — он был точно в шапке-невидимке. А ведь он, как председатель Общества нефтяных рабочих, конечно, бывал и в помещении конторы этого общества, в этой маленькой лавочке по Балаханскому шоссе, предназначенной для продажи хлеба. Столетов, словом, появлялся повсюду, но как только его начинали ловить, он пропадал в толпе, сливался с нею. Столетов выступал не только на промыслах и в цехах заводов, не только возле электростанции, но и в самых неожиданных местах: выступал на похоронах банкира Маликиняна, обозвав дашнакского оратора лакеем капиталистов. При этом сам он говорил по-армянски, что произвело большое впечатление на тех рабочих, которых дашнаки привели на кладбище. Выступил — и сразу как сквозь землю провалился!
Охранка потеряла след Шаумяна. Человека не найти ни в Тифлисе, ни в Баку, а прокламации пишет он — его стиль.
Но едва ли не труднее всего было с Азизбековым. Адрес его известен, в городской думе выступает он открыто: то требует пособия мусульманскому благотворительному обществу, то заступается за какого-то учителя Ибрагимова, несправедливо уволенного. А попробуй тронь его — и в Государственной думе, глядишь, выступит Бадаев и поднимет шум на всю Россию.
Рамазанов не раз подсылал своих кочи на квартиру Азизбекова. Но стоит кому-либо из них подойти к крыльцу дома, — среди людей, которые постоянно толпятся здесь, сразу начинаются крики: «Мясники, палачи, шакалы!» Известны часы его приема, с людьми, которые к нему приходят, он говорит об их нуждах. Так ведь он депутат! В довершение всего Азизбеков вдруг сам явился в градоначальство и попросил доложить о себе. Мартынов не знал, что ему думать об этом визите, но принял, как же не принять.
До этого ему пришлось видеть Азизбекова только на фото. Но оно не передавало его внушительной осанки, необыкновенных сверкающих глаз и выразительно-смуглого, оттененного черной бородой лица. В пальто столичного покроя, в инженерской фуражке с молоточками, он выглядел настолько внушительно, что Мартынов невольно встал при его появлении и, ответив поклоном на легкое движение головы, показал ему на кресло.
— Прошу садиться. Чем могу служить? — спросил он.
Азизбеков опустился в кресло и сообщил, что пришел по делу о запрещении любителям драматического искусства в Балаханах поставить новую оперетту Узеира Гаджибекова «Маштибад» — веселый водевиль развлекательного свойства. Мартынов во все глаза смотрел на дерзкого посетителя. Как спокойно, веско и даже красиво говорит этот сын каменщика! Хотя, конечно, образование в Петербурге получил, но как он смеет так разговаривать? Крикнуть бы ему: «Татарская морда, чего расселся?!» Нет, нельзя.
— Разрешение дано не будет, — буркнул Мартынов, отведя глаза от спокойного, дышащего вежливым презрением лица врага.
— Мои избиратели мусульмане просили меня узнать причину.
— Причин много. Первая хотя бы та, что вы на афишах везде объявили, что чистый доход со спектакля пойдет в пользу издания книги Сабира.
— Мы не сочли нужным скрывать это.
— Бунтовщик ваш Сабир, вот что! Думаете, мы не знаем? Мы все знаем, есть в Баку благонамеренные мусульмане, которые нас осведомляют!
— Осведомляют вас муллы, злейшие враги русского просвещения.
— Насчет просвещения — это не по моему ведомству. Но эти мусульманские священнослужители — царю своему верноподданные. А насчет Гаджибекова нам все известно, мы знаем, что он высмеивает…
— Он высмеивает фанатизм, невежество духовенства и дикость баев и ожиревшего купечества… Впрочем, нам, пожалуй, не о чем говорить, потому что вы заинтересованы в распространении всяческой тьмы и невежества, — вставая с места, сказал Азизбеков.
— Мы заинтересованы, чтобы вы и ваши сообщники не имели места для устройства сборищ, где вы проповедуете свои возмутительные учения.
— Я не знаю, что вы имеете в виду, но если дело в устройстве сборищ, то и у вас для этого имеются все возможности. Но люди что-то не очень слушают вас.
Мартынов не нашелся, что ответить. Необычный гость вежливо попрощался и ушел. Мартынов выругался грязным ругательством, которое он усвоил еще в бытность свою околоточным. Поток текущих дел, прерванный появлением Азизбекова, хлынул и не дал возможности обдумать эту дерзкую вылазку. Но в этот же день ему позвонил по телефону сам старик Гаджи Тагиев.
— Да, я слушаю вас, господин Тагиев, — приникая к трубке, ответил Мартынов.
Тагиев звонил градоначальнику очень редко, обычно прибегая к посредничеству близких лиц, чаще всего Рамазанова. «Что еще ему нужно?» — раздраженно думал Мартынов, слушая учтивые вопросы Тагиева о здоровье его и его семьи и коротко на них отвечая. Однако в ответ нельзя было самому не спросить о здоровье старика. И пришлось выслушать жалобу на то, что врачи ему запретили есть жир, а «еда без жира — все равно что мир без солнца». И только после подробного рассказа о своем здоровье и о своих врачах старик по-другому, переходя вдруг на «ты», спросил:
— У тебя Мешади Азизбек оглы был, да? — и простонародная и живая интонация лукавства послышалась в этом вопросе.
— Вы подразумеваете Азизбекова? Неужели вы, Гаджи, тоже хотите поддержать этого врага бога, царя и отечества?
— Э-э-э… горячишься, градоначальник, горячишься… Вот ты слушай, какой у меня был разговор с забастовщиками. Пришли они ко мне, принесли вот такой список требований… Там они написали: и рабочий день чтобы был короткий, и заработок чтобы стал длинный, и дома у них плохие, и жены больные, и дети умирают… Что вам Гаджи? Тесть — женам докторов нанимать? Или мулла — детей отпевать? Я взял красный карандаш и все вычеркнул. Один пункт, самый последний, оставил: требуют вежливого обращения… Вежливого обращения? Сколько угодно…
— Я не понимаю ваших басен.
— Вот ты мне, старому человеку, слова сказать не даешь. А меня министры в Петербурге слушают. Я еще молодой был, а меня сам Менделеев-старик слушал. Только ты никого не слушаешь… Басня? Ты думаешь, старый Гаджи так себе плетет, от слабого ума? Э-э-э, Петр Иванович, невежливый ты.
— Ладно, ладно, Гаджи, дела, знаете, такие, что в горячку кидает.
— Одна у нас с тобой горячка. И этот нечестивый Мешади, он для меня, для мусульманина, наверно, хуже прыщ, чем для тебя. Мне из-за него ни встать, ни сесть. А спектакль разрешить нужно — вежливое обращение. Все остальное ни на копейку не сдавай, а спектакль пусть смотрят. Ничего, пусть смеются, думают, что Мештибат — старый дурак и старый Гаджи Тагиев — дурак, пусть смеются, такое время, что это можно стерпеть… Ты думаешь, почему Мешади Азизбеков с поднятой головой ходит? Потому что сколько они мутили мусульман — и только в эту забастовку добились, что они за ними пошли.
— Это вы правы, Гаджи.
Тагиев еще некоторое время поговорил по телефону и повеличался своей мудростью перед притихшим Мартыновым.
Положив трубку, Мартынов послал несколько крепких ругательств в адрес старика. Подумать только, этот старый татарин осмеливается совать нос в его дела! Но не признать правильности рассуждений Гаджи было нельзя. И спектакль был разрешен.
Так среди непрестанных тревог и огорчений забастовки незаметно подошел Петров день, именины Мартынова — праздник градоначальства. После торжественного молебна Мартынов пригласил отдохнуть на веранде, где сервирован был завтрак, самых почетных гостей: исполняющего обязанности генерал-губернатора контр-адмирала Мирона Адольфовича фон Клюпфеля, прокурора тифлисской судебной палаты Смирнова (присланного, как уверен был Мартынов, чтобы вести за ним наблюдение), а также кое-кого из старшего полицейского и жандармского начальства. По замыслу хозяина, предполагалось закусить, выпить и приятно провести время без Елены Георгиевны, в мужском обществе, полицмейстер Ланин расскажет анекдоты. Но едва расселись и Петр Иванович уже хотел поднять бокал за государя императора и всю августейшую фамилию, как Мирон Адольфович, извинившись за то, что нарушает праздничное настроение, со свойственной ему кошачьей гибкостью вынул откуда-то из-за спины — неужели там, в его контр-адмиральском, шитом золотом мундире был карман? — бумагу, очевидно, заранее приготовленную.
— Вечерняя почта из Санкт-Петербурга, — сказал он значительно и своим монотонным голосом прочел многословную и жалобную петицию волжских судовладельцев.
От имени биржевого комитета города Нижнего и своего Совета съездов судовладельцы обращались к министру путей сообщения Рухлову. Очень трогательно писали о том, что имеют честь «довести до сведения вашего высокопревосходительства о наступающей угрозе для судопромышленности волжского бассейна, в связи с забастовкой на бакинских нефтяных промыслах».
Петр Иванович несколько презирал фон Клюпфеля, этого немца со стриженой и круглей, как у кота, головой, пышными усами и бакенбардами, осанистого в своем адмиральском, безукоризненно на нем сидевшем мундире.
«Хорошего моряка на сухопутную службу не переведут», — думал Петр Иванович и считал себя работягой, а фон Клюпфеля дармоедом. Но от фон Клюпфеля тянулись вверх, в Петербург, в придворные круги, какие-то нити, совершенно недоступные Петру Ивановичу, человеку нечиновному и ничего за собой не имевшему, кроме служебного рвения. Прочитанная вслух петиция судовладельцев явно предназначалась в адрес градоначальника. Закончив ее чтение, фон Клюпфель сразу же поднял бокал и, щурясь, сказал своим бархатным тоном:
— Здоровье нашего достоуважаемого хозяина, ибо он есть камень, на котором воздвигнется… — И, гордясь своей памятью, он наизусть по-славянски процитировал соответствующее место из евангелия, относящееся к апостолу Петру. И все это как-то издевательски подчеркивало серьезно-предостерегающий характер того, что было прочитано.
«Вот так именинный подарочек поднес немец!» Чувствуя, что взгляды всего полицейского начальства — ехидные, злорадные, испытующие взгляды — направлены на него, Петр Иванович, еле сдерживая бешенство, вскочил и проревел благодарность его превосходительству, взяв при этом ноту столь оглушительную, что голуби, сидевшие на перилах балкона, встревоженно взвились к небу, а холеная рука его превосходительства, уже нацелившая вилку на семгу, вдруг дрогнула и остановилась. Наступило молчание, только слышно было, как в тесном, но пышном садике при градоначальстве методично журчит фонтан… Но потом вилка опустилась на семгу, нежно-розовый кусок ее плавно лег на тарелку его превосходительства, фон Клюпфель, сладко щурясь (такова была особенность Мирона Адольфовича, — никто не мог похвастать, что видел его глаза), спокойно сказал, что вполне понимает болезненное состояние достоуважаемого хозяина и считает своим долгом в случае нужды прийти ему на помощь.
Действительный статский советник Смирнов, почетный гость из Тифлиса, также с удовлетворением кивнул лысой носатой головой. Мартынов угадывал, что именно этот сухопарый судейский чиновник напишет об этом случае наместнику.
Завтрак прошел в молчании, и даже полицмейстер Ланин, всегда удачно пускавший в ход анекдоты о грузинах, армянах, евреях, татарах, не смог на этот раз поднять настроение собравшихся, все как-то призадумались.
Завтрак кончился быстро.
Но как ни злился Мартынов, смысл письма, зачитанного фон Клюпфелем, он вполне уяснил, и наутро следующего дня по городу и промыслам было расклеено распоряжение градоначальника, строго воспрещающее бастовать рабочим, «занятым на перекачке нефти из амбаров и резервуаров на суда». Вечером директор фирмы Тер-Акопова сообщил градоначальнику, что он предполагает завтра с утра перекачать из Сабунчей на пристани тридцать пять тысяч ведер нефти, предназначая ее для волжских пароходов, и попросил охрану для производства этих работ.
К насосной станции выехал помощник сабунчинского полицмейстера с двадцатью пятью казаками, под охраной которых пятеро босяков, нанятых вместо бастующих, пустили в ход насосную станцию. Но едва заработали механизмы и нефть в огромных нефтехранилищах Тер-Акопова всколыхнулась, большая группа бастующих пришла к насосной станции. И никакие увещевания помощника полицмейстера не помогли. Повторилось то же, что и при попытке пустить электростанцию: появились агитаторы, штрейкбрехеры бросили работу. Толпу разогнали нагайками, семьдесят два человека были арестованы, но возобновить перекачку нефти не пришлось. И нефть, переливаясь за края амбаров, медленно растекалась по низине.
Тифлисский прокурор тут же написал на Мартынова донос наместнику, и Мартынову пришлось в самый разгар жары и забастовки оправдываться по множеству пунктов, мелочно-придирчивых и зудливых, как укусы блохи.
Однако генерал-губернатор о своем обещании при случае помогать Мартынову отнюдь не забыл. Как и полагается верноподданному немцу, фон Клюпфель был ревнителем православия. В часовне Покрова пресвятой богородицы в Баку он обнаружил старинную икону, которая стояла над источником и, по уверению причта, излечивала народ. По указанию генерал-губернатора в часовне отслужили молебен. На молебне присутствовало все начальство губернии. По всему району, в котором была часовня, прошел крестный ход, к иконе был открыт доступ. Петр Иванович во время молебствия был занят в одном из самых беспокойных мест забастовки — в Балаханском районе. Но он с большим интересом и сочувствием выслушал взволнованный рассказ Елены Георгиевны о религиозном настроении народа, о том, какую смиренномудрую проповедь произнес преосвященный Паисий, напомнивший верующим библейскую историю о поклонении медному змию, символу искусительной мудрости, и разъяснивший, что под медным змием надлежит понимать искусительное учение Маркса, привлекающее людей ложной мудростью. Елена Георгиевна подробно живописала также самую икону, ее необыкновенной свежести краски и позолоченные, поразительно тонкой работы ризы. Особенно трогательно описала Елена Георгиевна ручку богородицы.
Все это успокоительно было слушать, да и сама Елена Георгиевна со своим увядшим лицом казалась похожей на богородицу.
Выбрав время, Мартынов вместе со своими ближайшими сотрудниками — полицмейстерами Назанским, Ланиным, жандармским ротмистром Келлером — и полувзводом казаков прискакал к часовне. Все здесь было, как об этом рассказывали. Откуда-то из-под полукруглой стены медленно струилась прозрачная водичка. В стену часовни была вделана икона. Люди вереницей шли мимо нее, прикладывались к ее ризам, некоторые смачивали струящейся водой свои глаза, другие омывали уши, черпали пригоршнями и, перекрестившись, пили. Из часовни доносилось торопливое: «Господи, помилуй, господи, помилуй…» — там непрерывно шла служба. Слышно было кряхтенье, кашель… Мартынове неудовольствием заметил, что молодежи не видно, все больше старики. Народ расступился, пропуская начальство. Мартынов соскочил с коня и, взяв фуражку «на молитву», подошел к иконе. Мартынов умел молиться. Он, шепча молитву пресвятой богородице, торжественно сотворил широкое крестное знамение, потом опустился на оба колена и ощутил под ногами песок. Чувствуя, что к горлу подступает блаженная молитвенная истома, он потянулся к белой с розоватыми пальчиками, действительно очень искусно выписанной ручке богородицы — и вдруг прочел размашистую, но вполне отчетливую надпись, сделанную чем-то острым и красным по руке богородицы: «Долой царя, бей фараонов!»
Мартынов вскочил.
— Подать сюда попа! — крикнул он и, видя застывшие лица своих остолбеневших спутников, заорал в ярости: — Богохульство! Противоправительственная надпись!
Побежали за попом. Ротмистр Келлер уже действовал, казаки разгоняли верующих, образуя непроницаемый круг окрест часовни. Служба прекратилась. Испуганный священник, молоденький, в белесых кудряшках, путаясь в рясе и подхватив ее сбоку, по-женски, почти бежал к рассвирепевшему градоначальнику и, держась за крест, видимо уповал только на его умиротворяющую силу. Увидев надпись, он обмер, лицо почернело, носик заострился. Старухи богомолки, глядя на него издали, завыли:
Ох, пресвятая богородица! Ох, пресвятая…Священник быстро и мелко крестился, растерянно бормоча, что надписи нету, что ее, вернее, можно сейчас стереть и что написал это кто-то «из верующих».
— Из верующих? Ты еще, батюшка, глуп к тому же! — прервал его градоначальник и разразился: — Ротмистр Келлер, икону немедленно снять! Определить ее, — быстрый взгляд Мартынова окинул часовню: под самым куполом, сбоку, было окошечко, запачканное птичьим белым пометом, там ворковали голуби, — туда, на голубятню! — скомандовал Мартынов.
И икона была заперта на голубятне, а через некоторое время об этом были написаны доносы в святейший синод и министру внутренних дел.
А на следующий день от министра торговли Тимашева к градоначальнику поступил сердитый запрос: «Когда кончится стачка?» Министр сообщал бакинскому градоначальнику, что екатеринославские заводы, потребляющие свыше двенадцати миллионов пудов нефти в месяц, в случае продолжения забастовки могут остановиться. Тимашев отнюдь не был прямым начальством для Мартынова, но ведь екатеринославские заводы работали на армию… И, прочитав в газете о том, что министр торговли Тимашев с семьей поднимался на «Илье Муромце» — огромном самолете, построенном силами русских авиационных конструкторов, — Мартынов подумал: «Им там хорошо летать, а я тут…»
Гукасов, подытоживая месяц стачки, сделал в газетах краткое, состоящее почти из одних цифр заявление от имени Совета съездов. Из этого заявления следовало, что рабочие потеряли два миллиона рублей заработной платы, добыча нефти упала с тридцати девяти миллионов пудов до девяти.
Цифры эти должны были внушить рабочим, что стачка «невыгодна» прежде всего им. Одновременно в журнале «Нефтяное дело», органе Совета съездов, появилась статья, в которой нефтепромышленники хотели доказать, что при продолжающемся уменьшении спроса на нефтяное топливо они не видят никаких оснований считать настоящую забастовку более грозной, чем забастовка лета прошлого года. «Запас продуктов хотя и меньше прошлогоднего, — констатировалось в этой статье, — однако настолько достаточен, что, если бы был беспрепятственный и правильный вывоз, внутренний рынок мог бы еще и не почувствовать результатов забастовки».
Но рабочие по-иному расценивали значение забастовки, и Мартынов, чихая последнюю прокламацию стачечного комитета, невольно соглашался с доводами своих врагов, — ведь по телеграмме Тимашева он чувствовал, какой удар нанесла забастовка.
«Забастовка затянулась, — писал стачечный комитет. — При содействии полиции и подкупленных банд нефтепромышленники давно ожидали ее ликвидации. Сперва они были даже рады: она подняла цены на нефть и на их бумаги. Но длительная забастовка разрушила их планы. Запас нефтяного топлива кончается. Отовсюду несутся жалобы. Волжское судоходство в критическом положении; целый ряд промышленных предприятий на краю гибели, многие железные дороги в затруднении. Паника охватила широкие круги капиталистов, на бирже становится тревожно.
При таких условиях наша победа обеспечена, если только мы твердо будем стоять на своих боевых постах. Это знают и видят наши враги.
И что же они делают?
Градоначальник разъезжает по рабочим кварталам и то кнутом и площадной руганью, то слащавыми речами агитирует за прекращение забастовки».
Да, Мартынову больше не сиделось у себя в кабинете. Теперь, получив сообщение о новой готовящейся сходке или предстоящем обыске, где предполагалось арестовать какую-нибудь группу забастовщиков, он спешил туда. Он и угрожал забастовщикам и уговаривал их. Он чувствовал, что в Питере, в Тифлисе им недовольны, и ему становилось жалко себя. Морщась, он поглаживал затылок, а обезьяна, передразнивая его, гримасничала, собирая лицо в морщинки, и Петр Иванович раздраженно кричал на свою любимицу: «Пошла вон, тварь!» Забравшись на шкаф, где чинно стоял «Свод законов», обезьяна сердито пищала, стрекотала и бросала в него ореховой скорлупой, которую хранила в защечных мешочках, а он, задыхаясь от жары, пил из стакана, где было больше вина, чем боржома.
Из Петербурга, из Москвы, из многих других городов направлялись деньги в забастовочный фонд. «Рабочая Россия заговорила в пользу нас и с замиранием сердца ожидает развязки начатой нами грандиозной борьбы», — заявлял в своей последней прокламации забастовочный комитет. И приходилось признать: забастовщики правы! В «Правде» печатали отчеты о поступлениях с заводов и фабрик и от отдельных лиц, помеченных инициалами. Мартынов издал приказ о конфискации сумм, предназначенных бастующим. Но суммы в фонд забастовки продолжали поступать. Агентура доносила, что у забастовщиков уже собралось до трехсот тысяч рублей, а проследить, как и к кому поступают деньги в Баку, было невозможно: промышленные и коммерческие операции шли не только через почтамт, но также через посредство банкирских контор и всяческих кредитных организаций и фирм. Охранка доносила, что деньги поступали из Тифлиса, из Эривани, из Батума, но донесения эти по большей части сообщали о денежных суммах уже после того, как они вносились в забастовочный фонд. Правда, через агентурную сеть удалось установить, что в Пятигорске, у железнодорожного служащего Бурбы, находились деньги, собранные для забастовщиков среди рабочих и служащих железной дороги и среди населения окрестных станиц и даже горных аулов. Упомянутый Бурба был арестован. Только спустя несколько дней бакинская агентура донесла, что эти деньги в забастовочный фонд привез с Северного Кавказа некий Науруз, черкес из Веселоречья, и передал через своего земляка Алыма Мидова, рабочего промыслов фирмы «Братья Сеидовы». Был арестован Мидов, уже ранее замеченный охранкой как один из активистов большевистской подпольной организации, но обыск у него ничего не обнаружил, а сам Мидов все отрицал: и связь с подпольной организацией большевиков, и связь с забастовочным комитетом, и даже знакомство с Наурузом, не говоря уже о поступивших к нему деньгах.
Когда арестовали Алыма Мидова, Мартынов приехал в Балаханский полицейский участок. Алым стоял перед ним, смуглый, прямой, на его продолговатом лице было выражение упрямства. Со связанными руками, он казался особенно высоким. На все вопросы Алым отвечал: «Не знаем». Это во множественном числе «не знаем» (Алым недостаточно владел русским языком) прозвучало особенно дерзко. Мартынов налетел на связанного врага и, вкладывая в свой кулак ненависть к этому непонятно стойкому и измучившему его за месяц забастовки противнику, с наслаждением ударил по лицу. Алым упал, но тут же вскочил. Полицейские кинулись на него, и началась расправа…
3
В ту ночь, когда происходило избиение Алыма Мидова, Вера Илларионовна, предварительно попросив Люду потушить свет, привела к ней в комнату женщину в темном покрывале, по-мусульмански скрывавшем ее лицо и плечи.
— Постойте у окна, понаблюдайте, не покажется ли кто со стороны города, — попросила Люду Вера Илларионовна.
Светила полная луна. Обе женщины опустились прямо на пол, покрытый блестящим линолеумом, на котором лежал светлый квадрат окна. В этом месте комнаты было светло, как днем. Женщина из-под покрывала доставала деньги, пачку за пачкой, а Вера Илларионовна тут же пересчитывала их и записывала, громко шепча цифру за цифрой.
Стоя у окна и слушая этот горячий, страстный шепот, Люда следила за печальной желто-бурой апшеронской пустыней, прорезанной белыми дорогами. Угловатые силуэты вышек и их неподвижные тени на земле подчеркивали печальную пустынность. Никого не видно на безлюдных дорогах, словно все вымерло и земля опустела. И только за спиной слышен горячечно-страстный шепот:
— Восемьдесят три… восемьдесят восемь… девяносто восемь, девяносто девять… сто… Последняя сотня… Ну, а теперь пересчитаем сотни, Гоярчин… Раз, два, три, четыре… — она быстро считала, откладывала тысячи и наконец торжествующе, почти в полный голос сказала: — Две тысячи четыреста… Молодец, Гоярчин… Ну, а как девочка?
— А чего девочка! Сын мой нет. Навсегда ушла… Куда ушла?
— Ничего, еще будет у тебя сынок. А ты девочку береги, ее Алым очень любит, непременно сбереги.
— Вернется Алым? — спросила женщина.
— Вернется! — уверенно сказала Вера Илларионовна. — Человек он твердый, ни в чем не признается. Деньги не нашли. Они — вот они! Ты молодец, хорошо спрятала.
— Науруз принес, сразу спрятала, — усмехнувшись, сказала Гоярчин.
— Ну вот, с Наурузом Алыма не видели. Науруза не поймали, а если поймают, он не выдаст.
— Нет, не выдаст, — подтвердила Гоярчин. — Науруз — орлиное сердце. Спасибо тебе, я пойду. Русское слово — доброе слово. Маня Жердина ко мне ходит, много говорит, слова не понимаю, а они такие, как у тебя… — Она, затруднившись, сказала что-то по-азербайджански и добавила по-русски: — Доброе слово.
— Ладно, ладно, — ласково говорила Вера Илларионовна.
— Потом вдруг Гоярчин вынула что-то из-за пазухи и протянула Людмиле. Это была маленькая красная, вышитая золотыми плодами и зелеными листочками тюбетеечка.
— Мой сынок не будет носить, твой пусть носит, возьми, — сказала она, — возьми, добрая ханум.
Пригнувшись и поцеловав Людмилу в плечо, она темной тенью выскользнула из комнаты.
— Сын у нее умер, такого же возраста, как наш Аскер, — рассказывала Вера Илларионовна. — Сгорел за двое суток — диспепсия. Оставила она его на маленькую девочку, ну, а та недоглядела. А она к мужу ходила, мужа в тюрьму забрали. Столько горя на одну голову, — тихо рассказывала Вера Илларионовна, пряча деньги в тюфяк и тут же быстро зашивая его. — Арестовали мужа ее, прекрасный человек, надежный товарищ! Через его посредство к нам поступали деньги, собранные для нас в ваших краях, на Северном Кавказе.
— Может быть, тут и папы моего деньги есть. А Науруз… Я это имя слыхала у нас.
— Я его не видала, но люди, которые знают его, очень хвалят… Да, так и живем. Что у нас есть? Преданность, верность, неустрашимость. А у врагов наших — нагайки, пули, винтовки, пушки.
— И нам надо оружие взять, — сказала Люда.
Вера Илларионовна усмехнулась.
— Ничего, девочка, придет время, и у нас дело дойдет до винтовок! — воинственно сказала она.
А на следующий день Вера Илларионовна привела в комнату Люды крупного, мешковато одетого человека. Его бережные и ловкие, какие-то округленные движения, с которыми он пересчитывал деньги, и его доброе лицо сразу вызывали доверие. Это был Мамед Мамедьяров, он ведал денежной кассой забастовочного комитета.
— Петербург, Тифлис, Москва, Эривань, Ростов, теперь Северный Кавказ — отовсюду руки братьев протянулись, — воодушевленно говорил он, торопливо пересчитывая пачки с деньгами.
Потом неожиданно подошел к Людмиле и погладил ее по голове своей огромной ладонью.
— Спасибо тебе за нашего сына. Будешь теперь навсегда сестрой нашей, девушка.
Он ушел, и Люда так и не узнала, что несколько месяцев назад Мамед в Тифлисе виделся с Константином.
Спустя несколько дней к больнице подъехала вереница медлительных арб. Рога буйволов, незатейливая сбруя и самые арбы были украшены розами. Оказывается, это из соседних деревень привезли для больных детей первый, ранний виноград — мелкий, но необычайно сладкий.
— Люда, они хотят вас видеть, — сказала Вера Илларионовна.
Когда Люда с Аскером на руках подошла к окну, ей снизу мужчины махали белыми войлочными шляпами, женщины — пестрыми платками.
— Ай, джан, русский ханум! — кричали они Люде в окно. С этого дня Аскер и другие больные дети каждый день получали виноград.
Глава шестая
1
Первое, что бросилось в глаза Константину в Баку, когда он ехал на извозчике с вокзала в город, были расклеенные повсюду извещения. Крупными буквами в них сообщалось, что город Баку с промысловым районом объявляется на военном положении, далее следовали более мелким шрифтом параграфы постановления. Внимание Константина привлекла киноафиша со зловещим названием «Чума в Тюркенде». О том, что чума угрожала Баку и что эта угроза ускорила объявление стачки, он знал хорошо. Но ему не пришло в голову, что эта крикливая киноафиша имела отношение к той реальной угрозе, которая одно время нависла над Баку. А о том, что с чумой как-то связана Людмила, он даже и предположить не мог.
Остановившись в гостинице, он отдал для прописки паспорт на имя Константина Андреевича Петровского, дворянина Уфимской губернии. Горный инженер, представитель солидной уральской фирмы, Константин Андреевич Петровский, составив у себя в номере два стола, разложил на них образцы изделий фирмы. Здесь были всевозможных видов и размеров долота, фрезы и коронки, в наконечниках которых при ярком южном солнце сверкали мельчайшие алмазы. Специальность эта была избрана Константином потому, что она давала возможность, не вызывая никаких подозрений, посещать все промысловые районы Баку.
Обедая, Константин выбрал себе место в глубине, поближе к дверям, ведшим на кухню и на задний двор. Среди официантов имелся надежный товарищ, и в случае чего с его помощью всегда можно было выйти из гостиницы в город другим ходом — через двор и соединяющиеся один с другим подвалы. Константин, конечно, подозревал, что о нем, как о всех проживающих в гостинице, уже послали запрос в главную контору фирмы, в город Златоуст. Но оттуда должен был прийти ответ, в полной мере удостоверяющий личность К. А. Петровского и его полномочия, — управляющим там работал свой, партийный человек. Константин, казалось, мог бы быть спокоен, но все же, занимая место за столиком, он садился лицом к двери. И однажды за обедом, когда в дверях ресторана, освещенных ярким солнцем, он увидел худощавую, с покатыми плечами фигуру в светлом в полоску костюме, сшитом по-столичному, первым побуждением его было сейчас же незаметно скользнуть в кухонный выход и уйти. Он не помнил, откуда знает этого человека с маленьким лицом, длинным узкогубым ртом и в пенсне на коротеньком носике, но с человеком этим было связано что-то неприятное. Это был сигнал опасности, поданный откуда-то из глубины памяти. Но поддаваться каждому сигналу опасности — значило превратиться в труса, паникера. Нужно проверить, что за опасность, узнать, кто этот человек, который, кстати сказать, поглощенный выбором столика, не обращал на Константина никакого внимания. Так как около окна человеку показалось жарко, он отошел в глубь зала и уже сел было, но, взглянув на скатерть в пятнах, брезгливо сморщил свой коротенький нос и пересел за другой стол, совсем неподалеку от Константина. Сразу же он потребовал себе водки и, почти не закусывая, жадно выпил три рюмки, одну за другой. Потом, заказав обед, погрузился в газеты. Он по-прежнему ни на кого не обращал внимания, и Константин уже без всякой опаски рассматривал вошедшего. Где он встречал этого человека? Очевидно, не следовало так внимательно смотреть на него, человек обладал нервической натурой: почувствовав на себе чужой взгляд, он вдруг резко отвел газету и, поправив пенсне, с вызовом взглянул на Константина. Он узнал Константина. Улыбаясь во весь большой, тонкогубый рот, человек быстро пересел за столик Константина и протянул ему руку.
— Швестров, — сказал он. — Вы меня не знаете, а я вас знаю. — Только в смешке, коротеньком и расслабленном, сопровождавшем эти слова, чувствовалось опьянение. Глаза из-за пенсне вполне трезво, с интересом рассматривали Константина.
Константин пожал его холодные, цепкие пальцы.
— Кажется, я вас тоже знаю, — сказал он. — Видел, но где — никак не припомню.
— Я вам сейчас помогу припомнить. Всего месяца два назад совещание на квартире у Горького — помните? Вы на этом совещании выступали, а я, как полагается скромному москвичу, которому посчастливилось попасть в питерский политический салон, помалкивал.
«Не очень-то помалкивал, — подумал Константин. — Ты мне реплики подавал, да и не только мне». По Константин решил промолчать. А собеседник продолжал:
— Да, горячий разговор получился. Но нашему знаменитому хозяину похоже что именно эта-то горячность и понравилась… Практически как, удастся Горькому осуществить задуманный им журнал?
— Думаю, что удастся, если только он откинет некоторые иллюзии по поводу чрезмерно широкого объединения сотрудников разных направлений, — ответил Константин.
— А вы хотели бы совсем без объединения, только чтобы одни большевики? — быстро спросил его новый знакомый. Злость на мгновение мелькнула в этом вопросе.
Константин вспомнил это же выражение ненависти на лице Швестрова тогда у Горького. Швестров сидел на мягком низком диване и, когда Константин говорил, подал такую же злую реплику — снизу, сбоку…
— Нет, я не хочу возобновлять старого спора, — быстро сказал Швестров. — За несколько месяцев, которые прошли с тогдашней нашей встречи, произошли такие события… Я много раз вспоминал ваше выступление. И, пожалуй, ваш прогноз насчет того, что революционная волна нарастает, оправдывается, и — что уж тут говорить — приходится признать, что у горнила разгорающейся революции стоите только вы, сторонники Ленина. Конечно, и здесь, в Баку, вы не случайно присутствуете.
— Я представитель фирмы, производящей буровой инструмент, точнее сказать — всевозможные сверхпрочные наконечники буров… Константин Андреевич Петровский, ваш покорный слуга, — шутливо поклонившись, сказал Константин.
— Николай Андреевич Швестров, прошу любить и жаловать, — в тон ответил собеседник. — Ну, а я представитель Кооперативного банка… Сюда подавай, дура! — грубо сказал он официанту, который подошел к тому столу, откуда ушел Швестров. — И водку сюда.
Швестров налил по рюмочке себе и Константину, чокнулся с ним и сказал, понижая голос:
— И оба мы при этом социал-демократы и, занимаясь делами, являемся лазутчиками в стане врагов, — не правда ли?
— Конечно, вам, как представителю столь влиятельного банка, должно быть открыто многое, — сказал Константин.
— О да, очень многое! — с готовностью ответил Швестров. — Бакинские капиталисты переживают остро-кризисный момент. Потому, должен вам сказать, некоторые фирмы в результате этой забастовки стоят накануне банкротства.
— Интересно, — сказал Константин. — А мне показалось, что они более уверены в себе и спокойны, чем начальство, как бакинское, так и всероссийское… Во всяком случае, такие солидные фирмы, как Рамазанов, «Электрическая сила», «Мазут», русское товарищество «Нефть», заключили с нами сделки. Рамазанов даже берется быть нашим постоянным представителем в Баку.
— Талантливый человек этот Рамазанов, а? — щурясь, сказал Швестров. — Подумать только, самоучка из рабочих… Восхищаюсь такими людьми.
— Злейший враг рабочего класса и хищник, каких мало, — ответил Константин. — Известно ли вам, что он один из подстрекателей резни между армянами и мусульманами? Сам он, конечно, не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай… Но оставим его. Меня заинтересовало ваше замечание о кризисных явлениях, ведь вы через посредство банка соприкасаетесь с экономикой нефтепромыслов.
— Именно, — переставая есть и даже отодвинув прибор, сказал. Швестров. — Если хотите знать, я и прислан сюда по поводу одного из таких кризисных явлений… Ведь Манташев накануне банкротства, одной ногой уже в гробу.
Константин промолчал. Он вспомнил, точно вчера это было, толпу возле «Астории», Кокошу. И ведь Людмила где-то здесь, в Баку, со своим принцем — счастливая… Он запретил себе думать о ней и спросил:
— Но ведь дела Манташевых расстроены в результате того, что во главе фирмы оказался мот и дурак?
— А, вы, значит, знаете… Именно — мот и дурак. Но доконала-то его забастовка. Однако Манташев входит в Русскую генеральную нефтяную корпорацию, которая объединяет таких китов, как русское товарищество «Нефть», с которым вы имели дело, Лианозов и многие другие. Крах Манташева не может не покачнуть финансового положения таких двух левиафанов, как «Нефть» и Лианозов, не говоря о двух десятках более мелких фирм.
— Но ведь вы являетесь представителем Кооперативного банка, если я не ослышался? — спросил Константин. — Так какое отношение…
— К судьбе Манташева? — быстро переспросил Швестров. — Самое непосредственное. Наш банк кредитовал Манташева в его операциях на внутреннем рынке, которые он вел через посредство сети наших потребительских обществ. Разве мы можем дать ему погибнуть? Мы не только должны спасти, мы должны его воскресить, если он даже скончался.
Константин вдруг весело засмеялся и сказал:
— Вы меня простите, но наш разговор напомнил мне сказку, которую рассказывал один веселый человек — горец, спутник моих скитаний по Кавказу. Суровая зима застала четырех зверей — медведя, волка, лису и верблюда — глубоко в горах, в бесплодной долине, откуда в продолжение двух зимних месяцев не было выхода. Как быть? И лиса тут сказала медведю и волку, что, для того чтобы перезимовать, им, трем хищникам, нужно съесть четвертого своего спутника — верблюда. «Но нам с ним не справиться, — возразил волк. — Хотя он и питается травой, но мы сейчас ослабели от голода, и он сильнее нас троих, вместе взятых». — «Силой с ним не справиться, — сказала лиса, — но я его уговорю, чтобы он добром дал себя зарезать». Волк и медведь, конечно, согласились. Лиса пошла к верблюду и сказала: «Братец верблюд, сможешь ли ты два суровых месяца просуществовать без корма?» — «Нет, — сказал верблюд, — два месяца без корма я прожить не смогу, я подохну». — «Ты подохнешь в страданиях и мучениях, — сказала лисица, — а я предлагаю тебе сейчас быструю и легкую смерть всего на два месяца, и через два месяца я тебя воскрешу». — «Разве ты умеешь воскрешать?» — спросил верблюд. «Кто может быстро лишить жизни, тот может и воскресить так же быстро», — ответила лиса. Верблюда это убедило, и он дал себя зарезать. Вот три хищника сели за стол, попировали мясом верблюда. И вдруг медведь увидел, что волк берет себе голову верблюда, и рассердился. «Или я не старший за столом? — спросил он грозно. — Известно, что голова — вместилище мозга, а мозги полагаются старшему». — «О старший наш! Ты прав, как всегда, — быстро ответила лисица, — но если верблюд поверил, что я его убью, а потом воскрешу, то разве не значит это, что у него в голове нет мозга?» Вот и думается мне, что так же и Манташеву помогут компаньоны его. Верно? — смеясь, спросил Константин.
— То есть если учесть известное перераспределение пакетов акций, — неохотно сказал Швестров. — Ведь знаете, когда акции Манташева летели вниз, единственным способом задержать это падение было скупить акции. Как видите, нами руководит отнюдь не стремление пообедать мясом Манташева, мы действительно стремимся его воскресить.
— Путем перераспределения акций? — весело спросил Константин.
— Пожалуй, — с принужденным смешком сказал Швестров. Басня, рассказанная Константином, показалась ему грубой…
Они расплатились и попрощались вполне по-приятельски, Константин легко и бодро, точно в нем не было веса, взбежал на лестницу. Швестров, стоя внизу, позавидовал ему. Влечение и зависть чувствовал он к этому человеку, сильному, веселому и, конечно, целиком преданному своим делам — революционным делам, к которым он его, Швестрова, никогда не подпустит.
Швестров за время пребывания в Баку встречался с некоторыми бакинскими меньшевиками. «Что ж, бастуем, — сказал один из них, молодой инженер с электростанции. — Мы с самого начала были против всеобщей забастовки. Частичные забастовки гарантировали бы успех рабочим, не нарушая нормальных условий производства. Мы убеждены, что к экономическим требованиям не следовало прихлестывать общеполитические: о свержении самодержавия и о республике. Считаем, что электростанциям и всяческого рода устройствам по перегонке нефти бастовать не следовало, а все же бастуем, потому что все рабочие идут за ленинцами, и если мы хоть пикнем против — потеряем последних сторонников среди рабочих».
«Да, сила, — думал Швестров. — А сила есть сила, дорогие товарищи», — мысленно обращался он к бакинским меньшевикам и мысленно себя отделял от них.
* * *
Когда Швестров из затененной большими домами улицы вышел на зной приморского бульвара, внимание его привлекло большое объявление, наклеенное на круглой дощатой вертушке, предназначенной для афиш. Это было широковещательное объявление Джунковского, прибывшего в Баку.
То ли из-за водки, выпитой за обедом, то ли из-за того, что оно наклеено было на круглой поверхности, но читать его было затруднительно. «… Ввиду исключительного значения добычи нефти для хозяйственной жизни России… остановили на себе высокое внимание нашего державного повелителя, государя императора; его императорскому величеству благоугодно было повелеть мне, как лицу, имеющему счастье состоять в государевой свите, по ознакомлении на месте с состоянием Бакинского промышленного района, принимать все должные меры к немедленному восстановлению нарушенного общественного порядка…»
— Ну-ка, попробуйте, восстановите, — не без пьяного злорадства сказал Швестров и тут же испугался, оглянулся: ему показалось, что кто-то стоит рядом… Но не было никого. Только косая тень его лежала на пестрой афише, которая в таких же широковещательных выражениях, как объявление Джунковского, сообщала о прибытии в Баку труппы дрессированных мышей арабского шейха Эль-Мамуна.
Оливковое лицо Эль-Мамуна глядело прямо на Швестрова, черные губы улыбались ему ласково-поощрительно…
Швестров быстро огляделся. С противоположного угла за ним наблюдал полицейский, заживо зажаренный в своем зеленом с ослепительными пуговицами мундире. Его отделанное рыжими усиками лицо было красно и блестело от пота.
Швестров быстро перешел улицу и побрел по жиденькому, почти не дающему тени приморскому бульвару, где ноги вязли в песке. Он щурился, глядя на море, сверкающее тысячами отраженных солнц. Зной усиливал хмель, хмель повышал Швестрова в собственном мнении. Если последний год представлялся ему непрерывной лестницей восхождения, то поручение, данное Гинцбургом при отъезде в Баку, заставило Швестрова, который знал за собой достаточно скверных и грязных дел, относиться к себе с особенным уважением.
— Знаю ли я Рамазанова? — бормотал он. — Как же мне не знать, когда я лично им был принят в его дворце и сама Лиза-ханум сыграла специально для меня на рояле какое-то тюрлюлю, что-то вроде тюрлюлю было и на ее плечах, и за столом подавали какие-то тюрлюлю. А потом состоялся тайный разговор у господина Рамазанова в кабинете, где присутствовал некий английский рыжий джентльмен. Уж не он ли, надев черный парик, показывает в цирке дрессированных мышей?..
Швестров остановился и пригрозил себе пальцем:
— Но, но, Колька, помалкивай, в этом деле ты не больше мизинчика. Но и без мизинчика нельзя. Мизинчиком манят, когда хотят поманить незаметно. И если господину ван Андрихему нужны стали Тагиевы, Сеидовы, Асадуллаевы и есть необходимость приманить их поближе в «Роял Деч Шелл», то как тут обойдешься без мизинчика? Рувима не пошлешь. Рувим — персона, перст указующий. Одно его появление в Баку тут же отразится на биржевом бюллетене. К тому же у Рувима старая дружба с Гукасовыми, Достоковыми, Лианозовыми, Манташевыми, они за Рувимом будут глядеть во все глаза. Но, между прочим, Рувим-то и с Рамазановым, оказывается, первый друг, и господин ван Андрихем передает господину Рамазанову привет. Через кого привет? Все через Кольку Швестрова. Ничего, господа любезные, не беспокойтесь. Все эти дела будут обделаны в лучшем виде… А если хотите официально — так о чем разговор шел? О покупке из-за границы бурового оборудования для Майкопской кредитной кооперации. Пусть наши кооператоры побурят, побалуются… А почему им на это баловство денежки дают из Сити, об этом, может быть, только шейх Эль-Мамун знает, об этом, Коля, если ты и догадываешься, — молчок, ни гугу.
Так он, пьяненький, грозя себе самому и бормоча под нос, прошел по бульвару, почти безлюдному, свернул в боковую улицу и вступил в полутемную прихожую дома Совета съездов. Здесь было прохладно, и он глубоко, с облегчением вздохнул. Взглянув на часы и отметив, что пришел слишком рано, Швестров обрадовался. Немало стараний приложил он к тому, чтобы попасть на это совещание, и тем более ему не хотелось показываться здесь под хмельком. Он присел на длинную, обшарпанную скамью, поставленную для кучеров, и закурил папиросу, зная, что это отрезвит его. Он курил и при рассеянном свете, падающем сверху, с лестницы, узнавал некоторых из проходивших мимо него людей. Его же на темной скамье, стоявшей в полусвете, трудно было различить. Мимо него проходили владельцы промыслов и заводов, порою ненавидящие друг друга, такие, как Рамазанов и Гукасов, либерал Бенкендорф и черносотенец Шибаев, директора-управляющие таких соперничающих мировых фирм, как Ротшильд и Нобель. Прошел сухонький, с накрашенной бородой старик Муса Нагиев, который опирался на руку молоденького Мадата Сеидова, первый раз попавшего на такое совещание и беспокойно оглядывавшегося. Почувствовав, что папироса если не прогнала хмель, то помогла взять себя в руки, Швестров расческой приподнял свой задорный столичный хохолок, оправил перед зеркалом воротник и манишку, передал угодливому гардеробщику свою твердую с синей лентой соломенную шляпу и по лестнице поднялся наверх…
2
Совещание происходило в зале заседаний Совета съездов, который, несмотря на лепной потолок и разрисованные стены, производил неряшливый вид из-за каких-то окрашенных в грубые цвета дешевых шкафов, стоящих вдоль стен, и ящиков с таблицами, громоздившихся на подоконниках.
Сейчас стулья и столы были расставлены в порядке. Две зеленые суконные дороги протянулись по столам из одного конца зала в другой. Там, где они кончались, под огромным поясным портретом Александра III, стояло еще два стола, покрытых красным сукном. Один был пуст, за другим сидел Гукасов, неподвижный, точно каменный. Характерная горбатенькая фигурка управляющего делами Совета съездов Достокова в щеголеватой черной паре порою появлялась возле Гукасова, нашептывала ему что-то, и Гукасов кивал своим каменным подбородком.
Далеко не все занимали места возле столов. Около открытого окна сел Гаджи Тагиев в синем, прекрасно сшитом костюме, на котором внушительно сияли ордена и ленты. Его красивая борода, крупный нос и маленькая тюбетейка на большом лысом черепе привлекали общее внимание. Около него группировались мусульмане: весь в черном, тихо перебиравший четки Муса Нагиев; ухмыляющийся своим разбойничьим лицом Рамазанов; Асадуллаев, похожий на злую гладкошерстую маленькую собачку, и молодой Сеидов, беспокойно озирающий зал колючими глазами.
Все присутствующие с интересом и некоторой опаской поглядывали на крупного, в желтой шелковой косоворотке, молодого Шибаева, который сел с другой стороны зала в первом ряду. Его большие навыкате синие глаза, как всегда, нагло и насмешливо оглядывали зал. Он недавно устроил в ресторане гостиницы «Националь» кутеж, закончившийся отвратительным скандалом: голые шансонетки с визгом выскакивали на улицу. Однако «истинно русский» кутила Шибаев и «высоконравственный» либерал-пуританин Бенкендорф, оба люди довольно заметные и враждующие друг с другом, в одинаковой степени зависели от того могучего англо-голландского треста «Шелл компани», который недавно прибрал к своим рукам общество «Мазут» и сильно теснил могущественного Нобеля. Нобель не сдавался, и «Шелл компани» добился того, что «Мазут» разорвал соглашение с Нобелем, выгодное обеим фирмам, так как благодаря этому соглашению им удалось на некоторое время устранить между собой конкуренцию по всему нефтяному рынку Российской империи. И Швестрову вспомнилась вдруг сказка, услышанная от Константина. Внешне все выглядело мирно: по-прежнему висели на воротах фирм и заводов вывески с русским двуглавым орлом, те же инженеры работали на промыслах, сохранялись даже прежние управляющие. Но пакеты акций, определявшие собственность предприятий, переходили из одних рук в другие. Да, конечно, здесь происходило поедание живьем, лучше не скажешь.
Вдруг все в зале пришло в движение. Люди вставали и оборачивались туда, к дверям, откуда хлынули мундиры, погоны, зализанные головы, бакенбарды с усами и бакенбарды вокруг голых ртов. Впереди всех, чуть опережая Мартынова, шел Джунковский. Темно-зеленый, полицейского цвета, мундир Мартынова топорщился, и казалось, что шитый золотом воротник теснил снизу его сизое лицо со слепо блестящими стеклами. Рядом с ним Джунковский в своем синем мундире, с желтой атласной лентой через плечо и жирно-золотыми эполетами, легко, словно на цыпочках, несущий упитанное тело, казался по-цирковому грациозен — в нем была легкость выбегающей на цирковую арену канатной плясуньи. Поворачивая ко всем свое в меру румяное лицо, он улыбался: быстро ставил на лицо и тут же убирал улыбку, изгибались красные губы, сверкали белые зубы, и при этом эполеты, аксельбанты, желтая, отсвечивающая муаром лента — все это тоже дрожало, играло на солнце, переливалось и улыбалось. Были все признаки улыбки, а улыбки не было.
Джунковский пригнулся к низенькому, коротконогому Гукасову, вставшему перед генералом, и, пожав ему руку, спросил о чем-то. Затем, уперев в стол свои небольшие руки, на которых сверкало несколько перстней, и окинув зал темными и быстрыми глазами, генерал сказал голосом мягким и сильным — с такой особенной звонкостью, какая бывает у людей, следящих за своим голосом, у дьяков и певчих:
— Господа, прошу садиться.
Он говорил и вертел в руках пенсне, которое достал из внутреннего кармана. Яркие зайчики от стекол пенсне порою вдруг начинали прыгать по расписанным стенам, вырывая из полутьмы этого обширного и низкого зала или позолоту, или киноварь, или бирюзу…
Употребление пенсне для целей, никакого отношения к прямому назначению этого инструмента не имеющих, стало в то время модой среди высшего чиновничества. Срывание пенсне с носа и водружение его на место, строгий взгляд сквозь стекла, прищуривание глаз с выражением игривости… были тысячи оттенков, придававших речи, порою начисто лишенной содержания, какое-то мнимое значение. Джунковский в этой игре с пенсне был виртуозом, как, впрочем, в применении на государственном поприще и многих других своих способностей.
Он говорил легко, без усилия, иногда внушительно, а иногда сокрушенно разводя руками, глаза его то расширялись, как бы выражая крайний предел недоумения, то щурились, и тогда темные брови сходились у переносицы, а глаза превращались в узкие продолговатые щелки. Выразив от имени государя императора недовольство поведением господ нефтепромышленников, он вдруг заявил, что «труд рабочего на промыслах вообще, в особенности для лиц, не привыкших к климату Бакинской губернии, действительно должен быть признан исключительно тяжелым, и следует признать, что воздух, насыщенный запахом нефти, и недостаток воды лишают промысловых рабочих тех элементарных удобств, коими пользуются лица, занятые в других промышленных предприятиях». И Джунковский прямо обвинил нефтепромышленников в «промышленной катастрофе», как он назвал стачку.
Однако все эти обвинения, как мяч от стенки, отскакивают от Гукасова. Словесные мячи, пущенные генералом, летели один за другим, но лицо Гукасова оставалось неподвижно-каменным. А на болезненно-бледном лице Достокова появилась усмешка, явно пренебрежительная. Эту усмешку видели все присутствующие.
И вдруг волна гула и оживления сразу прошла по залу. На каменном лице Гукасова появилось выражение смущения. Дернулся и Достоков, вскочил с места и даже издал какой-то странный горловой звук.
Сняв пенсне, щурясь и играя им так, что ослепительный солнечный зайчик заметался по стенам, Джунковский обратился к Гукасову:
— Почему деньги, следуемые в расчет бастующим рабочим, не вносятся в депозиты судебных учреждений?
Гукасов со странным для его каменного лица выражением замешательства оглянулся на Достокова.
— Правильно спрашиваете, ваше превосходительство, — громко сказал вдруг Шибаев.
Гул оживления шел по залу. Бенкендорф сложил руки ладонь на ладонь и шептал что-то бритыми своими губами — это была странная молитвенная поза. Старый Тагиев пальцем подозвал своего управляющего и о чем-то спросил его. Мартынов кинул на Джунковского недоумевающий и злой взгляд — он тоже не понимал смысла вопроса, заданного шефом жандармов. Тогда Джунковский задал второй вопрос:
— Почему, если не считать Шибаевых, и Асадуллаева, и еще несколько мелких фирм, вы, господа нефтепромышленники, объявив расчет бастующим, не объявили вместе с тем о найме новых рабочих?
Гул оживленного говора в зале становился все сильнее. Мартынов звякнул колокольчиком.
— Людей жалко, — негромко, но внушительно сказал Тагиев по-русски и потом, обернувшись всем своим большим телом к худощавому Асадуллаеву в черной барашковой шапочке, сердито сказал ему что-то по-азербайджански.
— Уважаемый Гаджи Тагиев прав, — сказал Достоков, вскакивая и быстро поворачиваясь во все стороны своей маленькой и угловатой фигуркой, — соображения гуманности руководили нами.
Джунковский махнул рукой и засмеялся, и тут же смех пошел по собранию. Достоков сразу исчез — так сдергивают вниз фигуру марионетки. Но поднялся Гукасов. Все сразу смолкло.
— Вы спрашиваете, ваше превосходительство, почему мы не вносим денег в депозит суда? — проговорил Гукасов и всем телом повернулся к Джунковскому. — Мы этого не делаем потому, что считаем подобную меру самой крайней… Мы убеждены, что голод и подобные меры сломят забастовку… — звучали в тишине зала Медные слова Гукасова. — Но после окончания забастовки, наголодавшись, рабочие, конечно, спросят свои деньги, и мы должны будем им дать денег, и не во имя гуманных стремлений, а прежде всего в интересах облегчения возобновления работ. Получить деньги из депозита банка рабочим будет крайне трудно, так как из сорока с лишним тысяч человек бастующих половина по крайней мере неграмотные. И тогда неизбежно дальнейшее ухудшение настроения рабочих и обострение отношений с промышленниками.
— Значит, боитесь рабочих и оставляете себе лазейку, чтобы с ними сговориться? — с торжеством спросил Джунковский.
— Оставляем, — ответил Гукасов.
Джунковский удовлетворенно кивнул головой. «Вот как, значит боятся!» — подумал Швестров. Его поразил вывод, сделанный всероссийским жандармом.
Слово взял представитель общества «Электросила» Вильбур, худощавый, спортивного вида человек с тускло-белыми, обесцвеченными волосами, разделенными на прямой пробор.
— Наше предприятие, одно из самых крупных в России, в настоящее время снабжает энергией, помимо освещения, почти половину всех бакинских нефтяных промыслов, — говорил он. — Наше предприятие, существующее около двенадцати лет, находится все время в периоде непрерывного развития и расширения. Вашему превосходительству хорошо известна сложность наших устройств. Таким образом, нам приходится соединять идущую усиленными темпами эксплуатацию существующих электростанций с интенсивным строительством новых и с постоянным расширением сети электрод передач. Чтобы выполнять подобную двойную работу беспрепятственно, необходимо располагать весьма и весьма опытными рабочими, которые прошли с самого начала все детали такой работы. Такой рабочий персонал мы в течение двенадцати лет создали в Баку и только ему можем доверить теперь наши многомиллионные сооружения, а также обслуживание по снабжению электричеством нефтяных промыслов…
Если сейчас мы с помощью временного и постороннего персонала все ж, хотя и с большими перебоями, работаем, то исключительно потому, что мы не производим нормального отпуска энергии, и, кроме того, мы приостановили все работы по расширению. Все! — сказал Вильбур, сделав энергичный жест рукой слева направо, словно отрубая. И по тому, как он произнес это слово, вдруг стало ясно, что он иностранец: он сказал не «все», а «всэ».
— То есть вы требуете, чтобы мы оставили в покое бунтовщиков, прекративших свет в городе, в ущерб городскому хозяйству, в ущерб общественной и государственной безопасности? — резко и визгливо спросил Мартынов, встав со своего места.
— Мы ничего не требуем, мы поясняем их превосходительству наше положение, — однотонно ответил Вильбур. — Наша промышленность требует специализации рабочих, поэтому известная связь между рабочими и промышленниками всегда остается.
Управляющий делами Тагиева, окрашивая речь свою мягким азербайджанским акцентом, начал с того, что солидаризировался с представителем общества «Электросила».
— Я должен согласиться с достоуважаемым господином Вильбуром. Благодаря условиям нашего производства между промышленниками и рабочими существует тесная связь. Мы не имеем возможности без них обойтись, и они прекрасно это знают. Чем опытнее рабочий, тем он нам нужнее, и поэтому, раз началась забастовка, приходится лучше выжидать. Такое положение имеет и свою хорошую сторону: чем дольше длится забастовка, тем дольше потом рабочие воздерживаются от нее. У представляемой мною фирмы забастовка однажды длилась восемьдесят восемь дней, и после того рабочие не бастовали три года.
— Выходит, что вы в педагогических целях нарочно затягиваете забастовку, так я должен вас понимать? — раздраженно спросил Джунковский.
— Да, именно в педагогических, ваше превосходительство, — ответил азербайджанец. — Нужно дать рабочим урок. Надолго проучить, чтобы они сами сознали, что побеждены. Я чувствую, что вы стремитесь забастовку подавить силой, в таком случае забастовка может скоро вспыхнуть опять.
— Значит, вы тоже предполагаете сговориться с рабочими, так я вас понял? — спросил Джунковский и вдруг встал во весь рост.
Все замолкло.
— Желаете ли вы, чтобы ваши промыслы возобновили работу, или нет? — громко спросил он, обращаясь ко всему собранию. — Я слушал здесь представителей Совета съездов и вижу, что вы сами на этот прямой вопрос ответить не в состоянии.
— А каково будет мнение вашего превосходительства? — спросил Достоков, снизу вверх глядя на Джунковского, и никаких признаков иронии не было теперь в его взгляде.
— По моему мнению, сейчас нужна прямолинейность, — ответил Джунковский. — Если смотреть так, как вы смотрите, и всего опасаться, то забастовка эта может затянуться на очень долгое время. А интересы государства с этим не мирятся. Вы, господа, находитесь в тупике, потому что боитесь своих рабочих. А рабочие знают это и вами играют. В конце концов всеми своими нерешительными действиями вы ничего не добились, и мне, хотя многим из здесь присутствующих это не понравится, придется принять свои меры.
Слово в прениях взял Гукасов. После наскока Джунковского он, видно, уже пришел в себя и по-обычному самоуверенно и твердо, в тоне упрека, обратился к Джунковскому.
— Вы обвиняете нас, ваше превосходительство, в излишней осторожности и недостаточной последовательности в отношениях с рабочими, — говорил он. — Но в отношениях с такой силой, как рабочие, осторожность никогда не излишня. Мы не собираемся уступать, более того, мы уверены, что уступать придется им, потому-то мы и не хотим заранее рассчитывать рабочих. Шибаевы рассчитали своих рабочих, а чего они добились?
— Мы чего добились? — крикнул с места Шибаев. — Мы добились того, что подняли православную хоругвь в инородческом Баку и очистили наши промыслы от персидских и татарских головорезов.
— А промыслов своих все-таки в ход не пустили, — насмешливо сказал Гукасов.
— Как же мы можем пустить промыслы, когда вы, господин Гукасов, покровительствуете вашим соотечественникам, вроде Степана Шаумяна?!
— Возьмите себе нашего Степана, дайте нам вашего Ивана! — вдруг крикнул Гукасов, и серое лицо его от прилива крови приобрело бурый оттенок.
— И тому и другому покровительствует ваш управляющий делами господин Достоков, он всех революционеров на службу собрал.
Достоков промолчал, но так взглянул на Шибаева, что тот на полуслове прервал свою речь и сел.
Гукасов напился воды и возобновил свое выступление. Но вернуться к прежнему спокойному тону ему уже не удалось, и злоба чувствовалась в его голосе, когда он, повернувшись всем телом к Джунковскому, говорил:
— Осторожность и осмотрительность в таком серьезном положении подобает сохранять не только нам, но и представителям верховной власти, и было бы полезнее, если бы ваше высокопревосходительство посоветовались с нами раньше, чем опубликовать объявление к населению.
— Мое объявление? — снисходительно спросил Джунковский, но снисходительность его звучала принужденно.
— Да, — сердито подтвердил Гукасов. — Объявление ваше не содержит решительного осуждения забастовщиков, — вы берете на себя, так сказать, роль арбитра в споре.
— Я представитель верховной власти — таким должно видеть меня население любой части империи.
— Подобная позиция не приблизит нас к концу забастовки, — ответил Гукасов. — Рабочие из вашего объявления не получили полного уяснения действительного положения дел.
— Вот это верно! — крикнул с места Шибаев.
Раздались аплодисменты. Мартынов снова со злорадством взглянул на Джунковского.
Совещание с нефтепромышленниками Джунковский устроил вопреки желанию Мартынова, который вообще не любил совещаний и опасался их. За каждым из нефтепромышленников он знал не только обычные человеческие слабости и пороки, но и преступления. Порою он, получив большие деньги, покрывал эти преступления. Он презирал каждого из нефтепромышленников по отдельности, но все вместе они внушали ему смутный страх.
И сейчас, когда все они скопом поднялись против Джунковского, Мартынов торжествовал. «Как-то ты сейчас выкрутишься?» — думал он.
Шум в зале становился все громче. Вдруг Джунковский ладонью похлопал по столу, и мгновенно все стихло. Все взоры обернулись к нему.
Джунковский, даже не вставая с места, обратился к Достокову и, назвав его «господин управляющий», как если бы тот был у него на службе, в тоне назидания и раздельно, точно в классе, продиктовал следующее:
— Совещанию следует признать необходимым: первое — разработку в кратчайший срок вопроса о рабочих поселках и постепенное устройство их там, где это окажется возможным; второе — немедленно приступить к разработке вопроса о путях сообщения, имеющих цель связать рабочие поселки с промысловыми площадями и с городом; третье — принять безотлагательно надлежащие меры к приведению промысловых площадей в лучшее санитарное состояние.
Гукасов, обращаясь к собранию, развел руками. Шибаев встал с места и с раскрытым ртом и выпученными глазами олицетворял фигуру удивления. Почти в полный голос заговорили между собой по-азербайджански Тагиев и его соотечественники. То, что предлагал Джунковский, казалось бы, шло навстречу требованиям забастовщиков. Удивление усилилось, когда представитель царя предложил проголосовать эти предложения. Ни одна рука не поднялась против, хотя многие совсем не голосовали.
3
Однажды Миша, вернувшись откуда-то, стал энергично расталкивать Алешу, который под одной простыней спал голый на голых досках (для большей прохлады было снято все постельное белье).
— Да вставай же скорее!
Голос у Миши был такой серьезный и взволнованный, что Алеша сразу поднялся и сел. Теребя волосы и лицо, он спросил со сна:
— Что случилось? Лохмач деньги прислал?
— При флегматическом складе характера сохранять столь упорный оптимизм… Удивительно! Я же тебе объяснил, что наш Лохмач за это время к «Каспийским рыбакам» охладел и у него нет никаких оснований увеличивать расходы, на эту картину, кстати сказать наша кинофирма уже на неё изрядно потратилась. О Лохмаче и о деньгах из Питера забудь. Тут другое: персидский посол Мирза Реза Хан устраивает сегодня в мечети собрание подданных Персии и будет о чем-то толковать с ними.
— Не понимаю, мы-то тут при чем?
— Я знаю, что ты всегда, кроме своих химикатов и прочих законов оптики, фокусов освещения, а также шурупчиков и шайбочек, ни к чему любопытства не проявлял. А сейчас ты окончательно стал глух ко всему. Разве не существует бескорыстного интереса?
— Ладно! Существует. Идем, идем.
Когда они подошли к приземистой старой мечети в Ханской крепости, самой древней части города, маленькая площадь перед мечетью была вся запружена. Посол говорил в мечети, его пронзительный голос вылетал откуда-то из глубины старого здания и разносился по площади.
— Что он хочет? — бормотал Миша. — М-м-м, очень цветисто говорит, черт — неужто они его понимают? Удивительный народ. Вчера я слышал, как нищий на базаре скандировал Хафиза, и это при сплошной неграмотности! Вот теперь понятно… Насчет гостя, который обижает хозяина, — это, оказывается, риторическая фигура, аллегория. Гости — это он и все персидские подданные, дом царя — это Россия, хозяин — это самодержец, забастовка — это обида для хозяина… Так… Теперь о дружбе обоих шах-эн-шахов… Что это?
Голос посла, подобный однотонному звучанию струны, вдруг перебит был какой-то бойкой песенкой с подхихикивающим задорным напевом.
— Ну и ну! — сказал Миша. — Вот здорово! — и сам тоже захохотал, подмигнул и запел.
Теперь из разных концов толпы раздавалась эта песенка.
— Очень забавно то, что они поют, — говорил Миша, раскачиваясь в лад песни.
И он стал переводить:
— «В Тегеране, в Петербурге живут-поживают, так что ли, два побратима, братьями себя называют, тот дурак и этот тоже, потому их родными братьями все считают…» По-персидски это очень складно получается.
Песенка незатейливая, но ее простой, вроде «Чижика», с задорным подхихикиванием напев запоминался мгновенно.
Теперь ее пели уже несколько тысяч человек… Вдруг откуда-то выскочили казаки, черные нагайки взлетели. Толпа шарахнулась, и песня сменилась криками…
Переулки ханской крепости узки, они недостаточно быстро вбирали в себя людей. Казаки носились по площади, нагайки взлетали и опускались.
Алеша вскочил на каменную стену и протянул руку Мише, но казак успел наскочить — и рубаха Миши треснула от плеча через всю спину. Казачья нагайка оставила на теле Миши синий рубец…
— Ничего, спина заживет, — придя домой, кряхтя говорил Миша, — а памятка останется…
Алеша предложил из последних денег приобрести для Миши новую блузу, но Миша сам наложил на свою рубашку длинную, от плеча по спине, заплату кумачового цвета, точно незаживающая рана.
— Пусть уж останется хоть такая памятка о Баку, если мы не можем запечатлеть все это с помощью объектива, — говорил он. — Вот как приедем в Питер, покажу я твоей Ольге Яковлевне мою исполосованную спину, и она сразу меня полюбит, Так как ей свойственна склонность к романтике, в которой ты оказался несостоятелен.
Алеша угрюмо отмалчивался. Ольга на его короткую и невыразительную открытку так ничего и не ответила.
* * *
Разрешение на встречу персидского посла с подданными шах-эн-шаха, участвующими в забастовке, дал Джунковский. Мартынов этого разрешения никогда бы не дал, оно казалось ему затрагивающим сферу иностранной политики, которой он опасался. «На всякий случай» он спрятал поблизости от мечети, где происходила встреча, полувзвод казаков. И Джунковский после того неожиданного оборота, который приобрела встреча, поблагодарил Петра Ивановича за это предусмотрительное распоряжение. Однако песенка о царе и шахе осталась, ее теперь пели на бульваре мальчишки всех национальностей, какие только проживали в Баку, и вскоре после этого последовало распоряжение Мартынова о высылке из Баку «всех иностранных подданных, не имеющих определенных занятий».
4
По городу уже несколько дней были расклеены яркие афиши о том, что в кинотеатре «Аполло» демонстрируется кинокартина «Чума в Тюркенде», и Мартынов, проезжая по улицам, с удовлетворением видел крупными буквами набранное название картины. И в ближайшее воскресенье после приезда Джунковского Петр Иванович со всей семьей и с именитым гостем отправился в кинотеатр «Аполло». Хозяин театра, заранее оповещенный, очистил для знатных посетителей три ложи, находившиеся в самой глубине зала.
Картина уже шла шестой день, но зрительный зал был полон. Это приятно взволновало Мартынова.
Сквозь прыгающую сетку искр Мартынов вдруг в блаженном волнении различил на экране белые сады и кудрявые виноградники Тюркенда. Широкая Апшеронская равнина со своими убогими травами поплыла вокруг. Множество раз простой и обыденной видел ее въявь Мартынов, а сейчас, на экране, эта равнина показала свою другую, многозначительную и торжественную, изнанку. И он забыл обо всем: о забастовке и приезде Джунковского, о волнениях, тревогах и огорчениях последних тяжелых месяцев… А когда, занимая почти весь экран, подпрыгивая вместе с рамкой, на экране вырисовалась фигура всадника с указующей рукой и он узнал в нем себя, в его горле вдруг что-то даже пискнуло от блаженства: да, это был он, всемогущий повелитель города Баку! Вот по мановению его руки казаки рассыпались вокруг Тюркенда, оцепили зачумленное селение, вот он, неустрашимый бакинский градоначальник, въезжает в селение и безбоязненно приближается к куче трупов, засыпанных известью. И на все направляется его указующий перст, и всем командует он, и все перед ним мало и ничтожно.
— Ах, молодцы! Ну, молодцы! — бормотал он, довольный создателями кинокартины и жадно, влюбленно следя за самим собой на экране, с наслаждением сливаясь вместе с этим своим движущимся отражением.
«Это я! Я, я, я!» — повторял он мысленно и вспоминал каждый момент, воспроизведенный на экране.
Вот он беседует с доктором Нестеровичем. Доктор в своем халате мал, неказист, господин градоначальник рядом с ним особенно величествен. Алеша снимал его снизу, и потому градоначальник в своей точно чугунной шинели навис, как глыба, над зрительным залом.
— Здорово! — шептал Мартынов и не замечал, как смех перекатывается по темному залу, и не замечал, что на экране лицо его, прикрытое слепо блещущими стеклами, выражает крайнюю степень одурения от власти…
Вот он носится на коне по зачумленной деревне, которая застыла в зное и ужасе. Повсюду возле домов и заборов стоят испуганные люди, семьями и в одиночку. Куры, мирно возившиеся в пыли и навозе посредине улицы, в ужасе разбегаются, взлетают, и сквозь их стаю со стремительностью, совершенно сверхъестественной, проносится Мартынов… Старуха с девочкой бежит прочь и прячется за забором — скачет Мартынов. Девочка падает, старуха нагибается над нею, и Мартынов пролетает над ними на своем скакуне…
«Что это? — в недоумении снова думает Мартынов. — Ведь этого не было».
А в зрительном зале смех сменился уже возмущенным говором, и из темноты зала раздался возглас:
— Долой бакинского помпадура!
Крики, свистки… И вот на весь театр прогремел начальственно рокочущий голос Джунковского:
— Немедленно свет в зал! Прекратить сеанс! — В голосе Джунковского слышны носовые звуки, что у него всегда являлось признаком волнения.
Свет включили, во всех дверях появились жандармы, публика стала со смехом и свистом расходиться.
— Петр Иванович, ведь это же насмешка, издевательство и над вами, и над всем порядком, — говорил Джунковский, взяв под руку Мартынова.
— Этого даже и не было совсем, — искренне негодовал Мартынов. — Проскакал по деревне, ну и, может, правда, напугал кого, ведь обстоятельства чрезвычайные. А они тут как-то так сфотографировали, что я будто через старуху перескочил… Но ведь это место можно вырезать из картины.
— Но неужели вы не усваиваете, Петр Иванович, что эти мерзавцы — как их там, я даже не обратил внимания, когда просматривал списки приезжих по гостиницам, — кинематографщики… сделали карикатуру на вас, выставили вас на посмеяние… Да нет, не только на вас, это злонамеренные мерзавцы, у одного как будто фамилия еврейская.
— Да, мне тоже сначала показалось, такой черномазый, но нет, дворянин, Ханыков.
— Дворянин? Хм… Распорядитесь картину немедля же снять с экрана, у обоих голубчиков устроить обыск, проверить документы и доставить их ко мне! И вообще нужно приглядеться к тем, кто проживает в бакинских гостиницах.
Со времени приезда Джунковского в Баку сфера действий градоначальника все сужалась.
Многое в деятельности Джунковского было Мартынову непонятно и вызывало неудовольствие.
К чему, например, Джунковский провел интервью с корреспондентами местных газет? Зачем было ему сообщать в этой беседе, что он поставил своей задачей ознакомиться на месте с условиями производства работ на промыслах и заводах, а также глубже вникнуть в причины непрекращающихся волнений рабочих и что он в течение первых трех дней по приезде на место своего назначения будет знакомиться с печатными материалами, относящимися к бакинской нефтяной промышленности?
Это интервью напечатано, и похоже, что посланец царя — страшно сказать! — публично отчитывается перед городом Баку.
Но из попытки Джунковского собрать, помимо забастовочного комитета, уполномоченных бастующих рабочих для непосредственных переговоров ничего не вышло: на собрание никто не пришел.
С неприязнью следя за действиями Джунковского, он вынужден был отдать ему справедливость: будучи на словах либеральнее, тот действовал куда решительнее Мартынова. Почему до приезда Джунковского он сам не отдал приказа подвергнуть наблюдению все эти общества портных и наборщиков? Почему бы не подвергнуть проверке через жандармское отделение всех приезжающих и, в частности, останавливающихся в гостиницах? А тут ему в руки снова попал рыбак Гуреев, который один раз уже нарушил карантин, установленный вокруг Тюркенда. Теперь он сбежал из городского изолятора, куда был заключен после первого нарушения карантина. Вторичное нарушение дало возможность градоначальнику, воспользовавшись тем, что в городе действовало военное положение, отдать Гуреева, как неисправимого беглеца-рецидивиста, под военный суд.
Глава седьмая
1
Константин успел до снятия с экрана просмотреть кинокартину «Чума в Тюркенде». Она настолько заинтересовала его, что после сеанса он подошел к афише посмотреть, кто поставил этот кинопамфлет. Фамилия Бородкина сразу бросилась в глаза, и Константин вспомнил, что Ольга называла именно эту фамилию, когда просила при встрече с Бородкиным узнать, как он живет, и написать ей о нем.
Чтобы завязать знакомство, Константин решил предстать перед Бородкиным в качестве «поклонника таланта». Установить, что постановщики картины живут в той же гостинице, где и он, ничего не стоило. И вот «горный инженер Константин Андреевич Петровский» поднялся на верхний этаж, где под самой крышей находились дешевые номера.
К тому времени Миша и Алеша, получив от владельцев кинематографа «Аполло» двести рублей, употребили их на экипировку — и стояли сейчас перед Константином в костюмах довольно приличных, Молодым людям, прилично одетым, пожалуй, и не подобало проживать в душно-вонючем номере с дырявыми обоями, жестяным умывальником, узкой и жесткой койкой.
Когда выяснилось, с какой целью посетил Алешу и Мишу горный инженер Петровский, его радушно усадили на единственный стул и предложили угощаться виноградом, который навален был на маленьком колченогом столике. Виноград был свеж и в меру сладок. Обсахаривая пальцы, Константин ел сочные ягоды и рассказывал о своем впечатлении от картины.
Выражение «фотографирование действительности» стало синонимом безличного и бесстрастного изображения жизни, — говорил он, — в ваших же руках бездушный аппарат стал обличать, бичевать, высмеивать, Оглушительной пощечине, которую вы нанесли этому помпадуру Мартынову, аплодирует не только весь рабочий Баку, но и все, что есть в Баку живого, передового.
При этих словах молодые люди переглянулись, и Бородкин сказал с усмешкой:
— Вот нас и вызывают к градоначальнику. Утром был жандармский чин и взял подписку об обязательной явке не позднее шести часов вечера.
— И вы решили явиться? — спросил Константин, вглядываясь в обеспокоенное лицо Алеши.
— Вопрос умного человека! — воскликнул Миша. — Ну, правда, почему это мы обязаны к нему явиться? Мы с тобой достаточно любовались внешним видом Баиловской крепости, и изучать ее изнутри нам нет никакого смысла.
— Так что же ты предлагаешь? — уныло спросил Алеша.:
— Переменить место жительства.
— Они найдут нас.
— В Баку?! — воскликнул Миша. — Да здесь можно без прописки прожить вечность, не говоря о том, что можно вообще уехать из Баку. Но это, признаться, не входит в мои планы, мне хочется досмотреть то, что тут происходит.
— А что? — наивно спросил Константин.
— Забастовка, конечно! — ответил Миша. — Здесь, в центре, она, правда, не очень чувствуется. Но выйдите на базар — там только о ней и речь. Ну, а в промысловых районах… Ведь там полицейские в одиночку не появляются… Если в этом году вспыхнет революция, то здесь будет один из центров ее… И вместо того, чтобы принять в ней участие, — явиться по вызову в пасть крокодила? Нет, Алешенька, я предлагаю другое. Проходя по Ханской крепости, я прочел сделанную на подвальном окне надпись по-русски: «Распрододаш картош малакэн». Надпись поразила меня. Я стоял и разгадывал тайный смысл ее. Вдруг вышел симпатичный дядя, толстый, в рваном халате, разношенных туфлях, и сказал, что я напрасно раздумываю, картошка у него прекрасная — молоканская. Оказывается, речь шла о картошке! Я предложил переписать вывеску, за что был осыпан цветистыми (на персидском и азербайджанском) выражениями благодарности. После этого, спустившись в подвал, я написал хной и басмой на фанерной дощечке: «Продажа картошки сорта «Завтрак шах-эн-шаха». Торговля тут же на моих глазах пошла бойко, за это мне была вручена мерка картошки. В тот момент это пришлось нам очень кстати. Кроме того, мой новоявленный друг заверил меня, что «с пустым руком» я никогда от него уходить не буду. Он спрашивал, где я живу, и соблазнял меня переехать к нему. В Ханской крепости есть такие подвалы, что ни одна мартыновская ищейка не разыщет.
Константин, с интересом выслушавший веселый рассказ, поддержал Мишу, и кинематографисты, уловив момент, когда портье вышел, исчезли из гостиницы. Вернувшись, портье нашел у себя на столе записку, извещавшую его, что обитатели № 143 на несколько дней уезжают для съемки «Каспийских рыбаков» и просят номер считать за ними. Записка эта должна была в случае чего направить по ложному следу мартыновских ищеек.
После встречи с кинематографистами Константин послал открытку без подписи на краснорецкий (так это было условлено) адрес Ольги: «Видел вашего А. Б. Парень он симпатичный, но, пожалуй, излишне мягок. Однако это пройдет!»
2
Официант ресторана, тот самый, через которого с первого же дня приезда в Баку Константин установил связь с Бакинским партийным комитетом, сообщил ему адрес зубного врача.
Обвязав щеку, Константин направился по указанному адресу. Дорогой, у больших магазинов, Константин иногда настолько заинтересовывался витринами, что останавливался перед ними и осторожно оглядывался: не идет ли за ним шпик? Нет, за ним никто не шел — он, видимо, еще не удостоился внимания бакинской охранки.
По городу было расклеено второе объявление Джунковского. «Труд на промыслах, как и вообще промышленный труд, не имеет принудительного характера, — гласило это объявление. — Каждый рабочий, недовольный условиями заключенного договора, может свободно оставить предприятие, выполнив указанные в самом законе требования… Я убедился, что весьма многие из числа рабочих тяготятся чрезмерно затянувшейся забастовкой. Единственной причиной, вынуждающей этих сторонников мирного труда примыкать ныне к бастующим, является страх перед угрозой насилия со стороны лиц, упорно поддерживающих возникшее брожение».
Смысл этого объявления был ясен, это было подлое подстрекательство к штрейкбрехерству. И тут же приобретя в газетном киоске обе сегодняшние бакинские газеты и просмотрев их, Константин не удивился: обе газеты — и та, что существовала на деньги Тагиева, и та, которая питалась подачками со стола армянских банкиров и нефтепромышленников, — наперебой заговорили в своих передовицах о том, что «надо сохранять за рабочими право свободной оценки всякой возникшей забастовки для выяснения основательности выставленных требований и их выполнимости…»
Зубной врач, седая, но румяная, моложавая, веселая женщина, положила пациенту в зуб ватку и попросила прийти на следующий день, назначив ему время в приемные часы. Когда Константин пришел вторично, она сама открыла дверь и на этот раз, серьезная и взволнованная, провела его из приемной в глубь квартиры. Они поднялись по внутренней узенькой лестнице куда-то вверх. Хозяйка молча открыла дверь и пропустила Константина вперед. Навстречу ему поднялся крупного сложения человек в легком летнем пальто из серого шелка. Пальто, фуражка инженера-технолога, черная борода, смуглый цвет лица и темные глубокие глаза — таков был Мешади Азизбеков, которого Константин узнал по описанию. Дружелюбно улыбаясь, он протянул Константину руку. Хозяйка тотчас исчезла, и они остались вдвоем. В комнате стояли простой маленький столик и узенькая кровать, учебники на столе и на полочке, — это могла быть комната ученика старшего класса гимназии. В открытое окно виднелись пологие или совсем плоские крыши, кое-где на них лежали подушки и разостланы были ковры: но ночам на крышах в это летнее, жаркое время года спали люди. То там, то тут поблескивало окошко чердака или такой же мансарды, в какой вели сейчас разговор два большевика: посланец Петербурга и представитель Бакинского партийного комитета.
Не спуская с Константина «пламенных», как подумал Константин, глаз, Мешади Азизбеков рассказывал о том, с какой радостью получают бакинцы каждую весточку из Петербурга и Москвы.
— Ведь мы, помогая семьям бастующих, не забываем каждому сказать: «Эти медные копейки дороже золота! Питерский или московский рабочий, такой же бедняк, как и ты, поделился с тобой своим скудным заработком». Петербург, Москва, Баку! Ведь если наши три города скажут шах шах-эн-шаху всероссийскому, такой шах может быть матом самодержавию!
Сказав это, Азизбеков резким движением весь выпрямился и, словно став выше, поднял крепко стиснутый кулак. Но, тут же овладевая собой, он сунул руки в карманы пальто, исподлобья взглянул на Константина, и смущенная, добрая усмешка пробежала по его лицу — он как бы осуждал себя за проявление такой горячности.
— Этим летом мы все в Баку почувствовали, что сроки революции приблизились, и если уж говорить откровенно, мне кажется, вот-вот она начнется… Бакинцы готовы, взяться за оружие… Крестьяне? Есть у нас один товарищ — товарищ Буниат, он недавно вернулся из деревни, — он говорит: в деревне ждут, что Баку скажет. А Баку… Читали «Письма с Кавказа»? За подписью «К. С.». Читали? Вы, конечно, знаете, кто автор этой статьи? В статье этой четыре года тому назад товарищ Коба отметил, что азербайджанские рабочие-тартальщики занимают важнейший пост в добыче нефти и что количественно они преобладают среди бакинского пролетариата. История хорошо работает на нас. Школу бакинских промыслов прошли десятки тысяч вчерашних азербайджанских крестьян, и с какой гордостью вижу я сейчас своих, как мы говорим, амшара — земляков, сородичей, что ли, — в основной массе борющегося бакинского пролетариата. Ну, а наш рабочий связан с деревней такими же нитями, как и русский, если не сильнее…
Он говорил, держа руки в карманах, раскачиваясь, и при этом глядел поверх крыш и плоских кровель туда, где под густой синевой неба угадывалось море.
— Сейчас для бакинцев услышать голос Питера — о, это будет большая радость! — сказал он.
Попросив Константина сесть на стул, а сам присев на кровать, он дал краткую характеристику переживаемого момента.
Джунковский по приезде, как и следовало ожидать, провел совещание с нефтепромышленниками. Я познакомлю вас с материалами совещания, они у нас есть. Не все там шло так гладко, как хотелось бы Джунковскому, но в общем: ворон ворону глаз не выклюнет… ведь так говорится по-русски? Единая линия борьбы с забастовкой выработана. Военное положение в Баку — это начало. Идет уже высылка персидских подданных, их у нас многие тысячи работают на промыслах. Это произошло после того, как сорвалась попытка персидского посла подтолкнуть их на штрейкбрехерство. Аресты идут за арестами. Вчера взяли старейшего нашего, товарища Стефани, — его имя вам знакомо, конечно. Полиция выследила и арестовала двух делегатов из трех, передававших требования Совету съездов. Ловят и никак не могут поймать товарища Степана, мы его надежно прячем. Нашу бакинскую организацию мы строили как боевую, революционную. Разгромить нас нельзя. Вы читали второе объявление Джунковского?
— Воззвание к штрейкбрехерам? — со смешком сказал Константин. — Читал, конечно… И гнусные комментарии обеих бакинских буржуазных газет.
— Именно. Но на террор и провокации Джунковского и Мартынова мы дадим достойный ответ. Задуманы митинг и демонстрация — такого Баку еще не видел. Тут-то вы и выступите, товарищ Константин, и скажете слово от питерского пролетариата. Будет еще сказано слово от тифлисских товарищей, наших ближайших товарищей. Бакинцы не должны чувствовать себя одинокими.
Они условились, что к Константину — или утром, когда он будет спускаться из своего номера в ресторан, или вечером, когда станет подниматься наверх, — подойдет кто-либо и произнесет пароль. После отзыва Константина человек сообщит, где состоится митинг и как туда попасть. И пароль и отзыв ото дня ко дню, будут меняться. Система изменения пароля через одну букву: от «а» к «в» и от «в» к «д», отзыва же через две буквы — сама по себе проста, но, не зная ее, угадать пароль или отзыв было невозможно.
— Значит, до скорого свидания, — сказал Мешади. — Я ухожу туда, — он указал на крышу. — Не смущайтесь, здесь проходит кошачья тропа, соединяющая это место с моим домом, где меня сейчас караулят шпики, уверенные, что я отдыхаю после обеда. А вы оставайтесь здесь. Вот… — он указал на книгу, лежавшую на столе. «Шалыгин. Теория словесности» — было напечатано на ней. — Здесь есть материалы, о которых я вам говорил. Прочтите, они дадут вам представление о том, как мы живем и боремся.
Он подошел к окну и уже пригнулся, чтобы в нем исчезнуть.
— Как вы проводите вечера? — спросил он вдруг.
Константин пожал плечами.
— Есть у меня с собой несколько книжек по избранной мною специальности — по горному делу. Написал и отправил одну корреспонденцию в газету «Правда», впрочем, вы об этом, наверно, знаете. Один раз даже сходил в кино… на «Чуму в Тюркенде». Видели?
— Получил удовольствие, — ответил Мешади. — Кто они такие, эти Бородкин и Ханыков?
Константин рассказал.
— Да, искры пламени вырываются отовсюду, — проговорил Мешади. — Я как раз хотел вам предложить развлечение — сходить в наш азербайджанский театр, у нас есть и своя опера и своя драма.
— С удовольствием, — ответил Константин. Ему вдруг вспомнилось, как со своими тифлисскими друзьями, с Текле и Илико, он побывал в грузинском театре.
— Советую обратить внимание на драму нашего замечательного земляка Молла Насреддина.
— Но ведь Молла Насреддин, насколько я знаю, это вымышленный образ, своего рода народный герой мусульманского Востока.
— Старый Молла Насреддин был вымышленный. А у нас в Азербайджане он существует в виде почтенного Джалила Мамед Кули-заде, издателя журнала «Молла Насреддин». Нет, Молла Насреддин снова прошел по караванным путям Востока, высмеивая и обличая царя и шаха, мулл и шиитских и суннитских, беков и ханов, купцов и нефтепромышленников, русских помпадуров, иранских сатрапов и турецких пашей-самодуров… Наш Джалил Мамед Кули заде — человек знаменитый, и если будете в Тифлисе, найдите его. А пока побывайте на спектакле «Мертвецы», и, может быть, вы поймете и простите мою горячность, вы поймете, из какой ужасной тьмы рвется к свету наш народ.
Он сделал приветственный жест и скрылся, уходя по крыше.
Константин еще долго сидел в комнате, прочитывая одну за другой листовки и прокламации стачечного комитета и Бакинского комитета партии, просматривая богатые статистические и экономические данные, по которым можно было судить о политике нефтепромышленников. Ход великого сражения Константину становился все яснее.
Погрузившись в чтение, Константин не слышал, как хозяйка бесшумно открывала дверь и снова уходила. Потом она тихонько постучала в дверь. Он вздрогнул и вскочил.
— Ничего, не беспокойтесь, все в порядке, — сказала она. — Я хотела только спросить вас: может, вам удобно будет остаться здесь ночевать? Это комната моего сына, а он уехал в летнюю экскурсию, и здесь вы никого не стесните.
— Нет, спасибо, большое спасибо. — Он крепко пожал ее горячую руку.
— А то, правда, останьтесь, я велю подать вам ужин.
— Нет, нет, я пойду к себе в гостиницу. Спасибо.
Он ушел.
На следующий день вечером Константин пошел в театр. Деревянное здание театра было несколько приземисто, и невысокий зал, переполненный публикой, казался поэтому ниже. Константин сначала подумал, что в театре присутствуют только мужчины, но, приглядевшись, заметил женщин. В темных одеждах и покрывалах, они сидели рядом со своими мужьями, и только черные блестящие глаза их устремлены были на занавес, представлявший собой искусную имитацию восточного ковра. В театре господствовало настроение пристойности, тишины, и при тусклом освещении все это никак не настраивало на то, чтобы ждать увеселения. Да и какое увеселение? Шла пьеса Джалила Мамед Кули-заде «Мертвецы».
Занавес поднялся, и на сцене появился шейх Насрулла, главный герой пьесы, с крашеными бородой и ногтями. Он объявил, что будет воскрешать мертвых. И в сонном городишке, показанном на сцене, никто не усомнился в способности хитрого святоши поднимать покойников из могил.
Самые поступки приезжего чудотворца, казалось бы, должны были заставить людей усомниться в нем: обжора и растлитель малолетних, он никак не был похож на святого. Но он обещал произвести чудо воскрешения тем более смело, что знал: почтенным родственникам, казалось бы так безутешно оплакивающим своих покойников, воскрешение невыгодно — придется возвращать унаследованное имущество.
У Константина было ощущение, что перед ним в ярких образах, необычно жизненных, как бывают ярки видения кошмара, проходит обвинительный акт против закостеневшего, отвратительного уклада жизни.
Мнимый святой, облегчив карманы городских богачей, удирает, оставив у себя в комнате трех плачущих девочек, благочестивые родители которых сами привели их для удовлетворения скотской похоти святого. В зрительном зале слышны всхлипывания и плач. И гремит на весь театр обличительный голос молодого Искандера:
— Наши потомки, перелистывая книгу, дойдут до этой страницы и, вспомнив о вас, плюнут, — говорит он, обращаясь к одураченным отцам города.
Он сам — беспутный сын богатого купца, и оттого что обвинение вложено в его уста, оно приобретает особенную силу.
— Не думайте, что я считаю себя праведником, — говорит Искандер. — Нет, нисколько. Я ничтожество. Но кто же вы? «Пьяница Искандер» зовут меня! Но какого достойны вы имени? Я призову сюда горы и камни, птиц и зверей, луну и звезды, весь мир, всю вселенную! Я покажу этих девочек и спрошу: «Как назвать вас?» И в один голос ответит мне всё: «Мертвецами». Я соберу все народы земли, и, взглянув на этот гарем шейха Насруллы, все племена и народы мира в один голос крикнут вам, почтенные отцы города: «Мертвецы!» И многие годы ваши потомки будут повторять, поминая вас: «Мертвецы, мертвецы!»
Смотря на Искандера, которого очень выразительно играл актер, Константин все время вспоминал Фому Гордеева.
Молодой человек в черном скромном костюме сидел рядом с Константином и на правильном русском языке, слегка смягчая слова, переводил Константину текст пьесы. Но бывало, что Константин просил его помолчать, — настолько выразительно играли актеры.
После спектакля в полутемном вестибюле гостиницы к Константину подошел незнакомый молодой человек и спросил его вполголоса, не собирается ли он осмотреть промыслы.
Константин, уловив в его вопросе искусно замаскированный пароль, ответил ему отзывом. Они прошли через ресторан, где в этот час было уже совсем тихо, и по черному ходу ресторана вышли во двор, где с подвод сгружали живую, еще трепещущую рыбу. Со двора по темной лестнице поднялись на галерею — и вдруг оказались в тихом переулке, совершенно незнакомом Константину.
— Теперь двадцать минут ходу — и мы будем в больнице, где вы сегодня переночуете, — сказал Константину провожатый.
3
Час был уже поздний, больные спали. Людмила, потушив свет, сидела возле кровати Аскера. Аскер привык засыпать, держа в руке ее руку. Наконец рука его обмякла и раскрылась, мальчик спал. Людмила могла бы отойти от него, но она, облокотившись на спинку кровати, не то чтобы задумалась — мыслей не было, а запечалилась, заскучала, захотелось домой… Дело было сделано: Аскер спасен. Она могла бы, оставив мальчика на попечение дяди, жителя одной из близких к Тюркенду деревень, вернуться к своим товарищам по экспедиции, а еще лучше — съездить домой. Баженов обещал по окончании экспедиции отпустить ее в Краснорецк хотя бы до начала учебного года.
Вера Илларионовна попросила ее подождать еще несколько дней: очень уж удобен был чумный изолятор для дел бакинской партийной организации.
Огни в больнице погашены, но по коридору, мимо комнаты Людмилы, порою раздаются тихие шаги. Это прошла Вера Илларионовна или кто-либо из работников больницы. А вот прошел кто-то незнакомый: мужской шаг, крепкий и все же еле слышный. Дверь бесшумно открылась, в комнату вошла Вера Илларионовна.
— Люда, — сказала она, — я на некоторое время приведу к тебе одного товарища, пусть он побудет здесь недолго — может быть, полчаса, час.
В ответ Люда только молча пожала руку Веры Илларионовны, и та исчезла.
Снова тишина, опять чьи-то незнакомые шаги, и в комнату вошел кто-то в белом халате — шаг мягкий, так ступают в кавказских сапожках. Человек остановился посреди комнаты.
— Садитесь, пожалуйста, там, возле окна, стул, — прошептала Люда.
Мужская фигура в белом халате показалась посреди комнаты и вновь исчезла… Стул сдвинулся, скрипнул, белый халат обозначился возле окна. Тишина, слышно, как кто-то дышит…
— Это хвост Малой Медведицы виден? — тихо, почти шепотом, спросил тот, кто неслышно сидел у окна.
— Да, это хвост Малой Медведицы, — тихо ответила Люда. — Видите, Полярная звезда вот там, над той горкой. В Петербурге она никогда так низко не бывает.
— А вы из Петербурга?
— Нет, я из Краснорецка, но учусь в Петербурге.
— Я тоже учусь в Петербурге, — ответил после некоторого молчания голос у окна, — на юридическом факультете.
— Я медичка, — ответила Люда.
— Меня зовут Саша… Будем знакомы?
— Конечно… Меня — Люда.
Опять наступило долгое молчание.
— Вы как будто бы сказали, что живете постоянно в Краснорецке?
Волнение слышно было в этом тихом голосе, и оно сразу передалось Люде.
— Да, в Краснорецке, — прошептала она.
— Вы Гедеминова Людмила?
Люда, ничего не ответив, кивнула головой. Он, конечно, не мог рассмотреть этого кивка, но Саше и не нужен был этот кивок для продолжения разговора.
— Вы удивляетесь? — спросил он громким шепотом. — Я тоже удивлен. Вы в прошлом году получили открытку от человека, обоим нам дорогого. — Грузинский акцент, раньше почти неуловимый, стал чувствоваться сильнее и придавал его шепоту особенную выразительность. — Припоминаете? Да? Там было написано о «Песне без слов» Чайковского.
— Константин? Где он сейчас? — спросила Люда, от волнения возвысив голос.
— Его арестовали при мне в Тифлисе и увезли куда-то в Россию — вот и все, что я знаю, — шепотом продолжал Саша. — А открытку эту… — Саша запнулся, наверно он покраснел, — это письмо писалось при мне.
— Арестовали? — тихо не то спросила, не то повторила Люда.
Но в это время в комнату неслышно вошла Вера Илларионовна и обратилась к Саше.
— Комната для вас готова, — сказала она. — Завтра у нас здесь произойдут большие события, — добавила она, обращаясь к Люде.
Люда, подойдя к окну, долго глядела на звезды Малой Медведицы, взволнованная встречей с Сашей и разговором о Константине. Бесконечно далеким как эти звезды казался ей Константин. А между тем он находился в этом же здании, в комнате дежурного врача, крепко спал, не имея понятия о том, что рядом с ним только что познакомились и говорили о нем Людмила и Александр, близкие и дорогие ему люди.
4
В эти тревожные дни Мартынов и Джунковский встречались каждый день. В первые дни после приезда в Баку Джунковский приезжал в градоначальство к полдню, торжественному часу развода караула. Но с каждым днем час его приезда передвигался все ближе к утру. Сегодня он приехал неслыханно рано — в восемь часов утра, и Мартынов увидел в руках его ту же прокламацию, что уже лежала у него на столе.
Мартынов встал навстречу Джунковскому. Но свитский генерал, всегда подчеркнуто вежливый, на этот раз даже не ответил на приветствие и, размахивая прокламацией, подошел к нему.
— Вы читали этот манифест? Они здесь требуют, чтобы я вас отдал под суд, а? Вот… — Он тыкал пальцем в прокламацию. — Они так и пишут… Вот…
«Так уймите же ваших чересчур усердствующих полицейских, предайте суду Мартынова за целый ряд насилий и незаконных действий».
— Что ж, может, ваше высокопревосходительство, послушаете забастовщиков — и правда отдадите меня под суд? — багровея, ответил Мартынов. Он намекал на тот неприятный разговор, который был у него с Джунковским, указавшим на ряд незаконных действий Мартынова.
— Э-э-э, Петр Иванович, я вижу, вы намерены обидеться. Я уважаю в вас одного из преданных особе монарха истинно русских людей, но лекс дура лекс, — округляя глаза и поднимая палец вверх, сказал он.
— Всех перепороть, вот им и весь лекс! — проворчал Мартынов, приблизительно понимавший, что в латинском изречении говорится о законе.
— Меня поражает в этом документе, — говорил Джунковский, игнорируя восклицание Мартынова, — предельная самоуверенность этих людей. Не то чтобы в своем праве судить нас… Убийцы из «Народной воли» тоже судили и приговорили к смерти страстотерпца и великомученика в бозе погибшего императора Александра Второго. На то они есть изверги и фанатики. Так что эта самоуверенность нам уже знакома. Но тут другое. Они ведь в этой бумажонке мне, как представителю власти, предлагают отдать вас под суд… Конечно, это демагогический прием, и они сами понимают, что я вас под суд никогда не отдам, — торопливо добавил он, заметив, что Мартынов дернул головой при вторичном упоминании о суде. — Но я хочу привлечь ваше внимание, Петр Иванович, к тому, что, обращаясь к рабочим с возмутительным воззванием, они хотят, так сказать, пробудить в них представление о какой-то своей особенной законности. Улавливаете?
Мартынов ничего не ответил. Рассуждения Джунковского он считал настолько излишними и досужими, что даже не желал в них вслушиваться. Сегодняшняя прокламация являлась распространенным ответом Джунковскому на то его объявление, в котором он призывал массу забастовщиков освободиться от влияния руководителей забастовки.
«Нам говорят, что каждый рабочий, недовольный условиями заключенного им договора, может свободно оставить предприятие. Ложь! — говорилось в этой прокламации. — Ведь за это именно и преследуются рабочие, именно за мирную забастовку их тысячами арестовывают, выселяют, судят, избивают! Пишут: «Труд на промыслах, как и вообще промышленный труд, не имеет принудительного характера». Но, спрашивается, кто гонит насильно рабочих на работу, кто арестовывает мастеровых и принудительно приставляет их к станкам, кто под угрозой полицейской расправы держит рабочих днем и ночью на электрических станциях? Кто устроил бойню на промыслах Рыльского, кто освободил виновников избиения и предал суду невинно пострадавших рабочих? Не полиция ли? Наконец, кто нанимает разбойников-кочи, которые с оружием в руках гонят на промыслы забитых мусульманских рабочих? Кто устраивает побои мирных забастовщиков?»
Так спрашивала, требовала ответа прокламация. И чем заниматься досужими умствованиями, Джунковскому лучше было бы задуматься над заключительной частью прокламации:
«Товарищи рабочие! Объявляя забастовку, вы наперед знали, что на вас обрушится вся сила полицейской власти, но вы не побоялись этого. Вы знали, что вас арестуют, вышлют, предадут суду, но все решились на борьбу. Вы предвидели, что вас выгонят из квартир, закроют лавки, в которых вы находили кредит, что против вас заработают полицейские кулаки, казацкие нагайки, но ваши ряды не дрогнули и дружно, солидарно выступили против тунеядцев.
Приезд Джунковского, его первые распоряжения еще раз подтверждают вам, что рабочим нечего ждать от полицейской власти, что она в борьбе труда с капиталом стоит всегда на стороне эксплуататоров. Продолжайте, товарищи, начатое дело! Пусть убедятся джунковские и мартыновы, что бакинский пролетариат не на шутку объявил борьбу хозяевам. Укрепляйте забастовку, разоблачайте на собраниях Джунковского. Помните, что мы добьемся удовлетворения своих требований лишь силой солидарной борьбы. Сомкните свои ряды, и победа останется за вами. Продолжайте забастовку.
Да здравствует стачка!
Забастовочный комитет».
Своим носом ищейки Мартынов в этих сдержанных, по твердых словах улавливал угрозу каких-то действий, — и право, Джунковскому, вместо того чтобы философствовать, лучше было бы подумать, во что может вылиться выступление представителя петербургских рабочих, которое, по доносам, имевшимся у Мартынова, предполагалось сегодня в Биби-Эйбате.
Уже с вечера Мартынов отдал соответствующие распоряжения, и все наличные военные силы и полиция были двинуты в Биби-Эйбат.
В это время в противоположной стороне города — в Сабунчах, Балаханах и Сураханах — еще в девять часов утра было тихо и пустынно. По митинг должен был произойти совсем не в Биби-Эйбате, а именно в этой части города, возле больницы. К девяти часам утра люди незаметно скапливались в оврагах, ложбинах и котлованах, которых так много было в этой части города…
Аскер с утра капризничал, не хотел принимать лекарство, и Люда, чтобы развлечь ребенка, услышав шум голосов, распахнула окно. Вся эта обычно пустынная местность между больницей и строениями, возле которых в первые дни забастовки произошло столкновение казаков с женщинами, была сейчас покрыта людьми. Эта масса людей шумела, передвигалась — в картузах, тюбетейках, тюрбанах, белых войлочных шляпах и черных барашковых шапках.
— Вон сколько их, смотри, — приговаривала Люда, обращаясь к Аскеру, сразу затихшему.
Вдруг Люда смолкла. До нее донесся звонкий и мужественный голос, и внимание всех людей направилось в ту сторону, откуда он слышался. Люде странно знаком был этот голос, точно она слышала его во сне. Но как Люда ни перегибалась через подоконник, она за выступом большого здания не могла увидеть того, кто говорил, но с изумлением и волнением узнавала этот голос: только Константину мог он принадлежать. А слова речи то слышались очень глухо, то вдруг, словно на мгновение открывали дверь, голос раздавался громко и так раздельно, точно Константин говорил здесь, в комнате…
— Как смелые пловцы… не страшась разъяренных волн… на худых своих челнах… И кинули вызов…
Тут дверь будто внезапно захлопнулась, и Люда уже ничего не могла дальше разобрать, хотя голос все звучал. Вот он что-то сказал — и вся масса людей; которую видела перед собой Людмила, заволновалась, приветственно загудела, лица заулыбались, тысячи глаз засверкали. Люда видела, что все это направлено к человеку, которого ей так хотелось сейчас увидеть. Не спуская с рук Аскера, она выбежала из комнаты.
Рядом с больницей было низенькое, приземистое здание компрессорной станции, бездействующей с начала забастовки. Это здание, стоявшее на горе, господствовало над местностью, представляя сейчас собою трибуну, с которой посланец пролетарского Петербурга говорил с рабочими Баку. Константину никогда еще не приходилось выступать в такой обширной и необычайной аудитории, какой была эта запруженная народом долина. Но и такого восторга, такого вдохновения, какое испытывал он сейчас, ему тоже не приходилось переживать.
Константин еще сам не знал себя, не знал своих богатырских сил и всего того, что ему предстоит совершить. Но он видел, с какой жадностью люди, собравшиеся здесь, слушают его, — изголодавшиеся, изнуренные, истомившиеся в борьбе. И любовь и преданность их придавали его голосу силу — слова ложились в лад, в ритм, как бы выражавший биение его сердца. А когда он рассказал о питерских рабочих, о подмоге из Петербурга, о том, как эти горячие, кровные копейки собирались на дворе Путиловского завода, как конная жандармерия налетела на митинг, встреченная огненным призывом: «На баррикады!» — сразу ответный гул прошел по всей многотысячной массе собравшихся. Константину подумалось, что отдаленные тысячеверстным пространством люди — там, в Петербурге, и здесь, в Баку, — слитны и живут одной жизнью. При этой внезапной мысли его словно волной подняло вверх. С восторгом рисовал он людям величественные очертания революции, которая должна наступить в ближайшем будущем.
Но, говоря, Константин не терял связи с товарищами, проводившими митинг и стоявшими рядом с ним на крыше, в особенности с председательствующим Мешади Азизбековым. Порою он взглядывал на Мешади — и как только уловил в ответном взгляде Мешади какое-то беспокойство, сразу повел речь к концу.
Еще гремели аплодисменты, когда он по лестнице, приставленной к крыше, быстро опустился на землю, — и вдруг увидел перед собой Людмилу со смуглым ребенком на руках. Она быстро подошла к нему, глаза ее сияли. Протягивая ему свою большую красивую руку, она другой рукой свободно и легко держала ребенка. Как я рада!.. Я слышала… Все слышала!
Он видел, что она, правда, рада встрече, очень рада, — и это было главное. «Это главное, — подумал он, глядя в ее сияющие глаза. — А ребенок?.. — (Он вспомнил, что говорил Кокоша. — И пусть будет так, только бы было как сейчас» чтобы она на меня так вот глядела».
Наверху уже говорил Александр. Волнуясь и запинаясь, приветствовал он бакинцев от имени пролетариата Тифлиса и его большевистской организации.
— Мы всегда с вами, товарищи! Еще в прошлом году лучшие наши люди поплатились свободой за то, что собирали деньги для вас. Но вот наша организация снова воссоздана…
— Вы ведь были арестованы? — спрашивала Людмила.
Он смотрел на нее и рассказывал о себе.
— Уже говорил Мешади Азизбеков — говорил по-азербайджански: медлительное, величественное сочетание нерусских слов, — и снова гулом и криками отвечал народ…
— Вы знакомы? — услышал Константин голос Веры Илларионовны.
— Старые знакомые, — ответил весело Константин.
Вера Илларионовна перевела взгляд на лицо Людмилы, потом снова посмотрела на него.
— Ну, все к лучшему в этом лучшем из миров, — сказала она. — Нашего гостя нужно часа на два спрятать, и более удобного места, чем ваша комната, трудно себе представить.
5
Баженова до крайности удивило краткое предписание, полученное от Мартынова. Это предписание содержало сухое и категорическое требование: «Ввиду того что опасность возникновения эпидемии чумы миновала, предлагаю вам свернуть всю работу санитарного отряда, вами возглавляемого, и вместе с ним немедленно отбыть из пределов вверенного мне градоначальства в течение сорока восьми часов». Прочитав это предписание, Баженов сразу же решил, что нужно поехать к Мартынову и доказать ему, что посылка, из которой он исходит, неверна. Опасность возникновения чумы не миновала.
Баженов натянул на себя свою за месяц пребывания в чемодане слежавшуюся на складках вицмундирную форму и по настоянию Риммы Григорьевны прицепил два своих ордена. Фаэтон, находившийся в распоряжении экспедиции, был уже заложен, и при благоговейном молчании малолетнего населения Тюркенда, наблюдавшего с деревьев и изгородей, как хаким-баши (так именовали Аполлинария Петровича в селении Тюркенд), казалось бы, достаточно внушительно выглядевший и в простом своем белом халате, сейчас вышел из палатки, облаченный в «одежды визиря». Ослепляя зрителей золотым шитьем и блеском пуговиц, он сел в фаэтон и скрылся в направлении города. Это было примерно в полдень, солнце палило с такой силой, что как только фаэтон выехал из пределов тенистых садов Тюркенда, Баженов попросил поднять верх экипажа.
Если бы не крайняя необходимость съездить к градоначальнику и «выяснить недоразумение», Аполлинарий Петрович — как это было вчера, и позавчера, и все дни со времени приезда в Тюркенд — провел бы эти часы в лабораторных занятиях.
Сейчас, покачиваясь в лад с фаэтоном, он в эти свободные для себя минуты размышлял о ближайших перспективах своей работы: первые прививки новой противочумной вакцины были произведены. Температура быстро падает, кашель прекращается, лихорадочный бред проходит… Депрессия, конечно, остается, человек, с помощью вакцины одолевший страшную болезнь, еще ходит вялый — недаром говорят: зачумленный… Но главное сделано, победа будет одержана. Аполлинарий Петрович улыбался своим мыслям, и, кроме Риммы Григорьевны, пожалуй, никому не приходилось видеть слабую улыбку его бледных губ — это выражение усталости и чистой радости.
Кучер Бахадур, вместе с фаэтоном и конями приданный санитарному отряду Баженова бакинской городской управой, вдруг придержал коней и совсем остановил их.
— Что такое? — очнувшись, спросил Баженов.
— В Сабунчах неспокойно, ваше высокоблагородие, — ответил Бахадур, оборачивая к Баженову затененное белой войлочной шляпой загорелое лицо.
— Почему неспокойно?
Бахадур покачал головой и накренил ее, всей своей позой изображая внимание. Аполлинарий Петрович высунул голову из-под поднятого верха фаэтона. Они были на подъеме от Сураханов к Сабунчам. Кругом стояло безмолвие, виднелись темные силуэты вышек, и где-то внизу жирно поблескивало Соленое озеро в белесо-желтых берегах. Вдруг среди этой тишины послышались крики, потом какой-то треск, еще и еще, и снова крики.
— Стреляют, — сказал Бахадур.
Кругом было тихо и безлюдно, только на черно-блестящих, точно отполированных камнях замощенной дороги стоял человек в черкеске и папахе, с длинным ружьем — промысловый сторож, наверно, — и тоже прислушивался. И в тишине этой особенно выразительно звучали далекие крики и этот треск — треск стрельбы.
У Баженова первый раз мелькнула тревожная мысль, что в жизни родной страны происходит что-то такое, чему он не уделяет внимания, а об этом нельзя не думать. Он почувствовал вину, болезненную тревогу. Похожее он испытал, когда еще был студентом и получил письмо от отца. Отец писал, что мать больна. Эта болезнь через два года свела ее в могилу. Потому-то чувство, которое испытывал сейчас Баженов, было для него особенно болезненно.
— Через Сабунчи сейчас не проедем, — говорил Бахадур. — Кони молодые, пугливые — разнесут.
— А как по-другому проехать?
— Можно проехать, только дорога плоха. Что же, проедем кругом.
Дорога действительно была плоха. Удлинив путь на два часа, они въехали в город не со стороны вокзала, а со стороны предместья Зых. Баженов так уже и не вернулся в спокойный круг своих мыслей. Он то и дело высовывался из экипажа и оглядывал улицы города. Городская жизнь, казалось, шла как всегда: на бульваре видны были пестрые зонтики дам и ослепительно белые кители морских офицеров, раздавались крики продавцов мороженого и фруктов, проезжали экипажи и пролетки… Но Баженов тревожно и вопросительно вглядывался во все то, что было вокруг.
* * *
Сговариваясь с Константином о предстоящем выступлении, руководители партийной организации, конечно, понимали, какое действие окажет на бакинцев слово посланца питерских рабочих. Но всей силы действия воспламеняющей речи Константина они все-таки не могли предвосхитить. Слова его упали в души людей исстрадавшихся, истомленных — и не только не сломленных забастовкой, но особенно ожесточенных и наэлектризованных. И когда после короткой, но особенно подействовавшей на рабочих-азербайджанцев речи Мешади чей-то голос, высокий, напряженный, крикнул: «В город, товарищи! Пусть они видят нашу силу!» — Буниат узнал того, кто крикнул эти слова. Кричал молоденький Шамси, с которым его познакомил еще в самом начале забастовки Алым Мидов. «Так вот оно что!» — с волнением и гордостью, как если бы Шамси был его младший брат, подумал Буниат. И сразу же несколько голосов не в лад, но с силой затянули:
Вихри враждебные веют над нами…Общий шум и нестройные крики прекратились, люди двинулись по шоссе в сторону города.
Визиров и Столетов переглянулись и пробились вперед, где рослый Акоп, единственный из трех делегатов, предъявлявших требования нефтепромышленникам, еще не арестованный, уже нес на высоком шесте небольшое кумачовое знамя.
Когда Мартынову сообщили, что встреча с петербургским делегатом проведена совсем не в Биби-Эйбате, как сообщала охранка, а возле больницы в Балахано-Сабунчинском районе и не только прошла благополучно, но после митинга оттуда двинулась к городу большая демонстрация, он прежде всего позвонил по телефону начальнику охранного отделения и обругал того самыми грубыми и грязными словами, которые только нашлись в его лексиконе. Не знать о том, что подготовляется такое дело! Да чем в таком случае занята вся агентурная сеть, эти дармоеды, пожирающие такие деньги?
Мартынов, всю свою жизнь занятый борьбой с революцией, в конечном итоге безуспешной, был уверен в силе своего противника и чувствовал, что в этой демонстрации, возникшей после шестидесяти дней забастовки, таится нечто опасное и грозное. И он немедленно перебросил полицейские и воинские силы, сосредоточенные до этого в Биби-Эйбате, в сторону вокзала, куда должны были со стороны Балаханского и Раманинского шоссе выйти демонстранты. Расправу над ними он поручил полицмейстеру Ланину, известному своей палаческой сноровкой при столкновении с массой.
Ланин решил ни за что не допустить выхода людей к вокзалу. Он задумал, проведя конных стражников через территорию обширных промысловых дворов, напасть на демонстрацию сбоку, с фланга, рассчитывая прежде всего отсечь головную часть колонны — там, по его представлению, находились вожаки — от длинной, растянувшейся более чем на версту, многотысячной демонстрации. Массу разогнать нагайками, а головку всю, предварительно избив, переарестовать, — так рассчитывал Ланин.
Снова и снова повторяя одну и ту же песню — «Вихри враждебные веют над нами…» — и привлекая к себе во время движения все новых участников, демонстранты двигались к вокзалу…
— После шестидесяти дней голода, лишений, болезней детей такая сплоченность, сила, готовность к борьбе! — говорил Столетов Буниату.
Несколько шагов прошли они молча…
Знамя великой борьбы всех народов…—пели люди.
— Мартынова, наверно, уже оповестили, и он пошлет на нас своих псов, — угадывая замыслы врага, сказал Буниат.
— Они не допустят нас к вокзалу, потому что там уже с нами им не справиться. Они попробуют нас перехватить еще на шоссе.
— Ты прав, — отозвался Столетов. — Нужно подготовиться к вооруженному отпору.
Буниат, помолчав, сказал:
— Оружия у нас не очень много, но я на всякий случай предупредил, чтобы те, кто его имеет, держали его наготове. Сейчас мы будем проходить мимо кирпичных и лесных складов… Алыма Мидова не хватает.
Буниат огляделся и нашел глазами Акопа. Глуховатый бас его выделялся среди множества напряженно-высоких голосов.
Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело… —пел он, время от времени посматривая в сторону Столетова и Буниата, идущих неподалеку. Буниат подозвал Акопа к себе, сказал ему несколько слов, и Акоп, передав знамя товарищу, торопливо пошел назад, к хвосту демонстрации.
На одном из пустырей, примыкавших к шоссе, показались конные стражники. Размахивая нагайками и набирая аллюр, они понеслись на демонстрантов. Ланин, сопровождавший свой отряд, с неудовольствием увидел, что демонстранты, растерявшиеся в первый момент, быстро пришли в себя, беготня и суетня среди них прекратились.
«Кто там у них распоряжается?» — злобно подумал Ланин, видя, как обломки кирпича и куски железного лома встретили стражников.
Раздалось даже несколько револьверных выстрелов… Среди общих криков, не только не выражавших страха, а угрожающих, послышался вдруг призыв:
— Баррикады! На баррикады!
И Буниат, сразу кинувшийся туда, где произошло нападение стражников, подумал, что призыв этот звучит как эхо событий на Путиловском заводе, о которых рассказывал сегодня Константин.
Стражники, не рассчитывавшие на отпор, повернули коней обратно. Ланин обругался и приложил к губам свисток. Этот короткий свист был сигналом — рота солдат, припасенная в виде резерва, уже подбегала со штыками наперевес.
Но на другой стороне шоссе оказался тот самый дровяной склад, о котором Визиров напомнил Столетову, — там уже строилась баррикада. Огромные бревна перекатывались с такой быстротой и слаженностью, какая проявляется только при массовом воодушевлении, ясном представлении об общей опасности и при наличии во главе бесстрашных и распорядительных людей.
Когда солдаты, подбежав, дали первый залп, люди укрылись за длинной, белеющей свежим деревом баррикадой. Тотчас же в ответ на залп град камней и редкие выстрелы револьверов ответили из-за баррикады.
Ланин услышал, как вокруг него просвистели пули — целили прямо в него, — и поспешно соскочил с крыши невысокого здания, на которую взобрался. Он медлил отдавать следующую команду, и солдаты сразу растерялись, тем более что с баррикады кричали им:
— Братцы, не стреляйте! Чего в своих стрелять?! Фараонов проклятых бейте!
В этот момент до Буниата донесся вдруг тяжкий, похожий на рычание, стон. Повернув голову, он увидел, как Акоп, встав на колени, тормошит чье-то неподвижное тело. Не видя еще лица, лишь по пестрому архалуку Буниат признал Шамси.
— Сыночек, сыночек! — перемежая армянские слова с азербайджанскими, говорил Акоп и, подняв свои светлые, серые, полные слез глаза на Буниата, сказал всхлипывая: — Не расцвел цветок…
Буниату мгновенно представилась, словно при яркой вспышке, вся короткая жизнь Шамси: трудолюбивые ковровщицы — мать и сестры, и вдруг страшная угроза чумы; предательство дяди-богача, разочарование в старых устоях жизни… И только юноша вступил на новый, светлый путь — пришла смерть. И какая смерть! На баррикаде, на руках товарища-армянина.
Предостерегающий возглас Вани Столетова вывел Буниата из мгновенного раздумья. Со штыками наперевес на баррикаду бежали солдаты. И тут вдруг Акоп вскочил, с нечеловеческой силой схватил обеими руками одно из бревен за середину, поднял его и бросил на солдат. Стоны и ругательства сразу смешавшихся солдат, новые револьверные выстрелы и град камней с баррикады…
А из глубины пустыря уже набегала другая взводная шеренга со штыками наперевес.
— Отходить надо, — сказал Столетов Буниату. — Отводить людей нужно. Я останусь, ты отходи.
— Почему я?
— Ты ранен, — ответил Столетов, показав на левую руку Буниата.
Лишь сейчас ощутил Буниат, что рука действительно отяжелела и что из рукава на ладонь вытекает кровь.
— Только покойников наших прихватите, мы еще справим похороны, — сказал Столетов. И надолго запомнились Буниату эти проникнутые угрозой слова.
Акоп уже уносил Шамси. Двое рабочих подняли с земли еще одного убитого — голова с остренькой русой бородкой завалилась, как у птицы, запекшийся рот закрыт, и на тонкой шее резко выдался кадык.
В это время Мартынов, не зная еще исхода событий на Балаханском шоссе, получил вдруг донесение, что и со стороны Биби-Эйбата движется демонстрация. Мартынов почувствовал себя как в осаде.
Послав ротмистра Келлера для разгрома второй демонстрации, он в мрачном молчании остался у себя в кабинете. Донесения как-то разом прекратились, никто ему не звонил. Джунковского же с самого утра не найти. Мартынов даже опасался — не отъехал ли представитель августейшего повелителя в собственном вагоне обратно в Петербург?
Но вот поступила победоносная реляция Ланина:
«Районы Балаханского и Раманинского шоссе очищены. У бунтовщиков двое убитых, много раненых, пятьдесят восемь удалось задержать. Стражников и солдат ранено пятнадцать».
Мартынов не сомневался, что Келлер в Биби-Эйбате со своей задачей тоже справится. По крайней мере на сегодня опасность миновала. Но бунтовщики утащили двух своих убитых — и на днях, надо ожидать, они устроят похороны. Если сегодня Биби-Эйбату — с одной стороны, и Балаханам — Сураханам — с другой, еще не удалось соединиться, следующий раз им это, может, удастся — и не где-нибудь, а, возможно, в центре города, у дворца градоначальства. Что тогда будет? Как предупредить события? Просить войск?
Но в Петербурге тоже строят баррикады. Джунковский рассказывал, что при приезде французского президента центр города оказался в осаде и демонстрации с окраин рвались через мосты, к самому царскому дворцу…
* * *
Даже тем, кто каждый день встречался с Мартыновым и хорошо знал его, выражение лица Петра Ивановича ни о чем не говорило — это была сизая, цвета мороженого мяса, маска со слепыми стеклышками, скрывавшими глаза. Однако близкие его хорошо знали, что резкое откидывание головы служит верным признаком опасного раздражения. Но Баженов виделся с Мартыновым всего два раза, и потому, когда градоначальник сначала сильно дернулся, а потом испуганно схватился за затылок, Баженов не придал этим странным движениям никакого значения.
— Чем могу служить? — тихо спросил Мартынов, бережно поглаживая себя по затылку.
Он не встал Баженову навстречу и даже не предложил ему сесть. Но Баженову и в голову не пришло, что это сделано преднамеренно. Своими небольшими зоркими глазами с удивлением он взглянул на градоначальника и сам опустился в кресло по эту сторону стола.
— Я к вам, господин градоначальник, по поводу этого вот предписания, — сказал Баженов.
— Неужели это предписание нуждается в каких-либо объяснениях? — спросил Мартынов. — В нем все изложено русским языком, без медицинской латыни.
— Это предписание базируется на одной неверной посылке, — невозмутимо ответил Баженов, — на том, что эпидемия закончилась.
— Ах, неверной? А что, если у меня есть об этом заключение профессора Заболотного?.. Что же это вы с ним не сговорились, а? — сцепив руки и пригибаясь к столу, снизу вверх глядя на спокойное лицо Баженова, спросил Мартынов.
— Я не знаю, какое заключение Даниила Кирилловича имеете вы в виду, — ответил Баженов. — Но в разговоре со мной он выразил опасение, что эпидемия, заглохнув летом, может снова вспыхнуть с осенними холодами, так как население промысловых поселков большую часть времени проводит на воздухе и летом нет той скученности, которая существует в промысловых поселках осенью и зимой.
— Так, так… Все дело, значит, в скученности? Может, вы прямо какую-либо прокламацию стачечного комитета мне здесь прочитаете? — вдруг вскочив и опираясь о стол, крикнул Мартынов.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — тоже встав с места, сказал Баженов, с удивлением глядя на Мартынова, который со своим оскаленным ртом и наморщенным носом вдруг представился ему опасным сумасшедшим.
— Постыдились бы вашего мундира и орденов, господин надворный советник! — взвизгнул Мартынов. — Вы, конечно; знаете о том, какого рода литература хранилась у девицы Гедеминовой, служащей вашего отряда… Хитро придумано: череп с двумя костями — чума… А между прочим, склад запрещенной литературы.
— Вы нашли в палате у Гедеминовой склад нелегальной литературы? — удивленно спросил Баженов.
— Не нашли. Вот знаем, что у нее был этот склад и деньги забастовщиков хранились, а ничего не нашли. Уж подлинно, что чума напала на империю Российскую, — зараза хуже всякой заразы.
— Я вижу, что вы, господин градоначальник, вымещаете на мне какие-то ваши неприятности на служебном поприще, — не повышая голоса и не сводя пристальных глаз с оскаленной физиономии Мартынова, сказал Баженов.
— Еще поговорите… — прохрипел Мартынов.
— Но мне до всего этого дела нет, — продолжал Баженов. — Я исполняю свой долг. С осени эпидемия может вспыхнуть вновь.
— Не послушал я одного умного человека, который предлагал мне сжечь этот проклятый Тюркенд.
— Не смейте шутить такими вещами! — вдруг крикнул Баженов.
— Вы что — кричать? У меня в кабинете? Да я вас по этапу препровожу, как эту самую девчонку Гедеминову препроводил, если вы не покинете Баку в сорок восемь часов! — И он надавил кнопку звонка. — Зовите следующего, — сказал он своему адъютанту с гладко прилизанной головой, который, щурясь на Баженова, возник в дверях.
— Хорошо, господин градоначальник, — делая шаг к двери, сказал Баженов. — Мы покинем Баку, но из Петербурга вас еще одернут…
Аполлинарий Петрович, здравствуйте, как я рад вас видеть! — услышал вдруг Баженов мягко-вкрадчивый голос и, резко обернувшись, увидел перед собой одного из своих спутников по вагону, им уже почти забытого.
Перед ним стоял Али-Гусейн Каджар, в летнем белом костюме, с приветливо-просительной улыбкой на матовом, мягких очертаний лице.
— Простите, ваше превосходительство, — и он учтиво поклонился градоначальнику. — В высшей степени приятная встреча, имеющая прямое отношение к тому, что вынужден вам докучать среди ваших многотрудных государственных дел… Но в Баку похищена русская девушка из порядочной семьи — Людмила Евгеньевна Гедеминова, наша спутница по вагону, — и вот уже месяц…
Мартынов грубо захохотал. Али прервал свою гладкую речь, с недоумением взглянул на него, на Баженова и вдруг с ужасом уловил такую же снисходительную усмешку на лице Баженова. Но Баженов тут же круто повернулся и ушел из кабинета.
— Простите меня, ваше превосходительство, но что все это должно означать?
— Это должно означать, ваше высочество, что вы остались в дураках, — злорадно хихикая, сказал Мартынов. — Девица, вами разыскиваемая, все это время находилась в составе экспедиции этого самого Баженова. Мало того, она отъявленная красная, и сегодня во время демонстрации ее видели с одним опаснейшим петербургским человеком.
Мартынов замолчал, взглянул в лицо Каджара. Матовость щек Али-Гусейна приобрела свинцовый оттенок, губы почернели, он, пошатываясь, бормотал что-то. Мартынов прислушался — это были персидские проклятия…
— Что с вами? Эй! — испуганно крикнул Мартынов. — Садитесь! Ну, можно ли принимать так близко к сердцу?.. Ах, молодой человек, ну на что вам эта девка?.. Да имея такого дедушку, вы можете у нас в Баку такие сюжетцы подыскать…
— Извините, ваше превосходительство, — прерывающимся голосом говорил Каджар. — Это припадок… Я с детства подвержен.
Он врал. Припадок, сейчас им испытанный, переживал он впервые. Ревнивое желание мести охватило его с такой силой, что если бы ему сейчас показали его счастливого соперника, он перегрыз бы ему горло. Но в самый страшный миг ярости ему вдруг вспомнился вкрадчивый голос Ибрагима-ага: «Если тебе нужно кого-нибудь зарезать…»
Дверь открылась, и в кабинет вошел Джунковский. Мартынов вскочил с места.
Али Каджар, никому не нужный, вышел из кабинета. Джунковский молча протянул Мартынову записку.
— Только что из Петербурга, по телеграфу, — многозначительно сказал он, сел в кресло и, изображая озабоченность, подпер голову рукой. Но тут ему на глаза попался листок, на котором крупным, но неровно окрашенным типографским шрифтом стояло: «Бакинским рабочим», и он, забыв всякое актерство, с интересом схватил эту бумагу.
— Здорово! — прохрипел Мартынов. В его голосе послышалась радость: принесенная Джунковским записка была записью телеграммы, только что полученной из Петербурга, и содержала секретное предписание подготовиться к мобилизации.
Это был исход, на который надеялся и не смел надеяться Мартынов с того жаркого летнего вечера, когда с криками газетчиков в кабинет его прилетели первые весточки о приближении войны.
В кабинет, играя своими светлыми наглыми глазами и сдержанно улыбаясь, вошел адъютант Мартынова.
— На демонстрации изловили тех самых кинематографистов, ваше высокопревосходительство, — сказал он, обращаясь к Джунковскому, как старшему по званию.
— Они здесь? — спросил Джунковский.
— Давай их сюда! — завопил Мартынов.
У обоих молодых людей вид был довольно истерзанный. На белой накрахмаленной сорочке Миши отпечаталась грязная пятерня полицейского, и галстук болтался на голой шее, у Алеши на лбу сияла желто-фиолетовая шишка…
Едва молодые люди перешагнули порог кабинета, Мартынов со сжатыми кулаками подошел к ним и пронзительно закричал, брызгая слюной:
— И это за все мое содействие?! За мою благосклонность?!
Он задохнулся, пустил голосом петуха и потерял дар речи.
Джунковский недовольно поморщился.
— Садитесь, молодые люди… Обыск произвели? — обратился он к жандарму.
— Так точно, ваше превосходительство, — ответил жандарм. — По прописке значатся в гостинице, но дверь была заперта. Дверь взломали, обнаружено — вот опись: словари и грамматики, арабские, персидские.
— Филологией занимаетесь? Прекрасно! — бормотал Джунковский. — Еще какая литература?
— Книга Чуковского о кинематографе.
— Так, приобщите… Еще что?
— Литературы больше никакой не обнаружено, — ответил жандарм. — А вот некоторые документики…
— Так, так, — говорил Джунковский, просматривая бумаги, принадлежавшие обоим друзьям. — Господин Бородкин исключен из четвертого класса гимназии за святотатство… Господин Ханыков — из духовной семинарии за вольнодумство… Почему из духовной семинарии? Вы попович?
— Я шаман и сын шамана, — весело сказал Миша.
— Не надо смеяться, господин Ханыков. Смеется хорошо тот, кто смеется последним.
— Вы, кажется, имели все возможности посмеяться в кино «Аполло», но, говорят, не смеялись, — отпарировал Миша.
— Да, видели мы вашу кинофотофантасмагорию, — сказал в нос Джунковский.
— Ну и как? — добродушно спросил Миша.
— Пашквиль — вот что я вам скажу. Злонамеренный кинопашквиль…
— Помилуйте, ваше превосходительство, — сказал Миша. — Мы снимали то, что в действительности было. Верно, ваше высокоблагородие? — обратился он к Мартынову.
— Молчи, богохульник! — прохрипел Мартынов.
— Зачем же издеваться над моими религиозными убеждениями? Я буду жаловаться в Лхассу моему духовному отцу, святейшему далай-ламе.
— Молчать! — прокричал Мартынов.
Миша хотел ему что-то возразить, но тут Джунковский сказал, не повышая голоса:
— Напрасно вы веселитесь, господин Ханыков. Из ваших документов видно, что по происхождению своему вы принадлежите к благородному дворянству. И в час, когда нашей родине грозит опасность вооруженного столкновения с вековечным врагом тевтоном…
— Разве война объявлена? — взволнованно спросил Ханыков.
Джунковский, не отвечая ему, поманил пальцем адъютанта.
— Изготовьте отношение к воинскому начальнику для препровождения молодых людей через его посредство на призывной пункт.
Алеша, до этого не сказавший ни слова, вдруг поднял голову.
— Это вы напрасно, ваше превосходительство. Мы без всяких препроводителей найдем дорогу на призывной пункт. Потому что для нас наша родина, наверно, дороже, чем для вас.
— Знаю я вас, богохульников, висельников, развратителей народа! — крикнул Мартынов.
Джунковский поморщился и махнул на него рукой.
— Что ж, для каждого истинного сына отечества пришло время на деле показать свою любовь к отчизне, — благосклонно проворковал он, обращаясь к Алеше. — Однако в силу сложившихся обстоятельств мы должны все же препроводить вас с соответствующим предписанием. До свидания, господа! Я вижу, вы, господин Ханыков, задумались. Надеюсь, что вы одумаетесь.
И когда молодых людей вывели, Джунковский сказал Мартынову:
— Видели, многоуважаемый Петр Иванович, как сообщение о войне сказалось на настроении этих молодых людей? Завтра они будут отлично сражаться за веру, царя и отечество, уверяю вас. По настроению этих двух людей можно угадать настроение всего русского общества…
И долго еще разглагольствовал на эту тему Джунковский. Мартынов слушал его с нетерпением: проведение мобилизации требовало ряда неотложных мер.
Глава восьмая
1
Константин, когда возникала необходимость бодрствовать подряд несколько суток, брал себя в руки и не засыпал все это время. Зато, когда представлялась возможность выспаться, умел заставить себя заснуть даже при сильном шуме и ярком свете. Вернувшись после выступления на митинге в свой номер гостиницы, он, казалось бы, получил полную возможность основательно отдохнуть. Но в этот день произошло так много… И все же нужно спать и спать. Снизу, из ресторана, доносилась музыка, но пусть — это даже приятно!.. Он прислушался к повторяющимся ее тактам — вот так да снова и снова, — это был какой-то стремительный вальс. Потолок точно застлан голубой колеблющейся дымкой — или это луна из окна? Он даже стал засыпать, как вдруг внезапный взрыв шума и грохота заставил его вскочить. Он подошел к окну, и отворил его. Внизу воняли бензином, пыхтели, рычали, скрипели и окутывались дымом автомобили. Потом несколько пьяных голосов запели: «Сильный, державный, царствуй на славу нам!» Взвизгивали женщины, перекликались мужчины, порою вдруг слышалось: «дюшенька», «буффет», «шоффэр» айда в Мардакьяны!» И снова пьяные голоса заглушали все. Константин выглянул из окна: офицерские мундиры и черкески, белые кители моряков. Одни автомобили подъезжали, другие отъезжали…
Свет фар выхватывал то лицо с подстриженными усами, то затейливую, посредине опущенную, сбоку приподнятую, всю в блестках и лентах дамскую шляпку. «Бакинская золотая, а точнее сказать — нефтяная позолоченная молодежь», — думал Константин. Всюду черные, мгновенно удлиняющиеся тени, бегущие по слепым, темным окнам и светящимся стелам противоположного дома; и так же мгновенно они исчезают… Свист и грязная ругань… И снова: «Боже, царя храни…» Крик: «Встать!», взвизги и драка. «Что это сегодня они расшумелись?» — недоумевал Константин. А над всем этим — освещенные луной кубические голубовато-синие громады домов. Казалось, они, презрительно пренебрегая всем, что кишит здесь, внизу, у каменных их подножий, стараются расслышать что-то совсем иное, доносящееся со стороны промыслов.
Константин поддался этим иллюзорным представлениям и стал прислушиваться. Когда несколько часов тому назад он вместе с молчаливым провожатым шел по городу, ему послышались ворвавшиеся в городской шум залпы, донесшиеся со стороны промыслов. Но сейчас он слышал, как мерно гудит море и где-то вверху завывает ветер, вздымая снизу сор, — какие-то бумажки поднимались до уровня третьего этажа гостиницы. Вид этих бумажек напомнил Константину о том, как сброшенные с низкой крыши компрессорной станции белые листовки разлетелись над толпой и тысячи всколыхнувшихся рук потянулись к ним, как к свету, к надежде. Это было сразу после того, как Константин и Люда вошли в белую, наполненную солнцем (освещенную счастьем — так вспоминалось Константину) комнатку больницы. Они смотрели в раскрытое окно, толпа двинулась и, постепенно спускаясь вниз с возвышенности, где стояла больница, и вновь поднимаясь вверх, пошла к городу и запела. Так началась демонстрация, — это ее, верно, встретили залпами…
* * *
Коротка была сегодняшняя встреча с Людой.
Только они успели обняться и наспех условиться, что встретятся в Петербурге, и сказать друг другу, что отныне навсегда будут вместе, как в комнату вошла Вера Илларионовна. С ней был прилично, по-городскому одетый молодой человек, похожий на приказчика, с галстуком бабочкой под молодым веснушчатым взволнованным лицом. Константин и Людмила сконфуженно отстранились друг от друга.
— Товарищ Константин, вам нужно скрыться немедленно, — сказала Вера Илларионовна, — есть сведения, что полицмейстер с полувзводом жандармов направился сюда. Товарищ проводит вас.
Константин пожал руку Люде, ласково погладил стриженую голову Аскера и снова при этом переглянулся с Людой. И они рассмеялись, вспомнив, как несколько минут до этого Константин обещал ей любить «ее ребенка как родного». На недоуменный и даже несколько обиженный вопрос Людмилы Константин сбивчиво рассказал о своем разговоре с Кокошей о нефтяном принце. И, стоя сейчас у окна гостиницы, он улыбался смущенно и счастливо, вспоминая, как она смеялась, всплескивая руками и утирая слезы, а он тоже смеялся и не знал, что сказать.
— Да ну, хватит, Люда, смеяться, ведь это очень серьезно!
А она вдруг взглянула ему в лицо в упор. Нет, он никогда не забудет ее лица: смех еще играл в румянце щек и в дрожи губ, но уже совсем другое выражение, серьезное и упрямое, было на нем.
Обеими руками взяла она его руку, и руки ее показались ему необыкновенно горячими и сильными. И тут уже все стало ясно, счастливо, и комната, конечно поэтому, была вся залита солнечным светом.
Потом он шел вслед за молчаливым своим провожатым по каким-то бесконечным дворам, и хотя на калитке было написано: «Ход нэт!» — и это звучало особенно категорически, они все же вошли в эту калитку, ступили на черную от нефти и мазута землю, пересекли территорию какого-то завода и оказались на улице, отсюда недалеко уже было до гостиницы… «Да, мы встретимся, непременно встретимся… В Петербурге, наверное, — думал Константин, стоя у себя в номере у окна. — Нам будет еще очень трудно. И видеться мы будем, наверно, урывками. Но это будут, так же как сегодня, вспышки яркого, счастливого света».
Он стоял и уже ни о чем больше не думал, прислушиваясь только к тому, как далеко в стороне гудит и грохочет море.
Вздрогнул и мгновенно оглянулся на дверь. В двери номера в это время, точно сам собой, осторожно вдруг повернулся ключ, дверь открылась, и не совсем уверенно в комнату вошел человек с лестницей.
— Не извольте беспокоиться… слесарь я — проверить вентиляцию. Жалуются, что в номерах душно, — сказал тихий голос. — Думал, вы спите.
— Пожалуйста, — сказал Константин. — Днем, правда, душно, а ночью хорошо, прохладно.
— У нас в Баку всегда так — золотой середины мы не признаем: жар так жар, а холод так уж холод.
Слесарь приставил лестницу к той стене, где наверху были решеточки вентиляции, и легко примостился на третьей ее ступеньке. В стареньком пиджаке поверх стираной и вылинявшей ситцевой рубашки он выглядел мастеровым, каких много. Но Константин глядел на него и сам себе не верил: эта неторопливо внятная речь, в которой каждое слово запоминалось, эти глаза, так правдиво-бесстрашно и ласково взглянувшие на него, это милое русское лицо с мягко очерченными скулами…
— Товарищ Столетов… — громким шепотом сказал Константин. — Да вы как…
— Как я решился нарушить основной завет конспирации, хотите вы спросить? Что же делать, если иначе никак нельзя было? Мы имеем точные сведения, что вас уже разыскивают. И не только полиция, хуже! Удалось подслушать разговор в опиекурильне: кочи Ибрагиму — подручному миллионера Рамазанова — поручено убить вас. Вам поэтому нужно поскорее покинуть Баку, а мне легче, чем кому бы то ни было, организовать ваш отъезд. У меня есть приятели и на железной дороге, и на пароходах, и даже среди водителей караванов. Вы, я вижу, колеблетесь. Так имейте в виду, что лицо, известное вам, с которым у вас был разговор накануне отъезда, просило вам напомнить о том, что вы еще должны навестить на Урале вашу мать.
— Он уже здесь? — быстро спросил Константин. — Депутат?
Ваня Столетов кивнул головой, наступило молчание.
— В качестве железнодорожного пассажира вас из Баку не выпустят, — сказал Столетов. — Но ведь мама ваша живет где-то на Каме. А устроить вас палубным матросом до Астрахани легко. А там возьмешь простой пассажирский билет — и прямо до дома… Как у тебя с деньгами? — спросил он.
— Мне домой нельзя, в Питер бы.
— Боишься опоздать к большим делам? Ничего, не опоздаешь! Раз Петербург, Москва и Баку вместе поднялись — это надолго. Сегодняшнюю демонстрацию сами массы поставили в порядок дня. Дело дошло до баррикад…
Он рассказывал о происшествиях сегодняшнего дня коротко и ярко. Потом, вздохнув, добавил:
— Только бы война не помешала.
— Уже объявлена? — спросил Константин.
— Завтра будет приказ о мобилизации, — ответил Ванечка.
— То-то сегодня офицеры гимн орали, — вспомнил Константин.
— Война… — сидя на ступеньке лестницы и позванивая ключами, неторопливо говорил Столетов. — Но разве зря приняты были постановления на Штутгартском конгрессе? Если рабочий класс всего мира скажет: «Не бывать войне», — войны не будет. Или вы несогласны? — настороженно спросил он.
— Как же можно с этим не согласиться? — рассеянно сказал Константин.
В голове его проходил ряд соображений, связанных с отъездом на родину. Нужно было бы как-нибудь известить Люду о том, что он сейчас в Петербург приехать не сможет. Сказать Столетову? Но нет, это как-то странно, неловко… Константин промолчал и потому не узнал о том, что в больнице был обыск и аресты и что Людмила уже выслана. Он только велел передать привет Саше Елиадзе, с которым не успел даже толком поговорить, хотя выступал вместе с ним. И Столетов обещал передать привет, он уже знал Сашу Елиадзе.
— Погоди, а с паспортом как у тебя будет? — сказал Ванечка.
Они не заметили, что во время разговора перешли на «ты».
— Да, домой с чужим паспортом я объявиться не могу.
— А зачем с чужим? — усмехнулся Столетов. — Со своим лучше всего. Пожалуйста, бери меня, весь я тут, — сказал он и развел руками, в которых были отвертка и клещи. — Улик за мной никаких нет, паспорт у меня свой, и никогда я ничего не знаю. Ну, арестуют, ну, вышлют, — а с чужим паспортом то же самое, если не хуже…
— Да нет при мне моего паспорта, — ответил Константин.
— А где он?
— Спрятан.
— Спрятан? — живо переспросил Столетов. — Надежно?
— Очень, — ответил Константин, с недоумением и надеждой следя за весело-стремительной игрой на лице Столетова.
— А ты его помнишь, свой паспорт, то, что там написано, и номер, и кем подписан?
— Как же не помнить, специально запоминал — мало ли что.
— Именно так, мало ли что… Вот мы тебе и выдадим взамен утерянного. Да ты не сомневайся, все будет по форме, даже и не отличишь.
— Но у меня там записана высылка в административном порядке в тысяча девятьсот седьмом году.
— Эка невидаль, в тысяча девятьсот седьмом году… Да с этого времени некоторые революционеры в кавычках уже до генералов выслужились. Мы тебе в паспорт все в точности запишем и все отметки сделаем, сочиним тебе, как это говорится по-латыни, куррикулюм витэ. После ссылки ты закончил образование как, а? — поблескивая глазами, спросил Столетов.
— Ну, скажем, окончил техническое училище, — смеясь, ответил Константин.
— А почему не Технологический институт? — Столетов кивнул на образцы буров, расставленных по всей комнате. — Ведь знаний-то для того, чтобы поддержать инженерское звание, у тебя хватит? Верно?
— Ну зачем, пусть будет написано скромнее и правдоподобнее.
— Да, это ты прав, — сказал Столетов. — Пусть будет техническое училище, так правдоподобнее. А пока давай уходи отсюда. Через ресторан иди-ка, там тебя ждут и проводят куда нужно. Это все твое добро, — он кивнул на образцы буров, разложенные по ящикам, — так и останется, пусть они думают, что ты еще вернешься. Не знаю, увидимся ли мы до отъезда, но только не беспокойся, необходимые бумаги ты получишь.
Руки их сошлись. Они взглянули друг другу в глаза, еще мгновение — обнялись бы, но нет, оба сдержались, хотя долго еще не расходились их руки.
— Иди, — сказал Столетов. — Я немного погожу и тоже выйду. Еще увидимся. Кто раз в Баку побывал, тот сюда вернется. Ведь не забудешь Баку?
— Не забуду, — ответил Константин.
2
Старинное, со сводчатыми низкими потолками, толстыми крепостными стенами и полукруглыми окнами, двухэтажное здание казармы было разделено на две части: на второй этаж отправляли призывников с образованием, а внизу размещали простой народ. Даже в отношении группы мобилизованных, присланных от военного начальника под конвоем, соблюдался тот же принцип: Алешу Бородкина и Мишу Ханыкова препроводили наверх, а Семена Гуреева, того самого рыбака, который дважды бежал из карантина, вместе с другими отправили вниз. Впрочем, в нижнем, темном этаже никто не задерживался. Оставив на нарах свои узелки, люди выходили на мощенный булыжником двор, весь прожженный лучами солнца. Многие присаживались где-либо в укромном месте, курили, тихо беседовали. Но большинство людей, еще одетых по-вольному, едва они попадали на этот ограниченный казарменными строениями двор, охватывало какое-то лихорадочное веселье — слышен был раздольный и однообразный звон балалайки, гул, возбужденный говор, громкий смех.
Миша и Алеша, заняв себе места на желтых, пахнущих свежей масляной краской нарах, вышли на галерею, опоясывающую с внутренней стороны всю казарму, и, едва взглянув вниз, на двор, увидели Сеню Гуреева, с которым они подружились за время, пока через весь город шли рядом под конвоем из канцелярии воинского начальства. Он рассказал им историю двух своих побегов из-под карантина, которую изобразил в виде своего единоборства с полицмейстером Ланиным, дважды его изловившим. Последний раз Ланин настолько избил Гуреева стеком, что десны у него с левой стороны сильно подпухли, и это придавало продолговатому, с коротким носом и тяжелой нижней челюстью лицу Гуреева выражение мрачного озорства.
Сеня, крепко держась за края своей рыбацкой войлочной шляпы, сосредоточенно плясал под звон балалайки, все время вприсядку, неутомимо выбрасывая ноги в заплатанных полусапожках. Чувствовалось, что плясать он может без конца. Алеше и Мише сверху было видно, как у людей, подходивших полюбоваться пляской, появлялось выражение восхищенного внимания, и даже балалаечник не глядел на свои руки, летающие по струнам балалайки и ловко перехватывающие лады, а смотрел на эту пляску, которая по настойчивости и сосредоточенности походила на какое-то хотя и веселое, но очень важное занятие.
— Эт-то что еще за балаган! — раздался вдруг начальственный окрик. — Отставить немедленно!
Никто не заметил, как во двор верхом на рыжей маленькой лошадке в сопровождении конных жандармов на огромных лошадях въехал какой-то важный полицейский чин.
— Это и есть Ланин, — прошептал Миша, толкнув Алешу в бок.
Черноглазый, смазливенький, с черными подстриженными усиками — ничто в его внешности не говорило о кровожадности и зверстве этого достойного помощника Мартынова.
— Что еще тут за р-р-ракалия в часы, когда россиянам подобает молиться о ниспослании победы, позволяет себе х-х-хамские пляски?!
Балалайка уже смолкла, пляска прекратилась. Двор затих. Но то серьезное внимание, с которым люди смотрели на пляску, постепенно обращалось сейчас на полицейского чина — похоже, что его внимательно и все более хмуро разглядывали…
— П-одать сюда балалайку!
Никто из унтер-офицеров, находившихся во дворе, до этого не подозревал, что в пении и пляске рекрутов заключалось что-либо недопустимое, но, исполняя приказ полицмейстера, какой-то унтер выхватил балалайку из рук балалаечника и протянул ее полицмейстеру. Тот, в белой перчатке, словно гипсовой рукой, ухватил ее за гриф. «Как за горло схватил», — подумал Ханыков.
— Эта балалайка, ваше высокоблагородие, лично мне принадлежит, на мои деньги куплена, — вдруг послышался серьезный, предостерегающий голос.
Сказал это не балалаечник, а сосед его, худощавый, крепкого сложения человек, которого тоже вместе с Алешей и Мишей сегодня утром препровождали под конвоем, с ним же шла до самой казармы привлекательная, раскрасневшаяся от слез женщина и несла ребенка.
— А-а-а, господин Жердин? — обрадовался Ланин. — Значит, эта балалайка — ваше, так сказать, движимое имущество? Взяли с собой, дабы услаждать себя после сражений мечтами о прекраснейшей супруге?
— Вы бы поостереглись, ваше высокоблагородие, насчет этого шутки шутить, — громко сказал Жердин.
— Что-о-о?! — вдруг завизжал Ланин, замахиваясь балалайкой и направив лошадь на Жердина. — Забастовщики, социалисты, бунтовщики принципиальные… — он грязно обругался. — Замашечки бунтовские отбросить придется. Скажите царю-батюшке спасибо, что он всемилостивейше сподобил вас на служение родине. А насчет ваших жен не извольте беспокоиться… — громко кричал он, наезжая на Жердина, который с угрюмым и ненавидящим лицом, опустив глаза, пятился в глубь толпы.
— Погляди-ка, — сказал Алеша, хватая Мишу за руку и указывая на Гуреева, — он убьет его.
— Вижу, молчи… так ему и надо, ответил Миша.
Только Мише да Алеше сверху, с галереи, видно было, как Сеня Гуреев, мгновенно выскользнув из толпы, выбрал из кучи булыжников, привезенных, очевидно, для мощения двора, один поувесистей.
Конская морда все ближе надвигалась на Жердина, над головой его была угрожающе занесена балалайка.
И в тот момент, когда балалайка опустилась на голову Жердина, увесистый булыжник, брошенный Гуреевым, ударил Ланина в висок. Лошадь взвилась на дыбы. Ланин стал валиться с седла… Раздалось многоголосое и грозное: «Бей фараонов!» Жандармы, сопровождавшие Ланина, выхватили шашки из ножен. Металлический скрежет и взвизг, зловещее сверкание — и жандармы с шашками наголо поскакали на новобранцев. Те с криками и ругательствами кинулись к казармам; они вбегали в двери, вскакивали в открытые окна… Двор мгновенно опустел. Только рыжий конь Ланина дико ржал, бегая по двору, да возле неподвижно распростертой фигуры с залитым кровью лицом и ослепительно блещущими на солнце лаковыми сапожками возились люди в белых халатах.
Неподалеку валялась разбитая о голову Жердина балалайка. Самого Жердина волокли под руки унтер-офицеры, голова его болталась, лицо было бледно, кровь лилась из носа и полуоткрытого рта.
А на дворе один за другим заливисто раздавались командные окрики, застучали затворы кавалерийских короткоствольных карабинов в руках жандармов.
После того как окна казармы взяты были на прицел, раздался повелительный окрик — отойти от окон, — и новобранцы, стоявшие возле окон, отхлынули в глубь казармы. Тяжелые двери были заперты, и казарма окончательно превратилась в тюрьму.
3
Приехав в Баку в качестве заведующего бакинским отделением винно-торговой фирмы Саникидзе, Саша Елиадзе прописался в участке. Он не прожил и месяца, как началась мобилизация. На призывной пункт должен был явиться и Саша. Но без указания на этот счет бакинской партийной организации он с призывом не торопился. Следуя с одной явки на другую, добрался он до маленького домика на самом берегу моря. Выкрашенный в белую и голубую краску, со спасательными поясами, навешанными у дверей, с крючьями и канатами в сенях, домик этот по всему своему виду относился к «службе спасания на водах». Внутри домика была оборудовала канцелярия, и как только Александр вошел, навстречу ему поднялся дюжий широколицый матрос с усиками в колечко.
Александр сказал условленную фразу, обозначающую пароль. Моряк, не говоря ни слова, отомкнул дверцу шкафа, стоявшего в комнате, и пальцем указал Александру внутрь шкафа.
Войдя туда и толкнув в темноте дверцу, Саша оказался в узкой, с одним окном, маленькой комнате. Там на кровати лежал Буниат и, улыбаясь, глядел на него. Буниат лежал одетый, одна рука, на перевязи, в другой — книга.
— Вы больны? — спросил Александр.
— Да так, ничего особенного… много крови потерял… пройдет, — слабым голосом сказал Буниат. — В городе аресты, меня ищут, домой возвращаться нельзя, вот меня Ванечка и спрятал здесь, — сказал Буниат с усмешкой и тут же перешел на деловой тон: — Ну, так в чем дело?
Выслушав Александра, он ответил:
— Сделаете для нас полезное дело, если пройдете мобилизацию в Баку. Мобилизация уже нанесла удар забастовке: рабочие — русские, грузины и армяне — призваны в армию. Среди них едва ли не половина нашей партийной организации. Однако почти все наши люди в той или иной степени уже замечены полицией и охранкой, жизнь в казарме только облегчит наблюдение за ними. Вы пока вне всяких подозрений, и даже ваше выступление на митинге прошло, кажется, благополучно. Вы, наверно, представитель цензового элемента?
— Я дворянин, — краснея, сказал Саша. — Дворянство получил мой дед на службе в русской армии.
— Я вам дам один адресок, — сказал Буниат, явно игнорируя объяснения Саши по поводу дворянства, — там получите вы наши последние прокламации. Следует их распространить в казармах. Но сделать это нужно осторожно, не по-глупому, а по-умному.
— Конечно, — согласился Александр.
Они помолчали. Слышен стал равномерный, очень близкий гул прибоя, даже шорох гальки, когда откатывалась волна. Вольный и свежий запах моря доносился в открытое окно.
— Война и мобилизация сорвали забастовку, — сказал Буниат. — Впрочем, для царизма эта преступная война явилась единственным способом спастись от революции. Но спасти царский режим не удастся, — революция всего лишь отсрочена.
Буниат замолчал и, морщась, видимо, от боли, повернулся. Опершись на локоть, указал он Александру на окно. Там, очень далеко, на мысу, выбегающем в море, белела ярко освещенная солнцем баиловская тюрьма.
— Много сейчас там наших хороших товарищей, — сказал Буниат, — и, может, кому-либо из них также виден этот домик возле моря.
Александр вздохнул, а Буниат, как бы подбадривая его, добавил:
— Ничего, всех не пересажают. Имейте в виду, что они нас боятся, да! С начала войны бразды правления в городе взял медоточивый Клюпфель, который сам объезжает промыслы и заводы и уговаривает работах прекратить забастовку. Он даже обещает собрать еще одно совещание нефтепромышленников и уговорить их пойти на переговоры с забастовочным комитетом. Клюпфель призвал к содействию меньшевиков, эсеров и дашнаков, чтобы они под лозунгами социал-шовинизма помогли ему «рассосать забастовку», как он выразился. Знаете, Саша, что интересно? — сказал Буниат, и голос его окреп. — Прошло уже две недели после мобилизации, а некоторые предприятия еще бастуют! В результате многолетней работы нашей партии мы добились такого положения, что азербайджанские рабочие продолжают забастовку даже после того, как прошла мобилизация, после того, как и русские, и грузинские, и армянские товарищи оказались в армии.
— Да, это факт громадного значения, — сказал Александр. — И вы считаете, что забастовку следует продолжать?
— Нет, — ответил Буниат. — Забастовка начата была до войны, и если бы не война, она перешла бы в вооруженное восстание — это видно по всему. Теперь же, когда более половины бакинских рабочих мобилизовано, продолжать забастовку невозможно. Она сорвана. Но она дала нам понятие о нашей мощи. Ее уроки неоценимы. Каждый рабочий в Баку сейчас понимает, что не было бы Мартыновых и Джунковских с их стражниками, казаками, тюрьмами, с высылками и пулями, — не разгромили бы нашего профессионального союза, не лишили бы нас возможности собираться, высказываться, читать и печатать наши органы. Не было бы самодержавного строя — хозяева даже со своими кочи не могли бы с нами справиться. Наша классовая борьба не кончается этой забастовкой. Причины, вызвавшие ее, остаются неуничтоженными. Наоборот, в условиях войны эти причины, коренящиеся в самой природе капитализма, приобретут еще более острый характер и поставят на очередь уничтожение самого капиталистического строя.
Буниат говорил, устремив взгляд в окно, и видно было, что, лежа здесь, в одиночестве, он под гулкие мерные удары прибоя продумал многое и делиться ему своими мыслями с товарищем было приятно.
Пройдя канцелярию воинского начальника и получив от него направление к коменданту казарм, Саша Елиадзе, забрав свой новенький щегольской чемоданчик, направился на извозчике в сторону казарм, расположенных довольно далеко от центра.
На то, что массивные ворота казарм наглухо заперты и что по улице, ведущей к казармам, патрулируют конные жандармы, Саша внимания не обратил, полагая, что это так и должно быть.
Старичок комендант в чине капитана обошелся с Елиадзе вежливо, просмотрел документы, находившиеся в безукоризненном состоянии, и направил его на второй этаж, где помещались лица со средним образованием.
Только поместившись рядом с Алешей и Мишей и узнав от них об убийстве Ланина, Саша понял, какой страшной опасности избег он. В его новеньком чемоданчике, правда скрытые вставной доской, образующей второе дно, находились прокламации. Дальше держать их в чемодане не имело никакого смысла. Этой же ночью листовки надо разбросать.
Наступило утро, и Саша уже с удовлетворением слушал, как Миша Ханыков, забравшись на нары и от волнения проглатывая отдельные слова, читал ему и Алеше:
«Правительство затевает сейчас войну… только в своих интересах и в интересах кучки хищников капиталистов, ищущих новых мест сбыта своим товарам и увеличения своих богатств… Ему нужно патриотическим угаром и кровью, пролитой на поле битвы, затушить требования революционного народа. Через голову правительства русский народ протягивает руку немецким и австрийским трудящимся и сливается с ними в одном лозунге: «Долой войну!»
Только царь и чиновники, интенданты, офицеры и богачи нагревают руки, дабы еще туже натянуть петлю на шее трудящегося народа. Смещайте начальников, выбирайте руководителей из вашей среды, объявите войну помещичьему правительству и завоюйте землю и волю…»
Эти прокламации Саша ухитрился забросить даже в окна первого этажа.
Изобразив удивление по поводу этой прокламации, Саша, однако, воспользовался ею, чтобы поговорить со своими соседями о войне, и убедился, что разговаривать с ними можно и вообще обстановка в казарме для подпольной работы, судя по настроению этих людей, вполне подходящая.
Но утром следующего дня Саша Елиадзе и Миша Ханыков вместе с другими молодыми людьми дворянского происхождения неожиданно были откомандированы в штаб округа для направления в кавалерийское училище, о чем Александр успел в последний момент с помощью почтовой открытки поставить в известность Буниата.
Через день после отъезда Миши, как только кончилась поверка, Алеша, увидев, что калитка открыта (первый раз после убийства Ланина), вышел на улицу. Увольнительных еще не давали, и солдаты в новеньком, только вчера полученном обмундировании толпились возле ворот.
Вдруг по бугристой и неровной мостовой — как почти все мостовые улиц верхней части Баку — побежали мальчишки-газетчики, размахивая продолговатыми листками выпусков утренних телеграмм. Алеша купил листок и начал читать. В листке сообщалось о вторжении немцев в Бельгию, о героическом сопротивлении бельгийской армии под Льежем, о разрушении Льежского собора. Как не хватало сейчас Миши, чтобы обсудить эти мирового значения события!
— Чего пишут-то, господин вольноопределяющийся? — спросил кто-то.
Алеша поднял глаза. Его уже обступили солдаты и ждали, что он скажет.
Он читал им и разъяснял, сколь мог, почувствовав вдруг, что даже такие сведения, как географическое расположение Бельгии, ее размеры и промышленные особенности, уже имеют большую ценность в этом разговоре, который сразу скрасил для Алеши чувство одиночества.
После первых строевых занятий перед обедом Алешу в числе многих других вольноопределяющихся вызвали к коменданту, где им вручили заранее по единой форме отпечатанные рапорты о желании определиться в школу прапорщиков. И опять почувствовал Алеша, что не хватает ему Миши и не с кем посоветоваться по такому важному вопросу. Со смутным чувством, сознавая, что делает шаг, все значение которого ему самому еще не ясно, Алеша, так же как и другие вольноопределяющиеся, подписал рапорт.
Их тут же построили и провели через весь город, к пристаням. Почему-то их направляли в школу прапорщиков в Астрахань.
А когда они к вечеру следующего дня высадились на пропахшей рыбой астраханской пристани, Алеша, купив газету, узнал, что германские армии прошли Бельгию насквозь, вторглись во Францию и что русские армии разбили немцев в Восточной Пруссии.
И в том, что, помимо всякого своего желания, Алеша на десятый день войны очутился в незнакомой и ненужной ему Астрахани, он с особенной остротой почувствовал, что не считающаяся с волей людей машина войны уже начала действовать вовсю.
Книга вторая
Часть первая
Глава первая
1
Темиркан не следил за газетами и потому для него война пришла неожиданно. Эта война — источник несчастий, горя и ужаса для громадного большинства людей — для Темиркана стала началом быстрого исцеления и возвращения его к жизни.
Весь последний год он чувствовал себя несчастливым, и это чувство было особенно сильно потому, что о нем никому нельзя сказать. Близкие хотя и беспокоились о его здоровье, но были довольны тем, что он с ними, особенно Дуниат, ждавшая теперь четвертого ребенка. Еще в июле стало видно, что урожай хорош, и старуха Лейля сообщила Темиркану, что осенние платежи по заложенным землям будут в срок внесены и что жить можно будет с достатком и достойно. Что ж, нужно и этим быть довольным, они, Батыжевы, отнюдь не беднее прочих господ в здешних местах, а, пожалуй, даже и богаче. Только жить надо тихо-тихо… Но неужели навсегда обречен он на эту тихую жизнь?
И вдруг — война! Или он не сын и не внук отца своего и деда, облагодетельствованных русскими царями?
За неделю до начала войны он при попытке сесть верхом почувствовал головокружение и слез с коня, не надеясь с ним справиться. Но на другой же день войны Темиркан, еще исхудавший, с желтоватым румянцем на щеках, однако чисто выбритый и сразу помолодевший, надел после нескольких лет перерыва военную форму и легко вскочил на коня, чтобы в сопровождении дяди Дудова и близнецов-племянников отправиться в Краснорецк.
Наказной атаман, еще молодой сравнительно генерал, сухощавый, молодцеватый, с легкой проседью в рыжих подстриженных бакенбардах и прищуренными, острыми глазами охотника, принял Темиркана в своем просторном и прохладном, с небольшими окнами, кабинете. Оказывается, он только хотел посылать к Темиркану, «а ваше сиятельство уже и сами здесь. Вот она, испытанная батыжевская верность престолу российскому!»
В кабинет вошел войсковой старшина Михаил Михайлович Сорочинский, под командованием которого Темиркан служил еще в младших офицерских чинах. Михаил Михайлович хотя и кичился своим происхождением от запорожских атаманов, но точно было известно, что дед его служил на Кавказе офицером в казачьих войсках, приписался в казаки, получил громадный надел земли и оборотисто и ловко вел большое помещичье хозяйство. Сын и внук продолжали семейную традицию. Михаил Михайлович говорил казакам: «Мы гребенские…» — а владения свои все округлял: кроме коннозаводства, воздвиг уже и винокуренный завод. Несколько иногородних сел построились на его землях и платили аренду, превышавшую все прочие его доходы. Казаки от своих стариков, конечно, знали, что Сорочинские к терским и гребенским первопоселенцам на Кавказе никакого отношения не имеют, но не возражали против того, чтобы Сорочинские представительствовали их интересы при царском дворе. Однако, когда шли выборы в четвертую Государственную думу, казаки, помалкивая, выслушали монархические разглагольствования Михаила Михайловича Сорочинского, а депутатом в думу избрали Афанасия Мокроусова, владельца крупорушки, человека с хорошим достатком, но по происхождению исконного казака, ревнителя школ и насадителя кооперации. Афанасий проходил как беспартийный, ему при последнем голосовании отдали голоса даже мусульманские выборщики от Арабынского округа, веселореченские купцы и муллы, а в думе он занял место среди трудовиков, хотя насчет республики всегда изъяснялся неохотно и туманно. В результате переплетения всех этих политических обстоятельств Михаилу Михайловичу Сорочинскому карьера российского парламентария пока явно не удавалась. На казаков Сорочинский обиделся, и когда сын окончил казачье кавалерийское училище в Новочеркасске, Михаил Михайлович определил его не в казачьи войска, как это предполагалось раньше, а в штаб Кавказского округа.
Однако сам Сорочинский остался в штабе наказного атамана, но, не желая иметь больше дела с лукавыми станичниками, взял на себя все те вопросы, которые касались отношений с горцами. В частности, он вмешался в одно из самых запутанных дел: в вопрос о присвоении звания русского дворянства веселореченским узденям, или воркам, как они себя называли.
Царское правительство, присоединяя Веселоречье, присвоило звание благородного русского дворянства только некоторым местным княжеским фамилиям и тем из веселореченцев, которые, будучи в офицерских чинах, служили в русской армии. В присвоении же дворянства представителям всей сложно разветвленной иерархической лестницы веселореченского военно-служилого сословия и государственный совет и сенат упорно отказывали, что вызывало недовольство всего этого сословия, в большинстве своем преданного русской монархии.
Сорочинский выдвинул проект перечисления всего этого сословия в казаки. Это отрывало веселореченских узденей от всей массы народа, который в тринадцатом году при восстании на пастбищах показал себя беспокойным, а также давало возможность привлекать на военную службу в казачьи войска отличных кавалеристов. При этом Сорочинский ссылался на блестяще оправдавший себя опыт с казаками осетинами.
Во всяком случае, к проекту в высших сферах отнеслись со вниманием, и хотя до войны четырнадцатого года вопрос о «приписании к казачеству лиц благородного сословия веселореченских черкесов» так и не был решен, но ловкого подполковника наверху заметили.
Михаил Михайлович, большой и рослый, туго затянутый в серую черкеску тонкого сукна, наклонил к Темиркану свое смуглое лицо и облобызался с ним, оставляя на его щеках неприятно влажный след своих красных, всегда мокрых губ. Тут же начался оживленный разговор. Оказывается, у Сорочинского был уже новый проект: он предлагал «кликнуть клич» к веселореченцам благородного происхождения, призвать их к добровольному вступлению в казачьи войска, где они, получая все права и привилегии казачества, сформируются как особый полк.
— Хватит ли на полк, Темиркан Александрович, как считаете? — обратив свои острые глаза на Темиркана, спросил атаман.
— Убежден, что хватит! Ведь для каждого веселореченского узденя это будет исполнение заветных желаний: он и его потомство будут приданы к казачеству, а в случае службы в офицерских чинах получат потомственное дворянство, — сказал Михаил Михайлович, обнаружив в этом рассуждении прямую связь своего нового проекта с предыдущим.
Казачий атаман на это горячее замечание своего помощника и советчика ничего не ответил, ожидая, что скажет Темиркан. А тот осторожно медлил. Многие веселореченские князья и сейчас служили в русской армии и особенно в казачьих частях. Несомненно, найдутся и такие люди, как Кемал, которые сами по себе или за господами пойдут добровольно на военную службу. Но составится ли из них полк? А ведь заманчиво было бы такой полк составить.
«Когда Суворов впервые пришел на Кавказ, сумели же мы в помощь русским собрать кавалерийский дворянский полк для борьбы против Орды!» — думал Темиркан.
Но пока он решил промолчать. Поблагодарив за честь, он попросил времени, чтобы обдумать это дело, а сейчас вручил наказному атаману рапорт с просьбой о зачислении его лично на военную службу — этот рапорт он написал еще в Арабыни…
Последние минуты все трое собеседников, продолжая разговор, прислушивались к мерному, но быстро нараставшему и приближавшемуся гулу…
— Казаки, — сказал атаман и вышел на балкон.
Мимо как раз проходила на отменных конях голова колонны.
— Здорово, молодцы! — звонко крикнул атаман, и воздух гулко вздрогнул от приветствия, прокатившегося над городом.
Трубы пропели сигнал команды.
«Рысью размашистой, но не распущенной…» — про себя проговорил Темиркан слова давно не слышанной команды, подсказанной бодро-воинственным голосом труб. Всему потоку карих, темно-рыжих, гнедых и каурых коней со всадниками в синих черкесках и белых откинутых назад башлыках сообщился единый плавный и быстрый ход. И если кто-либо из всадников сбивался с аллюра, что случалось редко, сверху, с балкона, это сразу отчетливо было видно…
Едва труба оборвала сигнал на высокой и пронзительной ноте, как, перегоняя топот коней, в лад ему зазвучала запевка. Ее пели высоко, в один голос с трубами, но с оттенком той жизненной силы, которая может быть в пении присуща только человеческому голосу:
Поехал казак на чужбину далеко, На гордом коне на своем молодом…И вдруг вся колонна с поражающей стройностью и силой подхватила:
Свою он краину навеки покинул…Строй песни был печальный, почти как отпевание:
Ему не вернуться в родительский дом…Но уже при последних, еще полных печали словах зазвенели разбитные, весело-бойкие до озорства звуки литавров, бубен, колокольчиков и бубенцов.
Напрасно хозяйка, жена молодая, И утро и вечер на север глядит…Слова были невеселые, но нежные, а музыка всего этого знать не хотела, и бунчук, взметая над колонной рыжий конский хвост, сотрясал навешанные на нем колокольцы и бубенцы, звеневшие и взблескивавшие на солнце.
Все ждет, поджидает, с далекого края…выводили голоса.
Когда-то любезный казак прилетит…звучало уже призывающим, подмывающе-лихим посвистом.
— Запасники, — сказал генерал.
— Хороши! — похвалил Темиркан. — Хоть сейчас в бой.
— На стрельбищах себя неважно показали вчера, — ответил генерал.
Они, сами того не замечая, говорили невольно в лад быстрой песне, а песня выговаривала мужественными голосами слова суровой правды о том, что
Зимою трескучи морозы…и о том, что
Казачьи кости под снегом лежат…И снова сквозь похоронную грусть прорывался забубенный литавровый звон и тысячи смелых молодых голосов пели о том, что непобедима жизнь…
Пущай на кургане родная калина Красуется в ярких лазорных цветах…Темиркан, провожая взглядом, считал сотни… Насчитал уже полк.
— Сколько их здесь, ваше превосходительство? — спросил Темиркан.
— Бригада, вторая бригада… Как раз все земляки ваши, арабынский отдел: сторожевские, доблестновские…
И Темиркан подумал: «Вот столько бы воинов собрать с Веселоречья и повести против Германии — тогда мне и подобало бы их под свое начало взять».
Простившись с наказным атаманом, Темиркан вышел во двор, где у коновязи была привязана его лошадь. Он, против обыкновения, был один, без спутников: дядя и племянники, конечно, с охотой увязались бы с ним, но они ему надоели за время дороги. Кемал, молчаливое присутствие которого Темиркан воспринимал так, как если бы он оставался наедине с собой, с утра увел своего коня в кузницу для перековки.
Едва Темиркан вышел из прохладного дома на широкий двор, как томительный полуденный зной мягко и жарко навалился на него… Темиркану был непривычен такой зной — в Арабыни летние жары всегда умеряются полуденными ветерками с гор и прохладой ледяных потоков. Да и нездоровье давало себя знать — Темиркан как-никак только что встал с постели. Ставя ногу в стремя и с усилием поднимая тело, он невольно вспомнил о Кемале, который подсадил бы его. Но тут же, упрекнув себя за проявление слабости, опустился в седло, и сразу ему стало лучше.
«Верхом поскакать надо, за город выехать, там прохладней», — подумал он и, дав поводья коню, крупной рысью пронесся по улице. От движения воздуха ему и впрямь стало свежее. Чувствуя, что с тротуаров женщины восторженно взглядывают на него, он миновал один квартал, другой, третий, направляя коня туда, где впереди синел лес. Но он не знал местности вокруг Краснорецка, не знал, что город отделен от этого леса глубоким провалом, удлиняющим путь на добрый десяток километров. Улица поворачивала вдоль провала, и домишки, чем ниже, тем делались все меньше и непригляднее. Оттого, что в воздухе ощущалась примесь какой-то вони, жара казалась еще непереносимее. Возбуждение, вызванное быстрой ездой, падало, Темиркан уже еле шевелил поводьями, а вонь становилась все сильнее, даже конь недовольно фыркал. Какие-то дети выбегали со дворов и что-то кричали, показывая на Темиркана. В глазах его потемнело. Обливаясь потом, он навалился на гриву коня. Конь вдруг дернул, Темиркан хотел схватиться рукой за гриву, но даже на это у него не хватило сил, и он, не выпуская поводьев, стал валиться с лошади.
Тут кто-то обхватил его поперек поясницы, поддержал и помог ему слезть с коня. Что-то кричали мальчишки, они прыгали в глазах его, как бесы. Но один из мальчишек, с лицом взрослого мужчины, синим от бритья, тот самый, что пришел на помощь, назвал Темиркана братом и, ласково успокаивая, заговорил по-веселореченски.
«Маленький бритый заячий наездник…» — возникло в затуманенной голове Темиркана что-то из детских сказок о маленьких людях, рудознатцах и охотниках, населяющих недра гор и разъезжающих по ночам на зайцах. Чувствуя, что маленький бритый человек легко, как ребенка, взял его на руки, Темиркан, как в детстве учил дядька Джура, укладывая спать, «отпустил душу» и погрузился в черный сон.
Он очнулся оттого, что его голову подняли и тихонько уговаривали еще приподняться, и только он приподнял голову, как губы его ощутили край стакана и рот его заполнила густая, вязкая, почти горячая жидкость. «Кровь», — подумал он, через силу глотая, и при этой мысли, оттолкнув от себя стакан, открыл глаза.
Он увидел все того же маленького богатыря. Вокруг была опрятная, по-русски прибранная комната, самовар стоял на столе; блестя костяшками, подобно гуслям, висели на стене счеты.
— Пей, братец Темиркан, пей, сразу будешь здоров, пей! — И снова в горло Темиркана полилась густая, вязкая жидкость.
Чувствуя, как с каждым глотком силы возвращаются к нему, он уже пил, не отводя губ. Точно горячее пламя прокатилось по всем его жилам, он сразу почувствовал себя здоровым и хотел встать.
— Нет, лежи, братец, лежи, — ласково уговаривал его тот же голос. — Запей теперь чаем, и будет все ладно.
— Это кровь была, то, что я пил? — спросил Темиркан.
— Кровь. Как я притащил тебя, сразу велел ягненка зарезать. А то, не дай бог, скажут люди, что в доме Харуна Байрамукова умер без помощи высокопочтенный князь Темиркан.
— Харун… Ты Аубекира родич?
Рассказывал тебе Аубекир обо мне? Смеялся, верно? Что бог меня и ростом и богатством обидел? Тоже князь, мол, — подряд взял бревна возить на железную дорогу, гурты гоняет, а? Ну что же, он надо мной смеется, а я над ним… Может, и ты надо мной посмеешься, а?
— Теперь для меня ты все равно что брат родной, — ответил Темиркан. — Но я и раньше над тобой никогда не смеялся, а все спрашивал о тебе Аубекира и понял, что ты умный человек. Но откуда ты сейчас взялся и где я нахожусь?
— Удивления достойно совсем не то, что я здесь живу, а то, что ты сюда попал. Но я чту наш старый адат и, конечно, тебя ни о чем не спрошу, хотя так и не могу понять, что тебе делать здесь, на окраине города, куда хорошие господа не заезжают. Я, недостойный, живу здесь, и даже место это на городском плане обозначено: Байрамуковская заимка, — не без самодовольства сказал он. — Здесь мое заведение: сало топлю, мыло варю, шкуру дублю. Надо ведь бедному человеку чем-то жить? Никто как бог выслал меня из дому в то мгновение, когда ты стал спускаться сюда к нам вниз. Сегодня утром был я в канцелярии наказного атамана, и мне сказали, что ты у его превосходительства, — и вдруг ты тут…
Темиркан рассказал маленькому Байрамукову, как он заблудился. И поскольку обстановка располагала к откровенности, а маленький Байрамуков нравился ему, он посвятил его также и в разговор, происшедший в кабинете наказного атамана.
Поглаживая и пощипывая свой гладко выбритый подбородок, выслушал Харун Темиркана, но когда Темиркан выразил сомнение, можно ли набрать полк из среды веселореченцев, маленький собеседник его в раздумье покачал головой:
— Как набрать! — сказал он. — Клич кликнуть — так много не наберешь. Дудовы, они в горную милицию пойдут конечно, абреков ловить по горам. Ну, а на настоящую войну, где пушки стреляют, не пойдут, нет, нет. По благородству, братец Темиркан, мало кто пойдет, а из нужды — многие. Возьмем любого из наших людей, особенно помоложе. Черкеска у него еще от деда или старшего дяди, вся латаная-перелатанная, сапоги, как ни починяй, ни смазывай, все равно пожухли, потрескались. На своем коне он только в сновидениях ездит. А девушки по-прежнему поют песни о молодцах, скачущих на борзых конях. Да ты пообещай каждому, кто на войну пойдет, коня, черкеску, шапку, сапоги, да чтоб муфтий Касиев муллам приказал прокричать в мечетях, что война эта — священная война, — отбою не будет от добровольцев. И насчет звания войсковой старшина Сорочинский неплохо сообразил: земли у нас в ущельях небогато, а казаку дается хороший надел из войсковых земель. И еще я скажу тебе: хорошее ты дело задумал, потому что уведешь из Веселоречья лишний, беспокойный народ. Кому суждено, пусть за благое дело голову положит, а кому суждено в живых остаться, те прыть свою на полях сражений оставят и вернутся остепенившимися. А то вот я, продли аллах твои дни, по новому распорядку, который ты выхлопотал, взял на торгах ярлыки на четыре пастбищных участка, а пасем с опаской, уже трех баранов абреки зарезали… Ты вот к этим абрекам клич кликни, да еще к тем, что с восстания по тюрьмам сидят, выхлопочи всем амнистию, да еще у кого недоимки по податям да судебные пени по порубкам леса и по потравам пастбищ. Такое войско можно, братец, собрать, хоть Стамбул воевать иди.
— Умные твои речи, — сказал Темиркан. — Вижу я, что сам аллах направил моего коня к тебе.
— Ты прости меня, давно с благородным человеком не говорил, проявил излишнее многословие. Отдыхай, я пошлю на постоялый двор известить благородного дядю твоего и твоих младших, чтоб не беспокоились.
Темиркан заснул и спал, видимо, долго и крепко. Потом, точно вдруг кто-то толкнул его, он открыл глаза от сознания опасности. При тускловатом свете керосиновой лампы с убавленным огнем, поставленной на столе во время его сна, Темиркан увидел напротив себя сидящего Науруза. Рука Темиркана потянулась к поясу, и тут он увидел свою кожаную кобуру с маленьким браунингом в руках своего врага. Науруз, конечно, взял револьвер со стола.
— Ну вот, — тихо говорил Науруз, — ты, я вижу, щедр ко мне по-прежнему, рублем серебряным одарил, коня пожаловал, сейчас я оружие от тебя получаю.
— Эй! — крикнул Темиркан. — На помощь! — и дернулся, чтобы встать, но железная рука Науруза легко бросила его обратно в кровать.
— Двери у Харуна Байрамукова дубовые, окна прикрыты ставнями. Кричи не кричи, никто не услышит. И зачем кричать? Если б я убить тебя хотел, так ты сонный был в моей власти. И надо бы, может, придушить тебя за все твои злодейства, настоящие и будущие, а вот не могу. Уж очень ты больной да хилый, не на здоровье, видно, пошла тебе наша кровь.
При слове «кровь» Темиркан вспомнил стакан с кровью, выпитой им сегодня, и, быть может поэтому, ощутил страшную, непреодолимую правду того, о чем говорил ему Науруз.
— Хищный ты, а слабый. Головы поднять с подушки не можешь, а скалишься. Служил я Байрамукову честно, а ты, конечно, скажешь, кто я есть, и надо будет мне опять скрываться. Если придушить тебя подушкой, никто ничего обо мне не узнает. Но нет, не могу я нарушить старый адат, не могу убивать безоружного. Да и по новым адатам так поступать не годится, — все равно скоро придет не тебе одному, а всему злодейскому сословию вашему великий суд народа, и тогда мы вас всех разом раздавим. А пока — живи. И пусть тебя грызет то, что живешь ты по милости моей.
Науруз уже повернулся к двери, как услышал хриплый голос Темиркана:
— Погоди!.. Если аллах свел нас еще раз на узкой тропе и ты поступил со мной благородно, будь благороден отныне, и пусть мое оружие пойдет в защиту твоей чести.
— Заодно и коня подари, которого я у тебя увел.
— Что ж, и конь пусть будет твой, — не обращая внимания на насмешливый оттенок в речи Науруза, продолжал Темиркан. — Будем говорить, как подобает воину с воином.
— А… ну, говори, говори, я послушаю, — сказал Науруз.
— Да, как воин с воином. Потому что я знаю твою доблесть, а моя от дедов идет! И когда сейчас такая война поднялась, неужели душа воина не содрогнулась в мощной груди твоей? Отвечай.
— Не я первый разговор этот завел, и когда захочу, тогда отвечу.
— Храбрец, который добровольно на эту войну пойдет, весь осыпанный знаками доблести вернется. И я зову тебя, Науруз, идем со мной! Я кликну клич среди веселореченцев, чтобы шли в армию, присоедини к моему свой громкий голос, пусть он раздастся по всем долинам Веселоречья. Я — впереди отряда, ты — при знамени его, поведем на защиту матери нашей России веселореченские сотни.
— Не марай своими в крови измаранными губами имя матери, — прервал его Науруз. — Приглашение твое опоздало, я давно уже встал под знамя верных сынов родины — под красное знамя, и есть уже у меня старшие, только от них я жду себе слова! А тебе я ни в одном слове не верю. Там, где ты, — там ложь.
Он повернулся и вышел, плотно прикрыв дверь.
Темиркан медленно поднялся с постели. Голова кружилась, но он, стараясь преодолеть слабость, шепча старинные языческие и мусульманские проклятия и всяческие богохульства на русском языке, пошатываясь, добрался до двери и толкнул ее.
На дворе было по-ночному темно и свежо, под ветром шумели деревья. Дом от сада отделяла крытая галерейка, в саду горел огонь, оттуда приносило запах жареного мяса. Темиркан признал голос дяди. На окрик Темиркана подбежали племянники, а потом подошел и дядя.
— А где Харун? — не отвечая на их радостные восклицания, сказал Темиркан и опустился на ступеньки крыльца.
Когда Харун, с лицом раскрасневшимся от пламени, подошел и поднес ему шампур с шашлыком, Темиркан отстранил его руку и сурово спросил:
— У тебя в работниках служит враг мой, Науруз?
— Валаги! [7] — воскликнул Харун. — Какой Науруз? Керимов Науруз — бунтовщик? Пусть шайтан берет его себе в слуги.
— Науруз мне сам сказал об этом.
Все переглянулись.
— Бредит, — грустно покачивая головой, сказал дядя. — Опять, видно, горячка к тебе вернулась, Темиркан.
— Пойдем, гость дорогой, в комнату, приляг. — И Харун уже обхватил Темиркана, чтобы поднять его на руки, но Темиркан не дался.
— Не считайте меня за сумасшедшего и… — он чуть не сказал, что оружие у него похищено, но стыд и ярость перехватили ему горло. — Я видел его перед собой, как сейчас вижу вас. И говорил с ним! — крикнул он.
Харун вдруг беспокойно огляделся.
— Афаун! — крикнул он. — Афаун, где ты? Это работник мой, самый лучший, надежный… Я доверяю ему гурты, деньги — никогда он меня не обманывал… Я его у двери сторожить сон гостя поставил. Афаун, где ты?
Он кинулся в глубь сада, в темноту, призывая: «Афаун, Афаун!» — но только деревья шумели и где-то лаяли собаки.
Темиркан вдруг слабо засмеялся и сказал своим родичам:
— Надежного сторожа подыскал мне Харун.
2
Начало войны четырнадцатого года запомнилось Асаду как многоголосый стон и топот, возникший за окном. Асад машинально подошел к светлеющему среди темноты окну. Конечно, кроме расплывчатого золотисто-зеленого тумана, он ничего не увидел. В этом тумане двигалось, шевелилось что-то темное, желающее оформиться, и, не будучи в силах оформиться и возникнуть, плакало и стонало.
— Жить без тебя не буду! — вдруг отчетливо выкрикнул женский голос, и столько в нем было горя, ярости и правды, что Асаду на секунду показалось, будто бы за окном мелькнул красный платок.
Гриша подошел к окну и рассказал Асаду, что это из слободы идут мимо гедеминовского дома новобранцы, а их провожают матери и жены.
За обедом доктор сообщал городские новости: спешно создаются лазареты, состоялась патриотическая демонстрация и редактор газеты «Кавказское эхо», эсер Альбов, кликушествовал на митинге о кайзере Вильгельме и немецких вандалах, целовался с городским головой Астемировым и членом городской управы купцом Пантелеевым. Меньшевик Бесперцев тоже возглашал что-то и целовался, кажется, с протоиереем Колмогоровым.
За обедом Ольга Владимировна Гедеминова, отдавая должное «рыцарям правды», как называла она социалистов, оставшимся верными идее Интернационала, тут же высокопарно декламировала о презренных тевтонах, цитировала славянофильские пророчества Тютчева, Владимира Соловьева. Евгений Львович слушал, морщась и кряхтя, а потом не выдерживал и вступал в яростный, но, как всегда, совершенно бесплодный спор с женой.
Спустя несколько дней Гедеминов вышел к обеду тихий и ласковый, за обедом был рассеян, а потом, наклонившись к уху жены, громко сказал:
— Сегодня слышал я, Олюшка, солдаты пели: «Бросай свое дело, в поход собирайся…» И что поделаешь, ведь, пожалуй, я хоть и клистирная трубка, а все же военный. Меня призывают.
Ольга Владимировна заплакала и обняла мужа.
Вскоре пришло письмо от Кокоши. Студентов третьего курса пока не брали в армию, но Кокоша «на всякий случай» устроился на службу в только что учрежденный с целью обслуживания фронта Союз городов и таким образом избавился от военной службы, чем отец и мать были явно довольны.
Все эти новости, городские и семейные, каждый день обсуждались за обеденным столом у Гедеминовых.
Но сквозь трескучее однообразие этих разговоров Асаду слышалось другое. Неподалеку от дома Гедеминовых устроен был большой плац, где обучали новобранцев. И эти дни проходили как бы сопровождаемые треском барабана. «Тра-та-та, тра-та-та…», окрики фельдфебелей, хриплое «ура», протяжные команды: «Коли назад!», «Вперед прикладом бей!», «От кавалерии закройся!».
В упрямом и безжалостном подавлении в солдате всего человеческого проходили дни. И только во время вечерней прогулки, когда роты с пением маршировали по городу, человеческое вдруг прорывалось — то в протяжно-долгих, то в отчаянно-лихих, с присвистом и ерническими вольностями, песнях, бросающих вызов богатым хозяевам города. А каждое утро мир и спокойствие окраины, где стоял дом Гедеминовых, нарушались пронзительным криком газетчика:
— Вот последние телеграммы! Сражение на Стоходе! Сражение на Збруче! Осада Перемышля! Десять тысяч убитых, пятнадцать тысяч раненых!
Гриша, читая Асаду вслух телеграммы, вдруг замолкал и с тоской говорил:
— Скоро и я там буду.
Грише шел восемнадцатый год, и если даже экзамен за четыре класса будет сдан, от призыва он все равно не освободится. Что мог ответить Асад? Конечно, он с охотой поменялся бы с Гришей, с радостью пошел хотя бы в ад войны, если бы это избавило его от слепоты. Сейчас, если бы не слепота, он пошел бы и сам разыскал Васю Загоскина, а то он с начала войны точно сквозь землю провалился.
Однажды, в воскресенье, после утреннего чая, когда в саду уже стало душисто и жарко, Асад, опираясь на палочку, гулял по аллеям. Вдруг его тихо окликнули:
— Асад, не пугайтесь, меня прислал Василий.
Услышав имя Васи, Асад шагнул в ту сторону, откуда его окликнул этот женский, с певучими интонациями голос.
— От Васи? От Загоскина? Да? Где он? Что с ним? — И тут же почувствовал, как чья-то рука мягко, но крепко взяла его за локоть.
— Вы упадете, осторожно.
— Нет… Я здесь все знаю наизусть.
— Но вы на самом краю, здесь обрыв.
— Неужели? Значит, опять потерял ориентацию, — говорил он, сердито тыча палочкой вокруг себя. — Где обрыв?
— Ничего, мы будем здесь гулять… парочкой, — усмехнулась она. — Вот так. Вам Василий рассказывал что-нибудь обо мне? — смущенно усмехаясь, спросила она.
— Вы Броня?
— Да. Значит, говорил. Это ничего, — ведь вы друг его, правда? — Она вздохнула. — Как хорошо здесь! А в городе жарко, особенно на плацу. Васю из тюрьмы перевели в казарму. И Гришу Айрапетяна тоже.
— Вася был арестован?
— В первый же день войны и его, и Максима, и Гришу Айрапетяна — всех забрали. Ну, а прокламации все-таки удалось распространить. Прокламация против войны, — как Вася жалел, что не мог ее вам показать! Ну, а вчера всех из тюрьмы перевели в казармы, значит — на фронт… Это все-таки лучше, — сказала она, непонятно кого утешая, себя или Асада, — так и должно быть. Весь народ пойдет на войну, значит наши товарищи будут с народом. И если Базельский и Штутгартский конгрессы сказали: «Война войне», — это значит, что народ, которому дадут винтовки для войны за интересы капиталистов, повернет их против капиталистов и против правительств.
— Ну конечно, — сказал Асад.
— Верно, ведь так будет? — спросила она.
Вася не раз говорил, что среди мастериц в «ателье мадемуазель Софи» на Ермоловском проспекте есть одна очень сознательная девушка, Броня зовут ее. О своих отношениях с Броней он ничего не говорил, но по выражению голоса Василия, серьезному и нежному, при упоминании этого имени Асад угадывал: это, верно, подруга? Или невеста? (Асад неясно представлял смысл этих слов и разницу между ними.) Но для Асада эти непонятные отношения Васи с какой-то девушкой были неоспоримым признаком взрослости Василия, так же как и самостоятельный заработок его и участие в партийной работе. И Броню он представлял до крайности серьезной, с густым голосом, и думалось, что Васю она непременно называет — Василий… Но за пятнадцать минут разговора с Броней он почувствовал себя так, точно знаком был с ней много лет. Они уговорились, что она будет время от времени заходить и рассказывать о Васе.
А вечером, после занятий с Гришей, Асад попросил, чтобы тот сыграл арию Клерхен из оперы «Эгмонт». А когда Гриша выполнил его желание, Асад даже подпевал своим резким голосом. Зато вряд ли какая-либо певица могла с большим воодушевлением пропеть: «Гремят барабаны, и флейты звучат, мой милый ведет за отрядом отряд…»
3
Когда летом прошлого года Джафар Касиев, сын арабынского муфтия, молодой человек, считавший себя последователем Маркса, совершенно неожиданно был арестован в родной Арабыни, он, конечно, догадывался, что арестовали его в связи с начавшимися беспорядками на веселореченских пастбищах. Если бы тогда, сразу же после ареста, Джафар попал к следователю, то возможно, что от растерянности он стал бы оправдываться, всячески доказывать, что не имеет никакого отношения к восстанию веселореченских пастухов и даже осуждает его как бессмысленное, идущее против капиталистического прогресса. Всего за несколько минут до своего ареста он об этом именно и говорил, будучи в гостях у старого Хусейна Дудова. Но до первого допроса у Джафара было в тюрьме достаточно времени, чтобы успокоиться. Обращались с ним к тому же уважительно и даже разрешили свидание с отцом, который приехал для этого в Краснорецк. Правда, беседовать им пришлось через решетку, старый мулла от волнения лепетал что-то бессвязное, и Джафар ничего не мог разобрать, кроме арабских обращений к аллаху и веселореченских проклятий на голову врагов, но тем не менее он понял все же, что отец хлопочет за него. Джафар решил держаться на допросе непроницаемо и с достоинством. Он как-никак первый марксист в Веселоречье, и ему не пристало перед царскими чиновниками отрекаться от революционного выступления своих земляков, даже если бы он и считал это восстание ошибкой. Конечно, сознаваться в том, чего он не делал, так же нелепо, как и отмалчиваться.
На первый допрос Джафара вызвали через полгода после ареста, и он очутился не перед старым жандармским страшилищем, каким воображение рисовало ему следователя, а перед молодым и вертлявым судейским чиновником в пенсне, которого он не раз встречал на улицах Краснорецка в обществе барышень. Он совсем приободрился. Отрицать свою причастность к восстанию ему было нетрудно. Правда, при обыске у него обнаружили некоторые не прошедшие цензуру издания пятого-шестого года, но уликой его участия в подготовке восстания эти издания служить не могли. Но у него также нашли и сборник «Вехи», а на некоторых страницах этого сборника — пометки его, и порою весьма одобрительные.
— Но вы не станете отрицать, что вы ближайший друг Талиба Керкетова, который является одним из подстрекателей восстания? — настаивал следователь.
— Мы с Талибом друзья с детства, — спокойно отвечал Джафар. — Но нельзя сказать, чтобы наша дружба сохранилась до настоящего времени. Более того, у нас есть разногласия.
— Нам эти разногласия известны, — быстро сказал следователь. — Мы располагаем одним вашим письмом к Керкетову, где вы называете его народником. Судя по аргументации вашей, вы являетесь завзятым приверженцем идей Маркса?
— Некоторые идеи Маркса я разделяю, — ответил Джафар. — Но в этом состава преступления я еще не нахожу.
— А ваше близкое знакомство с так называемым товарищем Константином, представителем крайнего левого направления среди марксистов, учеником Ленина? Или, может быть, он тоже друг вашего детства?
Игнорируя этот насмешливый выпад, Джафар сказал, что о революционной деятельности Константина Матвеевича он ничего не знает, особой близости с ним у него не было, а насчет единомыслия — скорее наоборот, Константин оспаривал его статьи, напечатанные в «Кавказском эхе».
Следователь слушал молча, потряхивая редкими, но длинно отпущенными и зачесанными кверху волосами, рисуя на листе бумаги лошадиные головы с раздувающимися ноздрями и распущенными гривами.
— Вы меньшевик? — неожиданно спросил он.
Но к этому вопросу Джафар уже был подготовлен.
— Я веселореченец, — внушительно сказал он. — Наш народ отстал от русского на несколько столетий, русские политические подразделения нам еще не подходят.
— Но все-таки, вы сочувствуете какой-либо русской партии? Или вы станете отрицать, что большевики-ленинцы приложили руку к руководству веселореченским восстанием?
— Ничего не знаю об этом, — сказал Джафар.
— А нам известно, что через ваше посредство большевики подготовляли восстание в Веселоречье, — поднимая голову от бумаги, сказал следователь.
Джафар пожал плечами… «Ничего вы об этом не знаете, потому что этого не было», — подумал он и сказал:
— Я, конечно, разделяю страдания моего маленького народа. Но я не могу сочувствовать этому восстанию, так как рассматриваю его как судороги социально отживающего слоя, каковым считаю вообще крестьянство. А солидаризироваться с нашим диким и невежественным дворянством, которое ставит препоны прогрессивному развитию народа, я, понятно, тоже не могу.
— Значит, вы осуждаете власти за принятые против повстанцев меры?
Джафар завел было длинную речь о том, как бы он действовал, если бы был на месте властей, но следователь вдруг неожиданно зевнул, махнул на него рукой и сказал, что он может идти.
Сначала Джафара это несколько обидело. Но когда он пришел в камеру и успокоился, то должен был признать, что в этом пренебрежительном жесте было даже нечто успокоительное. Если бы он знал, что среди массы людей, арестованных в связи с восстанием, он даже представителями судебных органов рассматривался как человек случайный, то, наверно, переносил бы тюремное заключение с полным спокойствием.
Через месяц после подавления восстания особо секретная комиссия определила наказание главарям этого восстания — они получили по три и по шесть лет каторжных работ с последующей пожизненной ссылкой в Сибирь. Должны были последовать массовые высылки рядовых участников восстания в Западную Сибирь, на поселение «впредь до распоряжения». Но правительствующий сенат задержал утверждение приговора.
Война придала другой оборот этому делу: каждого из обвиняемых спрашивали, не вступит ли он добровольно в формирующуюся Горскую дивизию для участия в войне против германцев — и случаев отказа не было. Некоторую роль в этом деле сыграл Талиб Керкетов, который, как только началась война, заявил тюремным властям о своем желании вступить в армию.
А Джафара все держали в тюрьме и выпустили только через месяц после начала войны, взяв с него подписку о том, что он немедленно выедет из пределов Краснорецкой губернии.
Перед отъездом из Краснорецка Джафару удалось повидать в губсоюзе, куда он зашел получить жалованье, эсера Глеба Анисимова. От него он узнал городские новости, а также кое-что о себе, о чем даже и не подозревал.
— А вы, любезный коллега, оказывается, изрядный конспиратор! — воскликнул Глеб, увидев его. — Но теперь вы уже ничего не скроете, теперь уже известно, что в нашем богоспасаемом Краснорецке существовала большевистская организация во главе с этим мнимым простачком Костей Брусневым. Ведь надо же уметь надевать на себя личину такой простоты! Да и вы хороши! Я всегда подозревал, что за вашим немногословием что-то кроется и что в ваших отношениях с этой маленькой библиотекаршей Бронечкой есть еще кое-что, помимо романтического увлечения. Но, конечно, я был далек от мысли предполагать, что именно вы были связующим звеном между большевиками и вашими веселореченскими амалатбеками и исмаилбеями…
Джафар почувствовал, что вследствие этих предположений, которые он легко мог бы опровергнуть, отношение Анисимова к нему изменилось: стало более уважительным. Это льстило Джафару, и, отрицательно покачивая головой, он таинственно усмехался.
— Долгонько, однако, вас держали, — сказал Анисимов. — Меня ведь тоже сгоряча замели, но продержали всего четыре дня. У меня есть приемчик в борьбе с ними: болтать, болтать, без конца болтать — пускай следователь пишет, — болтать с таинственным видом. Любого следователя берусь заговорить, И, как видите, заговорил: меня первого выпустили. И Альбова выпустили… А старик Егор Спельников, представьте, только месяц тому назад вышел, и, конечно, совсем больной… Не иначе, сказал о своем сочувствии веселореченцам или еще какую-нибудь глупость. А вид у вас, дорогой коллега, не того… И на личике у вас этакие оранжерейные, зеленоватые оттеночки.
Узнав у Джафара о том, что он дал подписку о выезде из губернии в течение трех суток, Анисимов сказал с усмешкой:
— Ну конечно, уезжайте, что вам здесь делать! Скорее в Петроград, в Москву, к Акиму и к Рувиму — там вам местечко найдут. Как же, война, умные люди нужны… Аким и Рувим — благодетели наши! Местные власти перестарались и после моего ареста на губсоюз тоже арест наложили. Вышел я из тюрьмы и вижу: в губсоюзе на всех дверях сургучные печати. Я сразу в Петроград телеграмму, и через три дня из самого правительствующего сената распоряжение: «Арест снять». Маг и чародей наш Рувим!
4
И вот Джафар мчится в Москву в купе второго класса курьерского поезда. С невозмутимо вежливым видом всю дорогу слушал он возбужденные разговоры своих попутчиков о войне — пышного чернобрового красавца дьякона и чистенького, с иголочки, только что экипированного офицера-артиллериста. Бас дьякона грохотал победоносно, заполняя все купе. На каждой станции мальчишки-газетчики кричали о победах в Галиции, о переходе через Збруч и Серет, о победах на Гнилой Липе, и дьякон предсказывал близкий конец войне, радовался воссоединению единоверного населения Галиции с православной церковью и, сокрушаясь о заблуждениях униатов, считал, что начальству следует принять свои меры и насильно вернуть заблудших униатских овечек в лоно православной церкви. А молоденькая бледная жена дьякона, слушая победный глас мужа, все покачивала головой, похоже, что испуганно. Офицер тоже покачивал головой и щипал рыжие усики над алым ртом. Совсем еще юный, он в суждениях своих обнаруживал большую трезвость, предостерегал дьякона от излишнего оптимизма при оценке военных действий, напоминая, что главный враг наш, с которым немало еще придется повозиться, — это германцы… Когда он во время разговора невольно обращался к четвертому спутнику по купе, Джафару, молчаливому, сдержанно-учтивому, с болезненно-томным лицом, тот вежливо кивал головой, иногда даже говорил: «Вполне с вами согласен». Но активного участия в разговоре Джафар не принимал, и на каждой станции, едва только поезд останавливался, он выходил и гулял по платформе, жадно набирая в легкие бодрящего, уже прохладного воздуха.
Молодой офицер иногда присоединялся к Джафару, они ходили вдвоем в ногу, Джафар, чтобы не рассказывать о себе, расспрашивал…
Дмитрий Александрович Розанов — оказывается, так звали молодого офицера — только что окончил артиллерийское училище и ехал в Тифлис, где у него была не то родня, не то друзья его родителей… Но вот война застала его в пути, и он, так и не доехав до Тифлиса, возвращается, чтобы получить назначение на фронт… Отец у него генерал-артиллерист, и все предки артиллеристы, вплоть до прародителя фамилии, петровского бомбардира, чем юноша, видимо, гордился, так как не раз упоминал об этом. Джафар слушал, помалкивал и старался набрать в легкие побольше вольного воздуха.
Да, арабынский вольнодумец, никогда не проявлявший склонности к любованию природой, сейчас с какой-то жадной радостью наслаждался и шумным трепетом листвы в привокзальных садиках, и живой птичьей и человечьей суетой. А как чудесен простор вокруг! Захоти лишь — и двинешься куда душа запросится!
Возможность эта в особенности поразила Джафара, когда толпа пассажиров вынесла его с перрона Казанского вокзала на простор Каланчевской площади. Скрежет и звон трамваев, движущихся по разным направлениям, грохот извозчичьих пролеток по булыжной мостовой, носильщики в белых фартуках, нагруженные багажом, пробегают, расталкивая публику. Какие-то торговые выкрики, и вдруг где-то детский плач, И повсюду солдаты в серых шинелях, сторонящиеся офицеров и отдающие им честь. Все это вызвало у Джафара желание бежать, спрятаться от этого шума, грохота, найти укромное место. Совершенно неожиданно желанным и тихим прибежищем вспомнилась ему затененная решеткой камера в Краснорецкой тюрьме. «Глупость какая», — сказал он себе, нашел извозчика и двинулся в Кооперативный банк.
Москва, которая всегда казалась ему сутолочной, сейчас была суетливей обычного. В вестибюле, где раньше всегда господствовала благоговейная тишина церковного притвора, навалена была прямо на полу гора каких-то пакетов с сургучными печатями. Здесь навытяжку стоял часовой, да и в коридорах попадались военные, в большинстве с белыми погонами.
Рувима Абрамовича Джафар не застал, он был в Петрограде, а в кабинете его за огромным письменным столом сидел Швестров и кричал что-то в телефонную трубку. Речь шла о десятках и сотнях каких-то вагонов… Сверкнув в сторону Джафара стеклышками пенсне и движением руки указав ему на кресло, Швестров продолжал разговор: вереницы цифр, обозначающих огромные денежные суммы, сотни и тысячи рублей, сыпались из его рта.
— Именно так! — кричал Швестров. — Закупайте, закупайте все!
Этой энергичной фразой он закончил разговор, звякнув трубкой телефона, потом встал с кресла и обе руки протянул Джафару.
— На свободе? Поздравляю! С последствием? Без?
Джафар помедлил с ответом. Он вдруг почувствовал: сказать о том, что из тюрьмы он выпущен, в сущности, «без последствий», даже как-то обидно. Но Швестров уже забыл о вопросе, ему хотелось говорить о себе.
— Вот воссел на трон Рувима, — сказал он, с удовольствием пошлепав рукой по резным подлокотникам кресла. — Сам Рувим в Петербурге. Там большие дела. Война сразу же обнаружила то, о чем мы всегда говорили: полную государственную несостоятельность бюрократического правительства. Экономически страна к войне не подготовлена. Но, к счастью, в стране существуют городские самоуправления, земства. Создаются общественные организации, Союз земств, Союз городов. Ну и тут, конечно, наш банк, непосредственно связанный с кредитной и промысловой кооперацией, — слышали сейчас мой разговор? Ведем огромные закупки масла для армии. Да что масло! Солдату, чтобы воевать, кроме оружия, необходимы миллионы пудов хлеба, мяса, круп, махорки. Кстати, насчет махорки, Джафар Бекмурзаевич. Не возьмете ли вы на себя, дорогой, этот вопрос? Ведь махорка где-то у вас там, в Краснорецке, Екатеринодаре.
— Как же, наш губсоюз производил крупные закупки в тысяча девятьсот двенадцатом году, — ответил Джафар. — Ассигнуйте — и я завалю вас махоркой.
— Чудесно! — вскричал Швестров. — Такие люди, как вы, сейчас нужны. Теперь наше время пришло, да! Вы еще увидите, что проделает война! Без демократии выиграть войну невозможно. В Государственной думе уже создается «прогрессивный блок». Слышали? Власть перейдет к либералам, потом к демократам, так-то. Учтите также и давление из-за границы. Шутка ли, воюем в союзе с западными демократиями! Закупки из-за границы будут производиться чу-до-вищ-ные. Ведь чего ни хватись, ничего нет. Вот потому-то Рувим и сидит в Петербурге: ожидаются грандиозные кредиты. Да, война большое дело, Если бы не война, — он придвинулся к Джафару и сказал ему на ухо, — сейчас была бы уже революция, страшная революция — я — ко-бин-ская. Уж я — то знаю, меня война застала в Баку. Ну и город! Котел! Кипит, бурлит, все дрожит. Каждую минуту ждешь, что все на воздух взлетит, ей-богу. Большевики орудовали там вовсю. Встретился я с одним товарищем социал-демократом. Говоришь с ним, а сам думаешь: вот он, будущий Сен-Жюст, которого рабочая революция несет к власти. И ведь силища! Три месяца шла забастовка. На Волге уже из-за недостатка нефти пароходы начали останавливаться. Стачечный комитет каждый день прокламации по городу расклеивает. От градоначальника — одно объявление, они ему в ответ — десять. И вдруг война, мобилизация. Половина забастовщиков — русские, грузины, армяне — сразу попала под призыв. Без них забастовка пошла, конечно, на спад. Знаете, сильная все-таки пружина любовь к родине. И ничего, пошли в казармы. Убили, правда, новобранцы полицмейстера Ланина, он к ним некстати сунулся. Но так или иначе, а серые шинели надели, винтовку на плечо — и за царя, за отечество.
— Но если столько революционеров пошло в армию и получило винтовки… — проговорил Джафар.
Швестров пренебрежительно махнул рукой.
— Думаете, повернут винтовки против правительства, по призыву Ленина, да? Войну империалистическую — в войну гражданскую? А что это значит: война империалистическая, осмелюсь спросить? Столкновение империалистических трестов, так? Допустим. Ну, а наша страна с ее пережитками азиатчины? Что с ней произойдет? Да то самое, о чем мы с вами толковали: мирное передвижение власти влево…
Швестров был в упоении. Это взвинченное настроение даже отчасти передалось Джафару, более уравновешенному.
Обедали они вместе в «Большой Московской», где Джафар снял номер.
А на следующий день Джафара через посредство правления Кооперативного банка прикомандировали для работы в создающийся аппарат Союза городов — организации, имеющей целью помогать правительству в санитарном обслуживании армии, в размещении беженцев.
Сперт и насыщен был уличной пылью багрово-желтый воздух на улицах Москвы, когда Джафар неожиданно для самого себя во время грандиозной манифестации со знаменами выступил от имени народов Кавказа и сказал речь, призывая к войне до победного конца.
И не знал Джафар, что одновременно с ним, но только не поездом, а на тяжелой, груженной кирпичом барже, прибыл в Москву еще один веселореченец — в стареньком бешмете, с кинжалом на поясе, обросший черной густой бородой. Это был Жамбот.
5
Жамбот зимовал в Самаре. Баржа вмерзла возле причалов, и Жамбот нанялся на работу в «кузнешное завидение Берестава», как было обозначено на вывеске, написанной самим владельцем кузницы.
Зарабатывал Жамбот не очень много, но рад был уже тому, что суровую русскую зиму, для него непривычную, провел у огня.
А весною, едва сошел лед, Жамбот по реке, с каждым днем становившейся все полноводнее, двинулся на своей барже в глубь России. Здесь берега превратились в высокие горы, покрытые лесом и увенчанные скалами. Они поднимались то справа, то слева, и когда буксир, тащивший баржу, кричал, эхо далеко повторяло его задорный крик. Наступило время весеннего разлива. Под Пьяным Бором, где Кама приносит в Волгу бурливые воды рек Урала, берега совсем исчезли и раскинулось огромное море. «Такова Русь», — думал Жамбот. Посреди громадных равнин — необъятное пресное море, которое пахнет не солью, а травой и лесами, и из него изливается великая русская река. По этой богатой широкой воде плыл Жамбот мимо пестрой Казани с ее старыми крепостными стенами и белой стройной башней Сумбеки… «Булгар… Булгар…» — шептал про себя Жамбот, так в Веселоречье старики и посейчас еще именовали Казань. Древняя столица волжских болгар давно уже была в развалинах, среди которых ученые отыскивали камни со старыми надписями, а для Жамбота Булгар еще продолжал жить.
После Казани на реке стало особенно весело; то и дело кричал впереди буксир, возвещая все о новых и новых встречах: то винтовые пароходы, то старинные, колесные. Попадались им и парусники, легко неслись они поперек течения и вдруг под углом круто поворачивали. Рыболовные снасти развешаны по берегам, и повсюду в белом и розовом одеянии тихо цвели плодовые сады, ими, как венками, оплетены и города и деревни.
А были деревни, которые плыли вниз по воде. Это — плоты. На них, ослепительно блестя окнами, стояли избы, пестрело развешанное белье, пели петухи, весело кричали дети. И Жамбот тоже приветственно кричал:
— Москва! Эй, Москва!
Так он называл Русь, Россию, необъятной силы могучую страну, живущую на реках. Москвою назвал Жамбот и белый Нижегородский кремль, который, как сказка, поднялся над рекою, чуть ли не в самых облаках.
Баржа с солью дальше Нижнего не шла. Жамбот здесь опять переменил хозяина, простился с Волгой и доверился младшей сестре ее, тихой красавице Оке. Он нанялся на баркас, груженный гнутыми стульями, плетеными корзинками, — надо было доставить их до Рязани… Пересаживаясь с баржи на баржу, поплыл он вверх до самой Рязани, где на деньги, заработанные в пути, Жамбот приобрел себе первую обновку: взамен старого, зазубренного лезвия он купил для своего кинжала новое, как зеркало, блестящее, и сам вставил его в старинную рукоять.
Рязань особенно запомнилась Жамботу. Здесь он узнал о том, что началась война. Новобранцев грузили на бёлый пароход, они пели, а матери и жены плакали и голосили. Так пошло по всем пристаням. И под этот горестный плач и стенания Жамбот на барже с кирпичом медленно двигался вверх по Оке. Не знал Жамбот, что тот красный кирпич движется в Москву тоже для того, чтобы служить войне, что предназначен он для постройки снарядного цеха при одном из старых московских заводов. Уже кончалось лето, и осенняя желтизна тронула прибрежные сады, когда ночью баржу перетянули на Москву-реку. А утром баржа грузно плыла по Москве, и город отовсюду обступал ее. Кремль показывался то справа, то слева, туманный и розовый, как песни о нем, доходившие в горы.
Сойдя на московской пристани, Жамбот тут же нанялся сгружать кирпичи на подводы, и когда кончил нагружать последнюю подводу, он пошел за ней по кривым, неровно мощенным улицам в глубь Замоскворечья.
Может быть потому, что Жамбот работал старательнее других грузчиков, а может быть потому, что кинжал, висевший на его поясе, придавал ему выражение воинственности, — так или иначе, но его, когда весь кирпич был сгружен, наняли сторожить этот же кирпич.
Завод неустанно стучал и гремел. Из заводских ворот выезжали громадные лошади. Гремя пудовыми, обросшими шерстью копытами по неровным камням мостовой, выкатывали они тяжело груженные подводы. Порою на подводе высилось опутанное со всех сторон веревками огромное чугунное колесо маховика, напоминавшее Жамботу то сказочное живое колесо, в борьбе с которым погиб богатырь Сослан. Иногда везли какие-то поражающие Жамбота блеском своей отделки, ровно обточенные брусья, такие длинные, что они не умещались на одной подводе и тянулись на следующую, к ней привязанную. Заводские сторожа объясняли Жамботу, что завод этот выделывает части машин для других заводов. А на некоторых подводах навалены были искусно выделанные решетки, черные цветы, листья, лошадиные и собачьи головы из железа. С завода вывозили громадные, тоже черные изображения распятого Христа и везли на кладбище, чтобы ставить на могилах богатых людей.
А вокруг завода звонили церкви, звенели трамваи, бойко зазывали уличные торговцы, с грозным пением, отбивая шаг, проходили солдаты. «Врешь ты, врешь, германец, врешь да врешь», — крепко и красиво, в лад выговаривали тысячи сильных мужских голосов, и Жамбот раздумывал о том кровавом споре, который шел между двумя могучими державами где-то на полях войны. И так как Жамбот хранил в душе своей память о Константине, в тяжелые дни разгрома восстания добравшемся до веселореченских пастбищ, чтобы сказать слово бодрости и привета от русских братьев, а может быть, и потому, что Жамбот проплыл в этом году по всей великой русской реке, он радовался, узнавая, что русские войска одерживают победы и берут города. Об этом утром и вечером кричали босоногие мальчишки, пробегавшие по улицам и размахивавшие продолговатыми листами печатной бумаги — экстренными выпусками телеграмм о последних вестях с фронта.
Но больше всего интересовал Жамбота и все сильнее притягивал его к себе этот старый завод.
Составленный из множества пристроек, с решетчатыми окнами разной величины и двумя трубами — одной широкой и короткой, как бочка, а другой высокой, уносящейся так высоко в небо, что смотреть на нее вверх кружилась голова, — завод в ранний час, еще при звездах, угрожающим воем гудка собирал людей, а отпускал их уже перед закатом, когда далеко ложились тени. Жамбот видел, как, протаптывая синие тропки среди розовых сугробов, люди в темных одеждах расходились по домам, окружавшим завод. Взметалось пламя над низкой трубой, и дым непрестанно изливался из высокой трубы, а в окнах играли хвостатые искры.
Мимо никогда не замерзавшего пруда, над которым всегда поднимался пар, так как сюда из заводских труб стекала теплая вода, Жамбот однажды робко прошел в старую механическую мастерскую, дивясь ее стенам, сложенным из дикого камня и по кладке напоминавшим крепость. Это была самая старая часть завода. Токарные станки стояли у самых окон, глубоких и полусводчатых, и все же здесь было сумеречно. Среднюю часть громадного цеха занимали сверлильные и фрезерные станки, здесь даже днем горели электрические красновато-тусклые лампочки. Движения резцов вверх и вниз, вращение станков, визг железа — все тут было непонятно Жамботу и все вызывало восхищение и интерес. Вот он и был наконец среди тех искусников, русских мастеров, сумевших перекинуть мост через Волгу!
Модельная, с низким потолком и такими же глубокими окнами, как и в механической, еще больше понравилась Жамботу. Огромные деревообделочные станки неторопливо пилили, строгали, ровняли, лощили дерево, и сладкий, живой запах его был так приятен, что уходить не хотелось. Те изделия, которые потом в гулких цехах отливались в металле, рождались здесь в деревянном обличье, чистом и нежном, как мысль в голове человека. Если бы позволяло время, Жамбот, с топором в руках обошедший Черное море, часами мог бы глядеть на эту чистую, красивую работу. Модельщики, все люди почтенного возраста, работавшие на заводе кто четвертый, а кто пятый десяток, сначала подозрительно косились на этого непонятного человека, носатого, обросшего густой черной бородой, в старинной длиннополой одежде, с кинжалом за поясом. Но он так приветливо улыбался, сверкая белыми зубами, всякому, кто с ним заговаривал, что отчуждение сменилось покровительственной снисходительностью, и, бывало не раз, старички, если Жамбот приходил в обед, угощали его — кто домашней кисловатой лепешкой, кто капустным или морковным пирогом. Жамбот никогда не просил. Но отказываться от угощения — значит обидеть угощавшего, К тому же, часто бывая голоден, он принимал угощение, кланялся, приложив руку к сердцу, скромно присаживался и ел, благоговейно и пристойно, не кусая от целого куска, а бережно отламывая и не роняя ни крошки. «Свое обхождение имеет», — говорили о нем старики. А он, о чем мог и на что хватало русских слов, рассказывал о себе.
Из горячих цехов Жамбот облюбовал кузницу. Литейная, темная и грязная, наводила на него жуть своими ямами, откуда вырывался огонь, освещающий снизу все громадное помещение. Такой представлялась Жамботу преисподняя. Кузница хотя и поразила его, но он сразу здесь освоился. Обходя кругом Черное море, он не раз нанимался молотобойцем, и хозяева всегда оставались им довольны. Но все кузницы, где ему случалось бить молотом, — и у себя на родине, и в Турции, и в Самаре, в «кузнешном завидении Берестава», — не очень отличались друг от друга, и везде хозяин кузницы нанимал силача молотобойца.
В заводской кузнице живых молотобойцев не было. Там работал один чудовищной силы механический молотобоец; он ворочал и грохотал молотами весом в десятки пудов, угрожающе свистел, поднимаясь белым облаком к потолку, и неустанно трудился. Этим молодцом молотобойцем был пар, тот же, что гонит по рельсам паровозы и вверх по воде — пароходы. Это он, повинуясь легкому нажиму ноги кузнеца, поднимал между неподвижными, на широкие ворота похожими станинами громадную бабку и с силой, какая требовалась кузнецу, ударял по раскаленной поковке. Вогнав ее в штамп, вделанный в наковальню, кузнец с помощью силы пара мгновенно придавал поковке такую форму, какая была вырезана на штампе.
И не знал Жамбот, что оборудование это уже устарело, что изобретены молоты и ковочные машины куда более совершенные и искусные. В продолжение последних тридцати лет скупые хозяева завода англичане Торнеры не поставили на этом заводе ни одной новой машины, все подновляя и починяя старые и надеясь на искусства русских рабочих.
Кузнецы были все люди рослые, крепкого сложения, и не сразу приметил среди них Жамбот маленького старичка в кожаном фартуке, с пушистыми, большими черными с проседью усами. А оказалось, что он-то и был богом в этой великанской кузнице. Иосиф Максимилианович Конвалевский, кузнечный мастер, конечно, совсем не походил на Тлепша, бога кузнечного мастерства, но живая фантазия Жамбота превратила его в одного из подземных жителей, которых называют заячьими наездниками, так как им служат не кони, а зайцы. Этим существам, живущим в недрах гор, ведомы все тайны добычи и изготовления металлов. Действительно, кузнечный мастер по своей многолетней сноровке обращения с металлами и в искусной обработке их превосходил всех. Простым глазом определял он тончайшие оттенки раскаленного металла. «Спелая вишня», «спелая малина», — говорил он, уподобляя эти оттенки оттенкам зрелости ягод и безошибочно указывая своим подручным кузнецам, когда наступает время начать ковку.
Для Жамбота кузница была не только местом необходимого и искусного труда. На родине его и до сих пор самые священные клятвы принимали, положив руку на наковальню и глядя на огонь, пылающий в горне. Согласно древним верованиям его народа, первый человек, подобно летящей звезде, упал с неба раскаленный. И как вода бурлит, нагревается и шипит, если опустить в нее раскаленный булат, так вскипел и весь парами поднялся первобытный океан, когда в него упал этот раскаленный до белого сияния человек. Загрохотала гроза, и теплые дожди упали на землю. Пышной зеленью покрылась до того времени голая земля, породила она гадов, зверей, и от любовной встречи земли с дождем опять заполнились впадины морей. А первый человек, так же как и любое булатное изделие, которое закаляется, опущенное в воду, тоже получил закал, и не было никого ни на небе, ни на земле, кто мог бы с ним сравниться в мощи, и «всего мира чело» — гордо назвал себя человек. Наверно, в эпоху великих открытий, когда человек, овладев тайной огня и металла, научился делать орудия и почувствовал себя господином вселенной, зародились эти верования, потому полной великого смысла казалась Жамботу кузница на этом старом московском заводе.
Жамботу в грохоте кузницы, в пламени ее гигантских горнов и едком запахе раскаленного металла невольно представлялась огромная, до самого потолка, фигура Небесного Кузнеца. И казалось ему, что молоты всех размеров, падая на раскаленное железо, с грохотом и шипением выговаривают имя Небесного Кузнеца: «Тлепш, Тлепш, Тлепш…»
Глава вторая
1
Знойным и тревожным бакинским вечером Сашу Елиадзе в числе прочих новобранцев дворянского происхождения под командованием старшего урядника казачьих войск провели по беспокойным бакинским улицам на товарную станцию и там погрузили в вагоны третьего класса. В ушах Саши еще раздавались нестройные бурные крики бунтующих бакинских новобранцев, расправившихся с наглым полицмейстером Лапиным; лицо Саши еще пылало от неистовой бакинской жары, и его легкие еще не остыли от раскаленного бакинского воздуха.
А уже к утру они оказались словно на другой планете — в сонной тишине и неге беспробудно спящего среди плодовых садов и виноградников закавказского захолустного городка. Здесь в стенах старинной крепости располагалось юнкерское кавалерийское училище. Срок обучения для тех, кто, подобно Александру Елиадзе, имел среднее образование, сокращался до полугода, а тем из молодых дворян, кто аттестата об окончании среднего учебного заведения не имел и должен был восполнить пробелы своего образования, предстояло пройти общий курс; срок обучения для них определялся в один год.
— Да я и сейчас могу сдать всю ту премудрость, которой нас пичкают здешние гимназические педагоги! — возмущался Михаил Ханыков, никаких аттестатов, кроме постановлений об исключении его последовательно из нескольких учебных заведений, не имевший.
Он писал рапорт по начальству и просил, чтобы его допустили к досрочному экзамену по гимназическому курсу, мотивируя свою просьбу патриотическим побуждением скорей оказаться на фронте. Но начальник училища, старичок генерал, срочно в начале войны вытащенный из запаса, хотя и отметил «подобающее дворянину патриотическое рвение Ханыкова Михаила», все же на рапорте его написал: «Отказать», а устно добавил: «Напрасно торопитесь, молодой человек, войны для вас еще хватит…»
Михаил и сам понимал, что войны для него хватит. По всему видно было, что Турция вот-вот вступит в войну на стороне австро-германцев и что Италия, явно изменив своим союзникам — Австрии и Германии, уже торгуется с англо-французами, чтобы вступить в войну на их стороне.
В тихий час между обедом и вечерними занятиями, забравшись в глухой угол монастырского сада, примыкавшего к училищу, толковали об этих аспектах международной политики Михаил и Александр. Они сохраняли приятельские отношения еще со времени своего знакомства в рекрутских казармах Баку. Что ж, с Михаилом можно было хотя бы поспорить без риска быть выданным училищному начальству!
Александр под предлогом устройства своих семейных дел дважды выезжал в Тифлис и встречался там с Алешей Джапаридзе, который уже взялся за собирание тифлисской большевистской организации. Саше даже удалось участвовать в знаменитой сходке на Давидовской горе, где Джапаридзе провозгласил тифлисскую большевистскую организацию вновь восстановленной.
— Овладевайте всей военной премудростью, которую может дать вам училище, — говорил ему Джапаридзе, — выходите в офицеры, и когда придет пора по слову Ленина повернуть солдатские штыки против царизма и капитала, тогда дело вам найдется…
Эти ясные и бодрые слова Саша помнил все время.
Он привез из Тифлиса большевистские прокламации и показал их Михаилу.
— Я могу уважать тебя за стойкость убеждений, но разделять их не могу, — сказал Ханыков. — Я кровью своей вдруг ощутил себя русским. Угроза тевтонского нашествия, кайзер Вильгельм…
Александр перебил:
— У нас свой кайзер не лучше Вильгельма, как и романовский режим не лучше гогенцоллерновского. А вообще говоря, дело тут в империалистических аппетитах обоих столкнувшихся трестов…
Спор происходил все в том же огромном плодовом саду, где они встречались. И когда, нарушая благодатную тишину, падало зрелое яблоко, спорившие испуганно оглядывались.
Михаила убедить не удалось, ну, а на других сотоварищей по юнкерскому училищу Александр и не рассчитывал. Оно было заполнено дворянскими недорослями русского и грузинского происхождения — тип, хорошо знакомый Александру по Тифлису. Сословное чванство, самодовольное невежество, назойливые выкрики о преданности династии, неискоренимое презрение к простым трудящимся людям и прежде всего к солдату — все это внушало Александру отвращение к сотоварищам по училищу. В часы досуга сальные разговоры о женщинах, наивное и жадное смакование будущих офицерских привилегий, под которыми многие подразумевали также и казнокрадство и обогащение за счет солдат, — таковы были юные дворянчики, собранные в кавалерийском училище. Несколько представителей ханских и бекских фамилий Азербайджана целиком слились с этой русско-грузинской дворянской молодежью.
Пожалуй, все же привлекательнее в нравственном отношении были определившиеся в училище армянские юноши-добровольцы. Фанатическая ограниченность их национализма претила Александру и делала невозможным какое-либо духовное сближение с ними, взгляды их были глубоко ошибочны, но у них хоть цель была: они пошли в русскую армию, надеясь отбить у турок многострадальную Армению.
Военные науки легко давались Александру; он относился к ним с интересом и жалел, что сведения, которые он получал на уроках топографии и артиллерии, были более чем ограничены. Наибольшее внимание уделялось заучиванию военных уставов и основному предмету училища — иппологии, учению о лошадях, учебный предмет, о котором Александр ранее даже и не слышал. С первого же дня пребывания в училище занятия по практической езде заняли в расписании уроков главенствующую роль. Александр не раз проводил летние каникулы в имении своих дядьев, в деревне, имел дело с лошадьми и хорошо ездил верхом. Но только в училище он узнал, что в верховой езде он придерживается правил «азиатской школы». Школа эта имеет свои достоинства и недостатки. Но, оказывается, есть еще «американская школа» верховой езды, в которой всадник ставит своей целью лишь достижение быстроты в передвижении. Об этой американской школе старший преподаватель верховой езды, сухонький старичок, весьма презрительно сказал, что она имеет лишь азартное назначение, так как предназначена для скачек. И старик, грустно вздохнув, рассказал, что «скачки, имеющие азартное назначение», именно и погубили его состояние, которое, как говорили шутники, «пошло буквально кобыле под хвост».
Старичок этот, князь Трубецкой, в молодости владелец большого конного завода, кавалерист-охотник и победитель на русских и международных скачках, будучи уже в преклонном возрасте, женился на красавице грузинке, с ее помощью окончательно разорился и доживал свой век в принадлежавшем ей именьице, в окрестностях того тихого грузинского городка, где расположено было училище.
Его вступительная лекция по иппологии начиналась так:
— Верховая езда есть благородное искусство. Назначение ее в том, чтобы, сидя на спине лошади или другого животного, как то: мула, верблюда, слона, — передвигаться различными аллюрами по разнообразной местности, по возможности меньше утомляя как себя, так и животное…
Упоминание о верблюде и в особенности о слоне вызвало сначала смех среди юнкеров. Однако старик, разглаживая свои крашеные усы и оглядывая птичьими, блестящими глазами класс, чтобы приметить смешливых, невозмутимо продолжал разбирать достоинства и недостатки слона, верблюда и мула с точки зрения их использования в кавалерии. Так привел он изложение к той мысли, что лошадь обладает идеальными свойствами для верховой езды, и закончил первую, вводную лекцию следующими словами:
— «Риттер», «шевалье», «кабальеро» — не случайно обозначают на разных языках понятие всадника, и все они суть обозначения благородного дворянства. Человек, севший в седло, становится благороден, ибо конь среди прочих домашних животных отличен интеллигентностью.
— В сравнении с нашим старичком не только коня, но даже любого осла можно рассматривать как профессора, — сказал Михаил Александру после первой лекции. — И что за самодовольное невежество! А такие слова, как «вотчинник», «помещик», связанные с отношением к земле, а не к коню, — как он их объяснит с точки зрения своей лошадиной теории?
— Конечно, ты прав, — согласился Александр, — но в этом старикашке есть какая-то своя законченность. И если нам суждено быть кавалерийскими офицерами…
— Не знаю, как ты, а я не предполагаю быть кавалерийским офицером! — сердито прервал его Михаил. — Я решил выбраться из этого идиотского учебного заведения, центром которого является конюшня, и я выберусь отсюда!
В молодости Трубецкой посещал манежную школу в Версале и сейчас на уроках верховой езды, несмотря на свои шестьдесят лет, показывал на коне все чудеса высшей школы манежной езды. Здесь был и изящный шаг пьяффе, и всевозможные пируэты и курбеты, и внезапное поднятие лошади на дыбы, песада, и каприоль, и лансада… Даже скептически настроенный в отношении всего этого Миша Ханыков сказал, что старик мог бы на худой конец еще заработать себе кусок хлеба в цирке.
Однажды, продемонстрировав ученикам чудеса манежной езды, старик, сойдя с коня, присел на скамейку и, похлопывая себя стеком по запыленным крагам, сказал окружившим его юнкерам:
— Однако, молодые люди, чудесное искусство манежной езды вряд ли пригодится вам на поле битвы, ибо при боевых действиях кавалерии необходимо совсем не то.
И тут началось докучное, каждодневное обучение правилам кавалерийского боя, быстрым переходам с одного аллюра на другой, умению ввести коня в бой шенкелями, давать повод и рубить с седла. Все эти занятия внушали Ханыкову такое отвращение, что он, наверно, сбежал бы из училища, если бы в результате отчаянного письма к старшему брату, офицеру генерального штаба, не был отозван из училища в распоряжение штаба Кавказского фронта.
Осень дерзкой ярью и желчью окрасила окрестные леса на горах. Снега Главного хребта спускались все ниже, и настолько тихо и сонно было в городке, что даже такое воинственное занятие, как рубка лозы, казалось всего лишь акробатическим упражнением, хотя война с турками уже началась и происходила она не так уж далеко от того городка, где расположилось училище.
Эта дремотная жизнь была вдруг круто оборвана войной. Из Тифлиса на взмыленной лошади прискакал нарочный, и училищное начальство, передвигавшееся ранее по двору и плацу с неторопливым величием, ускорило шаг, засуетилось.
— Турка на нас лезет… — И торговки, каждый вечер приносившие к воротам училища вино и фрукты, боязливо крестились.
Юнкера, слушая бабьи пересуды, посмеивались. К тому, что турки наступают, даже Александр, с детства наслышавшийся о победоносных действиях русских войск, отнесся с недоверием.
Но прошло еще два дня… На рассвете трубы пропели боевую тревогу. В холодный час, когда изо рта шел пар, училище поднялось и построилось. Взволнованный старичок генерал, начальник училища, сказал речь о славе русского оружия:
…Да, вам предстоит сейчас выступить на фронт, дабы отразить дерзкого врага.
Воодушевленно и дружно прокричали «ура», потом заседлали коней и переменным аллюром, переходя с рыси на шаг, а порой на галоп, двинулись по шоссе.
Медленно светало, сладко пахли погруженные в сонную тьму плодовые сады. Дорога вилась среди сжатых полей, и когда проезжали мимо деревень, слышны были глухие удары цепов, равномерно взлетавших и поднимавших рыжие облака мякины.
В полдень короткая дневка — и снова вперед, все вперед. Дорога стала круче, горы, то поросшие хвойным лесом, то голые, с заиндевевшими вершинами, приближались и окружали их. Становилось все свежее. Когда на рассвете следующего дня пришли они в Карс, шел тихий снег. Двигались на юг, а казалось, что движутся на север.
В Карсе у этапного коменданта был для них приготовлен горячий и обильный завтрак, но юнкера засыпали с ложками в руках — двадцатитрехчасовой перегон сказывался…
В полдень — побудка и быстрая поверка. После обеда зачитан был короткий приказ. Юнкерское училище приравнивалось к пехотному батальону и поступало в распоряжение командующего Сарыкамышской группой войск, генерал-майора Мышлаевского. С конями расстались. Саша даже не ожидал, что прощание с вороным мерином Мальчиком так тронет его сердце. Выданы были серые шинели, солдатские винтовки и мохнатые папахи. Кроме юнкерских кавалерийских погонов, которые тут же были пришиты к новым шинелям, ни одного признака дворянской конницы не осталось, и об уроках иппологии можно было позабыть. Пехота как пехота, только солдаты более, пожалуй, щупленькие и неуклюжие в непривычных после бешметов солдатских шинелях.
Медленно тащился поезд, горы становились все круче, сугробы по обе стороны линии все выше, солнце светило холодно и как-то особенно равнодушно.
«Что же это такое? — думал Александр. — Везут нас на юг, а вокруг становится все суровее и холоднее…»
Усталость брала свое, почти все спали, окна покрылись морозным кружевом. Остановка. Саша открыл окно. Красный закат, островерхие ели, взбегающие на белую от снега гору, воздух чист, прозрачен. И в этой тишине Саша впервые, услышал упруго-гулкие далекие звуки. Он прислушивался к этим казавшимся ему приятными звукам и сначала не придавал им значения.
— Пушки? — спросил кто-то вдруг поблизости, очевидно с подножки вагона.
— Пушки… — ответил кто-то снизу. — Третий день пальба идет.
— А где? — снова спросил тот же голос — наверно, юнкер, стоящий на часах.
И другой голос с усмешкой ответил:
— Приедете — увидите. Под Сарыкамышем.
2
Так впервые до сознания Александра дошло это слово — Сарыкамыш, которое потом надолго наполнилось для него суровым и зловещим содержанием.
Однако с той станции, на которой произошел этот разговор, поезду дальше двинуться не пришлось. Говорили, что Сарыкамыш отрезан турками, вышедшими на железную дорогу, соединявшую эту пограничную крепость с Карсом, что Сарыкамыш уже занят турками и его придется отбивать.
К вечеру юнкеров построили по два и двинули со станции в глубь леса по узкой, занесенной снегом дорожке. Порой лес расступался, и тогда по широким плоскогорьям раскидывались поля, под ногами шуршало прикрытое снегом жнивье. Юнкера проходили мимо безмолвных армянских деревень. Вросшие в землю, черные, подслеповатые домики, точно затаившись, прислушивались к далекому гулу стрельбы, подходившей все ближе. Огненные сполохи уже колебались над хвойными, замкнувшими горизонт горами.
Потом юнкеров остановили. Офицеры, прикомандированные все из того же таинственного и зловещего Сарыкамыша, приняли каждую из юнкерских рот. Так во главе роты, в которой состоял Александр, появился худощавый поручик Владимир Сорочинский с русыми прямыми волосами и тонкогубым, правильных очертаний, злым лицом. Он кратко рассказал цель всей операции: охват с трех сторон лесистой горки — там предполагались турки.
Начинался рассвет. Словно просыпаясь, заиграли краски. Встало солнце, зарыжели стволы сосен на горе, и одновременно послышалась близкая ружейная стрельба — передовые заставы юнкеров встретились с турками.
Турок, укрепившихся на лесистом холме, было немного, но отбивались они крепко — сначала ружейным огнем, потом прикладами и штыками. Когда турецкий ножевой штык пропорол шинель Александра, он, мгновенно ощутив смертельную угрозу, заученным на плацу движением вогнал свой штык в серо-мышиную куртку. И вдруг с ужасом и отвращением почувствовал, что штык его входит не, как на плацу, в мягкий тряпичный мешок, а в то неподатливое, живое, что должно быть священно и неприкосновенно, — в человеческое тело. Предсмертный крик турка весь день потом звучал в ушах Александра, и хотя день этот был солнечный, весь в блеске и голубизне снега, на всем словно лежала укоризненная тень.
Убитых турок стащили в одно место. Неподвижные, бородатые и горбоносые, с почерневшими узловатыми, жилистыми руками, они отличались от грузинских крестьян только тем, что у турок были бритые головы. Обмундированы турецкие солдаты были очень легко. Одеяла и башлыки не могли в условиях жестокого мороза заменить шинелей, и у многих турецких солдат руки и уши обморожены — видно, все последние дни провели они в тяжелых страданиях. Может быть, этим и объяснялось выражение важного покоя на лицах мертвецов.
Сорочинский в белом полушубке с золотыми погонами, кривя в какой-то радостно-ожесточенной гримасе свое раскрасневшееся лицо, поздравил юнкеров с боевым крещением. Тут же возле турецких трупов роздали сухари и консервы. «Так собак на охоте кормят», — подумалось Александру.
Едва они двинулись вперед, как застучали турецкие пулеметы. Пришлось залечь в снег, и с этой минуты снег, сначала колючий и легкий, а к середине дня оплотневший, стал для них как бы естественной средой. В снегу шипели ставшие уже привычными пули. В снегу, получив смертельные ранения, стеная и захлебываясь, расстались с жизнью знакомые Александру юнкера. Снег набивался в рукава и за воротник, таял, и вода, сначала холодная, нагревалась от соприкосновения с горячим телом. В снегу они закусывали хлебом и сахаром и запивали тем же снегом, от которого еще больше хотелось пить. Когда же на короткие мгновения внезапная дремота вдруг смежала глаза, под закрытыми веками мерцали только алые пятна на искрящемся снегу.
Все эти долгие часы — днем и ночью — Александр все же чувствовал, что они продвигаются куда-то вверх — медленно и неуклонно. Бывало, что турки с неистовым визгом поднимались в наступление, но вязли в сугробах, и фигуры их в коричневых одеялах и красных фесках становились тогда живыми мишенями.
В конце второго дня перед юнкерами наконец обозначилась цель их наступления. Похудевший, с черным ртом и провалившимися, лихорадочно сверкающими глазами Сорочинский показывал на эту всю покрытую снегом, мягко розовеющую при заходящем солнце седловину между горами и что-то кричал. Это и был Бердусский перевал — позиция, обеспечивающая подступы к Сарыкамышу.
Бой продолжался целую ночь. Сопротивление турок, сосредоточивших на перевале свои пулеметы, все возрастало. Юнкерам, чтобы выйти на перевал, приходилось выискивать укрытые места.
Александру надоело ползти в снегу, и он вдруг, облизывая пересохшие губы, поднялся во весь рост и побежал вперед к перевалу. «Все равно, если убьют, так пусть сразу…» С этой единственной горячечной мыслью, чувствуя, как тяжело бьется сердце, слыша, как свистят вокруг пули, бежал он вверх, стараясь ступать на камни, торчащие из-под снега. Он не знал, что за ним с криком «ура» поднялась вся цепь. Чувствуя, что задыхается, он убавил бег, и его опередили.
Александр добрался до перевала, когда турок выбили оттуда. Только стоны и проклятия на разных языках слышны были там, всюду чернели неподвижные фигуры. Он снял папаху с разгоряченной головы и огляделся. Вид, открывшийся сверху, поразил его. Тяжелый путь, за эти два дня проделанный ими в бою, весь был виден отсюда. Поднимающиеся вверх зелено-хвойные леса окаймляли голые нагорья, в долинах чернели деревни. А прямо внизу, за перевалом, как на ладони стоял русский город со своими прямыми улицами, белыми казарменными зданиями, бревенчатыми и кирпичными домами и русской церковью на пригорке. И то, что городок этот окружен был хвойными лесами, придавало ему особенно русский, северный вид.
— Сарыкамыш, — прошептал Александр. — Сарыкамыш…
Протяжно-хриплый, булькающий стон заставил его вздрогнуть и оглянуться. Он увидел искаженное страданием лицо с обкусанными губами и налитыми кровью глазами. Это был турок. Александр, забыв обо всем, движимый одной лишь жалостью, поднявшейся из заповедных глубин души, кинулся к турку, схватил его и стал приподнимать. Тот вырывался, дергался, что-то бормотал, и Александр вдруг понял, что турок умирает…
В ту же минуту он услышал резкий голос Сорочинского:
— Эй, юнкер, что вы тут нянчитесь?!
Почувствовав, как тяжелеет тело несчастного, Александр опустил его на землю и непонимающими глазами взглянул на Сорочинского, который подбегал, держа в руках саблю с окровавленным клинком. Выражение откровенного злого азарта на этом лице поразило Александра.
— Он умер уже… — тихо сказал Александр, показывая на турка.
— Готов? Видно, пришлось вам с ним повозиться, — сквозь зубы сказал поручик и вдруг быстро нагнулся и вырвал из каменеющей руки мертвеца древко, которое Александр только сейчас заметил.
Темный, как спекшаяся кровь, небольшой квадратный кусок бархата был украшен серебряной звездой с полумесяцем и какими-то крупными золотыми арабскими буквами.
Выражение жестокого азарта на лице Сорочинского стало еще явственней.
— Здорово… — сказал он, щеря зубы в улыбке. — Знамя, выходит, захватили?! Да, чтобы сразу так повезло, в первом же сражении… Ей-богу, вы в сорочке родились, — говорил он, рассматривая знамя и не замечая, что нога его стоит на раскрытой ладони убитого. — Как ваша фамилия? — спросил Сорочинский, вынимая из планшета с картой записную книжку.
3
Победа определилась, и турки отошли от Сарыкамыша, оставив несколько тысяч трупов и множество обмороженных и тяжелораненых солдат, попавших в плен к русским вместе с командиром 9-го турецкого корпуса Исмет-пашой.
Бои шли уже верстах в двадцати западнее Сарыкамыша, на турецкой территории. Кавалерийское училище, потерявшее около трети своего состава убитыми и ранеными, было заменено на фронте свежими, подошедшими из России войсками. Юнкеров отвели в Сарыкамыш, в близкий тыл, и включили в состав сводного крепостного полка, который нес гарнизонную службу.
Александр в числе прочих героев битвы был награжден на огромном Сарыкамышском плацу, возле собора, георгиевским крестом четвертой степени. Сорочинский в рапорте о подвиге юнкера Елиадзе не забыл и себя: оказывается, в решительный момент боя он пришел на помощь юнкеру Елиадзе, пытавшемуся отобрать знамя у турецкого знаменосца. За это поручик Сорочинский получил Владимира с мечами и золотое оружие.
Однажды Александр был в наряде на посту у денежного ящика, в кабинете командира сводного крепостного полка. Когда караульный начальник привел его в кабинет, Александр увидел, что здесь расположились несколько офицеров. Штабс-капитан Зюзин, заместитель начальника оперативной части полка, большеротый, лысеющий человек, всегда веселый и чем-то симпатичный, сегодня дежурил по полку. Очевидно, чтобы дежурство прошло веселее, он собрал своих приятелей. Среди них Александр с неприязнью увидел прилизанную и расчесанную на прямой пробор русую голову Сорочинского.
Зюзин о чем-то весело рассказывал. Когда Александр вслушался в то, о чем шла речь, он, стоя в темном углу кабинета, желал только одного: лишь бы господа офицеры не обратили на него внимания и не прекратили разговора. Впрочем, им, что называется, было море по колено: на столе стояли одна пустая и две уже откупоренные бутылки с коньяком.
— Да, о том, что наступление турок на Сарыкамыш разработано германскими генштабистами, — оживленно говорил Зюзин, — мы узнали в тот самый, как любит выражаться поручик Сорочинский, трагический момент сражения, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое, когда наше железнодорожное сообщение с Карсом уже было прервано турками. Именно в эту ночь наши разведчики, совершив дерзкий поиск в турецком тылу, взяли в плен начальника штаба двадцать восьмой турецкой пехотной дивизии. В его объемистом портфеле оказалась среди прочих бумаг копия оперативного приказа по третьей турецкой армии, содержавшего весь грандиозный план Энвер-паши. Этот план был не чем иным, как попыткой применить против нас навязчивую идею германского генерального штаба: предполагалось под Сарыкамышем устроить русским ганнибаловские Канны и, таким образом, одним ударом загубить всю огромную русскую армию.
Офицеры засмеялись.
— Колбасники… — сказал с презрением Сорочинский.
Зюзин бросил на него быстрый и несколько насмешливый взгляд.
— Должен сказать, что на нас, штабных офицеров, знавших всю обстановку, этот план произвел впечатление недостаточно обоснованного. Но все же видно было, что концентрация турецких войск вокруг Сарыкамыша происходит грандиозная. Когда же об этом приказе доложили нашему старику, тут-то и началось светопреставление, — с оттенком грусти сказал Зюзин.
— А, что говорить об этом старом трусе Мышлаевском, — сказал Сорочинский с тем же презрением, с каким он только что говорил о немцах-генштабистах. — Выпьем за тех, кто спас под Сарыкамышем славу русского оружия!
Офицеры молча чокнулись. Сорочинский, только что награжденный, в сущности предлагал выпить за самого себя. Очевидно, нескромностью этого тоста объяснялось сдержанное молчание, в котором было выпито вино.
— Что ж, — вздохнув, сказал Зюзин, — конечно, старик на этом деле обремизился. Осуждать его сейчас легко. Но первые действия Мышлаевского, когда он принял командование Сарыкамышской группой, были довольно разумны. Мы в тот момент вели неудачное наступление на Кепри-Кей, а он от этой затеи отказался и стал всерьез налаживать инженерные работы вокруг крепости, создал правильную схему артиллерийской обороны и навстречу наступающим туркам выдвинул два железнодорожных батальона. А так как к тому времени выпал глубокий снег, для продвижения этих батальонов приказал использовать сани, что было и находчиво и практично. Если бы все эти меры не были приняты, вряд ли мы сумели бы остановить противника примерно в восьми или десяти верстах западнее Сарыкамыша… Но ведь обстановка-то складывалась тогда для нас невеселая. Турки в тот момент вышли нам в тыл, на дорогу Сарыкамыш — Карс. Это первое. Из Ольты и Ардагана, где наши войска, оказывается, продолжали сражаться, сведений не поступало. Это второе. И тут, заглянув в захваченные турецкие бумаги, где были изложены сверхграндиозные планы Энвер-паши, в которых он предполагал взять Тифлис, старик наш с перепугу решил, что новые Канны чуть ли уже не осуществлены и что дорога туркам на Тифлис через Ардаган, Боржом и Ахалцих открыта.
Ведь Энвер как-никак зять султана, и хотя молод, но второе лицо в Оттоманской империи. Не щадя своей армии и расплачиваясь за каждый шаг тысячами обмороженных, он продолжал рваться вперед. Вот почему на воображение Мышлаевского так подействовал этот злополучный приказ по третьей армии, перехваченный нашей удалой разведкой. Тут-то старик и кинулся в Тифлис. — Зюзин покачал головой. — Позже Мышлаевский объяснял, что предполагал сформировать новую армию и встретить турок на подступах к Тифлису. Но это уже относится к разряду тех благих намерений, о которых правильно говорится, что ими вымощена дорога в ад.
— И все-таки вы напрасно, Михаил Николаевич, оправдываете с психологической, так сказать, стороны генерала Мышлаевского, — проговорил с твердым, чуть заметным армянским акцентом все время молчавший черноволосый офицер со сросшимися бровями. — Если бы вы были в это время в Тифлисе, вам не пришли бы в голову эти оправдания. Ведь как только генерал Мышлаевский прискакал в Тифлис, он первым делом занялся не чем-нибудь, а эвакуацией из Тифлиса своей семьи и имущества. Это достойно русского генерала, а? А ведь до своего назначения в Сарыкамыш Мышлаевский много лет был помощником и заместителем командующего округом, его весь Тифлис знал. Вот почему в той панике, которая разразилась в Тифлисе, повинен, конечно, генерал Мышлаевский. А тут еще их сиятельство наместник Кавказа князь Воронцов-Дашков заперся у себя в кабинете и перестал кого-либо принимать.
— Очевидно, решил дождаться турок в условиях наиболее комфортабельных, — усмехнулся Зюзин.
— Не могу знать… — жестко ответил офицер. — Но, знаете, видеть, как из Тифлиса начали уже эвакуировать ценности и в первую очередь казенные бумаги… Быть свидетелем того, как видные представители армянского и грузинского интеллигентного общества, не имевшие никакого желания встречаться с турками, покатились из Тифлиса кто куда, а некоторые даже докатились до самого Петербурга, знаете, видеть все это…
— Говорят, что положение спасла жена наместника? — спросил Зюзин, посмеиваясь и словно не желая придавать разговору серьезный характер.
— Именно так, — с гордостью ответил рассказчик. — Княгиня Воронцова-Дашкова, урожденная Абамелек-Лазарева, подобно многим армянкам, обладает решительным характером. Видя, что супруг ее… как бы это выразиться… ну, сел в бест, она взяла бразды правления в свои руки и послала меня на фронт выяснить положение…
Офицеры заговорили, засмеялись.
— А мы-то и не подозревали, что делается у нас в тылу, — сказал Зюзин. — Продолжали драться с турками и с божьей помощью крепко побили их. Взяли в плен две тысячи человек, очистили перевал Яйлы-Бердус и вышли в тыл одиннадцатого турецкого корпуса. Я был прикомандирован к отряду полковника Довгирда, совершавшего эту операцию, и только вернулся оттуда.
Турки, увидев у себя в тылу наш отряд, стали поспешно отходить. Теперь уже известно, что они разбиты и под Ольтой и Ардаганом. А вчера пленный турецкий офицер рассказал о бегстве в Стамбул нашего неудачливого турецкого Ганнибала…
Офицеры весело смеялись над Энвером и над собой, над Мышлаевским, над наместником и над его решительной супругой. Сорочинский пил коньяк и саркастически щурился. Александр испытывал неприязнь к этому офицеру, как будто даже в позе его со склоненной головой и рукой, сжимающей бокал, было притворство.
Спустя несколько дней пришел приказ о досрочном производстве юнкеров в первый офицерский чин, а вскоре после производства Александр удостоился неожиданной чести: зачисления в конвой для доставки в столицу многочисленных турецких знамен, взятых под Сарыкамышем. Произведенный в штабс-капитаны, Сорочинский был назначен начальником этого конвоя.
Глава третья
1
Русские войска взошли на Карпаты, и на дворе завода Торнера отслужили по этому случаю благодарственный молебен. Это было неподалеку от кирпичных штабелей, которые сторожил Жамбот. Чтобы рассмотреть все получше, он залез на кирпичи. Весеннее солнце ослепительно сверкало, отражаясь в золотой одежде священника, мальчишеский хор пискливо и старательно растягивал какие-то непонятные слова. И, отвечая им, густо рявкал дьякон.
После молебна самый младший из братьев Торнеров, Аллан Георгиевич, поднялся на трибуну, составленную из стульев, принесенных из конторы. Он кричал о победе, ругал немцев и хвалился союзниками, особенно Англией — «владычицей морей». Не мудрено, что столько говорил он об Англии: дед этих Торнеров сам приехал из Англии. Торнер кричал изо всех сил. Молодое, в коричневых бачках, лицо его побурело от напряжения, но все же сохраняло сонливость. Стулья при каждом его движении тряслись под ним, он судорожно хватался за их спинки, но сонливость с лица не сходила.
После молодого Торнера на стулья взобрался осанистый и крупный мужчина. По лоснящейся, хотя и аккуратной, одежде Жамбот признал в нем рабочего. Он посылал одно слово за другим через мерные промежутки, и воздух звенел от его высокого голоса… Стоял он крепко, расставив ноги, засунув руки в карманы пиджака, и стулья под ним не тряслись. Он убеждал работать возможно лучше, так как «завод стал оборонным, стал работать на нашу доблестную армию». Он уверял, что после победы над «варварами тевтонами» рабочим станет жить лучше. Жамбот вполне был с этим согласен, он помнил вековечный разбойничий закон войны: долю того, что победитель награбит у побежденных, получают также все, кто принадлежит к победившему племени. И очень был удивлен Жамбот, когда вдруг явственно услышал негромкий голос:
— Ишь стерва, как поет!..
Это сказал невысокого роста старый худенький человечек, стоявший рядом с Жамботом, его тощее, но всегда веселое лицо было точно сбито набок. Жамбот давно уже приметил его. Говорил он громко, двигался ловко, как молодой. Вот и сейчас Жамбот даже не слышал, как этот человек взобрался на кирпичи и встал рядом с ним.
— Надеется на господскую подачку, собачий сын, — слышал Жамбот его шепот. — Эх, нету ребят наших, соколиков, всех побрали летом — кого в тюрьму, кого на фронт. Вот он разнагишился и всякий стыд потерял.
И вдруг крикнул зло и яростно:
— Долой грабительскую войну! — и тут же спрыгнул с кирпичей.
Оратор запнулся, резко повернулся в сторону Жамбота, но стулья качнулись, и, не удержав равновесия, он спрыгнул на землю.
— Долой! Долой! — кричали в толпе то в одном, то в другом месте, и люди, раньше будто слитые воедино, теперь заговорили, заспорили.
Спустя несколько мгновений оратор уже снова стоял на стульях и снова говорил, но теперь уже не так красиво и складно, как раньше.
— Сойди-ка сюда, эй ты, чучело! — услышал Жамбот.
Внизу стоял молодой Торнер, сквозь надменную сонливость его лица пробивалась злоба. Жамбот соскочил с кирпичей.
— Ты видел, кто крикнул? Ты рядом стоял, — прошептал Торнер, вперяя в Жамбота темно-карие, без блеска и выражения, глаза. — Кто крикнул? Говори!
— Я не видел, — ответил Жамбот.
Тут руки молодого хозяина схватили Жамбота за грудь и с силой тряхнули его.
— Говори! — процедил он сквозь зубы.
Ветхая ткань Жамботова бешмета разодралась под рукой, и Аллан Торнер, отпустив Жамбота, брезгливо отряхнул руку, чтобы сбросить оставшиеся на ней ворсинки.
— Ты богатый, а я бедный, — укоризненно качая головой, сказал Жамбот. — У тебя много одежды, а у меня только одна, что на мне. Я туда смотрел, а того, кто тут стоял, не видел. Это твой человек, а ты его не узнал. Как же я могу его знать?
Младший Торнер, пробурчав какие-то ругательства, ушел.
Молебен кончился, и люди стали расходиться.
* * *
Победы были большие, а люди не радовались, нет, и многие женщины плакали. Те же слова, те же причитания, которые услышал Жамбот еще тогда, когда плыл по реке: «Голубчик мой, болезный мой, на кого меня покинул?..»
А солдаты, проходя по длинной окраинной улице, мимо завода, пели:
Во долине во карпатской русский раненый лежал, Он в руках своих могучих крест родительский держал. Над ним вился черный ворон…Совсем по-родному звучала для Жамбота эта песня. Ему представлялось, как в долине, среди гор, лежал, истекая кровью, Сослан-богатырь. Ворон летал над ним, а Сослан перед смертью говорил ему: «Ты не вейся, черный ворон…»
Война на все отбрасывала свою тень — и с лиц пропадало всякое выражение оживления, радости… Руки рабочих работали весело, споро, а лица были затенены заботой, горем. И только знакомец Жамбота, ремонтный слесарь Васильев, тот самый, который назвал войну грабительской, забравшись по лесенке вверх, под самый потолок, налаживая трансмиссии, туже натягивая ремни, напевал какую-либо частушку хрипловато-весело, как скворец. У него самого на фронте был сын, Жамбот знал об этом и еще больше уважал старика. Старик не унывает, не поддается горю, а старается развеселить и ободрить людей. Ведь и сам Жамбот нес в душе своей горе, но не поддавался ему и далеко от родины, в чужих краях, старался с незнакомыми людьми жить как с родными.
2
Кирпич сторожили трое: старичок в синих очках, потерявший зрение на заводе, молодой хромоногий парень и Жамбот, а тулуп был один на всех — ветхий, потершийся. Когда же настали настоящие зимние морозы, Жамбот на толкучем рынке купил себе шарф и обвязывал им живот. Отстояв свое, он отсыпался в чернобревенчатой, вросшей в землю сторожке, которую топили каменным, удушливо-сладко воняющим углем, и потому после сна всегда болела голова и по снегу перед глазами бежали красные круги…
Сторожка находилась неподалеку от проходной — такой же бревенчатой избушки с несколькими сквозными дверями. Через них приходили и уходили все рабочие и служащие. Хозяев привозили на завод сытые кони, у каждого из братьев Торнеров был свой выезд.
Верховодил всеми сторожами бритый старичок Лекарев с впалыми щеками и глухим голосом. Он, как и большинство стариков сторожей, весь век проработал на заводе. Он показывал Жамботу на ту самую старую, с маленькими, как бойницы, окошками часть здания, с которой и начался завод. Дед теперешних Торнеров — Джордж Аллан приехал в Россию работать механиком в чулочном заведении, принадлежавшем двум сестрам-старушкам. Через несколько лет это заведение перешло в его руки, и вместо чулок он стал здесь чинить и налаживать немудрые механизмы маленьких мастерских, расположенных по соседству, — швейных, прядильных и ткацких. Он мог даже изготовить часть какой-либо привезенной из-за границы машины. О том, как перешло в его руки заведение, говорили по-разному. Лекарев утверждал, что дедушка Торнер по-честному купил его. Но другие старики говорили, что англичанин сам разорил старух и за бесценок купил их заведение. Потом у князей Вяземских Торнер взял на оброк сорок семей крепостных и научил их работать на заводе, и они — Киреевы, Платоновы, Читаевы — до сих пор работают на заводе.
Жамботу казались наиболее достоверными те рассказы, согласно которым родоначальник Торнеров оказывался злодеем, — ведь и у него на родине родоначальники всех знатных и богатых семей были злодеями.
Жалованье Жамботу было положено семь рублей в месяц. Четыре он посылал каждый месяц в Арабынь, своему односельчанину, издавна работавшему там в кожевенной мастерской Сеидова, а тот уже с оказией пересылал эти деньги в Дууд, жене Жамбота. (В самый Дууд почта не ходила). Жамбот пристрастился в Москве к чаю. Кипятку в сторожке всегда было вдоволь, там все время булькал на огне черный огромный чайник. Черные плитки кирпичного чая покупали сторожа в складчину, наскребали его и сыпали в кипяток. Жамбот с наслаждением пил этот темно-бурый, вызывающий бодрость, не туманящий ума, подобно водке, напиток и запивал им сушеную рыбу — самую дешевую пищу, которая была на базаре, — и черный душистый русский хлеб. Раз в неделю — по пятницам — бывал Жамбот в бане, а после бани позволял себе роскошь: шел в трактир «Стрелка», который был так назван потому, что занимал острый угол между двумя расходившимися тут улицами. Горбатый гармонист в синей шелковой рубашке играл здесь то бешено-быстрые, то заунывно-медленные русские песни. Здесь можно было купить миску мясной похлебки, — мясо плохое, жилистое, со скверным запахом, а все-таки мясо. В трактире тайком продавали водку, запрещенную с самого начала войны. Стоила она дорого, и Жамбот покупал только так называемый «самодер», коричневый, сильно отдающий махоркой, одуряющий хмельной напиток. Водку подавали в бутылках из-под минеральной воды «Нарзан», ее называли орленой водичкой, потому что на этих бутылках изображен был орел. А «самодер» наливали в маленькие чайнички.
— Э-эх, гони еще чайник крушительного! — махнув рукой, кричал ремонтный слесарь Васильев, и ему приносили чайничек.
Здесь с ним и познакомился Жамбот.
— Не напрасно старики рассказывали, которые на Кавказе воевали, что черкес — верный человек. Не выдал ты меня этому Аллану-истукану.
От Васильева Жамбот узнал, что перед самой войной пришли в Москву вести из Петербурга и Баку о том, что поднялись там рабочие за лучшую долю, и тогда москвичи тоже, оставив заводы и фабрики, с красными знаменами вышли на улицу. Но тут началась война, всю молодежь, самых боевых, забрали на фронт, а на заводе от имени рабочих стал говорить тот самый, которого Васильев пренебрежительно называл «Арсюшка — хозяйский пес», тот, который выступал на молебне. Васильев часто ругал этого человека и один раз назвал его «предателем Интернационала». На недоуменный вопрос Жамбота старик рассказал, что еще до войны у рабочих всех стран было заключено могучее братство для великого дела, для того, чтобы свергнуть богачей по всей земле, а богачи догадались и натравили народ на народ. Ну, а вот такие, из рабочих, как тот Арсюшка, помогали им в этом.
Однажды старик, распалившись, начал на весь трактир кричать против войны и богатых, против царицы и Распутина. Из-за бархатной занавески, висевшей в углу, тотчас же появился хозяин трактира, приложил ладонь к уху, потом надел очки и, вытянув шею, уставился туда, откуда неслась брань. Жамбот понял, что дело это может кончиться плохо. Схватив своего друга, он поволок его из трактира, а тот, заливаясь слезами, уже говорил о сыновьях, которые льют кровь на далеких Карпатах. Жамбот понимал, что плачет старик не только о своем сыне, а о сыновьях всего народа.
От трактира до квартиры Васильева было недалеко — улицу перейти. Он жил в одном из красных двухэтажных домов, вытянувшихся от завода к заставе. Шагнув с улицы три ступеньки вниз и постучав в темную, обитую гнилой рогожей дверь, Жамбот передал Васильева из рук в руки такой же, как муж, веселой и болтливой старушке, его жене. Она, ахая, приняла мужа в свои объятия.
В комнате их, находившейся в полуподвальном этаже, очень нравилось Жамботу. Белые одеяла на постелях придавали комнате чистый вид, таинственно светилась лампада перед доброй матерью русского бога, ноги неслышно ступали по половикам, а на стенах висели одна против другой две картины. На них зигзагами прочерчены были молнии, но одна картина была синего цвета и изображала бурю на море, а другая, желтого, — бурю в пустыне. И там и здесь гибли люди: одни тонули в воде, другие задыхались в песке, и хотя приятно было подумать, что находишься в тишине и чистоте, по картины эти напоминали, что не все в мире так тихо и спокойно, как в этой комнатке.
Посредине зимы, незадолго до масленой случилась с Жамботом беда. В сторожку пришел полицейский и велел Жамботу показать паспорт. Тут Лекарев мигнул Жамботу, отвел полицейского в сторону, пошептался с ним, и в этот месяц Жамбот получил вместо семи всего два рубля жалованья. Туговато было Жамботу в этот месяц. А тут скоро подошла пасха, опять был молебен, а после молебна выдали наградные, и Жамботу достался рубль. Выдавали сами хозяева. Младший Торнер, в фуражке с молоточками, в куртке с пышным меховым воротником, медным голосом выкликал фамилии, а старший, рыжеусый, в золотых очках, вручал вызванному вперед рабочему — кому пятьдесят копеек, кому рубль. А были и такие, которые получали по три рубля. Давая деньги, хозяин жал рабочему руку. В толпе кряхтели, кашляли, и очень много полицейских стояло во дворе.
Жамбот рассматривал хозяев. Старший ему нравился больше других. Пожимая руку, он иногда добавлял имя и отчество или похлопывал рабочего по плечу. А Жамботу он отрывисто сказал:
— Черкес? Старайся, старайся!
Младший же стоял истукан истуканом, лицо у него было, как всегда, сонливо и пасмурно, а неподвижные глаза смотрели куда-то поверх людей.
В сторонке, вместе с другими инженерами, находился средний из братьев — Георгий Георгиевич, он был похож на старшего, только потоньше и сутуловатей. Его Жамбот не раз уже видел. Он приходил на завод вместе с рабочими и уходил позлее всех, он служил на заводе старшим инженером. Четвертого из братьев, Ивана Георгиевича, Жамбот ни разу не видел, так как тот с самого начала войны уехал в Англию.
Когда зима пошла на убыль, заметил Жамбот, что на пустыре, неподалеку от кирпичей, которые он сторожил, началось оживление, появились люди с кирками, ломами и лопатами, звонко застучало железо о смерзшуюся, еще не проснувшуюся землю. Повсюду еще лежал белый, нетронутый снег. Но солнце светило все ярче и ярче, и Жамботу стали вспоминаться днем и сниться по ночам ослепительно белые снега над аулом Дууд. Снилось ему, что Оркуят, любовь его юных лет, с которой ему не дали соединиться, в белом платке, легко, как облако, убегает от него вверх, а он бежит, гонится за ней и не может догнать, и вот она уже облаком уносится в синее весеннее небо, а он стоит один на вершине.
И стало Жамботу казаться, что вокруг все слишком плоско и голо, глаз с тоской искал гор. В свободное время Жамбот полюбил взбираться на красновато-ржавую кучу железного старья, громоздившегося чуть ли не выше здания завода, — ржавым цветом отличались горы на родине Жамбота. Отсюда видны были старые строения завода, лепившиеся одно к другому, с их различными окнами, и та оживленная возня, что шла на пустыре возле завода. Снег только стал сходить, а уже над землей поднялась кладка новой стены. В эти часы и на небе господствовали красные цвета, и так все кругом становилось ало, багряно, и столько слышно было людских голосов и движения, что Жамботу тоже не хотелось быть лишним. Тут он достал свою свирель и заиграл на ней.
— Ай да Жамбот, что живет без забот, сыграл бы что-нибудь повеселее.
Внизу, около кучи, стоял молодой паренек с бледным и нежно-румяным лицом. У него широкие брови цвета спелой пшеницы, тонкая шея обмотана теплым шарфом. Засунув руки в карманы, он зябко ежился.
— Я уж думал, Жамбот, что с осени ты улетел вместе с журавлями на юг, на Кавказ.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут и что я с Кавказа? — удивленно спросил Жамбот.
Парень взбежал по ржавому железу и сел рядом с ним.
У него были ярко-синие, как весеннее небо, глаза.
— Я все знаю, — таинственно сказал он. — А тебя как не заметить, когда ты целые дни торчишь возле кирпичей.
Парень взял из рук Жамбота свирель и стал рассматривать ее.
— Сам делал?
— Сам.
— Здорово! — с восхищением сказал парень. Он приложил ее к губам, но звук получился хриплый.
— Ничего, — сказал Жамбот, утешая. — Каждый человек свое дело знает. Какое твое дело?
— Я слесарь, — гордо сказал паренек.
— А давно работаешь?
— Первый год. — Голос мальчика звучал хрипловато-грустно. — В прошлом году мама моя умерла, а отца еще в русско-японскую убили. Я у дяди живу, у Платонова Николая Степановича, меня тоже Колей зовут… Знаешь токаря Платонова, в старой механической работает, первый станок, сбоку, как войдешь? Он тридцать лет на заводе работает, во!
— А ты один год? — со смешком переспросил Жамбот.
— Считаешь, я хвастаю? Плохо работаю? Прошлый месяц двадцать рублей заработал, не всякий слесарь так заработает…
— Большие деньги, — сказал Жамбот. — Мне семь рублей платят.
— Маловато. Да ты ведь домой посылаешь.
— Откуда ты знаешь? — удивился Жамбот.
— Я все знаю, — важно ответил Коля. — Я факир. Ты в цирке не бывал? Нет? Э-э-эх, брат, ничего ты еще хорошего не знаешь! — И, взглянув на Жамбота, он захохотал. — Да я тебя на почте видел. Я сам деньги посылаю в деревню, сестре. А зачем ты к нам сюда приехал? Деньги заработать?
— Я не приехал, а приплыл, — важно сказал Жамбот.
— Как это в Москву приплыть можно? — с удивлением переспросил Коля.
— Старая дорога. С Баку по морю — будет Астрахань, потом вверх — будет Нижний…
— Понятно. А потом по Оке и по Москве. Это мы в школе учили: Волжский бассейн. Здорово. Зачем же ты все-таки так далеко от родины уехал? У вас там горы, «дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы, и надо мной кричат орлы и ропщет бор…» Хорошо, вольно!
Жамбот промолчал. Рассказывать о князьях Дудовых, о восстании, о старых цепях? Но кто его знает, этого мальчишку? И Жамбот сказал:
— Дома заскучал. Поеду, думаю, к русским, буду помогать им завод строить, снаряды делать, немцев бить.
Коля искоса поглядел на Жамбота.
— Это ты что, сам придумал или научил тебя кто?
— Зачем научил, сам придумал, — смеясь, говорил Жамбот.
Паренек, видно, хотел что-то возразить, но потом раздумал и только сказал:
— Неправильная эта война.
— А бывает правильная? — спросил Жамбот шутливо.
— Бывает, — ответил мальчик. — Вот буры против англичан землю свою защищали, песня такая есть про Трансвааль. Или Гарибальди — против австрияков…
Так сдружились они. Проходило несколько дней, и снова после работы, в часы заката, встречались друзья на куче железа.
Много чего повидал Жамбот и с охотой рассказывал, когда находил благодарного слушателя.
— Вокруг Черного моря? Подумай-ка… А я только и знаю нашу Перепеловку да здешнее место — Огородники. В Москве второй год, а что она такое — Москва, времени все нет посмотреть…
Коля, вдруг толкнув Жамбота плечом, сказал:
— Погляди-ка!..
На широкий двор, по которому все время сновали люди с тачками и проезжали подводы, вбежал синий вороненый, сверкающий автомобиль. Шофер выскочил и открыл дверцу автомобиля. Толстый человек в черном котелке и пальто вылез оттуда и встал, оглядываясь… Из двери заводоуправления торопливо, направляясь к нему, шел младший Торнер в своей короткой клетчатой куртке с пушистым меховым воротником.
— Еще какой-то буржуй приехал, — сказал Коля.
— Важный господин, — проговорил Жамбот.
Как бы удивились они оба, если бы знали, что в цепи тех событий, которые обусловили их встречу друг с другом здесь, на дворе старого завода, одним из самых важных звеньев была неистовая жажда обогащения, владевшая этим человеком и пригнавшая его сюда, так же как несколько лет назад пригнала в горы Веселоречья!
3
Рувим Абрамович Гинцбург, появившийся в этот солнечный весенний день на дворе завода Торнера, был в продолжение нескольких десятков лет частным поверенным фирмы «Торнер и сыновья». Еще тогда, когда Рувим Абрамович, по окончании университета, стажировал у старого опытного адвоката, он по поручению своего принципала не без трепета входил в полутемный кабинет старика Торнера. Когда, женившись на единственной дочери своего принципала, Гинцбург после смерти тестя унаследовал его контору, он сохранил в непосредственном своем ведении юридическое представительство старой фирмы, хотя среди многообразных дел, которыми занимался Рувим Абрамович, дела, связанные с фирмой «Торнер и сыновья», занимали место едва ли не самое ничтожное. Для Рувима Абрамовича связь с Торнерами издавна была лишь подспорьем в его финансово-спекулятивной деятельности: ведь старший из братьев, Яков Торнер, московский домовладелец и русский подданный (хотя и англиканского вероисповедания), был директором московского отделения того мирового банка, негласным руководителем которого в России был господин ван Андрихем.
Но с начала войны Гинцбург вынужден был уделять все больше внимания делам фирмы, а потом и заинтересовался этими делами по существу. В торнеровской семье, обычно дружной, возник в это время раздор, и Гинцбург почувствовал, что на этом раздоре он сможет нажиться.
Окончив весной 1914 года Технологический институт, Аллан Георгиевич принял общее руководство делами фирмы, так как старший Торнер, Яков Георгиевич, летом 1914 года заболел и на продолжительное время уехал на курорт. Иван Георгиевич застрял в Англии, а Георгий Георгиевич был старшим инженером завода и давно в общее руководство фирмой не вмешивался. Впрочем, старшие братья утверждали, что младшие между собой с самого начала сговорились действовать сообща. Да и трудно представить, чтобы Аллан мог задуманные им нововведения проводить без ведома и даже прямого содействия Георгия, который целые дни находился на заводе.
Нововведения Аллана Георгиевича заключались в том, что он в начале войны, приняв заказ на поставку снарядов для трехдюймовых пушек, чтобы выполнить этот заказ, задумал построить новый цех. Самое главное: потратил на закупку строительных материалов (тот кирпич, с которым приплыл в Москву Жамбот и который он всю зиму охранял, тоже был куплен тогда же) не только свои, полученные под заказ средства, но и часть тех, что в начале года должны были быть усланы в Английский банк, куда Торнеры год за годом и поколение за поколением делали вклады. Когда поздней осенью 1914 года Яков Георгиевич, прибыв с курорта, узнал о намерениях и действиях младшего брата, он вознегодовал и запротестовал. Аллан не пожелал уступить. Георгий, стараясь примирить братьев, явно выгораживал младшего и поддерживал его. Ивану написали в Англию, и он телеграфировал, что во всем согласен со старшим — Яковом.
С тех пор железо, строительный лес и кирпич, который сторожил Жамбот, мертвым капиталом лежали во дворе, обременяя баланс завода. Договор на армейский заказ не выполнялся, что грозило крупной неустойкой… Все запуталось. И братья вызвали на один из семейных советов своего юриста, — опыту и деловому благоразумию Рувима Абрамовича они вполне доверяли. И, как это ни огорчительно было Аллану, Рувим Абрамович сразу же заявил, что Яков Георгиевич прав, что Аллан Георгиевич нарушил основной документ, на котором покоилось существование фирмы, так называемое «дедушкино завещание». Согласно этому завещанию, составленному еще основателем фирмы Алланом Георгиевичем первым, весь чистый доход завода должен был ежегодно переводиться в Англию и храниться в банке, ежегодные проценты с этого капитала поровну делились между владельцами. Аллан горячился, доказывая, что в понятие «чистый доход» не могут входит расходы, потраченные на расширение дела. Но Рувим Абрамович вынужден был ему напомнить, что предусмотрительный дедушка Торнер в одном из пунктов завещания обусловил, какая именно доля прибыли должна идти на восстановление оборудования завода.
— Так ведь мы за последние двадцать лет ни одной новой машины не купили! — воскликнул Аллан.
— Скажи, не за двадцать, а за тридцать лет, — мягко добавил Георгий.
Рувим Абрамович точно знал, что младшие братья говорят правду: из года в год увеличивая свой капитал в кладовых Английского банка, Торнеры не истратили ни копейки на оборудование. Они в продолжение полувека переводили в Англию обращенный в золото тяжелый труд рабочих своего завода — русских рабочих. Рувиму Абрамовичу также было известно, что торнеровский капитал, скопившийся более чем за полвека, уже превышает миллион фунтов стерлингов и что предусмотрительный дедушка, таким образом, заложил основу для процветания своих потомков до тех пор, пока крепко стоит финансовое могущество Сити, а в то время казалось, что этому могуществу не будет конца. Но Рувим Абрамович, отдавая должное предусмотрительности торнеровского дедушки и признавая, что Яков Торнер, порицая Аллана Торнера, твердо стоит на почве завещания, все же не мог не сочувствовать Аллану Георгиевичу. Рувима Абрамовича давно уже удивляло и возмущало старомодное отношение Торнеров к своему капиталу: довольствоваться тремя процентами годовых, когда они, пустив свой капитал в оборот, могли бы иметь двадцать, тридцать, пятьдесят процентов, ничего не затрачивая… Увеличивать прибыль, ничего не затрачивая, всегда было идеалом, мечтой Рувима Абрамовича, он с жадностью стремился к этому идеалу, но убытки все же были обязательной и постоянной, хотя и досадной, частью его расчетов. Однако с начала войны наконец-то открылась эта сказочная возможность наживать, ничего не затрачивая. Младший Торнер правильно почувствовал это, но не додумал до конца. Снаряды! Изготовление снарядов должно было открыть неисчерпаемые источники обогащения для фирмы…
Рувим Абрамович слушал, как, доходя уже до резкостей, раскрасневшись, спорят старший и младший и как средний укоризненно качает головой и все чаще обращает свои водянисто-голубые глаза к Рувиму Абрамовичу с просьбой найти выход и водворить мир… И тут вдруг в усталом и разгоряченном мозгу Рувима Абрамовича мелькнула одна неожиданная мысль — настолько неожиданная и дерзкая, что вначале он даже не решался сам себе поверить. Рувим Абрамович даже приподнялся в кресле, но тут же удержал себя. Было бы безумием говорить то, что самому еще не ясно. Да нельзя говорить еще и потому, что комбинация эта, как, впрочем, все комбинации, рождавшиеся в мозгу Рувима Абрамовича, сулила серьезную выгоду прежде всего ему самому.
Сославшись на усталость, Рувим Абрамович предложил прекратить разговор и сказал, что он подумает о деле. Из кабинета Якова Георгиевича, наполненного дымом, все перешли в столовую, где уже давно был сервирован холодный ужин…
В эту ночь, вернувшись в номер гостиницы, Рувим Абрамович дал телеграмму домой, в Петроград, что он задержится в Москве, затем заказал крепкого кофе и на всю ночь засел за расчеты. На его счастье, Швестров в этот вечер был у себя дома. Рувим Абрамович время от времени звонил ему и получал от него экономические, технические и финансовые справки из единственной в своем роде справочной библиотеки, составленной Швестровым.
К шести утра все было обдумано, проверено, подсчитано. Проснувшись в одиннадцать часов утра, Рувим Абрамович вызвал стенографистку и за завтраком продиктовал два письма: одно, исходящее от него самого, адресовано было всем братьям Торнерам, второе — только одному Аллану. По телефонному звонку Гинцбурга в гостиницу примчался на своей дышловой паре Аллан Георгиевич Торнер. Проект обоих писем был ему вручен немедленно. Рувим Абрамович лежал на кушетке и, приспустив покрасневшие веки, с интересом и ожиданием поглядывал на Аллана, который, сидя боком на подоконнике и покачивая одной ногой в кожаной краге, читал предложение Гинцбурга… Нога постепенно перестала раскачиваться, лицо младшего Торнера, с коричневыми бачками, теряло выражение напускной самоуверенности и становилось все заинтересованней… Когда он перешел к письму, адресованному только ему одному, он хлопнул себя ладонью по крепкой ляжке и, обрадованно крикнув:
— Ш-шик! Эт-то шик! — резко соскочил с подоконника.
Рувим Абрамович так же быстро встал, они сошлись посреди комнаты.
— Значит, компаньоны? А? — уверенно спросил Рувим Абрамович.
— Компаньоны, конечно компаньоны! — торопливо подтвердил Аллан.
И тогда Рувим Абрамович подошел к маленькому столику, заставленному чем-то и прикрытому белой салфеткой. Рувим Абрамович сдернул салфетку, — там стояла заранее приготовленная бутылка шампанского и всякая закусочная снедь.
Комбинация, предложенная Рувимом Абрамовичем, состояла в следующем.
В первом письме, обращенном ко всем братьям Торнерам, как владельцам завода, Рувим Абрамович предлагал: Аллан Георгиевич признает себя виновным перед братьями и из собственных средств покрывает те затраты, которые он сделал на приобретение строительных материалов для постройки нового цеха. Оставаясь по-прежнему компаньоном старой фирмы, он предпринимает на свой страх и риск строительство нового снарядного цеха, для чего братья выделяют ему на общезаводской территории необходимый участок и обязуются первые три года снабжать цех электрической и паровой энергией, стоимость чего Аллан братьям оплачивает.
Во втором же, гораздо более кратком письме, адресованном только Аллану, Гинцбург предлагал себя в компаньоны по строительству нового цеха. Каждый из компаньонов вносил равную долю. Но так как у Аллана Торнера достаточных денег не было, Гинцбург ссужал его и получал от него соответствующий вексель. Старшие братья пока должны были знать только о первой комбинации. О взаимоотношениях Аллана Георгиевича и Рувима Абрамовича они узнают позже…
Новые компаньоны, распив бутылку шампанского, покатили на завод.
— А что? Какое им дело, черт побери, откуда я деньги достану? — задорно кричал Аллан, натянув вожжи, чтоб сдержать свою дышловую вороную пару, разлетевшуюся по двухверстному простору Серпуховской. — Может, я женюсь на богатой невесте. Ведь Яшка женился на Хрюминой — а чем я хуже?
— Погодите, мы еще весь завод к рукам приберем! — крикнул ему на ухо Рувим Абрамович.
Но Аллан Георгиевич, хотя и был разгорячен выпивкой и открывшимися перед ним перспективами, все же не мог не счесть слова Гинцбурга совершенно беспочвенными.
— Вы все-таки не знаете нашей семьи, Рувим Абрамович. Вы видите, Яков готов был против меня судебный процесс начать, и все по воле покойного дедушки. Хотя наша бабка и мать — замоскворецкие купчихи, британский дух все еще владеет нами и связывает нас с Альбионом.
— Вы даже сами не представляете себе, как связывает, — ответил Гинцбург. — Эту связь почувствовал на себе один из ваших братьев. Конечно, вам не может быть известно, что Иван Георгиевич Торнер, находясь в Англии, влюбился в английскую леди без всяких средств, и так как она не хочет ехать в Россию, то он предпочитает остаться в Англии.
— Откуда вы знаете? Вот так новость! Он Яшке писал? Или вам? — остановившись возле самого торнеровского подъезда, воскликнул Аллан.
Но Рувим Абрамович закрыл ему рот.
— Ш-ш-ш… Никто об этом не знает и не будет знать, пока сам Иван Георгиевич не скажет, — прошептал он.
— Так откуда же вы знаете?
Рувим Абрамович длинно усмехнулся.
— Я ваш поверенный и должен знать обо всем касающемся владельцев фирмы, какой бы фантастический характер ни приобретали их намерения и хотя бы они находились в Южной Америке.
— Да… Если наш Ваня захочет превратиться в Джона, фирма наша может потерпеть некоторые изменения, — медленно сказал Аллан, с которого соскочил всякий хмель.
Вот следствием каких обстоятельств было то оживление на дворе торнеровского завода, которое ранней весной 1915 года заметил Жамбот.
Глава четвертая
Зима каждый год на несколько месяцев отрезала аул Баташей от всего мира. Случалось, что в самой Баташевой долине снегу не было всю зиму, тихое солнце светило, как весной, и на освещенных склонах гор зеленели травы. Но стоило лишь выйти из пределов долины, защищенной горами, и сразу почувствуешь северный ветер. Стеной встанут перед глазами высокие сугробы, под которыми слышно, как глухо рычит незамерзающая Веселая река, невидимая и потому более опасная, чем всегда, — чуть оступишься с узкой дороги и провалишься в пропасть. Потому-то в Баташевой долине всегда с таким нетерпением ждут наступления весны. Только возьмется по-настоящему греть солнце, сразу огромными лавинами низвергаются в ущелья куски снеговой брони, выше своих берегов поднимается Веселая и затопляет ущелье, размывает льды и снега. Три дня грохочут обвалы, бушуют вешние воды — и вот двери темницы, в которой несколько месяцев был заточек аул Баташей, сломаны. Еще Веселая бушует, воет совсем близко, обдавая ледяными брызгами отважного спутника, но уже узкая дорога по правому берегу выступила из-под воды и связь Баташея с миром восстановлена. Весело делается на душе, когда после трех месяцев впервые доберутся до Баташея гуськом запряженные трое коней, и на каждом приторочены огромные кожаные сумки, — это привезли почту. Теперь уже нужно ждать приезда купцов с товарами, потом появятся гости…
В эту весну первые гости приехали к старому богачу Хаджи-Дауту Баташеву — дочь его Балажан с мужем, удалым Батырбеком Керкетовым. В прошлом году осенью поссорился Батырбек с Хаджи-Даутом и на всю зиму увез жену в Арабынь. Но соскучилась Балажан по отцу и сразу, как только открылась дорога, приехала повидаться со стариком.
Потом стали возвращаться с заработков молодые парни: в эту первую зиму войны рабочие руки нужны были в богатых помещичьих и казачьих хозяйствах, на мельницах и стройках… Вернулись и двоюродные братья Касбот и Сафар — сыновья Мусы и Али Верхних Баташевых.
Только вернулись парни и роздали подарки, как еще один гость приехал к Верхним Баташевым — третий из сыновей Исмаила и Хуреймат, солдат Кемал.
Жена его, Фатимат, пока Кемала не было в ауле, жила по-прежнему в родовом доме Верхних Баташевых. Но, вернувшись, Кемал не стал селиться у родни. Отодрав доски с заколоченных окон собственного опрятного домика, построенного на половине пути между аулом и домом Верхних Баташевых, он поселился там вместе с женой.
Золотыми погонами подпрапорщика были украшены плечи Кемала. Серебряный крест Георгия на полосатой ленте, дарованный за подвиги, совершенные на войне этой весной, красовался на его плоской груди.
Кемал никогда разговорчивостью не отличался, а сейчас «скорей из камня воду выжмешь, чем из него слово», — так говорили о нем жены старших братьев. Оставаясь наедине с женой, он, конечно, разговаривал с ней, и от нее удалось кое-что разузнать. В том бою, за который Кемал получил георгия, ранен был князь Темиркан; ему разрешили лечиться дома, и Кемал сопровождал его до Арабыни.
Снег уже сошел везде, и на дню по многу раз то шел дождь, то светило солнышко. И случилось раз так, что нижний конец долины был под темной дождевой тучей, а наверху жарко светило солнце, весною в горах иногда бывает такая погода.
Касботу Баташеву нужно было в этот день попасть сверху в нижнюю часть долины. Он сидел на камне и глядел вниз, выжидая, когда пройдет дождь. Вдруг из-под дождевой завесы вынырнули трое всадников, с их мокрых бурок текло, как с кровли. Всадники заехали в поселок к Даниловым и спешились перед домиком деда Магмота. Жена его, старушка Зейнаб, жила сейчас одна, поджидая мужа, сосланного после восстания на пастбищах куда-то в Сибирь. И Касбот поспешил в поселок Даниловых, ему, как внуку деда Магмота, полагалось помочь своей бабушке принять гостей.
И как же обрадовался он, когда увидел на дворе своего молодого дядю, младшего брата матери, рыжебородого и синеглазого Бетала Данилова! По-хозяйски, сняв с себя форменную серую черкеску и оставшись в одной отделанной мелкими пуговками шелковой синей рубашке, Бетал кинжалом рубил головы курицам, которых бабушка Зейнаб, плача от радости и не переставая расхваливать сына, подсовывала одну за другой.
— Да хватит, — сказал сурово Касбот, — три гостя приехали, а вы для них всех кур перережете.
— О-о-о, Касбот, солнышко наше! — бросая окровавленный кинжал и улыбаясь во весь рот своей широкой и доброй улыбкой, сказал Бетал. Они обнялись.
— Каким ты скубентом! — сказал Бетал, оглядывая длинные брюки Касбота, купленные в Арабыни.
— А ты чего бороду отрастил, как русский поп? — сердито ответил Касбот.
— Приказ был такой от начальства, — охотно стал объяснять Бетал, самодовольно поглаживая свою рыжую, пышную, как лисий хвост, бороду. — Чтобы враг нас страшился. Вот и приказало начальство всем длинные бороды отпускать.
— Видать, не страшна ваша воинская сила, если бородами пугать приходится, — съязвил Касбот в отместку за непонятное слово «скубент», относящееся к длинным брюкам.
— В русских городах все носят только такие брюки, они крепки и дешевы, ходить в них тепло, удобно, и не нужно покупать дорогих высоких сапог. А в Баташее все смеются над этими брюками, и только Разнят Хасубова, взглянув на них, заплакала.
За эту зиму Разият из босоногой и резвой, как жеребенок, девочки превратилась в степенную девушку с длинными черными косами и таким нежным и диким взглядом черных глаз, от которого у многих парней сердце замирало. Но она глядела только на своего Касбота, всегда точно невыспавшегося и неторопливого, и даже позволила ему надеть себе на палец колечко с синим камешком — сапфиром, дарующим мир и счастье в семейной жизни, — и колечко пришлось в самый раз.
В самый раз пришлось колечко, а до свадьбы еще далеко: ведь не в длинных же брюках свататься, черкеску нужно справить, и бурку, и сапоги, деньги надо иметь, калым заплатить…
Так думал Касбот, помогая прислуживать гостям и с завистью поглядывая на парадную одежду Авжуко Кяшева, пережившего поистине сказочное превращение. «Шерстобит Авжуко», — иначе его и не называли. Всю жизнь валял он бурки, ноговицы, шапки из чужой шерсти для чужих людей, а сам ходил оборванный, грязный. Сейчас на нем была такая же, как и на Бетале, черкеска, мягкие сапожки, — любой князь или офицер не отказался бы от таких… Белый башлык на шее, черная кубанка на голове и, что удивительнее всего, довольно ладный белоногий конек.
Авжуко рассказал о том, что, как только объявили войну, князь Темиркан собрал князей и дворян и сам, посетив тюрьму, где томились веселореченцы, призвал всех на войну, каждому обещав оружие, воинский наряд и коня.
— Я согласился — и вот видите, каков я? — говорил Авжуко, поворачиваясь на пятке перед соседями, которые, услыхав о гостях, пришли к Даниловым.
Угощая гостя, его долго расспрашивали о том, какие цари с кем воюют.
— Война, война! — громко кричал Авжуко, отведав бузы. — Война во всем мире! Падишахи — русский, германский, английский, турецкий — не поделили землю и подданных и объявили войну друг другу. Всю неисчислимую русскую силу поднял царь на войну против немцев. В станицах остались только старики да женщины.
Казалось, что стены дома Даниловых потрескивают под напором людей, — всем хотелось послушать рассказ Авжуко. А он, никогда не удостоивавшийся такой чести, молол как мельница, благо Бетал и другой гость, маленького роста, с белыми погонами на серой черкеске, князь Харун Байрамуков подтверждали его рассказы.
— Как же это такая беда случилась, что князя Темиркана в первом же бою пуля настигла? — громко спросил кузнец Ислам Хасубов, отвыкший в грохоте своей кузницы разговаривать не повышая голоса.
Все заинтересованно посмотрели на Авжуко, ожидая услышать рассказ о подвигах князя. Подергивая свою курчавую бородку, Авжуко оглядел всех блестящими лукавыми глазами, и вдруг правый глаз его прищурился.
— То-то, что настигла, дед Ислам. Настигают сзади. Сзади ранили его, пуля прошла вот тут, — и Авжуко черкнул себя указательным пальцем тю затылку и чуть ниже правого уха. — Пуля ему правую челюсть разбила, разговаривать не может.
Наступило молчание, люди переглядывались. «Так вот почему Кемал ничего не рассказывал на этот раз о подвигах князя», — подумали люди.
— Пуля со спины считается позорной, — громко сказал Ислам.
— Позор тому, кто со спины нападает, — ответил маленький князь Байрамуков.
— А он на наше добро тоже разве не со спины напал? — спросил вдруг Бетал Данилов, с неприязнью смотря на Байрамукова своими сузившимися ярко-синими глазами. — Послушать его, так он нам отец родной, — а кто у народа пастбища отнял? С таким в честный бой не вступают.
— А тебе, молодец, разве точно известно, кто в него стрелял? — ласково спросил Байрамуков.
— Ничего я не знаю, — мрачно ответил Бетал и, обведя комнату глазами, сказал: — Мать, подай мой кобуз, позабавлю людей.
И пока он подвинчивал и настраивал кобуз, маленький князь говорил наставительно:
— Кому известно, кто и с какой целью стрелял в доблестного Темиркана? Герман — коварный враг. Он засылает в тыл к нам своих разведчиков. Князь Темиркан опасен германам, и они прислали своего разведчика, чтобы убить нашего князя.
Говорил он это, переводя взгляд с одного лица на другое. Старики, ничего не отвечая, поглаживали лишь бороды и кивали головами.
Харун Байрамуков недолго гостил в низеньком полутемном домике Даниловых; Кемал, узнав о его приезде, увел его жить к себе.
«Карманный князь» — называли Харуна Байрамукова парни и девушки. Но так было только до первой пятницы, когда после утренней службы в мечети маленький князь, взобравшись на ограду, обратился к народу.
— Царь оказал милость мусульманам, — говорил он своим тонким голосом. — Отныне не только князья и дворяне, но и любой подданный мусульманин, если хочет, может вступать в военную службу… — Потом он подробно стал перечислять, какие выгоды получит каждый: конь, седло, сбруя, обмундирование, вооружение. Кто был осужден по суду, получит прощение, прощаются и разбои — только иди на войну. Всех мусульман собрали вместе, в одну дивизию, и при каждом полку есть свои муллы, а командирами подобраны мусульмане из знатных фамилий. Эта дивизия в первых же боях в Галиции отличилась: во время сражения, когда опасность угрожала штабу армии, прикрыла его собой и спасла от плена многих генералов.
Таким образом, все, что рассказывал Авжуко, подтверждалось, и многие из молодежи задумались, выслушав Байрамукова.
Потом стал Кемал водить маленького Харуна Байрамукова по гостям, посещать самых почтенных людей аула и прежде всего Хаджи-Даута Баташева, где Харуна приняли с большим почетом — и старый Хаджи-Даут, который не перед всяким князем ломал шапку, и своевольная Балажан, дочка его, и озорной Батырбек Керкетов. Оказывается, они уже слышали о маленьком Харуне. Знали и о том, что он, не боясь замарать свое княжеское достоинство, сам работает. Берет подряды на постройку железной дороги и на волах возит бревна, песок и камень. Гоняет гурты в Ростов. А на своей байрамуковской заимке под городом Краснорецком, скупая окрест всякую дохлятину, устроил мыловаренный завод и обрабатывает кожи. Ничем не гнушается! Как же такого умного человека хорошо не принять! Особенно понравился маленький Харун молодому Батырбеку, и они даже обменялись кинжалами: недорогой кинжал Харуна перешел на пояс Батырбека, а Харун получил дамасский клинок Батырбека с аравийскими письменами на нем.
Осторожно потрогав лезвие, маленький Байрамуков в восхищении покачал головой и приложил плашмя лезвие кинжала к тыльной стороне ладони. Провел — и на блестящем лезвии легли волоски.
— Сухой волос берет! — восхищенно ахнул он.
Подарок сделал его еще разговорчивее, а выпив русской водки, которую вынес развеселившийся Хаджи-Даут к самому уже концу угощения, маленький человечек этот совсем расхвастался, обращаясь главным образом к Батырбеку:
— Сейчас для всякого молодого человека самое хорошее время. Кровь молодая кипит — иди на войну! В большие офицеры можешь выйти!
Батырбек, не соглашаясь, качал головой.
— Выйдешь ли, еще неизвестно, чин дадут или нет, а жизнь отдашь — это наверняка. Нет, я смерти не боюсь и уже слышал, как свищет пуля. Брат мой Талиб — ты, верно, слышал о нем — прямо из тюрьмы пересел в боевое седло. Так у него выбора не было. Сидел бы я в тюрьме, я так же сделал бы. Но я на свободе — и потому свободным останусь.
— Ты молод, а говоришь мудро, как старик, — похвалил Харун Батырбека. — Вызывают меня в штаб наказного атамана, есть там интендант: такой же, как у меня, белый погон, зеленый кант, штабс-капитан Толдыкин… «Садитесь, господин Байрамуков! Просим вас оказать нам патриотическую помощь: мыло нам нужно заготовить». — «Сколько?» — «Чем больше, тем лучше». — «Аванс?» — «Пожалуйста… две тысячи».
— Две тысячи! — повторил Батырбек и восхищенно выругался. — Ни фунтика еще не продал, а уже две тысячи.
— Да, братец, — наставительно сказал Харун. — По-коммерчески это называется кредит, что означает: вера, доверие. Он доверяет мне деньги, потому что знает мое дело. Пишу расписку, уношу деньги — так-то!
Рассказал также Харун давнюю историю о том, как князь Темиркан, нежданно-негаданно встретился в доме Харуна с доблестным Наурузом.
— Науруз нанялся ко мне в работники. Однако он не счел возможным открыться мне, назвался чужим именем, а между тем я бы зла ему не причинил, потому что для меня главное, как работает человек, а работник он отменный. Хотя молодой, но скотину умеет пасти, как старик. Я его нанял младшим пастухом при большом гурте скота, а по дороге старший пастух умер. И что же? Науруз сам пригнал скот в Ростов, продал и всю выручку, до копеечки, мне привез! Был у меня с князем Темирканом большой разговор о Наурузе, и уговорил я его, что не такое время нынче, чтобы враждовать веселореченцам, тем более что Темиркан был в руках Науруза. Вот и просил князь Темиркан, зная, что я по своим делам собираюсь по аулам: скупать старый скот на мыло — если об этом зайдет разговор не за праздничным столом, — попросил меня встретиться с Наурузом и передать ему, что князь снова великодушно предлагает ему прощение и мир. Ну, а так как среди народа идет молва, что зять Хаджи-Даута, молодой Батырбек, и доблестный Науруз — кунаки, а может, и побратимы, то и хотел я попросить тебя устроить нам встречу.
Так сказал он. И только Батырбек хотел рот раскрыть, как Балажан, стоя в дверях, положила все пять пальцев на свои строптивые губы и отрицательно показала головой: призвала мужа к умолчанию. Батырбек, забыв под действием водки и сладких речей Харуна об осторожности, вдруг опомнился.
— Насчет того, что мы с Наурузом кунаки, — это неверно, — сказал он Харуну. — Но был у нас один общий друг, удалой Хусейн, гостя нашего дорогого Кемала молодой брат. Благодаря милости Ночного Всадника, покровителя конокрадов, много славных дел совершали мы по ночам с Хусейном. Хусейн друг Науруза. Но с тех пор как убили Хусейна, мстя за кровь родича твоего Аубекира Байрамукова — араби! [8] — и, подняв на мгновение руку, Батырбек бесстыдно улыбнулся, — ничего не знаю я о доблестном Наурузе.
Наступило молчание. Упоминание о паутине кровавой мести — а в ней оказывались косвенно запутаны оба гостя, и Баташев и Байрамуков, — было дерзко и неуместно. Оно означало вызов и нежелание продолжать разговор.
Харун Байрамуков и Кемал Баташев сели на коней и по дороге долго отрекались: Кемал — от Верхних Баташевых, проклиная память брата своего Хусейна, который свел у Кемала коня, едва ли не с помощью озорного Батырбека; Харун с такой же готовностью клял Аубекира и всех прочих Байрамуковых — ведь от них Харун видел столько всяческих издевательств.
Однако хотя Кемал и ругал родню свою, но родня есть родня… Прошло еще несколько дней — и оказал он великую честь родному дому: повел Харуна Байрамукова в гости к Верхним Баташевым.
Там также приняли их почетно. И снова они завели речь о Наурузе.
— Если бы дерзкий Науруз свою дерзость откинул и на царскую службу пошел, ему чин младшего урядника сразу пожаловали бы: два лычка на погон, — сказал Кемал.
Заструил свою речь маленький Харун Байрамуков. Хотел бы он повидаться с доблестным Наурузом, и спасибо сказал бы он Верхним Баташевым, если бы под их дружественным кровом произошла эта встреча. Но в ответ — только щедрее и настойчивее угощали хозяева гостя. Недаром строгими на язык считались Верхние Баташевы.
Незадолго до приезда Кемала и Харуна Науруз как-то под вечер посетил Верхних Баташевых, но они об этом словом не обмолвились. Нафисат во время посещения Харуна Байрамукова была дома, потому что нагорные пастбища в этом году позднее обычного освобождались от снега и скот наверх еще не перегоняли. Но, поняв по речам Харуна, что Наурузу грозит опасность, Нафисат, не дожидаясь, пока перегонят скот, перешла жить на пастбище, чтобы предупредить об этом Науруза.
Кемал, видя, что сестра исчезла, понял ее намерения и тут же отправился в Арабынь с целью донести приставу Пятницкому о том, что есть возможность поймать Науруза на пастбищах.
Часть вторая
Глава первая
1
Брат и сестра Гедеминовы время от времени по уговору встречались в одном из маленьких кафе на Невском, чтобы полакомиться пирожками, которыми славилось это кафе.
На этот раз Кокоша пришел в кафе не в духе и капризно говорил кельнерше, что качество пирожков ухудшилось.
— И что это за начинка у вас! В рисе какая-то затхлость появилась…
— Ешь с капустой и не кричи так, а то на соседних столиках смеются, — с досадой сказала Люда.
Она ела пирожки и просматривала журнал «Солнце России». На страницах его были воспроизведены батальные, лихо-размашистые произведения кисти Сварога.
Кокоша замолчал и с обиженным видом взялся за пироги с капустой. Они, очевидно, удовлетворили его, потому что блестящий никелированный поднос, на котором поданы были пирожки, мгновенно опустел.
— Ну, ублаготворился? — насмешливо-ласково спросила сестра. — Доволен?
— Пирожками отчасти. А тобой совсем недоволен.
Люда пожала плечами.
— Твоя любимая Оленька думала, что война похожа на эти вот картинки, — и Кокоша пренебрежительно щелкнул по меловым, изрядно потрепанным страницам журнала. — А что она пишет с фронта? Война — это окопы с грязью по горло, грязью с кровью пополам… Но она умалчивает о вшах, бррр! Ты представляешь, вот такие. — И он выразительно показал, округлив пальцы.
— Оля — благородная девушка, и то чувство, которое ее толкнуло на курсы сестер милосердия…
— Оля твоя одержима патриотическим психозом. Немцы — вандалы и так далее. Все это пошло. Для нас немецкий народ воплощен только в одном человеке — Карле Либкнехте.
— Вполне с тобой согласна, — ответила Люда.
— А если так, то с чего ты рвешься на фронт? Да если еще хотя бы во фронтовой госпиталь… а то — чума. Мало мы за тебя переволновались прошлым летом!
Люда ничего не ответила.
— Подвига захотелось? — раздраженно спросил Кокоша. — Так ты лучше бы кончила медицинский, и, право, после войны всем честным и знающим людям еще столько будет работы в России!..
Люда по-прежнему молчала, ее лицо было неподвижно, это означало, что она категорически не согласна. И Кокоша сказал сердито:
— Уверяю тебя, что тот человек, гибель которого ты так оплакивала, в нашем споре стал бы на мою сторону.
— Оставь, Коля, не будем об этом, — тихо сказала Люда.
Кокоша с досадой пробурчал что-то и замолк. Полгода тому назад он сам по настоятельной просьбе Люды, встревоженной тем, что Константин, как это у них было условлено, не приехал осенью в Петербург, навел справки в Красном Кресте, где у него было знакомство. Через две недели ему сообщили, что разыскиваемый им Константин Викторович Голиков, уроженец Пермской губернии, двадцати девяти лет, холостой, умер после тяжелого ранения в госпитале Красного Креста в городе Минске. Сообщалось также, что был он в чине подпрапорщика саперных войск, и о том, что в канцелярии госпиталя сохранились некоторые его документы, в частности аттестат об окончании землемерного училища. По требованию родных аттестат этот может быть выслан. Таким образом, непонятное исчезновение Константина нашло исчерпывающее объяснение.
Но Люда не хотела принимать этого объяснения. Она написала письмо в госпиталь, в Минск. Ответ пришел очень быстро. Писала та фельдшерица, на руках которой умер Голиков. По ее описанию, это был темно-русый, крепкого сложения человек. Рана у него была в живот. Положение с самого начала безнадежное. Смерть мучительная. Теряя сознание, в бреду, он звал какую-то Лиду или Лизу. «Люду звал он», — убежденно сказала Людмила. И Кокоша при всем желании утешить сестру не мог с ней не согласиться.
К этому времени Баженов получил предложение сформировать санитарный отряд для предупреждения чумной эпидемии и борьбы с ней. Страшная эта опасность стала угрожать русским войскам, когда они вступили в Северную Персию. И Люда с охотой вошла в этот отряд.
— Ты только не считай, Кокоша, что тут все дело в Косте, — сказала вдруг Людмила. — Конечно, я не врач-эпидемиолог, но все-таки это стало моей специальностью, сам знаешь, довольно редкой. Совесть не позволяет, зная, что можешь быть полезен, сидеть в тылу и жрать пирожки.
— О, насчет пирожков — это уже в мой огород! Но если ты унаследовала геройское сердце отца, то я, по тем же таинственным законам биологии, унаследовал болезненное сердце матери. Или ты не знаешь, что у меня отсрочка по болезни?
Люда покачала головой и пристально взглянула на брата.
— Ну конечно, дело тут не в отсрочке, — согласился Кокоша. — Дело в моих взглядах. Мы только раз живем на земле; жизнь — величайшее из благодеяний природы, и я не вижу причины, едва присев к столу жизни, даже толком не полакомившись закусками, вылететь из-за этого чудесного стола в какую-то неизвестную черную бездну, даже не ощущая при этом, как распадается мое единственное драгоценное тело.
— Ну и сиди за этим столом, пока тебя не выволокут обожравшегося и пьяного.
— А что же, и досижу! И, может, еще второй раз сладенькое на добавочку выдадут, — сказал Кокоша, и Люда весело расхохоталась, чего с ней не было давно. Ей сразу вспомнилось, как в детстве брат всегда умел выклянчить «добавочку» — вторую порцию сладкого в конце обеда.
— Ну и бог с тобой, разве я тебе зла желаю, Кокоша! Живи, как тебе живется, я каждому лишнему дню твоей жизни радоваться буду. Ну, а ты предоставь мне жить, как я живу. С меня получите! — сказала она официантке.
— Значит, ты меня считаешь всего лишь себялюбцем и обжорой, — говорил Кокоша, когда они вышли на шумно грохочущий Невский. Зеркальные витрины и влажные торцы, казалось, были окрашены беспокойно колеблющейся жидкостью, кровавой и золотой, Это солнце милостиво показало свой лик в янтарно-прозрачной полосе закатного неба, опоясавшей всю западную половину горизонта над крышами, трубами и дымами, выходившими из труб.
— Да если бы я мог, я на весь мир крикнул бы: «Люди, зачем это?! Оглянитесь кругом, люди, — прекрасна земля! Остановите братоубийство, люди!» Но голос мой слаб, и все, что я могу сделать, это уговаривать свою единственную сестру. И неужели ты не понимаешь, что только из любви к тебе я, вместо того чтобы найти этим чудесным часам какое-нибудь заманчивое употребление, растолковываю тебе твои же интересы?..
Люда ничего не отвечала, но спокойно-упрямое выражение не покидало ее лица…
Завтра она снова с Баженовым, Риммой Григорьевной и даже все с тем же надоедливым Леуном отправится в Баку, и снова ее ждет там все та же серьезная и опасная задача: борьба с чумой.
Но то, что в прошлую поездку ожидало ее в Баку и чего она, когда ехала туда, не знала, теперь превратилось в воспоминание, ушло в невозвратное прошлое.
И именно потому-то она с таким волнением думала сейчас о Баку. Еще раз воскресить в своей памяти этот необычайный день счастья — особенно когда они шли, взявшись под руку, и белые листовки медленно реяли в небе, как бы с неохотой опускаясь на землю. Или это было позже… Да, позже, когда она привела Константина в свою беленькую комнату и Аскер все чего-то требовал, о чем-то спрашивал, а отвечать ему не хотелось; только бы, держа горячую, крепкую руку Константина, смотреть, не отводя глаз, в его смелое и правдивое лицо, в преданные ей, умоляющие глаза.
Сегодня толпа шла по Невскому как-то особенно густо. Люде женский смех казался лихорадочно-взвинченным, а мужской — грубым и животным. Она равнодушным, холодным взглядом отталкивала от себя взгляды мужчин, в большинстве своем военных, проходивших мимо. Она знала, какого рода чувства вызывает ее цветущее, румяное лицо. Кокоша не подозревал, что его слова о празднике жизни в душе сестры невольно находят сопоставление с этими грубыми, как бы пожирающими ее взглядами, — и то и другое звучало для Люды одинаково оскорбительно и вызывало протест. Лихорадочная уличная веселость этих окрашенных багрянцем и золотом кратких минут заката казалась ей скудной ложью, ей, с начала войны узнавшей кровавую правду госпиталей.
Был в душе Люды черный угол, в который она запретила себе заглядывать, и печаль, ровная и безнадежная, покрывала всю ее жизнь — и прошлое, и будущее, и настоящее. Но хуже всего это бывало тогда, когда перед ней вдруг въявь вырисовывалась мужественная, благородных очертаний голова. Смелые и добрые глаза глядели из-под бровей, губы шевелились и обращались к ней со словами бодрости и призыва к жизни, — он, утративший жизнь, обращался с этим призывом к ней, к живой.
Прошло несколько дней, и Люда уехала из Петербурга в составе санитарного отряда специального назначения.
2
А между тем Константин был жив, и его не могли найти потому, что искали Голикова, а не Черемухова, действительно находившегося в то время в рядах армии под своей настоящей фамилией.
Сам же Константин дать о себе знать не мог: за ним шла тщательная слежка, и он имел все основания предполагать, что корреспонденция его внимательно изучается, — он не хотел подвергать опасности Люду и семью Гедеминовых.
Когда Константин добрался до своего родного, затерянного в прикамских лесах городка, мобилизация была объявлена, и он, прибыв к себе на родину под своей собственной фамилией, вскоре оказался мобилизованным.
Мать его уже похоронили. Константин сходил на могилу, поросшую яркой свежей травой; белый строганый безыменный крест высился над могилой. И еще раз пришел Константин на кладбище, принес ведерко с краской, кисть и черным по свежему дереву тщательно вывел: «Мария Ивановна Черемухова». «Вот так будет хорошо, — подумал он. — Да и отец вдруг все-таки жив и вернется домой?» Константин не помнил отца, который ушел на заработки. Только два раза прислал он откуда-то деньги — и все. Что с ним произошло? Может, так же как это однажды случилось с самим Константином, он заболел и, одинокий, свалился где-нибудь на перроне, на пристани, на барже, и некому даже было воды подать. А может, в 1904 году погиб на Дальнем Востоке солдатом или в пятом-шестом расстрелян и кровью изошел на булыжной мостовой?..
А может, просто полюбил другую и выгнал из своей памяти тихую и покорную, но никогда не унывавшую жену свою с шестилетним сынком. Забился в глухой угол и ведет спокойную, сытую жизнь. Нет, не хотелось так думать об отце. И даже осуждать не хочется, — Константин вырос в беспросветной, голодной нужде и от матери знал, как нужда эта сглодала первые годы любви его родителей.
Мысли о родителях привели его — не могли не привести — к мыслям о себе и Людмиле.
Да, не легкую долю может он ей предложить! И хуже всего — разлуки, как неожиданные, так и предусмотренные, поездки по партийным поручениям и аресты. Много будет еще горя и тяжелого труда. «Но зато, когда мы будем видеться, вот так, как там, в Баку…» Ему представилась залитая солнечным светом комната, и все время в памяти его плыли белые листки прокламаций, летящие над головами тысяч людей, и тянущиеся к этим трепещущим листкам руки. «Да, будет так! — Он встал и вздохнул полной грудью. — Нет, мы свидимся, мы будем счастливы». Он оглянулся на бедную могилу и, безотчетно встав на колени, прикоснулся губами к земле, еще свежей и рыхлой.
В полицейском участке Константин расписался в протоколе, содержавшем жалкую опись имущества его матери, а также выраженный в ничтожной денежной сумме результат распродажи этого имущества. Здесь была и расписка кладбищенского священника в получении денег. Все сошлось, копеечка в копеечку, хочешь — верь, а хочешь — не верь.
В участке он предъявил паспорт на свое собственное имя, так ловко сфабрикованный в Баку. Это было дерзко, но безошибочно верно. Под собственной фамилией Константина давно уже не искали. Паспорт с целью прописки задержали в околотке и тут же переслали уездному воинскому начальнику. Так с могилы матери Константин попал в казарму.
Константин сразу же уловил некоторые отличия в отношении начальства к прочим мобилизованным и к нему. С ним, не в пример другим, были вежливы. Но когда он попросил увольнительную записку, ему ее не дали. И на следующий день — то же. Он понимал, что это значит, и перестал просить. Да и кого он мог здесь посещать? В первый же день приезда он выяснил, что единственная родня его — двоюродные сестра и брат уехали в Питер. Оказывается, Вера вышла замуж за какого-то приехавшего в командировку питерского механика.
В Питер, все толкало его в Питер.
Так как у Константина сохранилось подлинное удостоверение об окончании двух классов землемерного училища, он стал вольноопределяющимся и оказался в саперном полку в глухом, населенном татарами городке. Всю первую зиму войны он проходил там военную муштровку, которая впоследствии так ему пригодилась. Глухо доходили сюда вести из внешнего мира, особенно о том, о чем так хотелось услышать. Все, что он писал из полка, просматривалось военной цензурой. Он посылал в Питер открытки на известные ему адреса, осторожно сообщал о себе, но ответа не получал. Что делать? Он написал в Краснорецк, отцу Люды, доктору Гедеминову. Сообщил ему номер полевой почты, но из-за застенчивости не упомянул имени Люды — и ответа не получил.
Война между тем шла. Тяжело было Константину, когда он из газет узнавал об измене большинства социалистических лидеров стран Европы, — и верить не хотелось, и приходилось верить. Недоумение сменялось гневом против изменников, и тревога за судьбу великого дела борьбы, за будущее человечества грызла, как недуг. А хуже всего: не с кем было даже душу отвести. Но скоро в газетах появились скупые сведения о том, что большевистская фракция Государственной думы отказалась голосовать за военные кредиты, о том, что в германском рейхстаге Карл Либкнехт выступил против войны. Эти вести позволили распрямиться и гордо взглянуть на мир.
В ноябре была арестована думская фракция большевиков. По злобному вою всей буржуазной и монархической прессы Константин понял, какой линии придерживалась его партия. Радостно и гордо ему было: в своих одиноких раздумьях он сам пришел к этим же взглядам. Он уже присматривался к окружающим его людям, заговаривал с товарищами по службе — и находил подходящих людей: в саперы охотно посылали рабочих с уральских заводов, всякую мастеровую силу.
Зловещие слухи о связи Алисы с кайзером Вильгельмом беспокоили солдат, шли толки о Гришке Распутине и об изменниках Сухомлинове и Мясоедове. Но большинство народа еще принимало войну наивно, чисто — и прежде всего потому, что немцы внутри России издавна были угнетателями: чиновниками, офицерами, помещиками, промышленниками, а шовинистическая, лживая пропаганда в начале войны использовала эту народную ненависть к «внутреннему» немцу. Церковь и господа офицеры, столичные и другие газеты, без различия направлений, — все дудело в одну дудку и, казалось бы, должно было заглушить слабые голоса людей. Но Константин чувствовал за собой великую, непобедимую силу, силу правды. Богачи, бесстыдно наживающиеся в тылу, и народ, умирающий на войне, — эта правда говорила сама за себя, она лезла в глаза, только разъясняй ее. И Константин разъяснял. Его слушали с жадным вниманием. Да и как не слушать? Он был свой, в такой же серой шинели. Шнурок вольноопределяющегося только внушал уважение: значит, ученый. И он говорил то, что уже не раз думалось, указывал на тех, кому выгодна война, на тех, кто наживается на кровопролитиях, открывал глаза на вековечного врага, коварного и неуловимо хитрого: ка богатых и знатных.
Его разговоры были построены на жизненной правде. Он рассказывал о Темиркане, Гинцбурге, Манташеве и незаметно внушал мысль о хищниках банкирах и их сговоре с феодалами-помещиками, о разбойничьих союзах предпринимателей. Так приводил он своих слушателей к выводу о виновниках войны и к мысли о выходе из нее, революционном выходе: надо повернуть штыки против своих правительств.
У Константина не было при себе ни одной книжки или листовки, какая бы то ни было связь с партийными центрами была утеряна, но происходящие события сами подсказывали ему линию действия. И сейчас, как никогда, чувствовал он живую, неистребимо-глубокую духовную связь со своей партией.
Когда же из округа, а может быть, и из самого Петрограда пришло секретное циркулярное предписание немедленно откомандировать всех лиц, имеющих землемерное образование, в распоряжение военного министерства, под руководством Константина был уже целый кружок единомышленников. Слепой ход событий давал ему возможность осуществить то, о чем он даже и мечтать не смел.
* * *
За долгие месяцы своего пребывания в захолустном городке, где расквартирован был запасной полк, Константин не встретил никого из своих друзей или знакомых.
Но только стоило ему тронуться в путь, как во время стоянки поезда в Ярославле он, идя с чайником по перрону, увидел знакомого человека — это был Алеша Бородкин, один из постановщиков запомнившегося фильма «Чума в Тюркенде».
В длинной серой шинели, в фуражке с красным кантом и большим козырьком, Алеша шел во главе группы военных необычного вида — в кожаных куртках. У всех погоны, так же как и погоны прапорщика Бородкина, украшены, трафаретом автомобильных войск: два колеса и над ними крылышки.
— Разрешите обратиться, ваше благородие, — отдавая честь и с некоторой утрировкой вытягиваясь перед Бородкиным, сказал Константин.
— Я вас слушаю, господин вольноопределяющийся, — вежливо и мягко ответил Алеша, отдав честь, и, взяв Константина за правую, приложенную к козырьку руку, опустил ее.
Светло-серые добрые глаза Бородкина и смородиновые с веселой искоркой глаза Черемухова встретились. Бородкин застыл, пухлый рот его под белесыми усиками открылся.
— Вы, позвольте, Константин… Андреевич, кажется? Ах, да, боже мой, какая встреча! С Баку не виделись? Верно. Ребята! — обернулся он к «кожаным курткам», которые с интересом глядели на эту встречу. — Отыщите наш вагон и займите его. Когда все будет в порядке, пусть кто-нибудь на носочках добежит до буфета и доложит мне.
Разностройно и весело отозвавшись на приказание командира — чувствовалось по характеру этого ответа, что подчиненные любят прапорщика Бородкина, — команда ушла.
Бородкин, взяв Константина под руку, направился с ним в буфет второго класса, еще находившийся в «мирном» порядке, — аппетитно пахло жареным луком и супом.
— Баку… Баку!.. — и Бородкин покрутил головой. — Приятно подумать, приятно вспомнить. Как это давно было! «Чума в Тюркенде», а? Мы чуть в скверную историю с ней не попали. А ведь мы с Мишей вас вспоминали.
— А где он, кстати?
— О-о-о! Где он? — Алеша с торжественным видом неопределенно махнул рукой.
Они сели за столик, Алеша пригнулся к уху Константина и сказал:
— Мишка был прикомандирован к штабу Кавказского фронта — пригодились ему восточные языки — и здорово пошел в гору, я вам скажу! Ведь наша авторота тоже действовала на Кавказском фронте, я в Тифлис за реквизированными автомобилями прибыл и его там встретил. Какая экипировка, какие галуны! И уже поручик! Но встретил меня как брата, ей-богу! — И, снизив голос, Алеша добавил: — Очень англичан ругает. Получилось как-то так, что мы их на турецком фронте выручили и должны были с ними соединиться. А они, видать, не хотели с нами соединяться, отступили и поставили нас в невыгодное положение.
— Об англичанах уже давно сказано, что от них союзник страдает больше, чем враг, — сказал Константин.
— Вот и Миша то же говорит. Он далеко пойдет, увидите! Мы еще услышим о нем.
— Ну, дай бог услышать хорошее, — серьезно сказал Константин. — А теперь расскажите о себе.
Алеша опять махнул рукой.
— Автомобильные войска. Слыхали?
— Не слыхал и первый раз вижу.
— Получаем материальную часть через Архангельск, итальянские «фиаты». Чудо машинки! Мощный мотор, высокие шасси, машина приспособлена для горных дорог. Возить только чуть ли не вокруг всей Европы — из Италии в Архангельск — приходится. Неужели мы своего автомобиля не можем выпустить? Ей-богу, Константин Андреевич, можем! Обидно, ведь все-таки заграничные. Ведь вы инженер. Верно? Когда же это кончится? Подумать только, за всякой чепухой ездят за границу!
— Когда русский народ возьмет свою судьбу в свои руки, — серьезно и тихо сказал Константин.
— А ведь возьмет, ей богу возьмет! — расширяя свои светлые глаза и снова снижая голос до шепота, сказал Алеша. — Вот у нас в роте сплошь рабочий состав — питерцы, москвичи, рижане. Любопытная черта, по национальностям себя не называют: рижанин — и все. Помните, как в Баку? Да что о них, им все ясно, но ведь даже солдат заговорил: «Хозяев сменять надо!» Честное слово, я сам слышал.
Раздался звонок.
— Это мне, — сказал Константин. — Значит, хозяев сменять? Это хорошо.
Они пожали друг другу руки.
— Ну, а как Ольга? — спросил Константин.
Алеша покраснел.
— А вы откуда знаете? Вы знакомы с ней?
— Я, когда ехал в Баку, имел от нее поручение познакомиться с вами и написать ей о вас. И я написал, что вы ее любите, но мямля изрядная.
— Да? Вы так написали? Откуда вы узнали, что я ее люблю? — меняясь в лице, говорил Алеша.
— На вас это было написано прописными буквами. Так где она?
Алеша снова, но теперь уже с выражением отчаяния махнул рукой.
— С первого дня войны она на Западном фронте, а я на Кавказском. Сейчас, правда, есть слух, что нас перебрасывают на Западный… Переписываемся. Но что это за любовь по переписке, ведь верно? Неровно она пишет. То так пишет, что прямо я не знаю куда от счастья деваться, а то сухо, надменно так… А сейчас совсем не пишет, уже два месяца.
— А вы от нее не знаете, часом, где подруга ее, Людмила Евгеньевна Гедеминова? — смущенно выговорил Константин.
— Как не знать? Она в Петербурге.
— Может, и адрес знаете?
Алеша посмотрел на Константина, потом усмехнулся и сказал протяжно:
— А-а-а, вот оно что! Выходит, тот же пасьянс разыгрывается? Нет, адреса не знаю. А свой адрес с удовольствием дам. И если напишете, рад буду.
И вот Константин второй день в Питере. Увольнительная до десяти часов вечера дает возможность начать поиски утерянной партийной связи и поиски Людмилы. Для этого нужно только снять военное обмундирование, напялить что-либо незаметное, штатское, и в этом должна помочь сестра Вера. Давно уже Константин не видел ее, но она поможет, не может не помочь…
3
Когда времени мало и приходится спешить, отдание чести делается особенно досадным. Изволь за три шага развернуть плечи, повернуть голову и, втянув живот и откинув локоть правой руки как можно дальше назад, отбивая шаг, пройти мимо начальства. И при этом ешь глазами начальство — какого-нибудь только что произведенного прапорка, который в ответ лишь лениво махнет ладонью. Но весь этот ритуал можно все-таки проделать быстро, а вот если попадется генерал — а их почему-то особенно много попадается в районе Летнего сада и Марсова поля (может быть, потому, что на Марсовом поле идут кавалерийские учения), — тут уж каждая задержка не меньше чем на три минуты. Сойдя с тротуара, вытянись во фрунт, руку к козырьку и застынь, как статуя, не сводя глаз с какого-нибудь старого отставного мухомора, который проследует мимо, заплетаясь в полах своей подбитой красным сукном шинели.
Так думал Константин, с облегчением приближаясь к Троицкому мосту, мысленно уже перебежав его и вглядываясь вправо, где за серо-лиловой массой голых деревьев Александровского сада должен был находиться Пушкарский проспект.
На Троицком мосту старички генералы совсем не попадались, может быть потому, что от залива дул свежий ветер, и Константин ускорил шаг, любуясь этим одним из красивейших уголков столицы. Здесь дворцы и высокие дома не закрывали солнца. А невская вода, яростно-синяя и необъятно широкая, покрытая льдинами, точно белым парусным флотом, вызывала представление о воле, стремление к свободе. Слева сияла лазурью мечеть, напоминая сказки Шахразады, справа возносила свой грозный шпиль Петропавловка, — и сейчас, верно, томятся там друзья, братья… Скорей, скорей! Некогда задумываться, вчера прислали в Петербург, сегодня дали первую увольнительную, надо разыскать явку. Скорей, скорей, вот уже мост позади, теперь для сокращения пути — через Александровский сад.
— Э-э-э… голубчик… — услышал Константин брюзгливый старческий голос.
Так и есть, у самого входа в парк — скамейка, и на ней — генерал. Желтый, сухой старик щурится сквозь очки, пожевывая бритыми губами. Константин отбил шаг, промаршировал и вытянулся. И такое зло взяло. Зверски выкатив глаза, он так рявкнул приветствие, что ворона испуганно сорвалась с дерева и, каркая, тяжело унеслась куда-то влево. Придирчивый, строгий, но отнюдь не злой, скорее даже добродушный взгляд ощупал Константина — снизу, от начищенных сапог, вверх по серой, добротной шинели, аккуратно заправленной под пояс. Константин знал, придраться не к чему, — недаром, раньше чем выпустить из казармы, он был тщательно и придирчиво осмотрен и отделенным, и взводным, и самим господином фельдфебелем.
— Вольно, господин вольноопределяющийся.
«Разглядел все-таки старичок мой скромный белый с синим шнурочек по черному с золотыми буквами погону».
— Крепкий у вас голос, господин вольноопределяющийся. На большом плацу командовать будете, в большое военное начальство войдете, — иронически забурчал старик. — Решили, значит, посмеяться над генералом. «Дай поору, им, старым дуракам, только этого и нужно».
«Что делать? Опять руку к козырьку и: «Никак нет, ваше прииство»? Нет, уж лучше молчать, вытянувшись во фронт, — будь что будет!»
— Вы думаете, мне очень приятен этот ваш рев, от которого у меня и по сей час уши болят? Да нисколечко… Сидел я себе тихо и для пищеварения прикидывал в уме некоторые уравнения параболической теории. Приятно сидел. И вдруг бежите мимо меня вы. И сразу весь чудесный мир математический, где, в отличие от мира земного, все предопределено и закономерно, — все это фью-у-у-у. Вы притворились, что меня не заметили. Почему же я не сделал вид, что не замечаю вас? Почему? А потому, милостивый государь, что вы, кто бы вы ни были на миру, хотя бы знаменитейший ученый, но раз погоны на плечах — точка! Принадлежишь государю и отечеству! И вы не мне, голубчик, честь отдаете — мне на чинопочитание, если хотите, наплевать-с… Вы свидетельствуете еще, и еще, и еще раз свою преданность отечеству, готовность умереть за него, дисциплину свою, — хотя бы на месте моем сидел последний желторотый фендрик-с. И коли уж вы человек ученый, то должны понимать, что раз господь угораздил нас вступить в бой с таким врагом, как Германия, то мы можем одолеть его только при условии, если всем народом вот так соберемся — в-во! — и он поднял над своей головой довольно внушительных размеров кулак, облитый белой лайкой.
«Я бы тебе сказал, какая победа и над каким врагом нам нужна», — со злостью подумал Константин, но продолжал, не разжимая губ, как положено уставом, стоять истуканом, желая одного: чтобы этот странный генерал, для развлечения решающий в уме уравнения из высшей математики, скорее отпустил его.
Но генерал вдруг, точно из его тела вынули какой-то невидимый стержень, на котором он весь держался, опал, съежился и глотнул воздуха, как рыба, вынутая из воды. Потом, приоткрыв рот и обнажив желтые зубы, он беззвучно повалился на бок, хватаясь руками за воздух, — скамейка была без спинки. Константин едва успел подхватить его. Старик, при своем довольно высоком росте, оказался сухим и легким, как камыш, что особенно испугало Константина. В отчаянии схватив генерала за руки, Константин сделал ему искусственное дыхание. Вначале руки старика двигались совершенно безжизненно и легко, точно сложенные из дощечек. На четвертом приеме Константин с восторгом обнаружил, что в них появилась упругость, генерал вздохнул, подобрал отвисшую нижнюю челюсть, приоткрыл глаза и, освободив руку, поправил очки.
— Ну как, ваше превосходительство, лучше? — еще держа его под руку и наклоняясь к нему, заботливо спросил Константин.
— Еще бы не лучше, чуть руки не оторвали, — ответил генерал. Но в его ворчливом голосе слышна была благодарность.
Он встал со скамьи — и снова покачнулся, как бы от дуновения ветра. Константин снова испуганно схватил его под руку.
— Разрешите, я вас провожу, ваше превосходительство? — предложил Константин.
— Ну что ж, пожалуйста, голубчик, — разрешил генерал и сказал, словно оправдываясь: — Сына ранили, Митеньку… Написали из госпиталя — лежит в беспамятстве. Выживет ли? Не останется ли калекой? Война, знаете ли, словно упрощение сложного уравнения, величины исчезают с той и с другой стороны, быстро так: чик, чик, чик, раны, кровь, слезы, смерть. Чик, чик, чик — и уравнение решено, а?
Для прохожих, которые стали попадаться, когда генерал и Константин вступили в более оживленную часть парка, они представляли собой странное зрелище: худой высокий генерал, и под руку с ним ладный, затянутый в шинель, коренастый солдат…
— Нехорошо, — порицал себя генерал. — Жизнь веду самую умеренную: не пью, не курю и трех сыновей воспитал для царя и отечества в таких же правилах. Третий еще в корпусе. Мечтал о долголетии. А это что такое? — строго спросил он себя и долго молча шел рядом с Константином. — Конфузный денек выдался сегодня — вот в чем причина, виноват, — ответил он сам себе на свой строгий вопрос. — Конфуза сердце не вынесло. «Раз, говорит, против налетов с воздуха обеспечить не можете пушками, так хоть хлопушками». Так в рифму и чешет, как клоун… И это представитель ставки! Это я — то пушками против нападения с воздуха не могу обеспечить! Да я еще до русско-японской войны, в девятьсот первом году, когда видно стало, что воздухоплавание из мира фантастики переходит в реальность, предвидя быстрое его развитие и будущее военное применение, создал автоматическую пушку для стрельбы по зенитным движущимся целям — смею думать, первую в мире противовоздушную пушку…, Ее конструктивные элементы были для того времени беспрецедентны, и, утверждаю, выбор их принципиально верен и для настоящего времени: автоматически действующий клиновой затвор и магазинная коробка на пять-шесть выстрелов. Разделение прицелов, вертикальной и горизонтальной наводки, для работы двух наводчиков. А? Гидравлический тормоз отката в направлении оси канала, и впервые в мире использование энергии отката для работы механизмов наведения. А?
Генерал остановился у выхода из парка и, ухватившись одной рукой за решетку, другой мерно потрясал над своей головой. Со стороны казалось, что генерал читает нотацию нерадивому солдату.
Далеко не все те специальные термины, которые употреблял генерал, понятны были Константину. Но как ни далеко отстоял от него этот царский служака и как ни чужд казался Константину весь его душевный мир, горестное волнение старика вдруг передалось ему. Они пошли дальше.
— Всегда все делал старательно, — с горечью говорил генерал. — Сам своими руками вычертил проект, сам в три краски выполнил его… А господин Бринк взглянул сквозь стеклышко пустыми своими главами и со мной, хотя я тут же стоял, даже говорить не стал, обернулся к начальнику завода; «Как говорит, вам не стыдно предлагать на рассмотрение такой фарс». Это о моем-то проекте! «Такие, говорит, фарсы в «Аквариуме» показывают». Это я — то, Розанов, праправнук петровского бомбардира, которому сам великий Петр после Полтавы потомственное дворянство, пожаловал, — и фарсов сочинитель? Тут я ему сказал: «Конечно, ваше высокопревосходительство, насчет фарсов вам судить, а мне слушать, так как я в «Аквариуме» и подобных злачных местах не бываю, ну, а вы известный в Санкт-Петербурге знаток». Да, крепко мне попало тогда по службе. Ну что ж! Перешел я на преподавание артиллерии, заперся у себя в кабинете и занялся теоретическими проблемами. И вот прошло пятнадцать лет. Бринк, с которым я разговаривал, давно уже помер, но на месте его сидит теперь другой шут… Враг наступает, вековечный враг славянства, речь идет о жизни и смерти родины, а им что! Пошучивают! «Пушки-хлопушки»! Я ему рассказываю о моем старом проекте, а он зевает: «Эх, Александр Федорович, нас сейчас ваша высокая математика не спасет, нам бы что-нибудь попроще, подурее да поскорее. Вы бы вот какую-нибудь нашу полевую трехдюймовую дыбком поставили. А?» И сам все посмеивается, посвистывает… А я в два раза старше его, хотя чином он меня намного уже обогнал — генерал-лейтенант, изволите видеть.
И старик вдруг отчаянно махнул рукой.
— А что же делать? Дыбком поставлю! — угрожающе сказал он. — Не хочу, чтоб немецкая колбаса графа Цеппелина у нас здесь, — и он ткнул пальцем в светло-голубое, ясное небо, — над созданием великого Петра болталась. Ну, разве не огорчительно, молодой человек, предвидеть за пятнадцать лет все дальнейшее развитие воздухоплавания и его военное применение, пятнадцать лет тому назад предложить, смею утверждать, отличный проект зенитной пушки, а теперь, когда предвиденная опасность наступила, заниматься безделушками, ставить полевые пушки дыбом?
— Что с тобой, Саша?
Константин оглянулся в ту сторону, откуда раздался этот громкий, с повелительными интонациями женский голос. Высокая, под стать мужу старуха в котиковой, отделанной белым мехом шляпе и пышном боа стояла у калитки небольшого двухэтажного каменного дома. Одна рука ее была в огромной, как барабан, меховой муфте, другой она, сойдя с крыльца, подхватила генерала под руку…
— Сейчас прибежала к нам от соседей кухарка. «Иду, говорит, с рынка и вижу: их превосходительство еле ножками перебирают, и солдатик их ведет».
— Ничего особенного, Зиночка, маленькое сердцебиение.
— Ах, Саша! — протянула старуха, и столько было в этих словах заботы, женственной нежности, привязанности. Потом, окинув Константина остро-колючим взглядом, она повелительно сказала: — Поможешь его превосходительству подняться по кухонной лестнице, со двора, парадное нынче заперто.
Она полезла в муфту, вынула маленький бисерный кошелек, достала оттуда сначала один серебряный пятиалтынный, потом, немного подумав, достала оттуда же гривенник и наконец коричнево-шоколадный пятак и протянула Константину.
— Зина! — генерал схватил жену за руку. — Да это же господин вольноопределяющийся, взгляни.
Старуха без всякого смущения спрятала деньги и уже по-другому, изобразив брюзгливо-благосклонную улыбку на своем продолговатом морщинистом лице, милостиво сказала:
— Мы очень вам благодарны, господин вольноопределяющийся. Если будет у вас какая-либо крайность, даже по службе, прошу запомнить: генералу Розанову Александру Федоровичу. Кронверкский проспект, собственный дом.
Константин, посмеиваясь, вел смущенного генерала по узкой, пахнущей свежей масляной краской лестнице. Генеральша поддерживала его снизу. Они вошли в опрятную кухню, здесь генералу помогли освободиться от шинели.
— Что случилось? — спросил молодой голос, заставивший Константина вздрогнуть и оглянуться.
В дверях стоял высокого роста молодой черноволосый офицер. Константин с изумлением и радостью признал своего друга Сашу Елиадзе.
Саша, видно, тоже признал Константина, так как стоял в дверях, изображая собою знак вопроса.
— Не надо так пугаться, Сандрик, — ласково сказала ему генеральша, по-своему истолковав столбняк, который сковал Александра. — С вашим крестным случился маленький припадочек, а господин вольноопределяющийся был настолько любезен, что пришел на помощь.
«Так это ведь те самые Сашины крестные папа и мама, — весело думал Константин, помогая стаскивать шинель с генерала. — Вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь».
Саша пришел в себя. Подхватив своего крестного под руку, он, стараясь говорить сухо, отчужденно, как офицеру полагается говорить с нижним чином, но, с трудом удерживая глупо-радостную улыбку, растягивающую его рот, сказал Константину:
— Мы все очень вам благодарны, господин вольноопределяющийся. Подождите, я сейчас к вам выйду.
Если бы генеральша через три минуты заглянула на кухню, ей было бы чему удивиться: она увидела бы, что ее столько лет не виденный и так сразу полюбившийся крестный сынок и незнакомый вольноопределяющийся целуются, обнимаются, потом, взявшись за руки, смотрят друг на друга и бессмысленно смеются… Потом они оба присели к кухонному столу. Константин снял фуражку и, пригладив свои темно-русые волосы, достал коробочку с махоркой, а Саша отодвинул ее в сторону и раскрыл портсигар.
— Что ж, покурим офицерских, — сказал Константин.
— Окончить кавалерийское училище мне не пришлось, — возбужденно рассказывал Саша. — Послали под Сарыкамыш и там… — Он поперхнулся и покраснел. — Ну, в общем, нас произвели досрочно, и меня прислали в конвое сопровождать взятые в плен турецкие знамена. Ну, а здесь, как полагается кавказцу в Петербурге, я простудился. В Сарыкамыше в мороз и пургу не простуживался, а тут простудился. Недаром говорят — петербургский гнилой климат.
— Значит, вы уже обстрелялись, — сказал Константин. — Завидую. Что ж, и через это надо пройти. Видно, вы подвиги какие-то совершили в бою, что вас удостоили такой чести — прислали в конвое? Да и это… — он тронул рукой беленький георгий на груди Александра, — тоже даром не дают.
Александр усмехнулся и рассказал о том, как он «овладел» турецким знаменем и как поручик Сорочинский написал об этом рапорт, не забыв и себя.
— Занятно, — сказал Константин.
— Не столь занятно, сколь противно… — морщась, ответил Александр. — Этот самый Сорочинский, назначенный начальником конвоя, сопровождавшего сюда турецкие знамена, воспользовался приездом в Питер и перешел здесь на штабную работу. Противно все это. Кровь и слезы, океан крови и слез, и такие вот Сорочинские ловко выплывают и делают карьеру.
— А все-таки события разворачиваются на пользу нашему делу, — сказал Константин. — И мне приятно, что головка ваша от шовинистического угара не закружилась.
Александр обиженно пожал плечами и, оглянувшись, шепотом добавил:
— А я ведь и сюда не зря приехал, а с поручением в партийный центр.
— Вот это здорово! Значит, мне действительно повезло, что я вас встретил. А где партийный центр искать?
— Через журнал «Вопросы страхования».
Саша рассказывал о Тифлисе, об Алеше Джапаридзе, от которого он и получил партийное поручение в Петербург.
— Какой человек Алеша! Он еще в четырнадцатом году летом появился в Тифлисе… Какую речь сказал он, собрав нас, тифлисских большевиков, на Давидовской горе! Вы ведь знаете эти места? Ночь, горы, высокие звезды — и кажется, вся Грузия затаив дыхание слушала его.
Знакомые мечтательные и страстные интонации улавливал Константин в голосе Саши, и радостно было видеть его, и доволен он был, что счастливая случайность упростила ему путь к партийному центру…
Итак, «Вопросы страхования»? Это здорово!
Вдруг дверь на кухню широко распахнулась; девушка в белом переднике поверх зеленого форменного платья, русая, светлоглазая, нежно разрумянившаяся, сказала громко и радостно:
— Сандрик, вы ее знаете разве? Письмо из госпиталя, Митя пришел в сознание и уже говорит. Писать еще не может, но говорит. — Ее светлые блестящие глаза остановились на Константине вопросительно-холодно, как на чужом человеке, и она быстро захлопнула дверь.
— Итак, отношения с крестным папашей восстановлены? — спросил Константин.
Саша покраснел и, не отводя глаз, утвердительно кивнул головой.
— Генерал-то, знаете, занятный… — раздумывая, произнес Константин. — Какой у нас с ним разговор произошел…
В этот момент на кухню заглянула генеральша и с неудовольствием отметила, что Сандрик слишком фамильярно держит себя с вольноопределяющимся, который что там ни говори, а нижний чин. «Верно, тоже студент», — подумала она, с благосклонностью отметив, впрочем, что вольноопределяющийся, увидев в дверях ее лицо, мгновенно вскочил с места.
— Сандрик, ведь вы знаете, какая у нас радость, — сказала она немного укоризненно и скрылась.
— Идите, идите туда. — И Константин встал с места.
Они попрощались, условившись, что, пользуясь знакомством с семейством генерала Розанова, Константин еще будет заходить к Александру.
Глава вторая
1
Тропа то вздымалась до высоты горных снегов, то спускалась к влажным, знойным долинам. Три дня подполковник Темиркан Батыжев, начальник штаба одного из отрядов, действовавших на турецком фронте, верхом в сопровождении группы своих офицеров ехал по этой тропе. Но вот возле свежесрубленного мостика патруль проверил их документы. Здесь тропа превратилась в широкую дорогу. Свежо пахло: сосной, по сторонам дороги вблизи и в отдалении видны были хвойные горки.
— Ехали, ехали и на Урал приехали, — сказал сухощавый смуглый поручик Ерохин, сын лесничего с Южного Урала.
— А если возьмете еще на север, в Африку попадете. Непроходимые дебри, идти приходится с топором и рубить лианы, — ответил другой офицер, большеротый, с выпуклым лбом, капитан Зюзин. — Я там начал войну, участвовал в битве на реке Чарых; в ноябре от тропических, жарких дождей пропадали, а в декабре меня сразу сюда, под Сарыкамыш, в сугробы и мороз двадцать градусов.
— Говорят, здесь страшное сражение было в начале войны? — спросил белобрысенький прапорщик Антоновский. — Вы, кажется, тоже побывали здесь, Александр Елизбарович? — обратился он к подпоручику Елиадзе, едва ли не самому молодому из присутствующих.
Саша Елиадзе кивнул головой и ничего не ответил. С волнением глядел он туда, где на возвышенностях, продолговатых и округлых, среди сосновых перелесков, пшеничных и ячменных полей, обозначился столь памятный ему русский пограничный город Сарыкамыш с его деревянными домиками и каменными строениями.
Сарыкамыш оказался сейчас в глубоком тылу, и фронт настолько далек, что даже орудийная стрельба не доносилась сюда. Зеленой травой заросли старые могилы, цветы поднялись из пустых и никому теперь не нужных траншей.
Но гордое и грустное волнение испытывал каждый раз Александр, попадая на эти места, вызывавшие воспоминания о первых боях. По возвращении из Петрограда Саша Елиадзе получил назначение в отряд генерала Мезенцева, и начальник штаба отряда Темиркан Батыжев оставил его на штабной работе.
О Темиркане Батыжеве Александру рассказывал Науруз, еще когда они везли через Веселоречье в Баку тюки с подпольной литературой и шрифтом. Ничего хорошего не мог рассказать Александру Науруз о своем заклятом враге и исконном притеснителе веселореченских горцев. Все то плохое, что узнал Александр о Темиркане, в личном общении с ним подтвердилось — это был человек жестокий, хитрый, но не лишенный ума и своеобразных понятий о чести — чести своего феодального сословия.
Александр заметил, что Темиркан старается держаться подальше от армейского начальства; он и сейчас поехал в Сарыкамыш, где расположен был штаб армии, только потому, что к этой поездке его вынуждали обстоятельства.
Темиркану не хотелось ехать в Сарыкамыш, так как с этим местом у него связаны были воспоминания самые неприятные. Впервые прибыл он сюда, едва оправившись после тяжелого ранения, полученного на Западном фронте. Почему высшее начальство сочло необходимым послать его на Турецкий фронт, он не понимал, тем более что штаб корпуса, в распоряжение которого он прибыл, долгое время продержал его в Сарыкамыше без назначения. Ему крепко запомнилось то чувство раздражения и унылой, бессильной злобы, которое он испытывал изо дня в день, возвращаясь по горбатой, сбитой мостовой из штаба корпуса в помещение офицерской гостиницы. Останавливались в этой гостинице лишь наезжие уполномоченные земского и городского союза, неумело и кичливо носившие присвоенную им офицерскую форму, — с ними Темиркан старался не иметь дела. В гостинице проживали также офицеры, отчисленные из своих частей за всевозможные неблаговидные поступки: неумелые воришки, убийцы по пьяному делу, струсившие командиры, — и Темиркан понимал, почему офицеры, прибывавшие в корпус из боевых частей с поручениями, чуждались подполковника, неизвестно по каким причинам не получающего назначения.
Это была новая обида, а его душа еще ныла при воспоминании о том, как в первом же сражении на Западном фронте, когда он, создатель веселореченского полка, вел в бой своих соотечественников, кто-то из них выстрелил в него сзади и едва не убил его. Темиркан великодушно — так думалось ему — позабыл старую рознь, а они, эти пастухи, поднявшие восстание на пастбищах и заставившие его бежать из Веселоречья и, подобно выдре, плыть через коленчатые пороги реки Веселой, ничего не хотели забыть. А ведь он, взамен рваных чувяк из сыромятной кожи, обул их в крепкие сапоги и новые черкески и дал каждому коня, о чем они только в песнях пели. Да что говорить — кто из тюрьмы их вызволил? (О том, что в тюрьму веселореченцы были брошены по его настоянию, об этом как-то не думалось.) И тут пуля в затылок, пущенная недрогнувшей рукой, едва не оборвала его жизнь. В момент выстрела он нагнул почему-то голову — не иначе рука аллаха спасла, как сказал мулла, которого Темиркан увидел над собой, едва открыл глаза.
Однако эти враги его были веселореченцы, и какую бы страшную расплату он ни готовил им, связь с ними шла от отцов и дедов, он был их господин, они его люди. Угрозами и кровопролитием, лестью и даже уступками ему надлежало держать их в повиновении. Ведь вырыл же предок Батыж канаву, после того как убил беспокойного и непокорного Баташа. Вырыл своими княжескими руками, чтобы потушить кровомщение и обеспечить покорность народа! Тогда, в старину, все было как-то крепче, надежнее, и люди были проще, не так хитры и увертливы, как сейчас.
Темиркан не знал, кто стрелял в него. Но когда он лежал в госпитале, воображение рисовало ему, как будто ненавистный Науруз зашел с тыла и целит ему в затылок. А ведь Темиркан доподлинно знал, что Науруз среди солдат веселореченского полка никак не мог оказаться. И ведь сколько раз этот ненавистный враг почти что был в руках Темиркана и выскальзывал, как заговоренный. Не думать, забыть об этом. Найти забвение в бою, в воинских заботах! А ему изо дня в день адъютант командующего корпусом сухо отвечал: «Распоряжения не имеем». Так проходил еще один день, наполненный унылой скукой. По прямым, казарменным улицам городка носилась пыль и скрипела на зубах. Сунься за город — и сразу повернешь обратно: после зимних боев повсюду разило мертвечиной. Почти каждый день слышен панихидный благовест (в Сарыкамыше расположены госпитали, куда свозили тяжелораненых, которых невозможно везти дальше, и дня не проходило, чтобы кто-либо не умирал). Все напоминало о той ужасной стороне войны, о которой храброму воину не по душе думать, — о тяжелых ранениях, о страданиях и смерти.
Темиркан понимал, почему ему не давали назначения: он мусульманин, ему не доверяли. Стремясь действовать через мусульманское духовенство, Турция призывала мусульманских подданных Российской империи к газавату. И Темиркану именно потому не доверяли, а что с ним делать — не знали. Корпусное начальство не могло само разрешить этот вопрос и ждало распоряжения наместника Кавказа. А там или забыли, или не хотели решать.
Темиркан чувствовал, что он точно попал в паутину. Оправдываться и клясться в верности династии он не считал нужным, потому что не чувствовал себя ни в чем виноватым, — да ведь его ни в чем и не обвиняли. И кто знает, сколько времени находился бы он в этом положении, если бы в плен к русским не попал один из внуков того Мисоста Батыжева, который после присоединения Кавказа к России уехал в Турцию. Потомки его воспитывались в ненависти к России, и этот попавший в плен родич Темиркана — его тоже звали Темиркан — был командиром кавалерийского полка. Раненный при сражении под озером Ван, он был доставлен в штаб корпуса, и когда при первом допросе выяснилось, что он, Батыж оглу, является дальним родственником Батыжевых, о Темиркане сразу же вспомнили. Его попросили встретиться с «родственником» и помочь выяснить кое-что при допросе.
При установлении родственных отношений с пленным эфенди Темиркан вначале ничего не добился, кроме «гяурской собаки», «свиноеда» и других обидных для мусульманина прозвищ. Однако при настойчивости своей Темиркан был еще и хитер: когда он стал высмеивать боевую подготовку турецких кавалерийских частей, Темиркан-турецкий стал с запальчивостью восхвалять турецкую кавалерию и таким образом выдал Темиркану все, что было нужно русскому командованию.
Командующий корпусом вызвал после этого Темиркана к себе и, поблагодарив, тут же предложил ему боевое назначение — пост начальника штаба одного из отрядов, из которых в то время состоял корпус.
Отряд этот после июльских боев под Мелязгертом отходил под давлением свежих турецких сил на северо-восток, в направлении русской границы.
И хотя положение отряда было очень тяжелое, чего командующий корпусом не скрывал, Темиркан с охотой принял это назначение. Так как предшественник Темиркана был снят «за растерянность», Темиркан сказал себе, что уж его-то «за растерянность» не снимут! На фронте у всякого воина всегда есть почетный выход — смерть в бою.
За время вынужденного бездействия в Сарыкамыше Темиркан не переставал следить за ходом военных действий. У него были свои соображения о сильных и слабых сторонах турецкой армии.
Слабой стороной ее была общая слабость штабной работы, отсутствие координации частей, особенно в бою, а при наступлении — отставание тылов. И так как на участке, где сражался отряд, в который прибыл Темиркан, турки вели наступление, все эти недостатки турецких войск сказывались особенно сильно. Чтобы остановить наступление турок, нужно было использовать именно эти слабые стороны.
Сопровождаемый только надежной группой, состоявшей из личного конвоя и пулеметной команды, Темиркан кинулся на фронт, проходивший по знойной Аляшкертской долине. Выделяя из отступающих стойкие ударные группы, он стал отводить их на отдельные высоты хребта Агрдаг и закрепляться на тех позициях, которые господствовали над переправами и удобными путями. Получив от командования поддержку в виде двух артиллерийских батарей, Темиркан обеспечил отпор туркам, которые сразу же смешались.
Таким образом, наступление турок было остановлено, а задание командования выполнено. За Темирканом Батыжевым установилась репутация храброго и талантливого офицера.
К началу второго года кампании русская армия отказалась от разделения на отдельные отряды. Однако, когда к весне 1916 года на левом фланге вновь сложилась трудная обстановка, в штабе корпуса вспомнили об отрядах, и одним из первых был вновь воссоздан отряд генерала Мезенцева с начальником штаба подполковником Темирканом Батыжевым. Этот отряд в составе двенадцати пехотных батальонов, восьми ополченских дружин, девяти казачьих сотен и трех батарей горной артиллерии был спешно переброшен на труднодоступный горный хребет, ответвление Южного Армянского Тавра, с заданием закрепиться там и задержать турок в случае их движения в обход русским войскам, которые недавно взяли находившийся в глубине турецкой территории Эрзинджан.
Темиркан ни одной тропинки, даже самой уединенной, ни одного склона, даже самого крутого, где глазомером горца чувствовал возможность восхождения, не оставлял без внимания. Зато пропасти; прорезавшие местность, Темиркан поручил «охранять горным духам», как ответил он полковнику генерального штаба, приехавшему его инспектировать. Зачем сплошная линия, когда существует система маленьких крепостей, держащих в руках всю местность?
Однако позиции, занятые отрядом генерала Мезенцева, не имели удобно проходимых путей сообщения с тылами. Вопрос о снабжении продовольствием и боеприпасами приобрел большую остроту, поэтому Темиркан и выехал в штаб корпуса, взяв с собой нескольких штабных офицеров. Саша Елиадзе, у которого были свои цели, тоже напросился на эту поездку.
Получив из штаба корпуса указания и поддержку, Темиркан направился в Сарыкамыш, где располагались глубокие тылы Кавказской армии.
Давно уже Темиркан не испытывал такой удовлетворенной гордости. Сдержанными манерами, воинской суровостью образа жизни и осмысленной целесообразностью своей тактики, понятной каждому казаку и солдату, он внушал к себе уважение. Играло большую роль также и то, что после ранения — пуля прошла чуть ниже мозжечка, задела язык, выбила два зуба и поцарапала щеку — он бегло говорить не мог. Но при этом он стремился правильно произносить слова, потому речь его приобретала особенную внушительность.
Темиркан чувствовал — его уважают, а это было лучшим лекарством для той душевной раны, которую оставила пуля, нацеленная кем-то из веселореченцев. Эта пуля обозначала для него рубеж возраста. Все, что он пережил до того, как в него стреляли, теперь казалось юностью, после этой пули сама душа его постарела. О столичной любовнице своей Анне Шведе даже и вспоминать не хотелось, тем более о богатом содержателе ее банкире ван Андрихеме и о еврее Гинцбурге, занятом презренными денежными делами.
Темиркан мог позволить себе с презрением относиться сейчас к денежным делам — оклад командира полка вполне обеспечивал его. Семья же после его отъезда на войну жила скромно. Это только когда он находился дома, жена и мать начинали одна перед другой заноситься и сорить деньгами. Теперь они каждый день ели пироги с начинкой из горского белого сыра и считали это роскошью: даже барана резали один раз в неделю, по пятницам, о чем писала ему верная домоправительница Лейля. Жена родила еще одного мальчика. «Личико княжеское, в батыжевскую породу, — писал дядя Асланбек. — Жена напоминает: черед за девочкой». Темиркан усмехался: будет и девочка!
Ему казалось, что он совсем освободился от Анны Ивановны Шведе, этой присушившей его белой петербургской немочи, и если ему снился ее светлый неподвижный взгляд, ее прохладные руки, он отталкивал от себя «это видение, вздрагивал и просыпался… Что было, то прошло.
2
Привязав своего коня к коновязи, обглоданной лошадиными зубами, Саша Елиадзе вошел во двор гаража. Машин было мало — все, видно, в разгоне. Со стороны приземистых, сложенных из свежего, некрашеного дерева, но уже замусоленных и покрытых копотью строений доносилось лязганье и жужжанье; здесь помещались мастерские, которые в прошлый приезд Саши еще только строились.
Начальником гаража работал здесь Семен Иванович Дьяков, известный Саше под кличкой дяди Чабреца. С Семеном Ивановичем Саша был связан по линии подпольной работы. Идти искать Чабреца в здание мастерских Саше не хотелось, и он неторопливо прошелся мимо стоявших во дворе трех требовавших, очевидно, ремонта машин.
Это были санитарные грузовики системы «Рено» — мотор вынесен впереди радиатора. Капоты были подняты, точно у машин болели зубы и они разинули рты. Возле каждой возились мастеровые и шоферы; машины то оглушающе ревели, то чихали и стреляли.
Заглядывая в потные, оживленные лица людей, Саша убедился, что Семена Ивановича здесь нет. Вдруг, когда он подошел к третьей, стоявшей поодаль машине, знакомый голос негромко сказал из-под нее:
— Подай-ка гаечный ключ.
Это был голос Семена Ивановича Чабреца. Саша обрадовался и, пригнувшись, сказал по-грузински:
— Амханаго Симон, обнимаю вас, дорогой…
— Саша, шени чериме, это очень хорошо. А я, увидев из-под машины офицерские сапоги, признаться, и понадеялся, что это вы.
— Гаечный ключ лежит вот здесь, на тряпочке… — сказал Саша. — Подать?
— Бог с ним, с гаечным ключом. А впрочем, подайте, легче разговаривать будет.
Обросшая золотистым ежиком голова Семена Ивановича показалась из-под машины, его карие блестящие глаза, словно подзадоривая, оглядели Сашу.
— Я сейчас оказался в отряде генерала Мезенцева на крайнем левом фланге, — торопливо заговорил Саша, — оттого я так долго у вас и не был. Имею официальное поручение к начальнику вашего отряда.
— Так вы, как полагается, и отправляйтесь сейчас с этим поручением в канцелярию отряда, где обратитесь к нашему начальнику капитану Картвелашвили. А он тут же и меня призовет, потому что сам без меня ничего сделать не сможет.
В канцелярии щеголеватые и упитанные писаря с узенькими земгусарскими погонами указали Саше маленький домик в дальнем конце двора. Домик этот, беленький, с плоской крышей, резко выделялся среди окружающего; стоял он здесь, видимо, еще до того, как стали строить гаражи и мастерские автомобильного отряда. Когда Саша подошел к домику, заросшему кустами, он услышал звуки гитары и пение. Эта песня всегда казалась Саше едва ли не самой глупой из всех глупых песен, сочиненных царскими офицерами на Кавказе:
Дед был храбр и лют, Дикий, как джейран, Ел один шашлык, Умер все ж от ран…Саша вошел в домик, когда там вовсю гремел припев:
Есть у нас легенды-сказки Про обычай наш кавказский…Саша громко постучал в дверь. Музыка и пение смолкли, и Саша услышал, что кто-то громким, как на сцене, шепотом произнес:
— Погоди, какая-то скотина лезет сюда…
Слова были русские, но Саша даже из-за двери по акценту признал грузина.
Дверь открылась. Длинный, похожий на хлыст, белобрысый парень с погонами подпрапорщика на покатых узких плечах своими белесыми глазами вопросительно-брезгливо взглянул на Сашу, на его погоны и, держа в руках гитару, нехотя вытянулся.
В глубине комнаты, увешанной коврами, с натоптанным, давно уже не мытым полом, уютной и грязно-неряшливой, возле маленького столика, развалившись в кресле и вытянув франтоватые сапожки, сидел небольшого роста офицер в расстегнутом травянисто-зеленом френче с капитанскими погонами. Саша по черным густым бровям, по характерному крупному носу и блестящим глубоко посаженным глазам признал в капитане единоплеменника.
Едва Саша назвался, отдавая честь, как капитан, командир автоотряда, с усилием поднявшись с места — он прихрамывал, — протянул левую руку (правая была на перевязи).
— Пусть будет благословен этот день, в который судьба посылает мне такого дорогого гостя! — сказал он по-грузински. — Дорошевич! — по-русски обратился он к подпрапорщику. — Надо чествовать дорогого гостя.
Нам каждый гость ниспослан богом, Какой бы ни был он среды… —противненьким, но верным голосом, аккомпанируя себе на гитаре, запел подпрапорщик.
Командир отряда Филипп Мелитонович Картвелашвили усадил Сашу и вытащил из-под стола пузатый глиняный кувшин с коротеньким горлышком. И хотя одна рука у капитана была на перевязи, он действовал очень ловко: вино было мгновенно разлито, то домашнее вино, свежий и горьковатый вкус которого с детства любил Саша.
— У меня к вам, господин капитан, неотложное дело…
— Э-э-э, какой капитан, какое дело! Зови меня — батоно Филипе. Ты дворянин, конечно. Какой ты фамилии?
— Фамилия моя Елиадзе…
— Елиадзе, Елиадзе, не припоминаю, верно из пожалованных… Что ж, и это не плохо — русский царь жалует грузина дворянством только за благородное дело. Но вид у тебя прирожденный дворянский. Из какой фамилии матушка твоя?
— Цагуришвили, если это вам интересно, — краснея, сказал Саша.
— Цагуришвили? — капитан прищурил один глаз. — Как же это может не иметь интереса? В кадетском корпусе я учился с некиим Георгием Цагуришвили из Кахетии. Но Цагуришвили есть не только в Кахетии.
— Нет, мои родичи со стороны матери проживают в Кахетии, а Георгий Леванович Цагуришвили — это дядя мой…
— Значит, ты племянник Георгия? Выпьем за его здоровье. Он рано ушел в отставку и зарылся в навоз…
— Да, он занялся хозяйством.
— Ну, а я всю жизнь верхом на коне служу царю и отечеству, как это подобает дворянину. Под Лаояном меня ранили тяжело, а в Восточной Пруссии еще тяжелее. Хотели уже перевести на пенсию. Но куда я без военной службы? Написал прошение на всемилостивейшее имя — и вот сунули сюда. Ну, так выпей вина, дорогой мой! Конечно, это не ваше кахетинское мцевани, к которому ты привык с детства, но это наше настоящее оджилеши, и оно не хуже. Отведай, душа моя, и ты станешь мне родным, все равно что родной племянник.
Саша пил вино, закусывал нарезанным на бумаге свежим сыром и чувствовал себя так, как если бы действительно попал в дом к какому-то докучливому родственнику.
Капитан расспрашивал его о матери и об отце.
— Елиадзе, скажи пожалуйста, что за фамилия, никогда не слыхал. Элиава Платон, был такой у меня друг, а Елиадзе — не из священников ли?
Саша несколько раз пытался перейти к делу, но капитан морщился, точно отведав горького, начинал махать руками и требовал от подпрапорщика музыки. Состоя на должности вахмистра отряда, подпрапорщик, как выяснилось из разговора, заведовал здесь строевой частью и в этой своеобразной воинской части, состоящей по преимуществу из вольнонаемных и все время находившейся на колесах, бездельничал так же, как и начальник его.
Саша, не упуская из виду своего штабного поручения, уже начинал терять терпение. Время у него было ограниченное, а нужно было еще во что бы то ни стало встретиться с глазу на глаз с Семеном Ивановичем. И вдруг сам Семен Иванович, не считая нужным даже постучаться, вошел в комнату, вытирая руки тряпкой, издававшей запах керосина.
— А, Иваныч! — обрадовался капитан. — Хорошо пришел! — Э-э, пить будем, гулять будем, а смерть придет — умирать будем! Знакомься, Саша, это мой помощник, механик, русский человек, а, скажи на милость, понимает грузинский обычай.
Семен Иванович назвался, крепко пожал руку Саше, налил себе вина, сказал несколько слов по-грузински, крякнул по-русски, закусил салом, вытер рыжеватые усы и спросил, обращаясь к Саше и весело поблескивая глазами:
— Зачем пожаловали, ваше благородие?
Глядя в его хитрые и ласковые карие глаза, Саша рассказал о поручении, которое ему дал подполковник Батыжев.
— Так, — помолчав, сказал Дьяков, хитро прищурив глаз. — Значит, от Эрзерума это будет к югу…
— Да, да, Киги, Огнот… — говорил Саша.
— Без карты, Филипп Мелитоныч, не разобраться…
— Э-э, зачем карта? Кахетинский выпьем по-кунацки, чтобы жили мы по-братски! — Батоно Филипе даже встал со стула, и судорожное движение, которое он сделал поврежденной рукой, так как здоровой опирался на костыль, должно было изобразить лихость.
— Нет уж, генацвале Филипп Мелитонович, — отводя руку с бокалом, сказал Семен Иванович, — война идет, значит вот разберемся с этим делом, а тогда и пить будем и гулять будем, но военное дело прежде всего.
* * *
— Вот сюда, ваше благородие, здесь моя контора, — возвысил голос Семен Иванович, чтобы услышали шоферы, стоявшие возле крыльца. Он любезно пропустил Сашу вперед в двери новенького, еще пахнущего деревом домика.
В первой комнате стояли канцелярские и чертежные столы. Сидевшие за столами писаря поднялись с мест.
— Сидите, господа, сидите… Аркадий Иннокентьевич, дайте-ка нам в кабинет сюда квадрат восемьдесят восьмой и восемьдесят девятый…
Худощавый, в пенсне юноша с настолько выдающейся вперед верхней губой, что она, похоже, вот-вот красной каплей упадет на стол, с готовностью встал с места.
— У меня карты с собой… — начал было Саша, но Семен Иванович быстро провел его к себе в кабинет.
— У меня есть догадка, что сей Аркадий является осведомителем охранки, потому-то именно его я и попросил достать карту. Мы начнем разговор в его присутствии. Он, кажется, ничего не подозревает, но, знаете, береженого бог бережет, и особенно при теперешних делах.
Вошел Аркадий Иннокентьевич с теми же картами генерального штаба в руках, которые у Александра были с собой.
— Вот, Аркадий Иннокентьевич, глядите, господин подпоручик хочет предложить нам интересный маршрут для прогулок, — говорил Семен Иванович, прикалывая карты к чертежной доске. — Итак, Сарыкамыш — Эрзерум…
— Простите, господин, господин… — сказал Саша, обращаясь к Семену Ивановичу, как если бы он его не знал.
— Зовите меня — Семен Иванович, — перебил Чабрец. — Я человек штатский, со мной можно без чинов.
— Так вот, Семен Иванович, здесь, не доезжая до Эрзерума, есть Кепри-кей…
— Так, Кепри-кей… Кепри-кей… Вот он — место нам известное. Ну и что же сей Кепри-кей?
— От него к югу, — остро очиненный карандаш Саши медленно полз по карте, — идет дорога.
— Ну что вы, господин подпоручик, какая там может быть дорога?
— Простите, Семен Иванович, но в данном случае вы ошибаетесь, — мягко остановил его Саша. — Это старая турецкая военная дорога, и так как назначение этих дорог состоит в том, чтобы по ним провозить пушки, то дороги эти следуют по естественным путям, в данном случае — по руслу горной речки, вот она… Недостаток этих чудовищно извилистых дорог искупается, во-первых, тем, что они всегда идут по твердому грунту; во-вторых, хотя во время дождей и снегопадов они наполняются водой, но вода быстро стекает.
— Возле дороги всегда есть возвышенные площадки, приноровленные для стоянки пушек, следовательно годные и для машин — ведь верно?
— То, что вы говорите, это просто чудо! — сказал Семен Иванович искренне. — Что вы думаете об этом, Аркадий Иннокентьевич?
Аркадий Иннокентьевич вяло кивнул головой; предмет разговора его, очевидно, не интересовал.
— А как насчет мостов? — живо спросил Семен Иванович. — Ведь достаточно одного хлипкого моста, и машина провалится.
— Мостов совсем нет.
— Как же это может быть? Ведь тут речки? Вот здесь, и здесь, и здесь.
— Я имел честь вам объяснить; что пушечные дороги всегда проходят по руслу рек. Да чего толковать, ведь ваш отряд обслуживал армию при Эрзерумской операции…
— Имеем благодарность его высочества, — сказал Аркадий Иннокентьевич.
— Вот видите, его высочества… — И карие глаза Чабреца заиграли таким весельем, что Саша закашлялся, чтобы подавить смех, и приложил платок к губам.
— Ну, так вы должны знать, что дорога, по которой шло наступление одной из наших колонн… Вот отсюда, с севера, в обход Кепри-кея, шло по водораздельному хребту, вот здесь, по Северному Армянскому Тавру…
— Неоднократно сам проезжал по этой дороге, но ничего не знал. Вы, Аркадий Иннокентьевич, знаете эту дорогу, это через Ольты? — спросил Чабрец.
Но тот, став у окна и своей долговязой фигурой заслонив свет, ничего не ответил.
— Что это вас заинтересовало, Аркадий Иннокентьевич? — спросил Чабрец.
— Какая-то женщина разговаривает с нашим часовым, — ответил Аркадий.
— Это никуда не годится. О чем могут быть разговоры? — вставая с места, сказал Семен Иванович.
— Если разрешите, я выясню, — живо откликнулся Аркадий.
— Что ж, выясните. И кстати пришлите мне… — Он подумал. — Старостин у нас где?
— В пути.
— А Куров? Тоже в пути?
— Тоже.
— Досадно… А Василий Гаврилов?
— Кажется, вернулся.
— Пришлите-ка его сюда. Надо какого-то боевого шофера послать съездить и разведать эту дорогу. Дело-то серьезное.
— Так точно. — И Аркадий Иннокентьевич быстро исчез, видимо довольный тем, что начальник отпустил его из кабинета, где шел разговор ему неинтересный.
— Ну, теперь, Саша, мы имеем по крайней мере час для разговора. Васю Гаврилова раньше он не найдет. Это наш товарищ, и он не только разведает дорогу, но и перевезет в машине все, что нам нужно.
— Неужто такой большой груз, что требуется машина? До сих пор я его без труда провозил у себя под седлом, — сказал Саша.
— Груз — во! — И Семен Иванович развел руками. — Да и зачем подвергать вас излишней опасности, вы нам еще пригодитесь.
Они взглянули друг на друга, и столько теплоты и сердечности было во взгляде у обоих, что оба смутились.
Семен Иванович пригнулся к письменному столу и стал возиться в одном из боковых ящиков его. Там что-то щелкнуло. Из потайного отделения ящика Семен Иванович вытянул лист печатной бумаги и протянул его Саше.
— Мы перебрасываем на фронт несколько десятков тысяч этого обращения — это первомайское обращение Тифлисского комитета и Кавбюро РСДРП.
«Вы, насильственно наряженные в солдатские шинели рабочие, крестьяне, вы, оторванные от рабочих станков и сохи, покинувшие семьи в жертву голоду… — читал Саша. — Вы истекаете кровью на позициях, а за вашей спиной министры и дипломаты торгуют вашей кровью, получают взятки, продают планы, извещают неприятеля о ваших движениях. Вы, наголодавшиеся и изнуренные, подставляете груди под пули и штыки, а вас обкрадывают интенданты, подрядчики и правительство, которое думает о своих карманах, а не о ваших нуждах.
Международный союз восстанавливается. Интернационал выходит из жестоких испытаний стойким и укрепленным на позиции классовой борьбы и призывает пролетариат к международной солидарности, к борьбе под красным знаменем против международной буржуазии, за социализм.
Война войне — его клич!»
Саша дочитал и невольным движением хотел спрятать за пазуху листовку, но Семен Иванович протянул руку, и Саша покорно отдал ему листовку.
— У вас их будет целый тюк, — сказал Семен Иванович.
— Хорошо, — согласился Саша. — Кто это писал?
— Мне неизвестно, а тот, кто прислал в нашу армию этот подарок, он вас знает и велел вам поклон передать. Вам он известен под ласковым именем — Алеша.
— Алеша? Товарищ Джапаридзе? Он разве в Баку? — в изумлением и радостью спросил Саша, схватив за рукав Семена Ивановича. — Но ведь он был в ссылке на Енисее?
— Бежал из ссылки, побывал в Петербурге и вернулся в Закавказье. Он ведет работу в действующей армии, и вы, может быть, увидите его.
— Едва ли, уж очень мы с Жердиным в глухом углу оказались.
— Кстати, о Жердине, Алеша знает Жердина по Баку и просит устроить ему встречу с ним.
— Сейчас товарищу Николаю будет очень затруднительно держать связь с фронтом, — озабоченно сказал Александр. — До этого передвижения, находясь непосредственно в составе корпуса, мы были прекрасно связаны с Александрополем. А теперь, когда отряд генерала Мезенцева оказался на крайнем левом фланге позиций нашего корпуса, Жердин как бы привязан к своей батарее… Я уже месяц не могу попасть в Александрополь. Как там Лена Саакян? — спросил он с беспокойством.
Семен Иванович вздохнул и ничего не ответил. Саша оглянулся на дверь и вынул из широкого рукава своей черкески тетрадку.
— Вот, — сказал он. — Я сделал то, что вы мне в прошлый раз поручили… Вот здесь на первой странице воззвание от имени одной из наших артиллерийских батарей, а дальше крестиками обозначены подписи солдат. Каждый ставил этот крестик собственноручно, и под каждой группой крестиков проставлены цифры и буквы ее обозначающие. Вот пять «эс» «бе». Это значит — пятый стрелковый батальон. Три «и» «ер» — это третья инженерная рота. И так далее.
И Саша, еще раз взглянув на дверь, прочел вполголоса:
«Деды, отцы, братья и сестры! Взываем к вам с позиций. Примите меры к прекращению войны, нужен мир, мы здесь на позициях погибаем, время уже закончить пролитие крови, война нам ничего не несет хорошего, кроме нищеты… Пусть будет тот проклят, кто против мира!»
— И все? — спросил Семен Иванович.
— Но вы говорили, чтобы покороче, — покраснев, сказал Александр.
— И написано коротко, и по языку видно, что писали сами солдаты, и от души писали… Но нет тут одной мысли…
— Война войне? Да? — тихо переспросил Саша.
— Значит, сами понимаете? Мы не за мир вообще и не за то, чтобы преступники, затеявшие эту страшную войну, выбрались из нее, не получив возмездия за преступление. Мы за революционный выход из войны, который указывает Ленин. Здесь, в этом тюке, который я вам передаю, есть и статьи Ленина. Я вижу, у вас в тетради еще что-то записано.
— Веду запись событий армейской жизни в том духе, как вы сказали, — ответил Саша. — Вот здесь о том, как сто восемь солдат нашей донской дружины ответили молчанием на приветствие есаула Воронова в знак протеста против мордобоя и обворовывания солдат, — все солдаты отданы под суд. Здесь вот о шестнадцатой роте девятнадцатого Туркестанского стрелкового полка, эта рота лучшая в полку, — за одну неделю боев в зиму этого года из двухсот двадцати человек осталось восемьдесят… Все время, пока шли бои, рога оставалась без снабжения. Когда же их вывели из боев и выяснилось, что продукты на роту на каждый день выписывались и разворовывались интендантами, то рота высказала протест, и всю ее отдали под военный суд.
— А как с Воеводиным? — тихо спросил Дьяков. — Удалось что-нибудь выяснить?
— Расстреляли уже несколько месяцев тому назад, — так же тихо ответил Саша. — Я с большим опозданием получил сведения о некоторых подробностях этого злодейства. Следствие и суд над теми двумя ротами Кавказского пограничного полка, которые отказались идти в бой, производил известный изверг генерал-лейтенант Яблочкин. Суд был скорый. Наш товарищ Воеводин был расстрелян и умер с возгласом: «Война войне!» Яблочкин так взбесился, что церемониальным маршем пропустил полк по могиле Воеводина. После этого военно-полевой суд расстрелял еще восемь человек — все члены нашей организации. Но двое большевиков в полку сохранились, они продолжают работу, в организации сейчас пятнадцать человек… Вы не записывайте, Семен Иванович, у меня в этой тетради все записано, я ведь для вас ее вел.
— Давайте сюда, она нам пригодится. Что может быть печальней гибели таких людей, как Воеводин? — вздыхая, сказал он. — Но тетрадочка ваша показывает, где находится неиссякаемый источник нашей силы… Это нарастающий общенародный протест… Что это вас заинтересовало? — спросил он Сашу, который стоял у окна.
Семен Иванович подошел к нему и обнял за плечи. Прямо перед окном видна была гора, и на ней снизу доверху копошились люди. Это была дорога на Бердусский перевал, который снизу выглядел незначительной вмятиной между двумя округлыми горами. И Саше вспомнилось, с каким трудом и какой кровью пришлось в зиму 1914 года отбивать у турок этот перевал и как в снегу стонали раненые… Теперь видно было, что там, где когда-то шли бои, по всей горе снизу доверху, скинув ремни и без шапок, работают солдаты, видно, как взлетают из рвов лопаты, выбрасывая щебень и песок. Вид этого соединенного труда был приятен и волновал чем-то. Уже открытая, обозначавшаяся полоса дороги зигзагами поднималась вверх, к перевалу.
— Узкоколейку на Эрзерум построили, а теперь ведем шоссейную на Бердус и Ольту, будет прямая связь с Ардаганом, — рассказывал Семен Иванович. — Хорошо работают саперные дружины, каждый раз, как поедешь, заглядишься. Если бы все эти силы, которые человечество тратит на взаимное истребление ради хищнических интересов золотого мешка, были направлены на мирный труд, ведь можно было бы по всей земле провести удобные дороги, отрыть оросительные и осушительные каналы, добывать из недр земли все, что потребно человечеству, построить новые фабрики и заводы, насадить сады — одним словом, осуществить нашу великую мечту, единственную надежду исстрадавшегося человечества.
— Верно, Семен Иванович.
Очень не схожи они были, когда, обнявшись, стояли у окна — худощавый, высокого роста, с приподнятыми плечами и тонкий в поясе Саша в своем красивом кавказском костюме и весь какой-то округлый, коренастый Семен Иванович, в кожаной куртке, которая топорщилась на его сильном теле. Но одинаковое, деятельное и доброе выражение было и на молодом, задумчивом, с черными усиками, смуглом лице Саши и на красно-загорелом, веселом, крепком и добром лице Семена Ивановича.
— Что же вы, Саша, не спросите меня о том, как я выполнил ваше поручение? — посмеиваясь, спросил Семен Иванович. — А я ведь его выполнил. Навестил вашу маму и даже обедал у вас. Социви [9] было такое, что пальчики оближешь.
— Ну, так что у нас дома?
— Все хорошо, все здоровы, сестры у вас красавицы. — И он даже с грустью покачал головой.
— Спасибо, что вы у нас были, — сказал Саша. — Для мамы праздником является каждая встреча с человеком, который меня видел.
— Да, это верно, она меня выспросила обо всем, я уже, признаться, стал кое в чем привирать.
— Вот как?
— Да! Сказал, что вы влюблены в одну прелестную даму — Сирануш Гургеновну.
Сирануш Гургеновна была хозяйкой той квартиры в Александрополе, где стоял одно время Семен Иванович и куда приезжал Александр. Добрейшая старушка, она была очень ласкова к Саше, и Семен Иванович подсмеивался над тем, что старушка влюбилась в молодого красивого офицера.
— Ну, зачем вам было в смешном виде выставлять нашу добрую Сирануш Гургеновну? — с улыбкой спросил Александр.
— Но я ведь не сказал, что Сирануш Гургеновна старушка. Наоборот, я так расписал ее, что Дареджана Георгиевна не на шутку встревожилась, особенно когда узнала, что Сирануш Георгиевна вдова. «Зачем ему вдова, когда у нашего Александра есть шансы на благосклонность очаровательной девушки?» А… Вы краснеете? Теперь вы наказаны за вашу скрытность, Сашенька! А фамилия какая благоуханная — Розанова!
— Все это глупости, — сердито сказал Александр.
— А отец — генерал — это тоже глупости? — продолжал веселиться Семен Иванович.
Но тут в дверь постучали, Саша воспринял это с облегчением.
— Войдите! — сказал Семен Иванович.
В дверях появился небольшого роста человек в щегольской кожаной шоферской куртке с бархатным, отделанным красной шнуровкой воротником. На зеленых его погонах были ефрейторские нашивки и два крылатых колеса — значок недавно учрежденных автомобильных войск. Голова его была, пожалуй, несоразмерно с ростом велика. Горбоносый, с большим лбом, выпуклыми глазами и выдающимся вперед ртом, этот небольшого роста человек производил впечатление силача. Он приложил руку к фуражке с большим козырьком и, продолжая широко улыбаться, так, что видны были крупные, крепкие зубы, сказал:
— Господин начгар, разрешите доложить, прибыл по вашему распоряжению.
В том, как напряжена была рука у козырька, а также в этих словах и особенно в улыбке, неуловимо насмешливой, Александру почудился оттенок нарочитости, и он подумал, что все это предназначено специально для него, офицера в черкеске, человека чужого и враждебного.
— Ладно, Вася, можешь не так уж старательно тянуться, — усмехаясь, сказал Семен Иванович. — Знакомься, это… наш товарищ… — со сдержанной теплотой сказал он, кивнув подбородком в сторону Саши. — Есть тут для тебя серьезное дело. Я выпишу тебе наряд, ты поступишь в распоряжение их благородия. Тебе надлежит, приняв груз, — он сделал многозначительное ударение на этом слове, — отправиться разведать дорогу до того пункта позиций, который их благородие тебе укажут… — говорил он, несколько меняя интонацию с шуточно-серьезной на серьезную, так как в этот момент в комнату вошел Аркадий Иннокентьевич.
— Пришел-таки? — кивая подбородком на Васю, спросил он. — Никак не хотел идти, ворчал.
— А что я ворчал, господин начгар? — плаксиво-сердито сказал Вася, — Ведь моя гармозиночка, — нежно сказал он, — только что из ремонта — и здравствуй пожалуйста, тряси ее по здешним поднебесным горкам…
— Слышали, какое рассуждение, ваше благородие? — сказал писарь, обращая свое бледное лицо с красной и словно вздувшейся верхней губой к Александру. — Сам сообразить, что нашим героям солдатикам нужно подвезти пропитание, — этого он не хочет. Ему бы, раз уж он до Сарыкамыша добрался, лишь прилипнуть к своей Матаньке.
— А ведь сразу уговорил, — покачивая головой и как бы жалея себя, сказал Вася; — Какое слово пронзительное у господина старшего по канцелярии! Сказал — и сразу вонзилось в самое сердце. Поеду в погибельные горы, а вам., господин старший по канцелярии, поручаю свою Алюру.
— О-о-о, у него, оказывается, не Матаня, а Алюра, — сказал писарь, обернувшись к Александру и предлагая ему потешиться.
Александру настолько противен был этот писарь, что он не смог даже выжать из себя в ответ притворную улыбку.
Зато Вася подмигнул Семену Ивановичу, лихо притопнул и пропел:
Вечор встретились, Алюра, А сейчас пришел приказ. Расстаемся мы с тобою, Шпарим прямо на Кавказ!— Пишите, господин начгар, наряд на военного шофера Гаврилова Василия, с выдачей на десять дней сухого пайка и аварийного запаса бензина. — Все это он произнес быстро, без запинки и весело взглянул на Сашу с выражением: «Ничего, мы с тобой поладим!»
3
Темиркан благополучно завершил в Сарыкамыше все свои дела, наряды на продовольствие и боеприпасы были уже на подписи.
— Э-э-э, батенька, я склонен к каждой цифре справа ноль приставить, — сказал ему добродушный старенький генерал, накладывая резолюцию. — Да ведь вся суть в том, как вы все это доставите к себе на позиции.
— Дорога уже разведана, автотранспортом мы обеспечены, — ответил Темиркан, имея в виду то, что рассказал ему Александр Елиадзе о своей поездке в штаб автоотряда.
— Сомнительно все-таки, чтобы там машины прошли, — сказал генерал, — Советовал бы больше уповать на местный транспорт…
Посмеиваясь, вывел он Темиркана на галерею, выходившую во двор, который весь был заполнен множеством серых спин, длинных прядающих ушей и добродушно-упрямых ослиных морд.
Едва генерал показался на балконе, ослы вдруг, словно по команде, подняли крик.
— Знают начальство! — утирая слезы от смеха, сказал генерал. — Должен признаться, что я этих серых тружеников уважаю до глубины души. Подал нам эту мысль один из работников Земгорсоюза, армянин, еще весною, когда весь фронт из-за бездорожья сидел голодный. И, знаете, как они нас выручили, эти долгоухие? Ведь он пройдет по такой узкой тропке, где лошадь откажется идти. Правда, не выносят топких и сыпучих мест, особенно когда тяжело нагружены. В этом-то и есть разгадка знаменитого ослиного упрямства. Видите, как уши у него устроены, — этакий аппарат по уловлению звуков! И если он слышит, что его гонят в ту сторону, где булькает вода или сыплется песок, он ни за что туда не пойдет, потому что копытце-то у него маленькое, там, где лошадь пройдет легко, осел сразу загрузнет. Ну, а человек, не обладая подобными звукоуловителями, не понимает «ослиного» упрямства, гонит его на погибель, бьет и терзает, а осел все равно не идет. Не бить его надо, а дать ему возможность самому найти дорогу. Он вытянет морду вот этаким манером, — и генерал очень похоже показал, как осел нюхает воздух, — поразмыслит — и найдет каменистый грунт, свою ослиную дорогу, придет туда, куда надо.
Темиркан, посмеиваясь, слушал генерала, в молодости отважного кавалериста и героя кавказских войн, а сейчас по старости лет занимавшегося вопросами интендантства и ставшего ярым поборником ишачьего транспорта.
Развеселившийся после этого разговора, довольный общими результатами дня, Темиркан вышел из двухэтажного здания штаба укрепленного района — и среди своих офицеров, поджидавших его возле крыльца, неожиданно увидел того самого мистера Седжера, который в представлении Темиркана всегда был связан с Гинцбургом и со всем тем столичным денежным миром, где находилась Анна Ивановна, — миром, с которым, казалось, у него все было покончено. В светлом травянисто-зеленом френче с маленькими погончиками и в тропическом шлеме, англичанин преувеличенно приветливо поздоровался с Темирканом. Но, уловив оттенок вежливой сухости в обращении Темиркана, он тут же счел нужным предъявить документ главной квартиры штаба русских войск на турецком фронте. Оказывается, мистер Седжер был корреспондент английского телеграфного агентства на турецком фронте русской армии. Повернувшись спиной к русским офицерам, которые с любопытством следили за иностранцем, мистер Седжер вручил Темиркану конверт. Темиркан нахмурился и хотел сунуть конверт и карман, но Седжер, напряженно улыбаясь, попросил письмо распечатать.
Это было, как и ожидал Темиркан, письмо от Гинцбурга, который сообщал, что Анна Ивановна Шведе вышла замуж за ван Андрихема. «Они вернулись из-за границы и обвенчались в Петрограде, о чем Анна Ивановна написала мне в Москву, откуда я и пишу Вам. Она не знает, где Вы, и просит меня сообщить Вам, что по-прежнему считает Вас самым близким себе человеком. Превратившись в госпожу ван Андрихем, Анна Ивановна стала владелицей огромного состояния, с которым ей трудно управиться… — писал Гинцбург. — Зная, что Вы сердиты на нее и еще больше осердитесь, когда узнаете, что она вышла замуж за ван Андрихема, Анна Ивановна не решается Вам писать сама и просит у меня заступничества перед Вашим сиятельством. Она просит меня написать Вам, — сохраняю ее выражения, — что она предана Вам, как собака, и что все ее достояние (а оно, должен Вам заметить, оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов) принадлежит Вам. А это значит, дорогой Темиркан Александрович, что Вы, таким образом, после смерти ван Андрихема — а он очень плох — можете стать распорядителем очень большого состояния, которое вводит Вас в круг людей, правящих миром. Впрочем, подробнее я Вам скажу обо всем этом при личном свидании. А то, что Вы человек военный, в настоящей ситуации придаст Вам еще больший вес в деловых кругах, военные люди сейчас ценятся. Как это ни странно, но судьба устроила так, что в отношении Вас и Анны Ивановны я, человек коммерческий, являюсь вестником любви, своего рода амуром.
Исходя из этой роли, я прошу Ваше сиятельство переменить гнев на милость и простить рабу Вашу Анну (так сама себя называет Анна Ивановна ван Андрихем), разрешив ей написать Вам, чтобы Вы имели возможность условиться с нею о встрече».
Все это так неожиданно свалилось на Темиркана, что он, читая это письмо возле входа в штаб, даже не имел возможности обдумать новости, нашептанные ему письмом. Но, прочитав письмо и взглянув на мистера Седжера, который оживленно беседовал с офицерами, он понял первое, что надлежит ему сделать. Поскольку у мистера Седжера имелся пропуск, который давал право представителю прессы союзной державы беспрепятственно следовать в пределах расположения русской действующей армии, Темиркан пригласил мистера Седжера побывать у него на участке фронта, а пока отправиться вместе ужинать в офицерскую столовую.
Глава третья
1
На крутом, несколько выдвинутом вперед отроге лесистого хребта, над горной речкой, протекавшей среди сырых стен ущелья, расположен был взвод казаков, два доставленных сюда на вьючных лошадях горных орудия и два пулемета «максим». Этой маленькой «крепостью» командовал рыженький, с хорьковой мордочкой, известный своей отличной джигитовкой, хладнокровной жестокостью и отчаянной лихостью в бою сотник Смолин. Он уже дважды был ранен и трижды награжден: двумя георгиями и золотым оружием. Смолин происходил из станицы Царской, и казаки, родом из тех же мест, знали о нем, что его отец, атаман, в детстве так бил сына, что ломал об него палки. И все же не мог добиться, чтобы Витька переходил из класса в класс. В конце концов Виктора Смолина в возрасте семнадцати лет забрали из четвертого класса реального и отдали в кавалерийское училище в Новочеркасск, откуда он и был выпущен в начале войны.
Офицеры жили в землянке: Смолин и артиллерийский командир прапорщик Зароков, огромного роста мужчина с черными густыми бровями и громоподобным басом» По должности и по положению Зароков должен был подчиняться тонкокостому, визгливому Смолину, но постоянно спорил с ним и обращался не по чину:
— Послушайте, Смолин…
— Прошу обращаться по форме! — кричал Смолин, наморщив свой хорьковый нос и оскалив мелкие зубки.
— Да ну вас, какая тут форма… — бурчал Зароков. — И какое обращение может быть лучше фамилии? Фамилию вы получили от деда, может от прадеда, а сегодня вы хорунжий, а завтра…
— Не хорунжий, а сотник! И эти студенческие разговоры прошу приберечь для штатской жизни.
— Да я в штатской жизни с таким малоинтеллигентным юнцом, как вы, общаться не буду, — со снисходительным и явно выраженным презрением отвечал Зароков. — Я, знаете ли, на третий курс Технологического института перешел, а вы, насколько мне известно, как дело дошло до равнобедренных треугольников, так и застряли в четвертом классе на третий год…
— Я вас проучу, я вас на дуэль…
Обычно после такого разговора Зароков уходил из землянки. Но сегодня он добавил:
— Э-э-э… чего тут разговаривать… Мне бы с вами насчет высоты номер двадцать четыре посоветоваться надо, как бы туда разведку выслать, а у вас из-за дурацкого титулования язык невесть куда забегает.
Наступило молчание.
— Это высота двадцать четыре, где такое дерево кривое, вроде буквы «Г»? — спросил Смолин, быстро вытаскивая карту и сразу спадая с неистового крика на любопытствующий и деловой тон. — Вот эта?
— Она самая. И кажется мне, что там проходит дорога…
— По карте здесь дороги нет, — вертя носом над картой, бормотал Смолин. — А впрочем, батя меня учил, что «на фронте, Виктор, верь не карте, а своему носу». А нос у меня, знаете, какой? Кто это вам сказал насчет дороги?
— Мои наблюдатели — они видели, там два верблюжьих вьюка прошли.
— С чинары глядели? Пойти посмотреть… — Виктор быстро, затягивая ремень, вышел из землянки.
Он, конечно, мог бы послать слазить наверх кого-либо из своих казаков, но это значило отказать себе в удовольствии. Перед тем как лезть на дерево, Смолин, придерживая кубанку, чтобы не свалилась с маленькой рыжечубатой головки, оглядел чинару, на которой сидел наблюдатель-казак, скинул франтоватые сапоги и, окончательно превратившись по внешнему виду в мальчишку, ловко, по-обезьяньи, влез на дерево. Цепко обхватив вершину и не обращая внимания на то, что раскачивается вместе с ней, он около, часу напряженно вглядывался своими острыми рыжими глазенками, порою прикладывая бинокль и тут же начиная чертыхаться, так как пользоваться биноклем он не умел, («Бинокль как-никак требует отвлеченного мышления», — язвил по этому поводу Зароков.)
Смолин слез с дерева и обтерся душистым одеколоном.
— Подобного рода ароматы испускают только девки-мамзели с Лиговки, — как всегда, брезгливо морщась, сказал Зароков. (Парфюмерия была постоянной слабостью Смолина, а Зароков ее терпеть не мог, и вопрос об употреблении косметики был одной из причин их ссор.)
— Не любишь… — повизгивал от наслаждения Смолин, продолжая растираться. Потом голый лег на свою постель и закурил.
Зароков терпеливо ждал. В дверь постучались. Вошел рослый артиллерист с нашивками ефрейтора, это и был Москвиченко, тот, кто первый увидел тропу… Он вошел и встал у дверей, немного пригнувшись. Рост не давал ему возможности вытянуться по форме.
— Там тропа просматривается, среди зелени желтое, коричневое такое… — заговорил Смолин. — За то время пока я болтался наверху, никто по ней не прошел. Но ведь ты, Москвиченко, верблюдов видел? Не приснились ведь они тебе?
— Никак нет, ваше благородие, не приснились, — мягким басом ответил Москвичеико.
— Так как же быть? — спросил Смолин.
Никто ничего не ответил. Раздумье продолжалось секунду. Смолин вскочил, мгновенно оделся и вышел из землянки.
— Эй, Михайлов, седлай коней! Прапорщику Зарокову оставаться старшим. Ты, Филипп Петрович, тоже собирайся со мной, — несколько умеряя повелительный тон, сказал Смолин, обращаясь к старшему уряднику Филиппу Булавину, который за это время тоже вошел в землянку.
Однако установить, что под высоткой № 24 действительно существует тропа и занести ее на карту, причем сделать это так, чтобы турки не подозревали о том, что их коммуникация открыта, было не так-то легко. На это потребовалось несколько суток, и все это время в офицерской землянке царил мир — два человека, разные во всем и по-разному ограниченные, не сталкивались на каждом шагу, как это бывало в дни вынужденного безделья.
Наконец на четвертый день, проползав несколько часов среди кустарников, цепляясь за гибкие, но тонкие ветки, пробираясь по крутым склонам и слыша, как камни катятся из-под ног и где-то далеко внизу плюхаются в воду, Филипп установил, что здесь над рекой действительно проложен участок дороги. Над самой головой Филиппа прошли навьюченные верблюды. Ступали они по-верблюжьи беззвучно и мягко, и Филипп ничего бы не услышал, если бы один из верблюдов, очевидно почуяв Филиппа, не послал ему свое верблюжье проклятие.
Вернувшись и доложив командиру, что дорога обнаружена, Булавин, изрядно уставший, вышел из офицерской землянки, присел и, не прикоснувшись к обеду, заботливо для него оставленному, сразу уснул.
Как это часто бывает на фронте, проснулся он от ощущения опасности и сразу схватился за свой карабин.
Но кругом все тихо и спокойно, ни зарева, ни выстрела, ни крика… Только гора Бингель-Даг пламенела на востоке, отражая лучи уходящего солнца.
«Не годится спать на закате — еще бабушка учила нас с Родькой… — вспомнил Филипп. — Что-то Родька сейчас делает?» — подумал он о брате.
И, приняв позу поудобнее, закурил. Так как к ночи в этой местности всегда холодало, он потуже затянул серую добротную шинель, которую недавно, к удовольствию казаков, выдали вместо бурок и казачьих бешметов.
Впрочем, бурки еще были в ходу, и одна из них, поставленная в виде шатра и сверху смоченная водой, прикрывала маленький костерчик, на котором разогревался ужин.
Филипп совсем неподалеку видел слабый язычок пламени под буркой, ощущал легкий, почти невидимый дымок и прислушивался к тихому, доносившемуся оттуда разговору.
— Нет, ребята, — спокойно и назидательно говорил человек, которого по голосу сразу же признал Филипп, это был артиллерист Николай Жердин, — у меня в жизни два раза случалось, что я обмирал, то есть был все равно что мертвый, потому я точно могу сказать, что никакая душа в это время из меня никуда не отлетала.
— А вы, может, этого не помните, — возразил Николай Черкашинин, одностаничник и даже свойственник Филиппа.
Филипп со слабой улыбкой слушал этот заинтересовавший его разговор.
Он не раз замечал, что, как только Жердин приходил к казакам, непременно возникали примерно такие вот разговоры об умственных, порожденных войной и фронтовой жизнью предметах: о жизни и смерти, о душе… Филипп заметил и то, что Жердин не только при офицерах, но и при нем, Филиппе, никогда таких разговоров не заводит, и не обижался на это, а предпочитал, не вмешиваясь, потихоньку слушать эти разговоры.
— Почему не помню? Я все помню… — неторопливо продолжал Жердин. — Это еще в самом начале войны было, в первом бою, когда нашу дивизию ткнули на переправу через Неман и пошли мы в штыковой бой. Но тут наши немецкие братья… — и Жердин непонятно грустно усмехнулся, — так меня разделали своими штыковыми ножами, что я больше походил на филе с кровью, которое так обожает господин сотник…
— Он такой у нас.
Казаки засмеялись.
— Такой!..
— Хорек, он только на свежанину падок.
— Ш-ш-ш… Он тебе задаст хорька.
— Давайте, дядя Жердин, говорите, — попросил Николай Черкашинин.
И Жердин, дождавшись, когда казаки перестали смеяться, продолжал:
— Бой, значит, кончился… Лежу я на поле и даже не знаю, отбили мы переправу или нет. Да и, признаться, не было мне в этом интереса, а только одна дума: ни за что пропадаю. И даже боли особенной нет, лишь тянет и тянет руки и сердце холодеет…
— Это так и есть, — подтвердил молодой казак Лиходеев. — Вот и я тоже…
— Ш-ш-ш… — недовольно заглушили его другие слушатели.
Жердин опять переждал шум и сказал:
— А к чему я это рассказываю? А вот к чему. Ведь потом врачи удивлялись, как это я живой остался, столько крови из меня вытекло. И ведь я знал, что она из меня вытекает, потому что она горячая, и чую я, что лежу в теплом и липком, а внутри у меня все холодеет, и в глазах темнеет и темнеет. Даже подумалось, что вечер настал, а было утро, солнце все выше поднималось.
— Как же это, дядя Коля, ведь ты все это видел… — перебил его Черкашинин.
— Видел. И даже соображал, что уже день, и солнышко видел. А вокруг все показывалось — как будто ненастная осень, все серое, и тоска такая… Про жену вздумалось…
— А, вот… — перебил Николай. — Значит, вздумалось? Это, значит, душа к ней полетела…
— Зачем бабе душа? — И Лиходеев подробно изложил, что именно, по его мнению, необходимо бабе.
«Вот жеребец», — подумал Филипп с неудовольствием, ожидая, что интересный разговор перейдет в русло армейской похабщины. Но этого не случилось, лиходеевское похабство выслушали без интереса, и Жердин, не обращая внимания на грязные слова, упрямо сказал:
— Никуда и ничего из меня не полетело. Только жалко мне ее стало, так жалко, что я вот помираю, а ей без меня жить в нужде и горе. И подумалось: вот конец. Все забыл, и жизни нет… И если бы не пришли наши санитары и не стали меня тормошить, я бы совсем помер в полном беспамятстве…
— А женку-то ты увидел перед смертью, личико ее, — спрашивал Николай, — разве не предстало тебе?
— Это еще ничего не доказывает, — ответил Жердин. — Мне, может, и сейчас она представляется, все равно как я вас здесь перед собой вижу. А знаю, что сижу среди вас, а не у себя в Баку, на Балахнинской, и если уж двинусь в Баку, то не душой, а вот как я есть — с руками и ногами и на все свои четыре пуда одиннадцать фунтов весом.
Лиходеев опять громко захохотал.
— Эк тебя, Степка, разбирает… — сердито сказал Черкашинин. — Господа офицеры услышат, придут, дядю Филиппа побудишь.
— А где Филипп Петрович? — переходя на осторожный шепот, спросил Жердин.
— А вон, за кустом спит.
Филипп ткнулся лицом в землю — на случай, если бы кто-либо захотел удостовериться, спит ли он в действительности. Но никто не пошел удостовериться, и Черкашинин, настойчиво возвращаясь к разговору, спросил:
— Ну, а другой раз как это было, что вы помирали? Тоже на войне?
— Да, тоже вроде войны было, — усмехнувшись, сказал Жердин. — Полицмейстер Ланин меня по башке балалайкой, а кто-то из новобранцев его каменюкой по балде. Это в первый день призыва. Еще на фронте не побывал, а уже три недели в военном госпитале пролежал. Господина полицмейстера Ланина хоронили под музыку, по всему Баку таскали, речи говорили. А если собакам кинуть такую падаль, так они, пожалуй, и жрать его побрезгают.
И эти исполненные злобой слова вдруг воскресили в памяти Филиппа совсем не смазливенькое, с припомаженными усиками и висками лицо Ланина, а сизое, со стеклышками вместо глаз, с собачьим оскалом лицо градоначальника Мартынова, и злоба, которая слышалась в голосе Жердина, одобрительным и горячим эхом отозвалась в душе Филиппа. И ему вспомнился Науруз — такой, каким он видел его последний раз в Баку. Он вышел тогда вперед из толпы забастовщиков, держа в руках пестрый кисет, сшитый женой Филиппа, и напоминанием об их необычайной дружбе был этот кисет… Да, тысячу раз лучше воевать с вооруженным врагом, с турком, чем с той безоружной, но страшной сознанием своей справедливости силой. «Лучших людей терзают… — подумал Филипп. — Где-то он сейчас, кунак мой?..» И то, что этого доброго, благородного, мужественного человека он мог назвать, хотя бы мысленно, кунаком, радовало Филиппа и внушало уважение к себе.
Ночь, как всегда в этих местах, наступила быстро, на небе высыпали звезды. Вечерние звезды тлели в угольях заката, обозначившего ломаную линию гор, да под буркой тлели угли костра.
Ужин разогрелся, из темноты слышно было, что люди едят. Разговор прекратился, и только Коля Черкашинин никак не мог угомониться.
— Это все я понимаю — насчет рая и ада, это поповская глупая брехня. Я об этом еще в станице сомневался. Ну, а как уже воюем третье лето, так кой чертов ад сравнять с этим пеклом… — он вздохнул и коротко махнул рукой — Филипп различал в темноте его движения. — А все-таки, не могу я согласиться, что душа у человека после смерти тоже пропадает, рассеивается, как туман, — упрямо сказал Николай.
— Души без тела никогда никто не видел, не слышал. То, что ты, тезка, называешь душой, находится вот здесь, — учительным тоном выговорил Жердин. Послышался легкий шлепок, Жердин ласково шлепнул Николая Черкашинина по затылку. — Повреди мозг — и ничего те увидишь, все рассеется.
— А совесть? — спросил Черкашинин. — Она тоже рассеется?
— Совесть? — помолчав, переспросил Жердин. — Что такое совесть? Это — когда ты сам знаешь цену своему поступку, верно ты поступил или нет. А чувство это, если ты хочешь знать, идет к тебе в душу от других людей: как они считают твой поступок — правильный или нет. Вот я, бывает, вспоминаю того парня, который полицмейстера Ланина, как я вам рассказывал, успокоил навеки. Почему он за меня вступился? Ведь он меня не знал. А не выдержал, вступился. Что же его двинуло? Совесть! — торжественно и строго сказал Жердин. — За чужого ему человека как за родного встал! Если его поймали, так, верно, по строгости законов судили — присягу, мол, нарушил, так? И, верно, всяко стыдили и усовещевали. А он знал свое, он за товарища заступился. И если даже его палачи за это дело на виселицу потащили, он все равно свою правду знает. Знает, что за товарища погиб. И хотя я не знаю его, кто он есть, а он для меня все равно что здесь, со мной, — так говорил Жердин — и, видимо, не только уже для тех, кто его слушал, но и для себя. И такая убежденность слышна была в его словах, что Филипп с уверенностью отнес Жердина именно к тем самым решительным и неустрашимым людям, которые в уставе воинском именуются внутренними врагами…
— Свисточки… — сказал вдруг Черкашинин. — Это дозорные, кто-то к нам сюда, на тычок, жалует…
Все замолчали, слышно стало, что в землянке запищал полевой телефон и басовитый голос Зарокова поздоровался с кем-то.
Филипп встал, отряхнулся и оглядел себя, а потом обернулся в сторону костра. Но казаков там уже не было — они разошлись по своим местам.
2
Приезд начальника штаба отряда, да еще в сопровождении какого-то непонятного светло-зеленого, как гусеница, англичанина в колониальном шлеме («Прямо из «Вокруг Света», — шепотом сообщил Смолин Зарокову) был на «тычке» — так во фронтовом обиходе именовался холм, где расположились казаки Смолина и пушки Зарокова, — событием из ряда вон выходящим.
Филипп, признав этого англичанина, хотя и не видел его с той давней ночи, когда шла облава на Науруза, встревожился. Хотя Англия была в союзе с Россией, Филипп ничего хорошего от англичанина, который невесть зачем бродит по Кавказу, не ждал. Едва не в каждой казачьей хате хранился дедовский трофей: длинноствольное ружье с мусульманской молитвой и английским фабричным клеймом — память о том, что мюридов Шамиля Англия вооружала против России.
Вопреки тому что думал Темиркан об отношении к себе казаков, они, отдавая должное достоинствам его как командира, не доверяли ему, не любили его и вполне основательно считали этого князька хитрым и жестоким.
Филипп Булавин был убежден в этом, пожалуй, больше других. Происходил он из станицы Сторожевой, самой близкой к веселореченским аулам, и отлично знал, какую роль сыграла жадность Темиркана и других князей в веселореченском восстании. Увидев, с какой предупредительностью показывает Темиркан англичанину здесь, на «тычке», расположение русских войск, настроился подозрительно и мрачно.
В это время Саша Елиадзе, несколько раз оглянувшись, разглядел под большой сосной еле различимую в темноте неподвижную фигуру Жердина и обрадовался: ведь ради него он сюда и приехал. Закурив, Саша стал прогуливаться, все приближаясь к этой сосне.
Жердин повернулся и ушел в темноту леса. Саша последовал за ним. Только оказавшись в глуби леса, Жердин оглянулся и присел на поваленное дерево. Взяв Сашу за руку, он ласково потянул его к себе и усадил рядом.
— Заждался я вас, Александр Елизбарович, — сказал он. — Ну, давайте: какие новости у вас?
— Одна есть большая новость, и хорошая. Товарищ Алеша вернулся, он в армии.
Жердин кивнул головой и, сосредоточенно мигая, покуривал в рукав.
— Вы встречались с Алешей? — спросил он.
— Не пришлось, — вздохнул Саша. — Мне Дьяков рассказал. Просил, чтобы я лично передал вам пакет. И еще листовок целый тюк, они у меня припрятаны.
— Присядем пониже. Зажгите спичку и посветите, что в этом пакете… — сказал Жердин.
Пока Саша доставал спички, Жердин распечатал пакет.
— Бумага заграничная, — пробормотал он.
Саша чиркнул спичкой.
— «Социал-демократ»? Номер пятьдесят первый, пятьдесят второй. Очень хорошо. А ну-ка, чиркни. Значит, статьи Ленина «О мире без аннексий и о независимости Польши как лозунгах для России…» А ну, еще чиркни.
Он быстро пробежал глазами строчку за строчкой, бормоча про себя:
— «Войска столь же грабительских немецких империалистов отбили русских разбойников…» Так, так, значит всем сестрам по серьгам… Дальше. «Пока немецкий пролетариат будет терпеть угнетение Польши Германией, он останется в положении хуже чем раба, в положении Хама, помогающего держать в рабстве других». Вот оно что значит, это слово «Хам», — торжествуя, произнес Жердин, — а совсем не то, что понимают господа дворяне, когда ругают нас «хамово отродье». Это они и есть хамы, потому что держат в рабстве других. Не мир без аннексий, а «мир хижинам, война дворцам, мир пролетариату и трудящимся, война буржуазии», — раздельно прочел Жердин самый конец статьи и быстро спрятал журнал.
Оглянулся и глубоко вдохнул чистый воздух, насыщенный запахом молодого листа.
— Что там ни будь, а жизнь прекрасна, и наше время, Саша, скоро придет! — сказал он. — Товарищ Алеша с нами, надо только в Баку прожить, как прожил я, чтобы знать, что значит Алеша! Ведь он, можно считать, по партии мне приходится крестным отцом. Когда я после пятого года приехал с Урала в Баку, я хоть и спасался от петли, а даже различия между большевиками-революционерами и максималистами-террористами не понимал. И, только вступив в Союз нефтяных рабочих, где Алеша был секретарем, я услышал от него сокрушающую критику терроризма, эксов и прочего арсенала эсеровской тактики, которая, по молодости и недостаточности знакомства с теорией научного социализма, еще привлекала меня своей упрощенностью. Под руководством Алеши прошел я боевое крещение — избран был в тот Совет рабочих уполномоченных, который Серго Орджоникидзе назвал рабочим парламентом. Открывал этот парламент Алеша. Вот уж действительно, как это говорится, окрыляющую речь сказал он тогда! Ведь настал уже восьмой год, всюду свирепствовала реакция, но мы, бакинцы, своей долгой и упорной борьбой добились прав и возможности выбрать в Баку Совет наших рабочих уполномоченных. Видишь, что значит, когда идея овладевает массами, какой силой становится она!
Зная, что Саша пришел в партию из чуждой среды, Николай Жердин считал нужным при всякой встрече учить его. Ведь будучи по иерархии царской армии всего лишь солдатом-артиллеристом с одной лычкой ефрейтора, Николай Жердин в большевистской подпольной организации был одним из крупных работников, и подпоручик Александр Елиадзе; исполнял при нем всего лишь скромные, хотя и ответственные обязанности связиста.
И сейчас, получив от Жердина все поручения, Саша неторопливо, словно прогуливаясь, вышел из леса, Он спросил у часового, где господа офицеры, и спустился в землянку Смолина и Зарокова. При теплом свете керосиновой лампы Саша увидел, что ужин подходит к концу, посуда сдвинута и знакомая Саше в мельчайших подробностях карта, вычерченная под его руководством в штабе отряда, легла на сдвинутые ящики, заменявшие стол.
Налив себе стакан чаю из пузатенького желтого самоварчика, Саша стоя — места вокруг ящиков не было — ел бутерброды с холодной бараниной, запивая жир, белый и твердый, обжигающим глотку чаем. Вытягивая шею, он заглядывал через спины и головы на карту. И так как Виктор Смолин, гордившийся тем, что его казаки установили сегодня новую вьючную тропу противника, проходившую поблизости от самой линии фронта, еще раз обстоятельно рассказывал об этом, Саша, уяснив, где именно проходила эта тропа, сразу забыл о еде.
При всем том, что Саша видел все ужасы войны и неоднократно с жаром разъяснял солдатам происхождение войны и необходимость революционного выхода из нее, — он в то же время с первого же дня пребывания на фронте почувствовал склонность к военному делу и жгучий интерес к ходу военных действий. Этот интерес и несомненные военные способности выделили его среди прочих офицеров. Интерес этот выражался, между прочим, и в том, что никто из офицеров не знал так местность, как знал ее подпоручик Елиадзе.
Даже на Кавказском фронте, изобилующем труднопроходимыми горными районами, участок, на который был переброшен отряд генерала Мезенцева, гористый и лесистый, известен был тем, что не имел удобопроходимых путей. Однако, сопоставляя некоторые приказания, полученные сверху, и те данные, которыми располагал штаб отряда, Саша предполагал, что вторая Турецкая армия нацелена для прорыва русского фронта именно на этом труднопроходимом, но зато, как предполагало турецкое командование, слабо защищенном русском участке.
Вот почему Саша с таким интересом отнесся к сообщению о дороге, годной для прохождения вьючных верблюдов. И он время от времени взглядывал на Темиркана Батыжева. Но догадаться, о чем, неторопливо попивая чай, думает Темиркан, было невозможно.
Саша знал, что как в старину турки возили на верблюдах свои фальконеты, так и сейчас они на верблюдах передвигали современные крупповские пушки. Появление верблюжьего транспорта на этой тропе было неоспоримым свидетельством того, что по условиям местности она является единственной удобной коммуникацией, связывающей артиллерийские позиции с центрами снабжения второй турецкой армии. По характеру разговора в землянке Саша видел, что вопрос о подобном назначении этой тропы никому из присутствующих не приходит в голову, — все слушали спор, возникший между Смолиным и Зароковым по поводу дальнейших действий. Смолин предполагал, проследив» когда будет проходить очередной транспорт, напасть на него и взорвать дорогу. Зароков, основываясь на донесениях разведки, указывал, что пробраться к тропе большими силами невозможно, — нужно установить артиллерийское наблюдение и в случае усиления движения транспортов накрыть его огнем.
Подобного рода споры Саша слышал не впервые. В этих спорах офицеры, принадлежавшие к различным родам войск, демонстрировали абсолютную веру во всемогущество своего вида оружия, веру, которая ограничивала военный кругозор и мешала принимать общее решение, дававшее каждому виду оружия свое место в бою. И, слушая этот спор, Саша все чаще поглядывал на подполковника Батыжева, который время от времени протягивал недопитый стакан чаю, с тем чтобы его долили кипятком. Хотя в землянке и было жарко, Темиркана, очевидно, знобило. Он поворачивал свою бритую, обтекающую потом голову то к одному, то к другому из спорящих и внимательно выслушивал каждого, но сам молчал.
По всем поступкам Темиркана Саша видел, что это один из самых страшных по своей свирепости и хитрости классовых врагов. Но при этом нельзя было со вниманием и даже невольным уважением не прислушиваться к Темиркану, когда тот говорил о военном деле. Вот и сейчас по выражению лица Темиркана, по тому, как он еле заметно покачивал своей бугристой бритой головой и, щуря красноватые веки, теребил маленькую бородку, отпущенную после ранения и скрадывавшую его изуродованный подбородок, Саша чувствовал, что Темиркан не согласен с обоими спорящими и слушает их только потому, что они, приводя в своем споре взаимно исключающие аргументы, проясняют для Темиркана что-то самое важное.
Спорящие и сами чувствовали, что начальник штаба чем-то недоволен, и все чаще поглядывали на него. Наконец он, поглаживая свою бритую голову, сказал, с напряжением одолевая шепелявость:
— Мелко плаваете, господа офицеры, очень мелко плаваете. Охотнику удалось отыскать тропу на водопой. Что ж, он сядет возле нее и будет стрелять по первой добыче, которая по тропе побежит? Так, господин сотник? Ведь вы, кажется, у нас охотник? А? — спросил он, всем корпусом поворачиваясь к Смолину и скаля мелкие зубы в пренебрежительной усмешке. — Конечно нет. Он пропустит и козу и даже кабана пропустит, а будет ждать, не придет ли медведь, так? А если он стрельбу сразу откроет, то мелкого зверя возьмет, а крупный уйдет. Никакого шума и шухера, — раздельно выговорил он последнее, новое, видимо недавно усвоенное и понравившееся ему слово, — не устраивать. Нашли вьючную тропу и обрадовались… А куда она идет? Откуда идет? Что турок по ней возит? Вы забыли, господа офицеры, зачем мы вас здесь держим? Вы — наш глаз, наше ухо. И сидите тихонько и ведите разведку, постоянную русскую казачью разведку, поиск — так это называется? И самим не действовать, ибо сведения эти могут тут же пригодиться для больших дел. Может быть, завтра турок по этой тропе двинется, а? А может быть, мы по этой тропе влезем к нему прямо в берлогу конным рейдом, так?
Он помолчал и добавил:
— Я вам не скажу ничего, но вы сами должны сообразить, что если наш отряд сунули в эту дыру, значит это сделано не для нашего удовольствия.
— Разрешите, господин подполковник, сегодня в разведку идти? — преданно глядя своими желто-рыжими глазами в лицо Темиркану, проговорил Смолин.
Темиркан засмеялся — стали видны два выбитых нижних зуба, — поощрительно похлопал Смолина по спине и сказал:
— В добрый час. Разрешаю.
3
В штаб возвращались поздно ночью. Саше это возвращение стоило большого напряжения сил. Только сегодня к полудню доставил его Вася Гаврилов на автомашине из Сарыкамыша. Дорога неудобная, тряская, но использовать ее для снабжения отряда, конечно, можно было, о чем Саша тут же и доложил начальнику штаба. Темиркан выразил ему благодарность и тотчас отдал приказание приступить к перевозке снарядов по новому маршруту. Саша, узнав, что сам Батыжев собирается на крайний левый фланг расположения отряда, несмотря на крайнюю усталость, попросил у начальника разрешения сопровождать его, — удобная возможность встретиться с Жердиным могла представиться не скоро. Темиркан дал согласие.
В продолжение дня Саша держался на нервном подъеме. Но когда стемнело, особенно при спусках — а на обратном пути надо было по преимуществу спускаться, — усталость стала брать свое. Приученный, умный конь идет сам, он осторожно ставит копыта, но всем телом чувствуешь, как трудно коню удерживать на краю пропасти равновесие и нести тебя на своей спине. И при этом обволакивает дремота, и дружеские голоса то Жердина, то Чабреца вновь звучат в ушах и уводят от этих утомительных будней войны, от чужих и неприятных лиц в другой, светлый и прекрасный мир, одушевленный поэзией благородной борьбы.
А потом вдруг Сашенька Розанова, склонив голову набок и поправляя белесые завитые кудряшки, смотрит на него своими светлыми глазами и словно не то спрашивает, не то упрекает.
«Но в чем она может упрекнуть меня? — говорил себе Саша. — Сколько раз мне хотелось расцеловать ее, и я видел, что она ждет этого, но я себя сдерживал. А почему?»
«А почему сдерживал?» — казалось, спрашивала Сашенька.
«Но я не мог иначе, — мысленно отвечал он ей. — Ведь каждый раз, когда у нас заходили разговоры на общие темы, я убеждался в той глубокой пропасти, которая нас разделяет. Вам и дома и в институте внушали глупейший монархизм, и как я ни пытался раскрыть вам глаза хотя бы на ничтожную личность «обожаемого монарха», ничего, кроме слез, я от вас не добивался. И разве было бы честно дать волю своему влечению к вам?»
Сашенька укоризненно качала головой. Она была искренне к нему расположена и даже сейчас продолжала писать ему на фронт благопристойно-глупенькие, но неизменно благосклонные письма, и он отвечал ей в таком же тоне. Может быть, в этом упрекает его Сашенька?..
Вдруг камни, покатившиеся из-под копыт коня, напомнили Саше об опасности, обступившей со всех сторон, и пробудили его. Кудрявые вершины дубов сначала видны сверху, ниже тропки, по которой ступают копыта коня. Потом вершины поднимаются все выше, и вот Саша уже у корней дерева, за вершину которого минуту тому назад задевал, и уже новые вершины задевают за лицо и опять уходят вверх, а высота так и не убывает.
Наконец тропа пошла полого и стала шире. Вот миновали дорожную будку, и часовой вышел из тьмы. Здесь тропа превратилась в дорогу. Здесь можно задремать и снова увидеть во сне Сашеньку…
Но вдруг треснула и разорвалась вселенная. Инстинктивно натянув поводья и сдержав шарахнувшегося коня, Александр при свете, ударившем с неба, увидел реку в белых водоворотах, каменистые колеи дороги, оскалившееся лицо Батыжева, что-то говорившего, но что — при страшном грохоте не было слышно. Потом все погрузилось во тьму, продолжался только грохот. И снова ослепляющий свет, вспышка, с шелестом пролетает снаряд над головой, и где-то за рекой слышен тяжкий удар в землю.
— Турки открыли огонь! — крикнул Темиркан. — Наверно, будут атаковать. Скорее скачи до штаба!
4
Огневой налет турецкой артиллерии застал Смолина, Булавина и еще нескольких казаков в каменном ущелье, по дну которого бежал ручей. Остановившись, они глядели вверх — туда, где высоко видна была лишь узенькая, усыпанная звездами щель. На мгновение она ярко освещалась, и тогда звезды исчезали, а потом вновь все становилось черно, и только грохот артиллерии, приобретавший здесь, в этой каменной щели, особую силу, сопровождался эхом и продолжал сотрясать все кругом. Первые минуты казалось, что даже стены ущелья трясутся…
— Нам бы, ваше благородие, сейчас самое время вперед продвинуться, — прикоснувшись к самому уху Смолина, прокричал Булавин, и Смолин, одобрительно кивнув, дал поводья коню.
Теперь эвон подков о камень, который до начала артиллерийской стрельбы казался опасно громким, при грохоте пушек совсем не стал слышен. Казаки сильно продвинулись вперед. Но вот артиллерия смолкла и началась торопливая ружейная трескотня. Наверху по склонам, совсем близко, видны даже стали вспышки выстрелов. Если бы турки обнаружили внизу передвигавшуюся цепочку казаков, они, конечно, перебили бы всех по одному… Когда вспышки ружейных огней оказались уже несколько в тылу, Филипп посоветовал остановить людей и послать вперед пешую разведку. По его соображениям, вьючная тропа подходила к скалистому краю ущелья именно в том месте, где они сейчас находились.
Смолин согласился с Филиппом. В разведку были посланы два славившихся ловкостью казака — Воронков и Лиходеев, остальных же скрыли под нависшей скалой… Филипп, встав на седло и ухватившись за кусты, ловко подтянулся на руках и, вскарабкавшись на самую скалу, скрылся под кустом, Вглядываясь оттуда в темноту, освещенную только вспышками ружейного огня, он увидел позади справа «тычок» — позицию, которую занимали Смолин и Зароков. Подобно невысокому темному куполу возвышался «тычок» среди таких же округлых горок и был бы почти неотличим от них. Но именно там вспыхивала и гремела ружейная стрельба, прошитая мерным огнем пулеметов. Присмотревшись, Булавин различал уже и кусты, камни — одни камни: чернели, другие белели, — разбросанные по всему крутому травянистому склону, они в полутьме казались Филиппу похожими на людей, припавших к земле. Ведь он для того и сидел здесь, чтобы не дать возможности туркам незаметно подойти именно отсюда.
Вдруг ему показалось, что один из белых камней шевелится, меняя очертания. Прислушавшись, Булавин уловил слабый стон. Конечно, это был не камень, а человек в белом. Он медленно передвигался, держась самого края обрыва, — Булавин уже различил цепкие руки, хватавшиеся за кусты, за края скалы. Белые бурнусы носила иррегулярная арабская конница, В своем, упорном движении араб этот никак не мог миновать того куста, за которым спрятался Филипп. Видно, что ползти ему трудно, порою он хрипло стонал, бормотал что-то.
Дождавшись, когда человек этот подползет вплотную, Филипп бесшумно навалился на него, сразу же закрыв ему ладонью рот.
Но «араб» не сопротивлялся. От него веяло жаром и кисло пахло рвотой. «Больной», — с брезгливой опаской подумал Филипп, затягивая ему рот большим домашним носовым платком.
— Что у тебя, Филипп Петрович? — шепотом спрашивал Смолин, стоя сейчас на седле своей лошади. Его рыжеусая, с любопытством вынюхивающая мордочка смутно виднелась за краем скалы.
— Поймал тут какого-то непонятного, примите вниз, а я еще покараулю.
— Слезай сам, наши вернулись…
Спустив вниз «непонятного», сейчас совсем притихшего, Филипп сошел на спину лошади, а потом и на землю.
Разведчики уже вернулись. Они притащили с собой находившегося в беспамятстве раненого турка — он валялся на той самой вьючной тропе, на которую им удалось влезть.
— Ну, Филипп Петрович, — весело сказал Смолин, — мы с божьей помощью по «нашей» тропе продвинемся дальше, а ты забирай этих двух пленных и волоки их к нам на «тычок», и пусть пошлют в штаб Темиркану Александровичу донесение, что лаз к туркам мы нашли и что пока мы тут без шухера закрепляемся, а они пусть по нашему следу сразу же вышлют настоящую силу.
5
Немецкие инструкторы, руководившие турецкими войсками, провели эту операцию по своей классической схеме. Длительная, двухчасовая, артиллерийская подготовка по площадям, с постепенным усилением огневой мощи, предназначалась для разрушения укрепления противника и его коммуникаций, а также для того, чтобы деморализовать русских. Но так как при создании этих укреплений были использованы особенности горного района, русские пострадали в гораздо меньшей степени, чем это предполагалось. Деморализующее действие огня через десять минут после его начала совсем прекратилось. И когда турецкая пехота перешла в наступление, сразу заговорили замаскированные батареи и пулеметные гнезда русских. После каждого шага, сделанного турками, начинались фланговые и тыловые контратаки, к которым турки не были подготовлены…
Все, что Темиркану удалось осуществить на новых позициях, сейчас оправдало себя. Наступление турок захлебнулось. Кое-где вклинившись в расположение русских войск, противник залег и стал окапываться, артиллерия обеих сторон из опасения повредить своим замолчала, слышался только усиленный ружейный огонь, особенно со стороны турок. Однако русские наблюдатели и разведчики, следившие за огнем неприятеля с деревьев и утесов, получали полное представление о линии фронта.
Когда Темиркан примерно к часу ночи добрался до своего штаба, он командира отряда генерала Мезенцева не застал. Несмотря на свой почтенный возраст, генерал сразу же отправился на правый, наиболее угрожаемый фланг участка, где турки продолжали огонь и где с большим вероятием следовало ожидать их атак. Об этих своих соображениях командующий отрядом краткой запиской извещал Темиркана и дал некоторые указания в отношении сохранения связи и необходимости экономии артиллерийских снарядов, которые автотранспорт, используя новый, определенный Сашей Елиадзе маршрут, начал уже подвозить.
Все эти соображения были правильны, но Темиркан по данным разведки чувствовал, что пришло время контратаковать турок, пока они не пришли в себя.
Послав адъютанта с приказанием привести в боевую готовность резервный батальон, Темиркан соединился со штабом корпуса… Начальник штаба корпуса сам подошел к проводу. Выслушав сообщение, он поздравил Темиркана с успехом и, сообщив, что представляет его к награждению, просил составить списки для награждения господ офицеров и нижних чинов. Поблагодарив, Темиркан кратко рассказал о положении и изложил свою точку зрения. Необходимо немедленно контратаковать противника. Нужно нащупать его слабые места до тех пор, пока он не укрепил их, прорваться к нему в тыл и предупредить тем самым дальнейшие попытки турок развивать наступление.
Последовало молчание. Начальник штаба до этого вел беседу в приветливом тоне и был доверительно многословен, сейчас же вдруг стал предельно краток. Сообщил, что он обязан доложить обо всем его превосходительству — речь шла о командире корпуса, — а его превосходительство изволят почивать. Это по адресу генерала, ушедшего в отставку после русско-японской войны и сейчас вновь вернувшегося в строй, было произнесено не без некоторого ехидства.
— Я все же буду продолжать разведку… — начал Темиркан, но тут начальник штаба корпуса перебил его:
— Войсковая разведка еще со времен Суворова — первейшая обязанность начальника штаба, и испрашивать на нее разрешение вам нет необходимости.
Темиркан бросил трубку и, бормоча проклятия по-русски, арабски и веселореченски, прошелся по комнате.
Мистер Седжер, при котором шел этот разговор, поворачивая голову, следил за Темирканом.
— Что может быть печальнее положения отважного воина, не поддержанного в бою начальником! — составив предварительно фразу на веселореченском языке, медлительно произнес мистер Седжер.
Темиркан упрямо тряхнул головой. Он понимал, как мало может он сделать силами своего отряда, выдерживающего натиск свежей турецкой пехотной дивизии. Но отказаться от своего плана Темиркан не мог хотя бы потому, что этим он дал бы возможность противнику, перестроившись к утру, снова перейти в наступление.
В комнату, заломив фуражку и открыв свой большой лысеющий лоб, что было признаком хорошего настроения, вошел начальник оперативного отдела штаба капитан Зюзин.
— Вот, извольте поглядеть, Темиркан Александрович, от Зарокова донесение: Смолин с отделением казаков перебрался на вьючную тропу и рассчитывает там укрепиться. Прислал казака, который может провести нашим подкрепление. Шикόвое дело, ваше высокоблагородие…
— Аллах велик! — сказал Темиркан, подняв ладони вверх и посмеиваясь. — А вы все говорили, что Смолин дурак. Да за такого дурака я в бою сто умников отдам… Ну, пошли к карте.
Они прошли в соседнюю комнату, а следом за ними двинулся англичанин, которого капитан Зюзин как будто совсем не замечал.
* * *
Темиркан понял, что ночь прошла, лишь по тому признаку, что, выйдя на воздух, он смог прочесть текст своего собственного приказа, висевшего на дверях штаба. Читал он машинально, думая о другом. Хотя бы батальон, только один батальон ввести в эту дыру, которую нашел Смолин в турецком расположении, и можно не только сорвать весь эффект ночного наступления турок, но и позволить предпринять удачное контрнаступление. Турки к концу ночи с целью дать отдых войскам перед новым наступлением прекратили стрельбу. Это свидетельствовало, что русских войск в тылу своего расположения они еще не обнаружили.
Темиркан взглянул на часы. Было половина пятого, а командир корпуса просыпается только в шесть. Есаул Третьяков, под командованием которого находилась сотня, посланная в тыл противника для поддержания Смолина, имел приказ сразу же атаковать турок, но он почему-то медлил, а почему — никак не выяснишь: связь не была еще налажена.
Темиркан перешел с крыльца дома, который он занимал, через улицу, направляясь к домику, где еще горел свет, казавшийся при заре ненужным. Заря уже зажгла над скалистыми горами и зеленью долины, над домиками армян, слепленными из глины и сложенными из камня, свой чистый, ало-желтый свет. Взлетели ракеты — одна, другая, — турки о чем-то сигнализировали. Может быть, обнаружили у себя в тылу русских? Темиркан вошел в домик. Здесь было еще темно, горела керосиновая лампа. Прапорщик Мурадян, молодой человек с темными бачками и худым смуглым лицом, вел допрос взятых в плен турок.
Все они были ранены. Сквозь бинты на руках, головах, груди сочилась кровь. В комнату они входили угрюмые, озираясь и не ожидая для себя ничего хорошего. Но когда Мурадян заговаривал с ними на родном языке, они сразу с охотой начинали говорить, почтительно именуя «эфенди» молодого вежливого офицера, который прежде всего спрашивал пленного о том, накормили ли его.
— Что значит, Ашот Меликович, у турок белая и зеленая ракета? — жестом посадив на стул вскочившего с места Мурадяна, спросил Темиркан.
— Белая и зеленая из одного места?
— Нет, из разных.
Мурадян, склонив голову набок, сощурился, припоминая, потом покачал головой, полез в ящик и достал оттуда перехваченный у турок код сигнализации.
— Если не переменили, то белая запрашивает, где начальник артиллерии, зеленая означает: «Его здесь нет».
— Значит, еще, видно, порядка не навели, — удовлетворенно сказал Темиркан. — А у вас что слышно?
— Да все одно и то же. Их уверили, что пленных русские будут четвертовать, не более и не менее. Об этом именно способе казни военнопленных рассказывал им мулла. И когда они видят, что их не только не четвертуют, а угощают из общего солдатского котла и раненых тут же перевязывают, они при первом звуке турецкой речи рассказывают обо всем. Все они из восьмой новой дивизии, набранной в районе Измира исключительно из турок, номера полков двадцать пять и двадцать шесть. Очевидно, есть также и двадцать семь, но мне не попадались. Артиллерия немецкая. Есть немецкая новинка — огнеметы, которые в бой еще не введены.
Темиркан недовольно поморщился — он представлял, какой эффект может иметь на фронте внезапно введенное в бой новое оружие.
— Пропаганда все та же, — продолжал Мурадян. — Армяне призвали русских, чтобы стереть турок с лица земли.
— А о том, что я армянин, никому из них, очевидно, и в голову не приходит. Что они обо мне думают, ума не приложу. Только один спросил: «Разве у русских есть тоже свои турки?»
Темиркан хотел уйти, словно разговор этот имел отношение и к нему самому и был неприятен.
— У меня тут есть один экстраординарный случай. Я предполагал позвонить вам, Темиркан Александрович. Может быть, разрешите доложить?
— Давайте, — сказал Темиркан и, опустившись на стул, устало зевнул. — Давайте ваш случай.
Мурадян отослал конвойного с пленными и вполголоса сказал Темиркану:
— Казаки Смолина еще при первом разведывательном поиске схватили какого-то человека в белом шелковом покрывале; такие покрывала носит лишь арабская иррегулярная конница, арабы в некотором количестве имеются в составе действующих против нас войск. Пленный этот болен, температура тридцать восемь и шесть, его рвет. Он отлично говорит по-русски, но имя свое скрывает, требует, чтобы о нем доложили в штаб фронта, полковнику Марину.
Батыжев и Мурадян взглянули друг на друга, и Мурадян, прищурив свои красивые яркие глаза, сказал:
— Так или иначе, это из разведки.
— Давайте сюда этого араба, — зевая, сказал Темиркан. Как только он опустился на стул, ему сразу же захотелось спать.
Окна уже посветлели, но Мурадян, видимо, не замечал этого и не гасил огня, а Темиркан не напоминал об этом, так как боялся, что, как только огонь погаснет, он сразу же уснет.
Отодвинув стул в угол комнаты и оперев голову на руку, Темиркан видел сквозь дымку дремы, как санитар из соседней комнаты, поддерживая, ввел высокого человека, обросшего кудрявой темно-рыжей бородой, только карие глаза сверкали лихорадочным блеском. Он пытался и не мог стоять на ногах. Но по тому, как он подобрался, увидев Темиркана, у него мелькнула мысль, что перед ним русский офицер.
— Вы русский? — спросил Темиркан.
— Русский, — подумав, ответил тот.
— Офицер?
В ответ на этот вопрос последовала обращенная к Мурадяну фраза, произнесенная почти требовательно.
— Вы докладывали, господин прапорщик, господину полковнику о том, что я незамедлительно прошу доставить меня к полковнику Марину? Иначе я… — Он вдруг осекся и замолчал.
Темиркан заметил выражение удивления и негодования в расширенных глазах пленного. Проследив за его взглядом, Темиркан с неудовольствием увидел в окне заинтересованное и улыбающееся лицо мистера Седжера.
— Замовар подан, Темиркан Александрович, — выдавая самую широкую из своих улыбок, сказал по-русски мистер Седжер, делая шуточное ударение на слове «самовар».
— Да, да, я сейчас приду, — сухо сказал Темиркан, желая, чтобы англичанин исчез.
Но англичанин не исчезал.
— Дело разведки есть почетное дело в армии, — сказал Седжер, обращаясь к «арабу». И, улыбаясь еще шире, ловко вскочил вдруг на окно домика. — Я хотел бы пожать руку герою разведчику.
Но странный пленник круто повернулся спиной к англичанину и хрипло сказал, обращаясь к Темиркану, — взгляд его больших воспаленных глаз был просителен, но в нем была даже угроза:
— Отправьте меня скорее туда, куда я прошу, потому что, боюсь… мне жить осталось считанные часы… — Отвернувшись и скрыв лицо в грязно-белом покрывале, которое было накинуто поверх его смугло-коричневого тела, он прошептал так, что шепот раздался по всей комнате: — Кажется, у меня чума.
Англичанин так и застыл посреди комнаты с протянутой рукой и искусственной улыбкой на губах. Мурадян, откинувшись на спинку стула, заиграл дрожащими пальцами по столу…
Темиркан встал с места. Он вдруг с ужасом вспомнил, что месяца два тому назад он действительно получил секретный приказ об опасности возникновения чумы, — приказ этот предусматривал немедленные мероприятия по строгой изоляции и карантину.
«Да ведь, пожалуй, я и сам попаду в карантин», — подумал Темиркан. В этот момент пленный свалился на земляной пол, сотрясаясь в судорогах.
Глава четвертая
1
Уверенная в том, что Константин погиб на фронте, Люда Гедеминова приехала в Баку с желанием разыскать своего маленького Аскера, мальчика, которого она выходила во время чумы летом 1914 года. Вся семья Аскера умерла тогда от чумы, а у него оказался дифтерит. Но болел он тяжело, и если бы не Людмила, живым ему не быть. Когда Людмила потеряла Константина, она стала все чаще вспоминать о маленьком Аскере, ей думалось, что любовью к нему заполнилась бы образовавшаяся в душе ее пустота.
Аскер после отъезда Людмилы рос в многодетной семье двоюродного дяди, среди своих сверстников — девочек и мальчиков, Людмилу помнил смутно, и те русские слова, которым он у нее научился, почти совсем потонули в стихии родной азербайджанской речи, поглотившей его целиком.
Семья Аскерова дяди встретила. Людмилу как родную. О русской ханум, самоотверженно выходившей маленького осиротевшего азербайджанца, хранили благоговейную память. В честь Людмилы устроили пиршество и засыпали ее подарками. Аскер смотрел на Людмилу с отчужденным любопытством, и ей пришлось с грустью признаться, что она ему просто не нужна.
А тут пришло назначение, и ее, студентку-медичку третьего курса, досрочно выпущенную в качестве зауряд-врача (особенная должность, изобретенная для нужд военного времени), прикомандировали в качестве младшего врача-ординатора к противоэпидемическому изолятору, расположенному на высоком плоскогорье турецкой Армении, занятом русской армией. Противоэпидемический изолятор располагал только одним сложенным из белого камня домиком — усыпальницей какого-то мусульманского святого. Этот домик казался особенно маленьким, потому что он был, словно шапкой, накрыт грузным куполом, и, как усыпальница, здание это выглядело роскошно. Сама могила шейха помещалась в нише стены, обращенной к Мекке, но еще до прибытия Людмилы могилу забили досками и замазали мелом. Самое же помещение мавзолея разгородили дощатыми перегородками на три комнаты. В одной из них жил непосредственный начальник Людмилы, старичок военный врач, жестоко пивший горькую, в другой помещалась канцелярия, третья же была предназначена для Людмилы.
— А где же самый изолятор? — спросила Людмила.
— Э, помилуйте, какой тут изолятор, — ответил начальник. — Ну, разобьем палатки. А ля гер ком а ля гер[10].
Циничная французская пословица не убедила Людмилу. Она начала с того, что упросила своего начальника выехать из часовни и поселиться в палатке. Ему неловко было отказать девушке, которая сама поселилась в палатке с первого же дня своего приезда. Под руководством Людмилы к усыпальнице пристроили помещение в два раза большее, чем сама усыпальница, а также воздвигли три деревянных домика, находившихся поодаль друг от друга. Начальник был удобен Людмиле тем, что ее деятельности ни в какой степени не мешал. Он неизменно санкционировал все ее действия и, будучи сам военным врачом-хирургом, которому за старостью лет запретили производить операции, заявил, что ни в какие дела, касающиеся борьбы с эпидемиями, вмешиваться не будет.
Внизу, у подножия плоскогорья, где проходила старинная, еще римлянами построенная, дорога, «Красный Крест» поставил свои палатки. Сюда привозили раненых с передовой. При энергичном содействии Людмилы, к которой теперь уже относились как к старожилу здешних мест, тут же была воздвигнута баня. Огороженное каменной оградой большое поле предназначалось для проходивших в глубь России пленных турок. Здесь им устраивали дневку, мыли в бане и держали три дня в карантине — это все опять-таки взяла на себя Людмила Евгеньевна.
Эту ночь она слышала с фронта отдаленный гул, значит можно ожидать и пленных и раненых. На рассвете, выйдя из домика, в который она переселилась и где жила вместе с фельдшерицей и двумя медицинскими сестрами (и ту и другую звали Шурами), Людмила все прислушивалась к западным, еще погруженным в лиловую мглу горам. Но там опять все стихло. Пустынно уходила в горы, на запад, прямая римская каменная дорога, не видно было движения и среди белых, отмеченных красным крестом палаток. И только поблизости тянуло едким дымком; санитар-инвалид, которого Людмила называла Флегонт первый — среди санитаров был еще Флегонт второй, — ставил самовар, зная, что Людмила встает на заре.
Нет, царство Людмилы было в полном порядке, и до того как Флегонт первый принесет чай, она может расположиться под тенистой чинарой, чтобы заняться письмом. Еще вчера получила она письмо от подруги своей Ольги Замятиной, находившейся на Западном фронте, но за дневной суетой заняться им как следует не успела; сейчас его нужно еще раз прочесть и ответить.
«Дорогая Людочка, известие о том, что твой Костя погиб на фронте в первые же дни войны, мне в Питере сообщил Николай Евгеньевич (это был брат Людмилы). Разве мыслимо утешить тебя в твоем горе? Одно можно сказать, что для таких людей, как он, смерть, пожалуй, является лучшим исходом, так как жизнь начисто опровергла все их взгляды. Он ведь заходил ко мне накануне войны, когда искал тебя в Петербурге. И с какой категоричностью говорил он тогда о международной солидарности рабочих!..»
«Что только пишет она? Ведь военная цензура…» — подумала Люда.
Но перо военного цензора не коснулось мелкой, бисерной вязи Ольгиного письма.
«Тогда я слушала его слова с уважением и вниманием, сейчас вспоминаю их с грустной усмешкой. Что делать, правда груба. И я, да и не я одна, а все мы приняли полную дозу этой отвратительной на вкус, но зато неподдельной правды. Оказывается, что Германия наполнена совсем не социал-демократами, как нас в этом уверяли наши «товарищи социал-демократы», а стаей цивилизованного зверья. Ты только не подумай, что я во всем обвиняю немцев, но разрушение иллюзий в отношении их очень уж разительно.
Ну, а если на нас напала эта звериная стая, что же нам делать? Вот мы и огрызаемся и деремся, как можем, и одичание и озверение с обеих сторон становится все страшнее… Я прямо тебе скажу: мои представления о том, чем должен быть человек, сильно изменились. Раньше мне грезился нежный юноша с тонкими чувствами и высоким складом мыслей — приделай только крылышки, и будет херувим. А на деле возлюбленным моим оказался некий индивидуум, который хотя и проходил в реальном училище Пушкина и Лермонтова, но знает наизусть только всякие фривольные стишки, а «Евгения Онегина» и «Мцыри» презирает в полной мере и вообще утверждает, что написаны эти произведения «для дам». Он считает, что бить солдата по лицу входит в его офицерские обязанности, что хороший конь во всех отношениях дороже хорошего солдата, так как коня достать труднее. Впрочем, я не очень-то слушаю его, так как при коротких свиданиях наших мы разговорами не занимаемся. Но то животное занятие, которому мы предаемся среди крови, грязи и ужасов войны, является для нас обоих едва ли не единственной радостью.
Впрочем, что тебе писать об этом, — ведь все это окружает тебя так же, как и меня. И приходится только удивляться, как это ты, такая, как выражаются господа офицеры, «роскошная женщина», блюдешь себя. Для кого? Впрочем, «каждый развлекается, как может», как сказал мой возлюбленный, когда ему указали на неудобство проделывать голому, в чем мать родила, джигитовку посреди села.
Ну, Людочка, отвела я душу. И прости, что выплеснула тебе всю грязь, скопившуюся в моей душе. Все это не очень благовонно, но если уж ты хочешь называться моим другом, так разреши, так сказать, «излиться». Ты спрашиваешь: что я думаю о своих занятиях после заключения мира? Во-первых, времени, когда настанет эта мирная жизнь, ни один мудрец в мире предсказать не в состоянии. Во-вторых, мое теперешнее занятие медицинской сестры отнюдь не является прямым продолжением моих мирных занятий, как это счастливо сложилось у тебя. До войны я собиралась, закончив образование, преподавать историю. Сейчас со своими взглядами на мир я вряд ли гожусь для преподавания чего-либо. Чтобы учить людей, надо все-таки самому, хотя бы заблуждаясь, во что-нибудь верить. Не могу же я сказать своим ученикам, что я верю в озверение человечества?»
В этом месте текст письма прерывался, все дальнейшее было густо измарано красными чернилами цензора, до самого конца, до сообщения об адресе Ольги.
«Дорогая Оля, очень рада была я, когда получила твое письмо. Ты жива — и это главное, а насчет всего прочего… ну что ж, мы поспорим, повздорим, как в самые лучшие наши гимназические годы. Хуже всего бывало, когда мы спорить не могли. Помнишь, зимой 1913/14 года — тогда мы жили подобно «рыбам в аквариуме», как говорил Кокоша. Мы, конечно, очень не похожи друг на друга, иначе нам, верно, и дружить-то было бы неинтересно. Вот и теперь, находясь в обстоятельствах очень схожих, мы приходим к разным выводам.
При этом убеждена, что в своих выводах права я, а не ты, и, чтобы доказать тебе это, буду аргументировать эволюцией твоих собственных взглядов. Ты пишешь: люди не ангелы, а звери и т. д. Но я никогда не придерживалась взгляда, что люди ангелы, и я Костю и его товарищей к категории ангелов отнюдь не относила и не отношу. Ты же раньше действительно видела в человеке лишь его духовную сущность. Реальная, физическая организация человека всегда внушала тебе какое-то отвращение. И сейчас, когда тебе, добровольно взявшей на себя благородные обязанности сестры милосердия, все время приходится иметь дело с людьми, истекающими кровью, — кровь, гной, грязь, — у тебя возникает разочарование, за которым следует полный отказ от духовной жизни и даже, извини меня, проповедь одичания.
Но я также имею дело с солдатами, и ранеными и здоровыми, с офицерами, кадровыми и пришедшими из запаса, с военными врачами и санитарами — и утверждаю, что при наличии известных элементов одичания происходит также пробуждение от умственной спячки, в которую было погружено человечество».
Людмила написала, но потом подумала о цензоре и зачеркнула. Ей хотелось написать о том, что она не считает дело революции проигранным. Ей хотелось бы описать, как во время войны она встретилась с бакинцами — друзьями Константина: со сдержанным и немногоречивым Буниатом, острым на язык Ванечкой. В Баку ей удалось прослушать разящую, гневную, направленную против социалистов, изменивших знамени Интернационала, речь Степана Шаумяна. Нет, он не считал дело социализма проигранным! Наоборот, он доказывал, что война неминуемо породит революцию, что вооружение народов приведет к победе революции.
А как эти друзья Константина хорошо встретили ее, как внимательно с ней обошлись, когда она, плача, рассказывала им о гибели Константина.
Но разве обо всем этом можно написать в письме, которое пройдет через руки цензоров?
Людмила вздохнула и продолжала писать…
«Теперь о теории минутных наслаждений. Я, конечно, не знаю человека, которого ты называешь своим возлюбленным, но понимаю, почему ты, дочь Якова Замятина, офицера, отказавшегося стрелять в рабочих, с такой горечью пишешь о нем. Ты не можешь смириться с мордобоем, которым занимается твой муж…»
«Что только я пишу? — подумала Людмила. — Ну да ладно, черт с ним, с цензором».
«Так думаю я, зная тебя…»
Она писала и прислушивалась — в доме неподалеку сквозь раскрытое окно слышно было попискивание телефона. С досадой оторвавшись от письма, Людмила сунула его в карман халата, широким шагом прошла в канцелярию и взяла трубку телефона.
— Слушает врач Гедеминова, — сказала она.
— Очень удачно, Людмила Евгеньевна. — Она узнала пришепетывающий голос главного врача армии. — Вы-то мне и нужны. Через час заеду за вами, и мы проследуем на фронт, есть случай, подозрительный на пестис. Вы поняли меня?
— Я все поняла и буду готова, — ответила Людмила.
2
Темиркан взял трубку телефона и, как это требовалось особой инструкцией, известил главного врача армии о том, что среди пленных обнаружен подозрительный по чуме случай. Но тут же главный врач армии спросил, общался ли сам Темиркан с чумным, и потребовал, чтобы Темиркан немедленно и обязательно по телефону сдал командование своему заместителю. Главный врач предложил Темиркану немедленно изолироваться, а также изолировать всех имевших соприкосновение с чумным во временном карантине.
— Об остальном не беспокойтесь, я сам буду у вас через час. Не падайте духом, будем надеяться, что все закончится благополучно!
Падать духом! С чего он взял, эта клистирная трубка с погонами полковника, что он, Темиркан Батыжев, известный в армии своей храбростью, может «пасть духом»? Но нужно признаться, что сырой холод отвращения коснулся его сердца, когда он подумал о возможности заболеть чумой.
Прочь это все! И чтобы окончательно прогнать страх, он сказал себе: «Чума так чума. Неужто Батыжев отступит перед чумой? И раз на предмет борьбы с чумой имеется предписание армейского начальства, которое я обязан исполнить, значит я займусь исполнением этого предписания…»
Старший урядник Булавин и рядовой казак Лиходеев, доставившие чумного в штаб полка, а также Смолин, сделавший первую попытку допросить взятого в плен чумного, были вызваны в штаб полка и изолированы. Спустя некоторое время появился главный врач армии в белой маске и белом халате. Он вошел к Темиркану в его оборудованный под карантин домик и прежде всего отметил исключительную расторопность и распорядительность Темиркана.
— Все предупредительные меры проведены вами безукоризненно, можно не сомневаться, что возможность дальнейшего распространения чумы пресечена.
Главного врача сопровождала какая-то безмолвная женская фигура в белом халате и белой маске. Договорив свои комплименты по адресу Темиркана, главный врач, обернувшись к этой белой женщине, сказал:
— А теперь действуйте, Людмила Евгеньевна.
И Темиркан почувствовал, что с этого момента начальником вместо него стала эта женщина — теперь все повиновались ее низкому и звучному, хорошо приспособленному для команды голосу.
Прибыли два санитарных грузовика, в один поставили носилки с чумным, другой предназначался для взятых в карантин.
Главный врач, попросив Темиркана и мистера Седжера надеть маски и халаты, в виде исключения взялся лично доставить их на своем автомобиле в место расположения эпидемического пункта. Последним впечатлением Темиркана перед тем как он сел в автомобиль была все та же внушительная фигура женщины в белом. Указывая рукой в резиновой перчатке, она командовала:
— Я это вам говорю, фельдшер Гавриленок! Подвергнуть немедленной дезинфекции весь этот дом. — И она указывала на открытые двери домика, который только что оставил Темиркан.
— Может быть, мне назначить эту даму замещать меня в качестве начальника штаба? — спросил Темиркан, когда машина тронулась.
— Да, уж это, знаете, такая девица, у-у-у, огонь! Я сам, батенька, признаться, ее побаиваюсь, — не поворачиваясь к Темиркану, который вместе с Седжером сидел позади, ответил главврач.
Главврач занял место рядом с шофером, тоже облаченным в белый халат и в маску, — он, видимо, был напуган и подавлен всей ситуацией…
Встречные казаки и офицеры придерживали встающих на дыбы лошадей, женщины, старики и дети из армянских деревень со страхом и любопытством смотрели на автомобиль, который, оставляя облако пыли, быстро мчал куда-то эти четыре зловеще-белые фигуры.
На противоэпидемическом пункте автомобиль встретили такие же фигуры в белых халатах и в белых масках. Домик для карантина был уже приготовлен. Через четверть часа привезли на грузовике под водительством сухощавой, с хриплым голосом девушки — вполне под стать своему начальнику — всех остальных, подлежащих карантину. Офицеры расположились в двух новеньких домиках, нижние чины — в палатке.
Темиркан и мистер Седжер заняли комнату поменьше. Из их окна было видно странное строение под куполом, которое казалось им зловещим, — они знали, что носилки, на которых лежал подозрительный по чуме, доставлены непосредственно в это здание.
Младшие офицеры расположились в комнате побольше; в ней же на большом столе подали чай, так как многие из офицеров, попавших под карантин, с утра ничего не ели.
— А знаете, кто нас в плен взял? — спросил Смолин. — Ведь это Людка Гедеминова, наша краснорецкая, дочь доктора Гедеминова. В гимназии такая была тихоня, а гляди-ка…
— Красавица, наверно… — мечтательно проговорил Мурадян.
— На чей вкус, не люблю я таких телок… — грубо сказал Смолин. — Да, к бабам в плен… И хоть бы бабы-то были настоящие…
— Как же это вы беретесь на глаз определить, что они не настоящие? — спросил Мурадян.
— А вы глазу не доверяете?
Не принимавший участия в этом разговоре капитан Зюзин, который вошел к Темиркану, когда тот говорил по телефону с главврачом и, таким образом, тоже попал в карантин, с озабоченным лицом, словно ища что-то, обошел весь домик и вдруг, сорвав с большой, сильно облысевшей головы фуражку, весело воскликнул:
— Вот где я высплюсь!
Над ним посмеялись. Но и Мурадян, выпив два стакана чаю, лег в постель. Смолин некоторое время глядел в окно и занимался наблюдением за женским персоналом санпропускника, а потом начал зевать и тоже улегся.
Англичанин записывал что-то в свою записную книжку, Темиркан ходил по комнатам и поглядывал в окно. Все пусто, неподвижно, только голые остроконечные горы, лиловые, зеленоватые, синие, высились повсюду. В другом, обращенном на запад окне видна была прямая, пустынная, уводившая на фронт каменистая дорога. Вот проскакал верховой, и, судя по тому, как он гнал лошадь, видно, со срочным донесением, может быть, как раз о военных действиях его отряда. Темиркан был с такой молниеносной быстротой выключен из обычных условий жизни и поставлен лицом к лицу с необычной смертью, что ему пришли вдруг в голову мысли, которые где-то за порогом его сознания все время ждали возможности заговорить с ним.
Он подумал о письме Гинцбурга: Анна Ивановна снова манила его к себе. Но путь к ней был заказан. Похоже, что его подвели к луже зловонной грязи, по другую сторону которой стояла она со своим белым телом и светлыми глазами, глядела ему в сердце и звала к себе. Но пройти к ней через грязь и бесчестье — значит перестать быть собой и отказаться от семьи, от веры предков, как будто бы и ненужной ему… А от всего этого нельзя отказываться, как от цвета своих волос…
Темиркан так глубоко погрузился в размышления, что, когда мистер Седжер что-то пробормотал про себя, вздрогнул и, перестав ходить по комнате, изумленно взглянул на него.
— Вы задумались, — тихо проговорил Седжер, — и я задумался тоже. Да и как не задуматься! Иметь возможность заразиться чумой в Индии и приехать сюда, чтобы получить чуму именно здесь, в России… Это же… Однако будем надеяться, что ангел смерти пощадит нас и на этот раз и господь бог не сочтет нас достаточно подготовленными для Страшного суда. — Он сказал это совершенно серьезно и, сложив молитвенно руки, ладонь к ладони, взглянул на потолок.
— Аминь, — с усмешкой подтвердил Темиркан.
Англичанин улыбался, он, видимо, хотел еще что-то сказать, но тут в сонной тишине кто-то громко чихнул, еще и еще раз, и Темиркану сразу пришло в голову, что чиханье — один из симптомов чумы… Чиханье повторилось. И тут вдруг дверь из передней открылась и вошла огромная, страшная кукла без лица, в белом бесформенном, охватывающем с головы до ног балахоне.
— Кто чихал? — приглушенно-хрипло спросила она.
— Не я, не я… — скороговоркой сказал англичанин, — это вон туда, вон там…
— Это я, — сказал Мурадян. Он уже поднялся с постели и причесывал курчавые волосы, его тонкая гибкая шея видна была из-под расстегнутого воротника.
— Пожалуйте в изолятор, — прогудела страшная кукла.
Мурадян, застегивая воротник, кивнул головой.
— Иду, — сказал он.
Смолин со своим рыжим встрепанным чубом, подняв от подушки конопатенькое лицо и открыв рот, смотрел на него.
Перед тем как уйти, Мурадян, стараясь улыбнуться, оглядел товарищей, чтобы попрощаться с ними, и увидел на их лицах только ужас.
Дверь хлопнула.
— Конечно, этот господин вел допрос чумного, и потому возможность заражения… — начал англичанин, но ему не удалось кончить.
— Спирту и девочек! — закричал Смолин. — Господин полковник, затребуйте спирту и девочек, иначе я с ума сойду и сбегу отсюда!
3
«Что и требовалось доказать! Как подозрительного по чуме, меня строго изолировали, то есть я достиг того, чего хотел добиться, — думал Михаил Ханыков, оглядывая беленое, старинной кладки помещение, в которое его заключили. — Чума! Если бы у меня была чума, я давно бы сдох где-нибудь в окрестностях Вана. У меня малярия. Малярийный комар укусил меня еще тогда, когда я сидел в камышах, пережидая погоню, устроенную за мной нашими милыми союзниками. Конечно, я согласен бегать от англичан в тылу у турок. Но бегать от англичанина, добравшись до своих? Ничего, поручик Ханыков, еще и здесь побегаете, пока доберетесь до полковника Марина. Известил ли его обо мне этот странный начальник штаба, у которого на фронте запросто гостит англичанин?
Откуда он взялся, этот англичанин? Хорошо, что я поступил строго по инструкции и не назвал себя при разговоре с начальником штаба. Но англичанин, по всему судя, все равно унюхал во мне разведчика. И если бы не чума, он вступил бы в разговор со мной. Но поставить чуму между собой и чересчур любопытным иностранцем — ей-богу, это было остроумно придумано. Ну, а сейчас что делать в этом каменном беленом мешке, с окошком, в которое и кошка не пролезет?..»
Михаил Ханыков поднял голову от подушки, схватился руками за край своей железной кровати и сделал попытку подняться. Но тут все поплыло в его глазах, и он, обливаясь потом, опустился.
«Проклятое тело, — подумал он. — Не хочет слушаться».
Как всегда после приступа малярии, ясность в мозгу полная, но сил нет. «Хины бы мне, лечиться нужно. Подождите немного, поручик Ханыков, кровь для исследования у вас взяли, едва вас всадили в этот каземат. Что это за дама в белом халате и белой маске, которая по-военному распоряжалась мной? Покурить бы, черт… Все будет, поручик Ханыков, хорошие сигареты, папиросы, трубочный табак. Ах, трубочный табак и трубочка… К черту все эти забавы! Последние две недели вы не курили ничего, шли, брели, ползли. Доползли — и вдруг кляп в рот, руки назад — и, как тюк, приторочили к казачьему седлу. Все это ничего, вопреки всему добрался до дому, кругом по-русски говорят… Никогда не думал, что запах серой шинели и махорки может доставить такую радость. И вдруг — опять англичанин…
Да, англичанин, вот о ком следует подумать основательно! Почему, собственно, ему не быть здесь?
Отсюда до Месопотамии, в сущности, рукой подать. Мог сюда пробраться какой-либо связной офицер? Конечно, мог! Итак, связной офицер из Месопотамии прибыл на нашу линию фронта. Так-то оно так, но не похож он на офицера регулярных войск, не та манера держаться. «Замовар подан». Нет, это актерство какое-то, с ужимками. И подполковник этот, татарин он, что ли? Или черкес? И как-то не по-военному обходился с ним этот англичанин. Кто же он, этот англичанин? Ведь простым частным лицом он быть не может. Из миссии какой-нибудь, евангельское общество или еще какая-нибудь чушь для засылки к нам наблюдателей. Ну, допустим. Но правильно ли вы сделали, номер пятый из учреждения Марина, что уклонились от знакомства с представителем союзной армии? Правильно сделали, господин поручик, и их высокоблагородие вас отметит.
Но для этого надо, чтобы все их «высоко» и «благо» знали, что вы уже вернулись в пределы богоспасаемой империи… Пока еще спасаемой… Сообщил ли подполковник, или нет? Кстати, не нужно забывать, что он сейчас тоже где-то здесь, ведь всех, кто со мной общался, включая этого синеглазого казачка, который «пымал меня», как он выразился, — именно не «взял в плен» и не «поймал», а «пымал», — все они где-то здесь же, поблизости…»
В двери зазвенел ключ, дверь открылась, и в комнату вошла та самая в грубой одежде, распространяющей запах дезинфекционного раствора, с грубой маской, скрывающей ее лицо, женщина. Но в узких щелочках прорезей видны были живые, блестящие глаза, выражавшие сочувствие и любопытство.
— Ну, как вы тут? — спросила она приятным, низкого тона голосом.
Ханыков за грубой одеждой угадывал русскую женщину из интеллигентного круга, уже одно это было приятно.
— Вашими молитвами, — ответил Миша и поморщился, он сам не ожидал, что у него такой хриплый голос.
— Поднимите-ка рубашку, вот так… Я хочу взглянуть на опухоль у вас под мышкой… Так, так… Знаете, бактериологический анализ еще не закончен, его не так просто произвести, но не похожа эта опухоль на чумную. А как сейчас вы себя чувствуете? И чего вам хочется?
— Мне хочется курить. И потом у меня к вам вопрос: насколько я понимаю в медицине, подполковник, который меня вчера допрашивал, он тоже где-то здесь?
— И подполковник и капитан. Потом, кажется, два поручика, и несколько унтер-офицеров и нижних чинов, и какой-то иностранец — свита у вас большая…
— Так вот у меня один вопрос именно к подполковнику: известил ли он полковника Марина? Или, погодите-ка… Ведь вы здесь начальство?
— Начальство, — невольно повинуясь этому хриплому голосу и этим необыкновенно настойчивым между красными воспаленными веками глазам, ответила Людмила.
— Значит, у вас есть полевой телефон?
— Есть, у меня в кабинете.
— Тогда очень прошу, я бы сказал — настоятельно прошу вас соединиться по телефону со штабом армии и вызвать или седьмой, или девятый номер, попросить к телефону полковника Марина и сообщить ему, что прибыл некто, настоятельно требующий свидания с ним. Скажите, что я болен, но только, конечно, не чумой…
— Я не имею права об этом сообщать, тем более что микроанализ…
— Не дал еще данных. Очень хорошо! И еще просьба: если даже микроанализ даст результаты самые для меня и для всех нас положительные и приятные, до приезда полковника Марина или кого-либо, кто приедет за мной, держите мою свиту, как вы изволили выразиться, в состоянии неизвестности и опаски по поводу моей болезни. Микроанализ, мол, не получен. Ну, впрочем, вы сообразите, что делать. Очень прошу — поскорее…
Людмила круто повернулась и вышла. Последнее, что она услышала, это было жалобное и хриплое:
— Не обижайтесь и возвращайтесь, ведь я…
Она захлопнула дверь.
«Как распоряжается! — недовольная собой, думала она, быстро переходя через залитую солнцем площадку к себе в домик. — И какая настойчивость, и как глаза блестят…»
Людмила, раньше чем войти в кабинет, быстро сняла с себя свое неуклюжее одеяние, взглянула в зеркальце — на нее смотрело раскрасневшееся от жары, обрамленное крупными кудрями лицо, — она нашла себя привлекательной… «А ведь при «пестис» не может быть такой энергии, такого напора», — думала она, обливая карболовые раствором свои большие руки, отметив, что руки у нее хотя и велики, но пальцы красивые и длинные, руки хирурга, говорил отец.
«И опухоль не чумная, это явный фурункулез. А температура? А рвота? Надо дождаться данных анализа, ждать теперь уже недолго. Но у него чумы нет». И Людмила остановилась, пораженная этой внезапной догадкой. «Он симулирует чуму. Это ясно из всего, что он говорил. Но зачем? Затем, чтобы эти другие, вся эта свита с ним не общалась. Он даже, пожалуй, не доверяет им всем… Почему? Но что же я? Ведь он просил скорее…»
Следующие десять минут она занята была тем, что через сложную систему армейской телефонной связи пробивалась к полковнику Марину… Когда она наконец соединилась с телефоном номер семь, приторно-ласковый голос — адъютантский, подумала Людмила — спросил:
— Это вы, Женечка?
— Я по служебному делу, мне нужен полковник Марин.
— Его нет, — ответил тот же голос, но уже совсем по-другому, сухо, официально.
— А если я была бы Женечка, полковник Марин подошел бы? — с сердитым смешком спросила Людмила.
— Вы не Женечка.
— Я не Женечка, а Людочка.
— Другой обже? — лукаво спросил адъютант.
— Да, другой обже, — ответила Людмила.
Наступило молчание.
— Нет, не позову. Боюсь, влетит.
Трубка щелкнула, разговор кончился. По девятому номеру ничего не ответили.
Раньше чем вернуться к своему странному пациенту и рассказать о неудаче, Людмила зашла в лабораторию. По тому, как помахала ей рукой в резиновой перчатке спрятанная под халатом и маской лаборантка Зоя Ефимовна, Людмила поняла, что новости есть, и, очевидно, хорошие.
Она подняла маску и пропела своим нежным голосом:
— Люда, Людок, «пестиса» нет и в помине, это малярия…
— Да ну? Откуда вы знаете?
— Я параллельно провела анализ на малярию. Мне казалось…
— Молодец! — воскликнула Людмила и так сильно хлопнула Зою по плечу, что та даже ахнула. — Но, Зоечка, молчать! Пока о результате анализа никто не должен знать, все должно быть по-прежнему…
— Но почему?
— Много будешь знать — скоро состаришься.
И тут же строгим, не допускающим возражения тоном добавила:
— Вы поняли меня, Зоя Ефимовна?
— Поняла, — ответила Зоя, ничего не поняв.
— Смотрите, это мое приказание, здесь военная тайна, шутки плохи.
Зоя кивнула головой, видно было, что слова «военная тайна» свое дело сделали — чувство страха осилило болтливость и любопытство.
«Военная тайна, — думала Людмила, переодеваясь. — А ведь действительно я попала в сферу, где господствуют законы военной тайны. Выполняя именно этот закон военной тайны, он и притворяется больным чумой». Она представила себе его тощее, обросшее рыжей кудрявой бородой лицо… И вдруг ахнула и даже руками всплеснула. «Да ведь он голодный! И курить попросил, а я забыла».
Но делать все это надо так, чтобы никто ничего не заподозрил. Она зашла к себе в кабинет. Там стояла уже застывшая, подернутая пленкой тарелка рисовой каши, принесенной ей на пробу. Так. Теперь сахар, папиросы. Чай перелить в кофейничек. Она прикрыла все предназначенное для Ханыкова белой простыней, надела маску и, спокойная, непроницаемая, сама понесла ему еду.
Она готовилась сообщить своему пациенту о том, что до полковника Марина не дозвонилась, и о том, что все подозрения на чуму отпали и что бактериологический анализ свидетельствует лишь о малярии, но застала своего пациента в горячечном бреду: упав на пол, он катался по полу, борясь с каким-то невидимым противником. Она не могла с ним справиться и позвала санитаров, которые на этот раз повиновались ей очень неохотно, явно опасаясь страшной заразы.
Два здоровых солдата еле удерживали этого, казалось бы, до крайней степени истощенного человека. Люде удалось сунуть ему термометр под сгиб колена, и когда она через три минуты вынула термометр, в первую минуту ничего не поняла — ртуть заполнила весь стеклянный столбик, температура была что-то около сорока одного градуса. Люда, заподозрив неладное с термометром, поставила его другой раз — и тот же результат.
И тут Людмила решилась на радикальную меру. Она не стала угощать своего пациента обычными дозами хины, а, разведя хину на физиологическом растворе, ввела ее шприцем в вену больного — средство, которое Людмила в своей практике применяла впервые.
Целительное действие наступило довольно быстро — спазма и судороги прекратились, мышцы обмякли, пациент впал в сон. Людмила поставила термометр — тридцать пять и четыре. И снова ахнула: пульс? Еле бьется… Сорок, сорок два, сорок четыре. Сердца почти не слышно, тоны глуховатые. Одно подбодрило Людмилу: выражение отдохновения, появившееся на этом ранее искаженном страданием лице. Сейчас, когда глаза были закрыты, сильнее обозначился крупный нос, большой лоб, черные брови, мягкая улыбка под темно-рыжими усами, выражение лица важное и умиротворенное.
«А если он, сохрани это небесное выражение на лице, отправится на тот свет?» — с опаской подумала Людмила.
Пользуясь беспомощным положением пациента, она обмыла его дезинфицирующим раствором, переодела в чистое белье и сама проветрила и подмела комнату. Ей почему-то нравилось заниматься этим простым и грязным делом, для которого она могла вызвать санитарку. Но выражение брезгливого страха на лицах всех ее подчиненных ей надоело. «Конечно, они уверены, что это чума, — думала она, гоняя по полу грязную воду. — Чума… Второй раз в жизни я вступаю в бой с этим ужасным противником, и снова оказывается, что под маской чумы кроется совсем не чума…»
Она подошла к пациенту с тряпкой в руках и стала его рассматривать. Очень важное лицо, полное достоинства. И в то же время хитрость какая-то есть, словно он притворяется…
Нет, он спал глубоко. Раздался стук в дверь.
Людмила вздрогнула, словно очнулась, и подошла к двери.
— Кто еще? — сердито спросила она.
— Поручик буянит, — глухо раздался из-за двери голос санитарки Марфы.
— Какой еще поручик?
Под карантином который, рыженький. У них один чихать стал, мы его изолировали. Он-то ничего, смирный. А этот, который в карантине, окна грозится перебить, требует вас.
Людмила помолчала.
— Ну ладно, — сказала она мрачно. — Скажи ему, чтобы сидел смирно, сейчас приду.
Приведя себя в порядок и облачившись в свою устрашающую противочумную одежду, Людмила вошла в карантинный дом.
Англичанин раскладывал пасьянс, подполковник в расстегнутом кителе брился. Один из офицеров спал, другой лихо сидел верхом на стуле с папиросой в зубах. Рыжий чуб, рыженькие глазки, нос, точно что-то вынюхивающий, веснушки — да ведь это же Витька Смолин! Ученик реального училища, знакомый с детства. Хорошо, что маска скрывает ее лицо, а то бы она расхохоталась.
— Это вы, Витя, здесь безобразничаете?
— Я, Людочка! — вызывающе ответил Смолин. — И должен вам сказать, что безобразничать я еще не начал, я обычно буяню с употреблением холодного оружия… — И он вызывающе похлопал по казачьей шашке, болтавшейся у него на боку.
— За то, что вы угрожаете оружием, находясь в карантине, за это вы можете пойти под военный суд, — веско сказала Людмила. А вообще так разговаривать с женщиной… Вы, Витя, оскотинились до последней степени, вот что я вам скажу.
— Да я ж не вам грожу… — и Смолин несколько сбился с нахального тона. — Я вообще только…
— Ну, а если без применения оружия, то чего вы хотите?
Людмила села.
Смолин повернулся к Темиркану, кончавшему бриться.
— Ну вот, обыкновенный милый разговор. Первый вопрос, Людмила Евгеньевна: как обстоит дело с чумой?
Людмила помедлила. Категорически утверждать, что ее пациент болен чумой, ей не хотелось, да и не нужно было, ведь все равно выяснится, что чумы нет. Тут нужно схитрить.
— Во-первых, Витя, чума ли это, — мы еще не установили.
Темиркан, обтирая лицо одеколоном, прислушивался к разговору.
— А как подпоручик Мурадян? — спросил он.
Людмила пожала плечами.
— Я пока ничего не могу ответить. Возможно, что у подпоручика простой насморк. Температура у него нормальная, никаких определенных признаков чумы пока нет. Но мы должны были, оберегая вас, принять все меры по изоляции. С первым пациентом дело обстоит хуже. Объективные причины налицо, но… бактериологический анализ данных не дал.
— Не дал?! — воскликнул Смолин. — Да здравствует — как вы сказали? — этот самый анализ! И все прочие ученые фокусы-покусы! Но меня, Людмилочка, в данный момент интересует другое. Я верхним чутьем слышу, — и он приложил палец к веснушчатому носу, — что здесь у вас пахнет спиртом.
— Это просто, поручик Смолин, безобразие — заводить со мной разговор на такие темы! — сказала Людмила, вставая.
— Следовательно, мы возвращаемся на исходные позиции. Тогда шашки наголо! — И Смолин театральным жестом положил руку на эфес шашки.
— Я обращаюсь к вам, господин подполковник, — сказала Людмила.
— Поручик Смолин, я вынужден призвать вас к порядку! — и строгость прозвучала в негромком голосе Темиркана. — Попрошу вас, Людмила Евгеньевна, разрешить мне, пользуясь давним знакомством с вашим почтенным папашей, именовать вас по-домашнему в этом разговоре, которому не хотелось бы придавать официальный характер. Я хотел бы, чтобы вы нас поняли. Спиртные напитки, как известно, запрещены в армии, тем более, конечно, запрещено употребление медицинского спирта на цели, к медицине отношения не имеющие… Но в данный момент мы имеем случай, так сказать, экстраординарный, и, согласитесь, ждать чумы в трезвом состоянии или в пьяном — это большая разница… — размеренно, с некоторым затруднением произнося слова, говорил он.
— Даже в классической литературе… — зевая, сказал Зюзин, видимо разбуженный громкими возгласами Смолина. — Пир во время чумы — ведь это не случайно…
«А что, если дать им спирту, черт с ними, чем я рискую?!»
— Только, господин полковник, с одним условием: сдать оружие.
— Сдать оружие? — с негодованием переспросил Батыжев. — Да никогда…
— Вот вы рассердились, а подумайте сами… — и Людмила даже положила ему руку на рукав. — Если поручик Смолин угрожает мне применением оружия, находясь в трезвом состоянии, то чего можно ждать от него, когда он напьется?
— Люда, даю слово офицера русской армии! — вскочив со стула, воскликнул Смолин.
— Вы не можете за себя поручиться…
— Мы сделаем так, — медленно сказал Батыжев. — Оружие господ офицеров будет передано мне.
Людмила взглянула на Темиркана. Невысокий, с бритой головой и маленькой, выдающейся вперед бородкой, он хмуро, но серьезно глядел на нее.
«А ему, пожалуй, можно довериться», — подумала она.
Когда Людмила вернулась к Ханыкову, она сразу же поняла, что он проснулся, хотя глаза его были полузакрыты.
— Говорили с Мариным? — хрипло, с усилием спросил он.
«Наверно, ему кажется, что я только вернулась после того, как первый раз была здесь», — подумала Людмила.
И она рассказала ему о своей неудаче при разговоре с адъютантом Марина. Говорила она обстоятельно и точно, с присущим ей юмором, и ждала, что пациент ее по крайней мере улыбнется. Но он озабоченно хмурился.
— Это я виноват. Я должен был сообщить вам шифр, без которого Марин к телефону, конечно, не подойдет. Адъютант — это, верно, Петька Недоброво, позвать Марина он действительно не мог, не имел права. У меня, видимо, мысли путались, начинался приступ. — Он помолчал. — Что-то тут со мною делали, спина болит. Укол какой-то?
— Я вам вкатила столько хинина, что можно слона вылечить, — сказала Людмила.
Тут губы и брови его дрогнули.
— Вкатила? Обожаю крепкий разговор… Как вас зовут?
— Людмила Евгеньевна.
— Офицерская дочь Людмила, — медленно сказал он. — Папа — офицер?
— Не офицер, а врач.
— Военный врач?
— Военный. А что?
— Ну, значит, не ошибся. У меня папа тоже офицер, хотя и выгнан из полка за казнокрадство. И у меня тоже есть сестра Людмила, и представьте — тоже Евгеньевна. А меня зовут Михаил Евгеньевич. Людмила — одно из самых излюбленных имен в офицерской среде. Так вот, Людмила Евгеньевна, прошу вас потрудиться и все-таки полковника Марина мне добыть.
Снабженная на этот раз шифром, Людмила дозвонилась до Марина, и по тому, как тот взволновался, услышав о том, что номер пятый прибыл, и сказал «наконец-то», она поняла, что пациент ее выполнял какое-то серьезное поручение. Марин обещал сам заехать «за своим номером», как он выразился.
Почти бегом вернулась она к пациенту.
— Ну, номер так номер, пусть будет так, — благодушно сказал пациент. — Большое спасибо, тяжесть с души моей спала. И вообще мне прекрасно. Особенно приятны папиросы, и настоящие, хорошие… Только вот побриться бы, а то я похож… На кого я похож?
— На армянского католикоса, — быстро сказала Людмила.
— Недаром, значит, мне суждена была духовная карьера. Ну, а вы похожи на памятник перед открытием. Может быть, откроетесь?
«А почему бы не открыться?» — подумала Людмила и скинула маску.
Он взглянул на нее и долго не отводил от ее лица серьезного взгляда темно-карих глаз. Она покраснела и первая отвела взгляд.
— Так… — сказал он. — Побриться совершенно необходимо.
— Это ничего, борода вам очень идет. Вы, верно, есть хотите?
— Ужасно. Тут стояла холодная рисовая каша, я кое-как до нее добрался и съел. Очень противно. А мясо есть?
— Через полчаса принесут обед… Ну, я пойду, у меня дела, — сказала Людмила, отворачиваясь, так как Михаил так и не отводил от нее глаз.
— Вот это уже нехорошо. Не померить температуры, не выслушать пульса и бросить тяжелобольного…
— Уже выздоравливающего.
— Ну, скажем, тяжеловыздоравливающего.
— Дайте пульс. — Она, хмурясь, считала: —…шестьдесят два, шестьдесят три… Ну ничего, конечно ниже нормы, но все-таки уже не сорок.
Она вдруг почувствовала, что он удерживает ее руку.
— Согласен сто лет находиться у вас на излечении, — сказал он шепотом, поднимая голову от подушки.
Она гневно вырвала руку.
— Это нехорошо, мерзко, — покраснев, сказала она. — Приставать к лечащему врачу — это я не знаю как подло… Ну, все равно что к матери или к сестре.
— Людмила Евгеньевна…
— Знать вас не хочу. Мне показалось, что вы все же не такой, как прочие… господа офицеры, а оказывается, все одно… Нет, я не хочу вас слушать! — она надела маску. — К вам придет Марфуша, а чтобы вы к ней не стали приставать, я еще пришлю санитара.
Когда она вышла на воздух, то первое, что услышала, — пронзительный голос Смолина, который пел «Как ныне сбирается вещий Олег». После слов: «Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник», — он с каким-то восторгом заливисто, громко, как на плацу, кричал: «Смирно, равнение налево!»
Санитары, санитарки, сестры — отовсюду глядели на открытые окна карантина.
«Чтобы они скорей убирались все отсюда со своей отвратительной армейщиной», — злобно думала Людмила.
Прошло не более получаса, и полковник Марин, звеня шпорами, надушенный, плотный, с зачесом по лысине и томно сощуренными черными глазами, вошел в кабинет Людмилы, позади его покачивалась внушительно-лохматая седеющая голова главного врача армии.
— По тому, что вы не в маске, Людмила Евгеньевна, я сужу, что чума нас миновала? — радостно произнес главврач.
— Миновала, — пожимая руки приезжим и вырвав свою у Марина, попытавшегося тут же приложиться, ответила Людмила. — Соединение какой-то злокачественной лихорадки с запущенным фурункулезом, и все это, осложненное простудой, создало правдоподобнейшую картину чумы. Но, кроме малярийных плазмодиев, в крови никаких болезнетворных элементов не обнаружено.
— Прекрасно. Значит, подполковника Батыжева можно из-под карантина освободить?
— Я ждала вашего письменного приказа.
— О-о-о, вы формалистка! Пишите рапорт, и я наложу резолюцию.
— А мне разрешите проследовать к моему клиенту? — спросил Марин, томно щурясь, но уже не на Людмилу, а на большой портрет Пирогова, висевший над ее письменным столом.
— Пожалуйста, прошу, — и, открыв окно, она крикнула своим сильным и низким голосом: — Гурылин, пропустите господина полковника в бокс номер один!
Оформление документов не заняло много времени, и через некоторое время из карантинного домика вышли — впереди вместе с главврачом Темиркан Батыжев, несколько краснее, чем обычно, но сохраняя выправку; за ним шел, как всегда улыбающийся, в своем светло-зеленом, гусеничного цвета обмундировании мистер Седжер; потом в обнимку, распевая популярную кавказскую песню «Алла-верды», передвигались офицеры. Следом за ними два санитара вынесли их оружие.
Людмила с отвращением отвернулась от этого зрелища и увидела, что из белого здания изолятора показался полковник Марин. Его адъютант бережно поддерживал под руку ее пациента, покачивавшегося от слабости.
Ханыков был в офицерском обмундировании, которое, очевидно, привез с собой Марин, но без погонов и оружия, что придавало ему странный вид. Люда обратила внимание на то, что рыжеватая борода его аккуратно расчесана.
Санитары уложили оружие в одну из машин и занялись тем, что усаживали господ офицеров. Темиркан, любезно, скаля зубы, здоровался с Мариным.
— А, неутомимый мистер Седжер! — воскликнул вдруг Марин. — Рад приветствовать представителя союзной Великобритании, так сказать, в самой гуще нашей доблестной армии. А вот это — знакомьтесь — и есть тот самый наш знаменитый разведчик, о котором я вам рассказывал. В настоящее время поручик, а через несколько дней, не сомневаюсь, — штабс-капитан Ханыков, прошедший по глубоким тылам турецкой армии.
Люда, забыв обо всем, глядела, как Ханыков жмет руку Седжеру, и вдруг встретилась глазами со своим пациентом. И столько отвращения и негодования было в этих смелых и спокойных глазах, что Люда вдруг точно заглянула в душу этого, казалось бы, ей совсем незнакомого человека. Ведь он приложил все усилия для того, чтобы его работа не была раскрыта перед иностранцем. А он был раскрыт и выдан этому иностранцу своим собственным начальником!
Между тем мистер Седжер рассыпался в похвалах русской армии, казакам, которые на его глазах ходили в атаку, разведке в лице мистера Ханыкова и санитарной службе, — он, улыбаясь, повернулся к Людмиле.
— При подобных суровых мерах изоляции и карантина, конечно, возникновение эпидемии чумы в русской армии невозможно, и нам, британцам, есть чему поучиться у наших доблестных союзников.
«Ах, поучиться! — мелькнула вдруг озорная мысль у Люды. — Я тебя поучу…»
Она поклонилась мистеру Седжеру и громко сказала:
— Я очень благодарна мистеру Седжеру за лестное внимание. Многие наши русские врачи были в Индии и участвовали там в борьбе с эпидемией чумы. Я имела возможность беседовать с этими врачами и пришла к заключению, что великобританское правительство в борьбе с чумой не занимает ясной позиции…
— Врач Гедеминова, — строго сказал Марин, — опомнитесь!
— То есть что вы хотите сказать, Людмила Евгеньевна? — спросил обеспокоенно главврач.
— Я хочу сказать то; что, поощряя лучших людей Англии, её врачей и общественных деятелей на борьбу с чумными эпидемиями в Индии, правительство Великобритании не ведет эту борьбу в широком государственном масштабе. А это влечет за собой не только гибель миллионов индийского населения, но также и смерть тех самоотверженных и мужественных англичан, которые приходят на помощь индийскому народу. Впрочем, если взять всю политику Великобритании в Индии…
— Госпожа Гедеминова высказывает, мистер Седжер, свою, только свою точку зрения… — перебил Марин речь Людмилы.
— Госпожа Гедеминова пользуется информацией из злонамеренных источников, — сказал мистер Седжер.
Людмила взглянула на Ханыкова. Румянец появился на его лице, в карих глазах его она прочла больше чем одобрение; видно было, что он восхищается и любуется ею, и она, покраснев, отвернулась.
Часть третья
Глава первая
1
Весной пятнадцатого года в болезни Асада произошел давно ожидавшийся врачами благодетельный перелом. Асад стал выходить на улицу один. С ним заговорили вывески и афиши. Врачи обещали, что с осени он может возобновить посещение училища, и он предполагал за год наверстать упущенное.
Теперь, осторожно предупредив жену о том, что Асад перенес глазную болезнь, Хусейн Асадович Дудов списался с сыном, и однажды ясным летним днем Асад отправился в Арабынь, где не был два года.
Между Краснорецком и Арабынью три раза в неделю ходил поезд местного сообщения. В составе его полагался один вагон второго класса, и если бы Асад ехал с отцом, ему непременно пришлось бы попасть в этот вагон. Старый Дудов при всем своем либерализме считал, что ему не подобает ездить третьим классом, но, войдя в вагон, он тут же немедленно ложился спать, Асад же томился, бродил по пустому душному коридору с окнами, которые были наглухо завинчены шурупами даже в самое жаркое время. Эту скуку хорошо запомнил Асад, и потому теперь он купил себе билет третьего класса.
Здесь все окна с обеих сторон были открыты. Вольный ветер гулял по вагону, и поля, станицы, сады, мечети, церкви неслись мимо, не отделенные пыльным стеклом, а снеговые вершины веселореченских гор то исчезали, то вновь появлялись, и в сравнении с ними все казалось маленьким.
Войдя в вагон, Асад присел на краешек скамьи в самом первом купе, где между пассажирами двух верхних и двух нижних полок давно уже шел оживленный разговор. Но едва Асад, в своем белом парусиновом костюме и форменной, зеленой с желтым кантом, фуражке ученика реального училища, присел на скамейку, разговор сразу прекратился. Усаживаясь, Асад запнулся о какой-то мешок, выпиравший из-под скамьи, одни из двух очков спали с его носа, и он сразу погрузился в муть, светлую и неясную, и стал беспомощно шарить вокруг себя. Чья-то крепкая рука подхватила его под мышки и посадила на скамью. Тут же в руки ему вложили очки.
— Вот сюда, сюда, к окошечку, — сказал женский заботливый голос.
— Какое же может быть у тебя учение, если ты глазами болеешь? — густо спросил кто-то с верхней полки.
— Я не учился два года, был совсем слепой, — ответил Асад.
Наступило сочувственное молчание. Поезд несло и качало, старые вагоны скрипели. В этом движении было что-то похожее на полет. Запах махорки смешивался с ароматом садов, медовым легким запахом.
Асад поправил очки и стал разглядывать людей. Возле него сидела круглолицая, с бледным маленьким ртом, пожилая, но все еще миловидная женщина в лиловой красивой шляпке из легкой соломки. Вызывающая яркость этой шляпки как-то не соответствовала выражению грустной доброты и ласковой заботливости привлекательного, но начинающего уже блекнуть округлого лица. Женщина уступила Асаду свое место возле окна, сбоку, и светло-серым глазом участливо и наивно поглядывала на него.
— Вот не было бы счастья, так несчастье помогло, — сказала она со вздохом. — На фронт зато не попали.
— Ничего, и до слепых и до хромых доберутся, — сказал военный, сидевший напротив Асада, возле окна.
Его солдатская фуражка с черным кантом лежала на столике; круглая большая голова обрастала рыжеватым ершиком; в глазах, устремленных на Асада, тоже как бы рыжеватых, светил пристальный и недобрый огонек. Большая рука, лежавшая на колене, обтянутом военным зеленым молескином, выкраплена рыжими крупными веснушками, а голос был резковатый и громкий. «Рыжий голос», — подумалось Асаду. Через весь лоб военного, начинаясь под волосами и прорезая темно-рыжую густую бровь, проходил шрам. Затянутый багровой кожей, он дорисовывал облик этого человека — сурового и умного. Кого-то напоминал Асаду этот военный, точно он его уже видел. А тот, обращаясь к круглолицей женщине, говорил, стараясь умерить свой резкий голос:
— Невеселое это дело — слепота. Я ведь тоже три месяца пролежал после ранения, — он показал на свой лоб, и женщина внимательно взглянула на него.
— Такое страдание! — сказала она.
— И ведь чувство уже вернулось, и слышу все, а никак не верю, что живой, потому что чернота эта, как в могиле. Сначала думал — ночь, а потом один больной просит: «Сестрица, задерни окошечко, очень от солнышка жарко». И тут заревел я, как бык. Весь медицинский персонал ко мне сбежался. Каких только страхов на войне не перевидал — не боялся, право, а тут схватило за душу! — говорил он, поглядывая на соседку Асада.
— Чего не ждешь, то самое страшное, — сказал с верхней полки узколицый, с острым веселым носиком солдат. Лежа на животе, он своими синими, какими-то птичьими глазками разглядывал Асада.
— Это ты верно сказал, — подтвердил рыжий. — У нашего командира батареи подпоручика Розанова любимое слово «внезапность», — продолжал он. — «Внезапность — первое условие боевого успеха», — произнес он не своим голосом, видимо желая воспроизвести не только слова, но и самую интонацию голоса офицера. — Батарея наша придана была стрелковому полку, и не раз случалось, что наши орудия оказывались при наступлении в первой стрелковой цепи… И всегда первое дело: затаиться, захорониться, а пусть противник в контратаку пойдет. По его цепям сразу: трах-тах-тах, шрапнелью низкого разрыва. Так, бывало, сидишь наблюдателем — ну там на дереве или на крыше — и в бинокль видишь: косит людей, как траву, «коса смерти» — австрияки так и назвали наши трехдюймовые. Ну, а как погнали нас этой весной с Карпат, хвать, а нам снарядов не дают, только успевай орудия вывозить. Вот тут-то уж наш командир приутих… Раньше, бывало, все нас учит — или насчет материальной чести, или долбит нам солдатскую словесность о том, что первое наше дело: братьев славян освободить… У нас один был московский, Киреев, так он говорил: «Раньше чем других освобождать, хорошо бы самим освободиться». Конечно, это не при офицерах, ну а так, сами с собой, обыкновенный солдатский разговор. Ну, а как остались мы без снарядов, тут их благородия приумолкли… А что скажешь?.. Между солдатами идет прямой разговор: измена. Про Сухомлинова и Мясоедова, про Гришку Распутина, — снизив голос, сказал он. — А им что на это отвечать? С нами в один голос петь, что ли? — зло усмехнулся он.
Асад слушал этот разговор с интересом. Его поразило, что здесь, в купе третьего класса, и за обеденным столом у Гедеминовых, в интеллигентном доме, говорили об одном и том же.
— Да и что они могут нам сказать? — вмешался в разговор остроносый солдатик. — Уже вся армия эту правду узнала. У нас под Ново-Георгиевском то же самое, что и у вас под Львовом. И не то чтоб снарядов нет, а пополнение на фронт пришлют, так ведь винтовку и ту не получишь.
— Да, замолчали господа офицеры, — продолжал артиллерист. — Раньше все разговаривали, а тут ни-ни… Кто в карты играет, кто, чуть госпиталь поближе, бежит скорей туда, спирт добывает, с «милосердными» гуляет… Однажды батарейный проезжал верхом мимо нашего орудия. Дождь начался — он к нам в землянку. А как раз в это время наш Киреев рассказывал. «Излишня, — говорил он нам, — эта война и совсем не за русское дело затеяна. Из-за прибыли заграничных буржуев. И пусть бы себе немцы да англичане глотку рвали, у нас есть свой лютый враг — помещик». — И, рассказывая, военный в этом месте совсем перешел на шепот, прищурясь и опустив густые бронзовые ресницы. — И вдруг поручик: «Это что, говорит, за разговоры!» И пошел свое начесывать! Мы молчим. Говорил он, говорил, меня зло взяло. Я вдруг и скажи: «Ваше благородие, и что вам за охота с бессловесными скотами разговаривать?» — «Кто это, говорит, скоты?» — «Да мы. Ведь нам по уставу с вами спорить не положено, одно лишь: «Так точно, никак нет»… А вы вот, если учены, расскажите: зачем человеку жизнь? Вот у меня, говорю, на Кавказе Сенечка дружок был, так он и в Америку на пароходе ездил с духоборами, и три раза его мертвым объявляли, и в пятнадцати тюрьмах сидел, и змеи его жалили, а умер на Кавказе, и даже следа от могилки не осталось. Зачем все это?» Тут наш батарейный перестал проповедовать, смотрит на меня, а глаза у него светлые такие, ну прямо девичьи глаза, и говорит: «Да, Комлев… война заставляет быть философом». Ну, дождь прошел. Уехал. А Киреев мне: «Молодец, Серега, отвел его в сторону своей философией». А я ведь всерьез говорил, совсем не для отвода… Потом стал батарейный меня отличать. Бывало, как встретит, заводит разговор: что такое есть человек, какое его назначение на земле… Говорит: «Чтобы помирать не стыдно было!» Ну, а я отвечаю: «Не о смерти, а о жизни речь: чтобы не терялся человек, как бумажка». Вот раз приехал он к нашему орудию, а нам как раз снарядов завезли. Соскочил он с коня веселый такой… А неподалеку тут старая траншейка была, в ней травка свежая, словно после дождя. Сел он на бугорочек, на песок, ласково так глядит. У меня папироса погасла, он дает мне прикурить, а сам говорит: «Давно что-то я вас, Комлев, не видел, уже опасаться стал, не в яму ли вас сволокли». Я прикуриваю и хочу ему сказать, что, мол, живы будем, не помрем, — так, пошутить. И вдруг это грохот, рев — и нет ни его, ни меня, ничего нет! А как пришел в себя в госпитале да взвыл от слепоты, мне и объяснили — где и что я, и хоть у меня черепушка треснула, а все же я счастливый шанец вытянул. Как ударил тогда немец дальнобойной прямо в наши фуры со снарядами — изо всей нашей команды при орудии только я один и остался жив. «А как, говорю, наш батарейный, поручик Розанов? Он со мной разговаривал, когда снаряд разорвался». Никто не знает, и только санитар, что принес меня, сказал: когда вытаскивали меня из моей траншейки, которая меня спасла, так гимнастерка моя вся была измазана мозгом. Понимаешь? — сказал он, обращаясь вдруг к Асаду, и Асада в эту минуту поразило выражение его глаз: напряженно-острое. — Мозгом… — повторил он.
Все молчали. И только ветер по-прежнему носился по вагону.
— Интересно? — усмехнулся он. — Ударил немец по нашему орудию — хоть бы целился, пристреливался, а то ведь так, дуром, накрыл, с первого снаряда. Ему, поручику-то, всего двадцать два года было. За что?
— Э, старший фейерверкер, видно, ты присягу забыл, что спрашиваешь! — ехидно сказал с верхней полки остроносенький солдатик.
— Зачем ты шутишь? — подняв на него свои яркие карие глаза, спросил артиллерист. — Я ведь и сам пошутить могу, но не хочу я шутить. Не для того человек на земле живет, чтоб мозги его, как помои, расплескивать, никогда я с этим не смирюсь.
— Спросили тебя! — ответил сверху русенький и ловко соскочил вниз.
Это был тоненький, невысокого роста, гибкий паренек с лычком ефрейтора на защитном погоне — ладный пехотинец-ефрейтор, каких немало.
Поезд медленно подходил к одной из промежуточных станций, к той, откуда отходила ветка на Арабынь. Асад высунулся в окно поглядеть на родные места.
— Э, Асад? Здравствуй, брат!
Внизу, возле вагона, под самым окном, Асад увидел Саладина Дудова, своего дальнего родича. Они не виделись года четыре, с тех пор как Саладина за неуспеваемость окончательно исключили из третьего класса реального, где он готов был остаться и на третий год. Саладин поступил тогда в юнкерское кавалерийское училище. Асад поразился сейчас тому, как изменился Саладин: лицо совершенно утратило детские очертания, стало бессмысленным и красным, глаза остекленели. Но особенно изменили его облик усы, черные и толстые, с концами, победно подкрученными вверх. Видимо, он чувствовал себя превосходно. Синяя черкеска, белый башлык, лихо заломленная кубанка и три звездочки на погоне.
— Рад видеть тебя, братец Асад, — говорил он. — Рад видеть, милый. Дудов с Дудовым встретился — родная кровь. А почему едешь в хамском вагоне? Ты дворянин, благородного рождения, идем в штабной вагон, доблестному офицерству… Эх, пить будем, гулять будем, а смерть придет — умирать будем! — переходя на песенный лад, говорил Саладин.
— Мне и здесь хорошо, — угрюмо ответил Асад.
О том, что Саладин глуп, Асад знал давно. Отец Асада не раз удивлялся, как это лошади разрешают Саладину на них ездить, он же глупее самой глупой лошади. Но Саладин с детства отличался добродушным и веселым нравом, и потому Асад относился к нему по-приятельски, и только сейчас Асаду, пришло в голову, что в глупости Саладина есть что-то недопустимое.
Паровоз пронзительно свистнул и тронулся. Крикнув Асаду что-то дружеское, Саладин лихо вскочил на подножку одного из вагонов.
— Не миновать, придется нам ихних благородий своими руками учить, — сказал вдруг сидевший рядом с Асадом третий спутник, до этого все время молчавший.
Асад взглянул на него. Это был русый, с рыжеватыми пушистыми бровями казак, в синей черкеске, такой же, какая была на Саладине, только сукно погрубее.
— Подумать только, — медленно продолжал казак, — давно ли мы их под Российскую державу покорили, а теперь можно считать, что такие же псы, как и наши, даже царский конвой им доверен.
— Лютый? — спросил ефрейтор-пехотинец.
— Я же говорю, псы. Слыхал, как он об нас? Хамы, а?
— Да он дурак, идиот необразованный, — краснея, сказал Асад. — Его из третьего класса за неуспеваемость выгнали.
— Ничего, — со зловещим спокойствием проговорил Комлев. — Мы их образуем. Мы для всех благородий и высокоблагородий скоро университет откроем.
Казак одобрительно усмехнулся. Асаду показалось, что и казака он встречал где-то.
Между тем круглолицая женщина, сняв свою лиловенькую шляпу — без нее она стала еще привлекательнее и миловиднее, — разложила на столе брынзу, помидоры. Солдаты достали из вещевых мешков воблу, колбасу. Остроносенький ефрейтор успел сбегать за кипятком. У Асада с собой ничего не было. Казак полез в свой вещевой мешок, достал оттуда пузатую чашку с золотыми канарейками по белому фону и дал ее Асаду, налив себе чай в алюминиевую кружку. Когда Асад, стесняясь, что казак отдал ему лучшую посуду, попросил обменяться, казак сказал:
— Никак это не выйдет, господин гимназист, потому что без привычки вы обожжетесь. А это женки моей памятка, да и мамаша ваша, наверно, из такой вот вас чайком поит. Жива мамаша-то?
— Жива, — ответил Асад.
— А моя померла. И пустой стал дом родной. Отец жив, и жена у меня хорошая, и братка добрый, и сношенька ласковая, а без мамы все не так. И стол будто не накрыт, и кровать не застлана, — протяжно говорил он, ни к кому не обращаясь.
И странно было Асаду слышать, что эти какие-то отборно нежные слова произносит мужчина в цвете сил, испытанный воин, — два георгия четко белели на его черкеске.
Разговор в купе перескакивал с вопроса на вопрос: говорили о ценах в вокзальных буфетах и на базарах, о том, что в больших городах нет хлеба и что солдатки бунтуют.
— Как война началась, все над немцами в газетах потешались, — тоненьким голосом говорил ефрейтор. — Они-де, как война, так карточки с первых дней ввели. Наша-де Расея хлебом весь мир завалит. А теперь уже в хлеб и мякину кладем.
— Письмо мне на фронт прислали: в станице нашей потребительскую лавку закрыли, — сказал казак. — Я из станицы Сторожевой — слышали, может? Ни соли, ни керосина, ни сахара… Ну, а лавочник, понятно, наживается.
— Раз-ру-ха! — со смаком выговорил ефрейтор новое словечко.
Асад ел молча. Он чувствовал на себе взгляд рыжего артиллериста. Под этим тяжелым взглядом ему не хотелось ни есть, ни говорить. С ним рядом ехали два человека, с обоими он где-то виделся. Но когда и где?
— Стой, машина, — сказал вдруг весело артиллерист. — Вспомнил! Хватит нам с вами в переглядки играть. Не припоминаете, где и когда виделись?
— Нет, — ответил Асад.
— А у старого Шехима на дворе, за год до войны, еще когда Веселоречье поднялось. Неужто не помните?
И Асад вдруг ясно припомнил рослого мрачноватого парня в линючей бордовой рубашке, с прямыми темно-рыжими волосами, падающими на лоб, и взглядом одновременно тяжелым и озорным. Да и с казаком он встретился тогда же. Казак этот, очень молчаливый и сумрачный, сопровождал их с Константином при поездке в Веселоречье, и Асад даже вспомнил фамилию его — Булавин.
— А где, скажите, тот самый человек, который тогда с вами пришел? — спросил Комлев, особенно значительно выделяя слово «человек».
— Не знаю, где, — грустно ответил Асад. — Я давно не видел его. Последний раз расстался с ним в Тифлисе, и что с ним сталось — не знаю.
— Эх, какой человек! — воскликнул Комлев, обращаясь ко всем, и, сразу понижая голос, добавил: Вот мы тут рассуждали насчет власти, что никуда она не годная. И еще казак спорил: что нет, мол, в России другой власти, людей других нет. А я сказал, что есть другие люди в России, и речь у нас тут пошла насчет думских депутатов, которых за справедливое слово об этой войне судили. И вот я про того человека рассказывал, только имя его знаю — Константин. Как он при мне к веселореченцам пришел, после восстания, и обещал им свободу, так обещал, будто он и есть власть на русской земле. Ну человек!
— А где же они, эти депутаты? — спросил Филипп Булавин. — И где тот, о ком ты говоришь? Я тоже малость знаю его, — сказал он, бросив быстрый взгляд на Асада и этим дав понять, что тоже его признал. — Эх, браток, Сибирь велика, там всем места хватит.
— Мало их все-таки, — вставил свое слово ефрейтор.
— Мало их, а они за народ, и народ за них, — вдруг сказала женщина.
Она мало говорила до этого, только угощала. И вдруг произнесла эти тихие, но очень уверенные слова.
— Верное вы слово сказали. — Комлев своими большими руками схватил ее руку, небольшую, чистую, с исколотыми иголкой пальцами.
Она покраснела и вырвала руку.
— Нет, вы не сердитесь, я от души. Это, когда женщина такое слово скажет, как вы сказали, ничего тогда не страшно, — говорил Комлев, не спуская с нее глаз. — Нет, я так не хочу: доедем мы до Арабыни и скажем друг другу «прощай». Я хочу, чтобы у нас знакомство было. Как звать вас, скажите?
— Надежда Петровна, — ответила она, краснея, взглянула на него, отвела глаза и снова взглянула.
— Надежда Петровна, — повторил он. — А я — Комлев Сергей, а отчество мое — Васильевич. Ну как это вы, Надежда Петровна, так сказали? Молчали, молчали и вдруг…
— А потому, что я вижу: вы все кругом хорошие люди и можно вас не опасаться, — сказала она, обводя всех своим добрым взглядом. — Я все сначала станичника опасалась, а потом их вот, — кивнула она на Асада. — А сейчас вижу: хорошие все люди, не шпики и не какие-нибудь из черной сотни. И еще потому сказала, что станичник сомневался, точно таких людей, которые борются, уже нет совсем, всех в Сибирь пересовали. А это нет, всех не пересуешь! — И тихий задор зазвучал в ее голосе.
Поезд стал замедлять ход.
Она еще раз оглядела вопросительные лица своих слушателей и весело добавила:
— А мы уже и приехали. Спасибо за приятную компанию.
Асад взглянул в окно, но не увидел беленькой арабынской станции, они остановились возле семафора. Входная дверь стукнула. Тучный жандарм медленно шел по вагонам, заглядывая в каждое купе, и своими выпуклыми глазами точно ощупывая всех. Похоже, как будто темная тень прошла по лицам. Надежда Петровна провела рукой по глазам.
Жандарм прошел.
— Вот, ловят кого-то, — сказал Комлев так, как будто произошло что-то имеющее отношение ко всему предыдущему разговору.
На станции Комлев, не слушая возражений Надежды Петровны, подхватил ее баульчик.
Когда Асад вышел на перрон, он увидел, что Надежду Петровну встретил худенький юноша в солдатской зеленой гимнастерке с темно-зелеными следами погонов на плечах. Они обнялись. Асад, движимый любопытством, задержался, безотчетно разглядывая их. И вдруг этот худенький молодой человек взглянул на него своими небольшими синими, очень знакомыми глазами и сказал:
— Что, Асад, не признаете меня?
— Вася? — воскликнул Асад, бросаясь к нему.
Василий перехватил его руку своей горячей и слегка влажной рукой.
— Осторожно! — сказал он. — Целоваться со мной нельзя. У меня чахотка. Если назвать научно туберкулез. Получил белый билет, из армии уволен вчистую. Но, видно, не рассчитали помощники смерти, из какого материала скованы питеряки! Верно, мамаша? — сказал он, обращаясь к Надежде Петровне. И надтреснутым голосом пропел, подняв к небу тонкую, сжатую в кулак руку: — «Черный ворон, я не твой».
2
Филипп Булавин, выйдя на большой станционный двор, замощенный неровным, еще не обкатанным булыжником, сразу признал среди множества подвод, арб и фур, запряженных волами и лошадьми, свою старинную, на железном ходу повозку. Румяное, чернобровое лицо снохи Христины призывно сияло. В батистовом платке, повязанном так, как носят украинки, открывая лоб и шею, она выглядела празднично, торжественно. И у Филиппа сразу отхлынули тяжелые мысли, навеянные вагонными разговорами, — и он с радостью погрузился в тот домашний, с детства милый мир, о котором с такой нежностью говорил дорогой Асаду.
Повозка всем своим железным ходом загрохотала по камням мостовой, но не могла заглушить звонко-пронзительный голос Христины, которая все еще продолжала выражать радость по поводу того, что настоящий хозяин приехал, подчеркивая этим, что своего мужа, Родиона, она таким хозяином не считает. Потом она объяснила, почему жена Филиппа, Стеша, не приехала его встретить. Стеша боится править вороным жеребцом, которого по случаю встречи Филиппа дал отец Стеши, старик Черкашинин. Жеребец этот уросливый, с причудами, боится паровоза. Он и сейчас, когда их повозка подъехала к опущенному шлагбауму, уже прижал уши, едва увидев быстро мелькающие красные вагоны. Но Христина так натянула вожжи и так крикнула «б-б-балуй», что жеребец присмирел, хотя продолжал коситься на поезд.
Стеша осталась с детьми, ну, а о брате и отце Филипп не спрашивал — было время второго покоса…
Они приехали в станицу. Отец и брат уже вернулись с поля, и вся семья встретила его у ворот. Отец обнял сына и повел на крыльцо, сухощавый, складный, такого же роста, как Филипп. Отец все же постарел, его лысая голова проступала сквозь редкий и слабый волос, передних зубов не было, их под Лаояном в девятьсот четвертом году вышиб японец в рукопашном бою.
— Японца жарубил, а жубов (он выговаривал «жарубил», «жубов») не воротил.
И Филипп и Родион помнили, что до русско-японской войны отец носил маленькие щеголеватые усики, а после войны, чтобы скрыть западающую верхнюю губу, он отпустил большие и пышные. И все же сквозь них видно было, как западает губа. Нижняя губа поэтому особенно выдавалась вперед; это вместе с большим лбом, густыми бровями и блестящими молодыми глазами придавало старику выражение задора и строптивости.
После долгой разлуки Филиппу бросилось в глаза и сходство и несходство отца с Родионом. Старик в молодости был такой же темно-русый, и голову Родион держал, как отец, наклонив вперед свой большой лоб. Но старик в своей старенькой рубахе с прямым воротом, подтянутой ремешком с тускловатым медным набором, был, как всегда, аккуратен в одежде. Родион же, в залатанных-перелатанных шароварах, без пояса и с расстегнутым воротом, выглядел неряхой, только лицо, загорелое, веселое и хитрое, все чисто выбрито. Родион усов не носил и потому выглядел очень молодо.
Родион целоваться не стал, он только крепко хлопнул брата по плечу. Стеша, высоконькая, смуглая, не с круглыми.; как у Христины, бровями, а стрельчатыми, прямыми, сросшимися у переносицы, прямо и смело взглянула затуманенным темным взором в глубь мужниных глаз — и Филипп понял, что он счастлив в жизни, несмотря ни на что.
Они троекратно поцеловались, стыдливо-церемонно — только так и можно было при людях — и тут его облапил тесть, старик Матвей Черкашинин, в зеленой черкеске с серебряными газырями, которую Филипп помнил столько же, сколько себя.
У Черкашинина сыновей не было, и Филиппа, да и всю булавинскую семью он любил больше, чем семью покойного удачливого брата, дослужившегося до есаульского чина и вырастившего четырех сыновей-офицеров, которые драли нос перед бедной родней.
Потом Филиппа обняла и поцеловала в лоб теща… Да, матери нет, с этим ничего не сделаешь.
Вина было много, мутненького и горьковатого чихиря со своих виноградников и своего изготовления. Как полагается у соседей-веселореченцев, была подана к столу также пахнущая хлебом буза. Стол заставили пирогами, рыбой, птицей и телятиной. Был и мед, темный, лесной, принесенный тестем, — тесть имел особенное чутье на лесных пчел. Никакой городской закуски не подавалось. В мирное бы время стояли непременно шпроты, сардины, икра.
Сахара тоже не было. И раньше чем сесть за стол, Филипп тихо поманил Стешу в тесную горницу с одним окном, что выходило в сад, — там они поселились после свадьбы. Из горницы Стеша вышла, неся голубенькую сахарницу, наполненную рублеными синеватыми кусками сахара, с четвертушку чаю с золотым изображением на бумажке, вся раскрасневшаяся, счастливая и гордая.
Тут подошли соседи, близкая родня — и началось пирование, со здравицами и шутками. Конечно, все шло бы веселее, если бы не война, тем более что невпопад речь вдруг зашла об убитых и слышны стали — совсем уж некстати за праздничным столом — женские всхлипы. Разошлись на зорьке. Отец уснул, женщины стали прибирать дом, а братья, чтобы не мешать уборке, вышли в сад на лавочку.
У подножия еще не проступивших из предрассветных сумерек гор в этот час обычно дул легкий ветер, даже в казачьих песнях он поминался: «ветерок-утренничек». Но сегодня было необычайно тихо, и четкие отпечатки копыт, крупных — коровьих, а также мелких и острых — козьих и бараньих, с вечера сохранялись в густом слое пыли, лежавшей на дороге.
Откуда-то доносилась колыбельная песенка. Наверно, ребенок не мог уснуть в домашней духоте и мать, а может быть, бабушка, вынесла его на утренний холодок.
Коваль, коваль, ковалечек, Раздуй себе огонечек…«Ага-а-а-нечек», — выговаривал женский голос.
Скуй Ванюше топорочек…Братья переглянулись. Им эту песню пела мать… Филиппу вспомнилось, что последний раз, когда он был дома, мать, тогда уже больная, как-то чуждалась его. Или стеснялась? Или отвыкла? Все уходила за цветастую занавеску, где стояла стариковская кровать. А стоило войти в комнату Родиону, как мать, охая, появлялась и смеялась над шутками Родиона. Было это еще при усмирении веселореченцев. Родион тогда все время подтрунивал над братом, которому и самому не по душе было препятствовать передвижению по дорогам мирных горских арб и водить в Арабынь, в старую крепость, невооруженных, несопротивляющихся и ни в чем не повинных людей. А чего подтрунивать — попробовал бы сам.
В этот приезд сильнее, чем всегда, чувствовал Филипп, что судьба у них с Родионом разная, — у Родиона вольная, веселая, а у него, Филиппа, подневольная, страшная. Слушая песенки и побаски Родиона, он и сам смеялся, а когда Родион полушутливо обращался к нему с просьбой: «Рассказал бы ты, братка, за какие такие геройства огреб ты двух своих егориков», — Филипп морщился, махал рукой и задумывался. Геройства… И ему вспомнилось, как он на разведке огреб какого-то горячечного араба в белом, а потом оказалось, что араб этот — чумной, и целые сутки сидели они в карантине, ожидая чумы и мучительной смерти, а потом оказалось, что чума — не чума, и араб — не араб. Было во всем этом что-то такое и жуткое и смешное — костяной оскал скелета, вспоминать об этом не хочется.
* * *
— Обижается наш старик-то. Примечаешь? — сказал Родион, озорно мигнув при этом одним и другим глазом на старика.
Филипп и сам заметил, что отец переменился. Уж не старческая ли у него глухота? Стоит старик посреди двора, и, пока не подойдешь и не тронешь за рукав, он ничего не слышит.
— Нет, это не глухота, старик над своей обидой думает, — снизив голос, сказал Родион.
— А какая у него обида? — спросил Филипп.
— Э-э-э, много всего набралось. А началось сдавна, еще когда последний раз выборщиков в Думу государственную представляли…
— Меня в ту пору здесь не было, — ответил Филипп.
— Вот потому ты и не знаешь ничего.
И Родион начал рассказывать усмешливо, бойко, с его способностью представить со смешной стороны самое серьезное дело…
— Мне еще Христя моя тогда с утра сказала, что в выборщики пойдет Епишка Мукосеев (семья Мукосеевых была самая богатая в станице, а Епифан Мукосеев приходился родным братом станичному атаману). Ты знаешь, тятенька редко когда серчает, а тут рявкнул: «Молчи, это дело не бабьего ума! Кто может знать, кого пошлем решать государственные дела». Я, конечно, тоже на нее цыкнул, не суйся, мол! Цыкнул, чтобы тятеньке угодить, а сам-то знаю, что про Христю мою недаром на станице говорят: «Надень на бабу вицмундир, будет баба командир», — и если она говорит, значит так оно и будет. Ну вот, собрались старики возле станичного правления, все в медалях, бороды уставили. Кто постарше — сидят на бревнах, и отец тоже среди них. А кто помоложе — стоячком, значит, с ноги на ногу переминаемся. Так, знаешь, как бывает, когда о главном деле не говорят? Дедука Дудаков завел о каких-то незапамятных походах, как он на турка ходил. То ли это было, то ли не было, ну, мы слушаем. А как атаман Мукосей выкатил бочку, повеселей стало. Старик Ковшов Степан — разум, я считаю, у него младенческий — встал и завел: «Молодцы атаманы…» — то и се и начал нахваливать Епишку Мукосеева, что он насквозь богом просвеченный. Но какое от него просвещение, когда даже из полиции выгнали за то, что взятки не по чину берет… А выходит, что, кроме него, послать выборщиком некого. Ну, тогда все стали кричать: «Любо! Любо!» А писарь уже умакнул перо в чернилы, голову набок, язык вывел наружу и хочет записывать. Глянул я на тятеньку, он на меня — и черт меня пощекотал: вспомнил я разговор с Христей и засмеялся… И тут наш старик — как варом его окатили, право! — вдруг встает с места и кричит атаману: «Погодите, Николай Григорьевич, хочу я, чтобы Епифан Григорьевич, если мы его посылаем в депутаты, нашему пречестному казаческому кругу поведал: ежели ты, скажем, изберешься в Думу, чего ты там хорошего станешь делать?» Епифан сначала глянул на нашего, может и хотелось послать его куда подальше, а потом все ж таки — обходительный человек, ведь если б не проворовался, и сейчас в писарях ходил бы — ответил, что я — де, Петр Сергеевич, в силу присяги буду стоять за крепость нашей державы… Да и понес всю ту словесность, которую я повторять тебе не буду, ибо каждый казачий сын долбит ее на войсковом сборе.
Старик наш ничего, послушал, а потом вдруг говорит: «Нет, Епифан, не будет от тебя толку в Думе. Все равно, что тебя послать, что того вон серого кобеля». Сразу все зашумели, закричали в голос… «Какого кобеля?» — спросил Епифан, а сам к отцу поближе… Я гляжу, что разговор-то ни из-за чего получается, потому что Епишку ведь только в выборщики намечают и никто его в депутаты в Думу не пошлет. Да и наш старик нашел место, где заедаться — на атаманском дворе, — такая глупость! Началось с серого кобеля, а пошло всерьез. Гляжу, чего доброго свалка начнется, а то и рубка. Я, значит, кинжал за рукоять держу да поближе к нашему старику толкаюсь. Вижу, и тестюшка твой, Черкашинин, к нашему поближе пробирается… Ну, а старик наш даже бровью не ведет, отворачивается от Епифана и говорит людям: «Нет моего согласия посылать выборщиком Епифана Мукосеева». Тогда вдруг сам атаман вскочил, весь трясется, глаза выпучил, тоже красный, слюной брызжет, за ворот себя держит. «А кого посылать, уж не тебя ли?» — кричит. «Вот угадал, — отвечает наш. — Меня и пошлите».
Ну, тут Черкашинин подает голос: «Правильно! Петра Булавина надо послать!» Ну, сразу же началось такое, что не разобрать, кто против орет, кто за нашего старика, кто смеется, а кто и не на шутку это дело ладит. А атаман-то аж клыки свои желтые оскалил. Тут еще Тимофей Суровцев — помнишь, может, три георгия он имеет за русско-японскую, — и тоже за отца. «Это, говорит, честный казак». Атаман даже завопил: «Это кто честный? Петька Булавин честный? А ссуду-то небось в кооперации зажилил?» — «Какую ссуду?» — спрашивает отец, и вижу у него на лбу жила, как вожжа, вздулась. Ну, думаю, ударил атаман нашего старика под самый вздох. Ты ведь знаешь, что никто, как именно наш Петр Сергеевич, эту самую «в единении сила», — Родион, насмешливо блеснув зубами, свел свою правую и левую руки в пожатии, — по станице собирал, и устав писал, и в войсковое управление ездил, ходатайствовал. А сколько он глотку рвал, сколько крови извел на эту евангельскую кооперативную жизнь! Получился же итог: не евангельская жизнь, а лавочка, и они же, Решетниковы, да Дунаевы, да Мукосеевы, его из правления кооперации фью — и высадили. И что они там себе в карман клали, об этом никто не знает и никто сказать не может. А что ссуда у нас была, так это действительно была. Да и как не быть? Ты — на действительной, я за Христиной хороводился на Кубани, один старик наш здесь расшибался за это самое кооперативное дело. Ну, хозяйство и пошатнулось. И ссуду дали нам законную, по всем протоколам проведена. Тут одни кричат «ссуда», и другие кричат «ссуда»! Кто попрекает, кто заступается. Тестюшка твой уже кинжал вытащил, братья его — за руки, а он так и рвется на атамана, уже загнал того на крыльцо, еле со двора его увели. Отец сам раньше ушел… Вот тут-то он и задурил. «Пусть, говорит, подавятся моей трудовой копейкой».
И Родион рассказал, как, несмотря на слезы баб, старик продал одного из двух волов и опустился на ступеньку ниже в имущественном положении, потому что казак с одним волом за справного казака уже не считается. Ссуду в кредитное товарищество он уплатил — ну а что? Все равно смеются. На круге и слова сказать нельзя, сразу попрекают. «Эх ты, депутат рваный».
— А выборщиком-то кто пошел? — спросил Филипп.
Брат насмешливо взглянул на него.
— Так кому же, кроме Епифана? — в его голосе слышно было удивление.
Видно, и он считал, что иначе и быть не могло. Кто же должен был быть послан, как не этот заведомо продажный и брехливый человек из всей станицы? Если отец оскорблен этим избранием и глубоко переживал это как несправедливость, то Родион, по своей почтительной и крепкой любви к отцу, от души ему сочувствуя, к самому факту избрания Епифана Мукосеева относился даже с каким-то злорадным удовольствием. Впрочем, примерно такое же злорадство слышал в его голосе Филипп, когда речь заходила о войне. Родион не был на войне. Но хотя осенью у него кончалась отсрочка по семейному положению и ему предстояло попасть на фронт, он не расспрашивал брата о войне, о сражениях. Все то, о чем с болью, гневом, всерьез говорили в вагоне, что тяжело ворочалось в душе Филиппа, так тяжело, что и говорить-то об этом не хотелось, — все это в виде веселых, а порой и похабных побасок про царицу и Распутина, про глупого царя и подлых министров с веселой легкостью соскакивало с языка у Родиона.
Родиона нельзя было назвать бездельником, наоборот, он всегда чем-либо бывал занят. Он любил ловить рыбу, охотиться, столярить, кузнечить, возиться с лошадьми, готов был окучивать, подрезать виноград, даже портняжить, но только не работать на пашне! Он открыто не любил мужицкой работы. В нем как будто, минуя отца и деда — хлеборобов, сказывались от каких-то прадедов перешедшие казачьи древние навыки. Он знал много казачьих песен, правда легко перемешивая их с сегодняшними, городскими, вроде: «Мамаша дочь бранила…» или «Чудный месяц плывет над рекою…», песен, которых он набрался за время своей бродяжьей жизни, переходя с места на место. Любое дело ему давалось легко: он работал и на сельскохозяйственных машинах, и на мельницах, и даже механиком на паровых молотилках.
Во время своих скитаний встретил он свою Христину и вместе с ней батрачил в экономии богатого помещика Сорочинского. Сошелся он с ней, не думая жениться, но потом обвенчался и даже привез ее домой, ввел в семью. Христина не только вошла в семью Булавиных, но и в станице стала лицом довольно заметным. Ее, хотя и пришлую и хохлушку, величают теперь Христиной Афанасьевной… «Не будь ты баба, тебя станичники наши в атаманы посадили бы, ей-богу!» — сказал как-то раз Родион и получил за это шутливую, но довольно увесистую оплеуху. Не в обычае у казаков такие шутки с мужем, но Христине все сходит.
Вцепилась Христина в булавинское хозяйство и тянет его изо всех сил. Когда Родион хотел сдать в аренду их надел, она не дала. Путем каких-то сложных расчетов, впутываясь в долги и их выплачивая, доставала она сельскохозяйственные машины для уборки урожая, сама садилась за сеялку или в жнейку и за лето обгорала до черноты.
Стеша, жена Филиппа, ведала домом, детьми и была у Христины в добровольном и беспрекословном подчинении. Филипп заметил, что, кроме разговоров по хозяйству, у них еще какие-то свои разговоры, как у сестер.
Христина относилась к Филиппу как к старшему и советовалась с ним как с хозяином.
«Та вы ж сами знаете Родиона, какая от него допомога», — сказала она однажды, махнув рукой, и было засмеялась, но тут же слезы брызнули из ее ласковых и хитрых глаз. Продолжая смеяться, она утерла их передником, который по-своему, по-кубански, надевала так, чтобы в любой момент, скинув его, предстать нарядной перед чужим человеком. Чувствовал Филипп: не без хитрости велись эти разговоры и жалобы на непутевого младшего брата. «От гляньте, Филипп Петрович», — говорила она, советуясь с ним, но делала все по-своему, и все точно летало у нее под быстрыми руками, а сама всегда нарядная, и коса в два раза крепко охватывает голову под высоко, по-украински, повязанным платком… Всегда веселая, а под широкими и румяными щеками все точно дрожит, зубы крепко стиснуты, и ласковые глаза из-под темных бровей иногда взглянут вдруг жестко и хитро.
Но мужа она любила, и не раз замечал Филипп, что, когда Родион пошутит или запоет, Христина среди хозяйственной беготни вдруг остановится, точно заглядится на это ребяческое веселье, на удалой блеск беззаботных глаз Родиона.
Да, она делала вид, что во всем беспрекословно слушается Филиппа, а, конечно, все в доме шло так, как она хотела.
Филипп вставал рано и сразу брался за хозяйство. Он уже поправил ворота и перестелил черепицу на крыше. Часто он бывал на конюшне, которая, оттого что в ней оставалась одна старая кобыла, казалась особенно просторной. Было время — четверо справных коней стояло в конюшне Булавиных. Лучшего, рыжего жеребца дали Филиппу, когда он уходил на службу, другого продали во время болезни отца, а старый мерин подох — и вот только одна, еще ладная, тоже рыжая, смирная кобыла стоит в конюшне. Начисти ее до зеркального блеска, выпусти на баз — будет пощипывать траву, подойдет к Родиону и тепло дунет ему в ухо. Обычно ею занимался Родион, а теперь, с приездом брата, он с легким сердцем снял с себя и эту обязанность. Целые дни проводил он возле деревянной решетчатой изгороди, сохранившейся еще со времен прадеда Булавиных, когда-то ставившего этот дом, и плел на такой же древней, окаменевшей лавочке кнутики. Кнуты эти валялись по всему двору. Такими кнутами, длинными, щелкающими, как гром, изукрашенными в рукояти узором, были снабжены не только свои, но и все соседские ребятишки, обожавшие дядю Родиона.
Всегда затянутый, чистый и аккуратный, Филипп, взглядывая иной раз на брата, расхлестанного, босого, поглощенного своим никчемушным делом, по-особенному остро ощущал свое кровное родство с ним.
Чертами лица они настолько были схожи, что, случалось, их путали, хотя Родион был много темнее, с озорными, веселыми и почти черными глазами. И хотя жили они по-разному, в чем-то главном хорошо понимали друг друга. Родион, не таясь от Филиппа, высмеивал исконное воинское казачье дело, так как чувствовал, что и брат в глубине души не убежден в целесообразности и пользе этого дела, которому так настойчиво и преданно служил.
3
Однажды в глухой час ночи во дворе забрехала собака. Самый чуткий сон был у Стеши. Осторожно, чтобы не потревожить спящего мужа, вышла она во двор.
Собака бегала у запертых ворот и, отрывисто тявкнув раз-другой, ворчала. Если бы собака почуяла злоумышленника, она лаяла бы во всю силу своей глотки, а это тревожное тявканье и ворчанье как бы предупреждало о неизвестном, невидимо и смирно стоявшем за воротами.
— Кто это тут? — спросила Стеша.
— Это Филиппа дом? — тихо спросили из-за забора. Стеша уловила в речи нерусское, затрудненное произношение. — Я не вор, не разбойник, я — Филиппа кунак… Вот, погляди.
К ногам ее упало что-то мягкое. Схватив, она поднесла близко к глазам и по узору узнала кисет, своими руками сшитый и подаренный в год свадьбы мужу. Потом кисет исчез, муж уверял, что кисет подарил какому-то другу горцу, спасшему ему жизнь, — уж будто ничего другого нельзя было подарить, кроме памятки от жены! Она не верила этому и опасалась, что ее рукоделие, в которое столько было вложено любви и надежд, попало в руки какой-то ненавистной сударки-ухажерки.
Увидев перед собой этот кисет, Стеша обрадовалась и, цыкнув на собаку, отворила калитку. Во двор вошел человек большого роста, одетый по-городскому. Его молодое лицо было обрамлено черной бородой. Блестели белые зубы, он улыбался.
— Филипп, верно, на войне? — спросил он.
— Нет, Филипп дома, я позову его сейчас.
Она побежала в дом, счастливая и полная доброжелательства к человеку, который спас жизнь ее мужу.
— Там тебя спрашивают, кровушка моя, — зашептала она ему в ухо, — тот самый, которому ты кисет мой дарил, он во дворе стоит, — слышишь, Громобой рычит?
Филипп быстро поднялся.
— Науруз? — спросил он, быстро одеваясь.
— Ты же мне не сказал, как его звать.
— Буди брата, — сказал Филипп жене, и голос его был необычен, строг, взволнован. — Скорей буди, а я во двор пойду.
4
Науруз из Баку возвратился в Веселоречье. Он решил во что бы то ни стало захватить Нафисат с собой и перевезти ее в Баку. Он уже сговорился со своими бакинскими друзьями, где поселить ее.
Науруз благополучно добрался до Краснорецка, но, пересев на арабынский поезд, обнаружил, что за ним следят.
На одной из остановок он увидел лениво бредущего по платформе старичка машиниста, с которым свел знакомство в прошлом году, собирая деньги для бастующих бакинцев. Когда поезд тронулся, Науруз, сделав вид, что в последний момент спрыгнул с поезда, обманул этим двух преследовавших его переодетых горцами шпиков. Они спрыгнули с поезда, все убыстряющего ход, а Науруз по крышам вагонов ловко, как кошка, добрался до тендера. Помощник машиниста от неожиданности чуть не ударил его. Науруз назвал по имени старика машиниста, запомнив, что зовут его Егор Дмитриевич, и, принятый на тендер, доехал до следующей станции. Здесь его спрятали в багажном вагоне, использовав для этого пустой ящик с надписью: «Стекло! Осторожно при переноске!»
От железнодорожников Науруз узнал, что, после того как он вторично увез деньги в Баку, по всем станциям за подписью пристава Арабынского округа Пятницкого было расклеено объявление о скрывающемся известном абреке-разбойнике, злоумышляющем против существующего строя, Наурузе Керимове, с подробным описанием его наружности и обещанием тому, кто укажет его местопребывание, денежной награды до тысячи рублей.
— Стало быть, когда наш поезд остановили у семафора, это тебя ловили? — спросил Филипп, вводя Науруза в конюшню — туда же сошел и Родион, с сочувственным интерессом слушавший неторопливый рассказ Науруза.
— Меня, — ответил Науруз. — Днем я показываться нигде не мог, всякий плохой человек мог узнать меня и продать начальству. А оставаться у железнодорожников тоже нельзя: у любого — жена, дети… В Арабыни меня каждый знает. Тут-то я и вспомнил о тебе, кунак!
— Ты в дом его зови, — сказал Родион брату, — угощать будем, видно стоящий человек, джигит.
— Разве ж то можно, Родя, старшему брату советовать, — вмешалась вдруг в разговор Христина так неожиданно, что все вздрогнули, — она вслед за мужем, тихо, как кошка, вошла в конюшню. — Филипп Петрович думку загадал, как бы своему кунаку помочь, спрятать его от злых врагов, а тебе бы все пировать…
Христина говорила быстро, обращаясь то к Филиппу, то к Родиону. Не все понимала она в ночном посещении этого незнакомого человека, но одно ясно ей было: следует поскорее и поосторожнее избавиться от этого человека и сбыть его со своего двора. В этом желании не было никакого зла против Науруза. Наоборот, она, как гонимому и тем более кунаку Филиппа (а она достаточно пожила среди казаков, чтобы знать о строгом соблюдении этого обычая), сочувствовала Наурузу и хотела помочь найти такой выход, который был бы спасителен для него и в то же время ограждал от опасности их дом.
5
Не принято спрашивать гостя, кто он такой, откуда и зачем приехал. Впрочем, старому Шехиму и не было нужды расспрашивать Джафара о том, кто он такой, — он знал его еще мальчиком, когда тот вместе с сыном Шехима, Талибом, обучался русскому языку, математике и всяким прочим наукам в частной школе Хусейна Дудова в Арабыни. А откуда сейчас приехал Джафар, тоже было ясно: на нем офицерский, с белыми узкими погонами, мундир нового, во время войны появившегося покроя, с большими карманами на груди и на боках. Мундир этот молодому Джафару кстати: он скрывает округлившийся Джафаров живот. Неужели Джафар так и не побывал в боях? Могло ли быть, чтобы воин потучнел среди битв и бранных тревог? Жил, конечно, в старину князь Бисмалей, с брюхом, как студень, он направлял в бой полки, сидя на арбе. Судя по рассказам самого Джафара, он воюет вроде Бисмалея, но не на арбе, а в особом вагоне: ездит с фронта на фронт и не полки в бой посылает, а направляет потоки муки, крупы, сахару, махорки — все, что необходимо для пропитания и довольствия русской армии.
— Лошадей скупаю я для фронта, — многозначительно сказал Джафар.
Шехим сначала промолчал, чувствуя, что сказано это со значением, но к чему — непонятно. И он завел с гостем долгий разговор о резвых «дончаках», неприхотливых «киргизах», горячих «калмыках». Предпочтение он, конечно, отдавал своим «веселореченцам». Они соединяют все достоинства других пород и при этом еще умны: из боя вынесет раненого хозяина, отпусти поводья — и сама пойдет по такому уступу над пропастью, где кошка пройти побоится, найдет брод и на бурной реке. При воинском же обучении нет ее послушнее: до тонкости различает сигналы трубы, сама меняет аллюр, а воле хозяина повинуется, как собака. И шума боя не боится.
Как же Шехиму не знать всего этого: еще в юности он был подручным князей Таубиевых, известных конокрадов!
С утра сидит Шехим со своим гостем в тени яблонь, и дважды уже пришлось передвинуть ковер, чтобы солнце не пекло голову гостя. Посмеивается гость, слушая рассказы хозяина, и, полулежа, попивает пенящийся айран. К еде, поставленной на ковре, не прикоснулся, только покуривает папиросу за папиросой и все точно прислушивается к чему-то: чуть где-то за домами конь поскачет, он сразу весь приподнимается.
Но к тому, что Шехим рассказывал о конях, Джафар отнесся очень внимательно, даже вынул записную книжку и занес в нее что-то. Может быть, он и сюда приехал для покупки коней? Так почему же не заговорит, не скажет, что ему нужно? В самом деле, Джафар внимательно выслушал то, что Шехим ему рассказал, ни слова от себя не добавил и перевел разговор на Талиба: где и как он воюет?
— Что ж, могу гордиться Талибом. За учеными занятиями не утратил он мужества: награжден двумя георгиями и, если бы не из тюрьмы попал в армию, был бы сейчас офицером. Служит он в полку князя Темиркана Батыжева.
Джафар кивал головой, соглашался и при этом все посмеивался. Шехим всю жизнь его таким знал: хитрый, себе на уме. «Но есть учтивость хозяйская, есть и учтивость гостя: тебя не спрашивают, ты сам расскажи!» — неприязненно думал старик.
Вдруг Джафар прислушался и вскочил с места. Ленивой повадки его как не бывало, глаза заблестели, румянец кинулся в лицо.
— Слышите, отец? Как будто табун гонят? — спросил он.
Шехим прислушался. Конечно, то был ни с чем не сравнимый, бодрящий и подзадоривающий, призыву военной трубы подобный, нарастающий топот несущегося вскачь табуна. Что за табун и зачем его гнать таким бешеным бегом? Топот все нарастал, становился все ближе, и вдруг лад конского скока нарушился, звуки смешались, людские крики, конское ржание — наверно, табун пригнали в знаменитые загоны, еще от князей Таубиевых сохранившиеся и сейчас занятые военным ведомством.
— Ну, отец, все сошло хорошо! — весело сказал Джафар. — Смел твой сын Талиб, но не уступит ему в доблести молодой Батырбек, сейчас мы увидим его.
И верно, не прошло и минуты, как во двор на взмыленной лошади въехал Батырбек. Он соскочил с коня, хлопнул по плечу Джафара, обнялся с отцом. Жарким потом, конским мылом, горячими травами, дорожной пылью пахло от него — незабываемый запах набега, дерзкого конокрадства.
— У кого коней воровал? — спросил отец.
— У Хасанбия Астемирова — пусть пешком теперь походит, — две тысячи голов из того ущелья, которое не зря называют Астемировой конюшней.
— Ответишь ты перед властями за дерзкое дело, — с тревогой сказал Шехим.
Батырбек захохотал.
— За что я отвечу? За то, что пригнал коней, которых алчный коннозаводчик Астемиров не хочет продавать по казенной цене русской армии? Да я патриот! Мне Джафар медаль выхлопочет.
Джафар, по своему обыкновению посмеиваясь, покачал головой, и Батырбек сразу умолк. Он выпил целую чашку айрана, который поднесла ему худенькая и робкая невестка, жена Талиба, и тут же, опустившись на ковер, Джафар стал вынимать из кармана какие-то бумаги. Они с Батырбеком начали считать что-то и заспорили.
— Счеты! — злым голосом сказал Батырбек и вскочил. — Меня на бумажках можно запутать, а на счетах никогда!
Бегом, как мальчишка, кинулся он в дом и вернулся со счетами, которые сухо брякали в его руках. Джафар, покачиваясь, курил папиросу. Батырбек стал считать, пальцы его так и летали, перебирая косточки. «Где только он научился?» — с удивлением думал Шехим. Батырбек сосчитал раз, нахмурился, ничего не сказал, смешал счеты, сосчитал еще раз, взглянул виновато на Джафара и захохотал.
— Сразу видно, что ты сын ученого муллы, а я сын простого крестьянина: ты деньги лучше меня считаешь.
— Не спорь со старшими, — по-веселореченски сказал Джафар и по-русски добавил: — Давай пиши расписку. — Они все время говорили то по-русски, то по-веселореченски.
Батырбек стал писать расписку, а Джафар из своего большого кармана на груди вынул толстую пачку денег и оглянулся. Шехим отвел взгляд и отошел в сторону.
Старику вдруг стыдно стало чего-то, а чего — он сам не знал. Стыдно за сына. Угнать коней, тем более у заклятых врагов князей Астемировых — это молодецкое дело и притом доходное. А как же иначе! Каждый раз ставишь на кон самую жизнь свою. И опять Астемировым урок: Россия воюет, ей кони нужны, а вы, князья, которым — пример показывать, из алчности прячете коней. Благородное, справедливое дело. И все-таки в том, что этот жирный Джафар сидел здесь в безопасности, весь набитый деньгами, а Батырбек рисковал для него жизнью, было что-то неблагородное и недостойное сына.
Грохот колес и звуки голосов отвлекли старика, ворота заскрипели. Разномастная пара — черный большой конь и рыжеватая мелкая кобыла — везла повозку, кованную железом. Шехим сразу признал казаков: один, в синей форменной черкеске с погонами, правил лошадью, другой, в мятом, красноватой окраски домотканом бешмете, при въезде во двор соскочил с повозки. Похожи друг на друга, сразу видно: братья, а с ними нарядные жены и дети. «Гости, — подумал старик, поспешно направляясь к воротам, — а кто такие, не знаю».
Тот из братьев, что одет был попроще и в повадке был вольнее, соскочив с повозки, направился прямо к Шехиму. Со знанием горского обычая, он за несколько шагов поклонился, как подобает кланяться старшему, и, почти не запинаясь, довольно бойко произнес по-веселореченски:
— Долгой вам жизни, отец, и здоровья! Мы вам не знакомые люди, но привело нас благородное дело. Мы братья Булавины, казаки, соседи ваши, из станицы Сторожевой. А в повозке у нас, укрытый мешковиной, спрятан один ваш человек — Науруз Керимов. Он наш кунак, начальство ловит его. Он просил, чтоб мы ему помогли добраться к вам, провести мимо стражи, которая стоит у ворот.
— О араби! Благородные люди, благородное дело. Нет, есть еще на свете благородство! — сказал старик, волна горячей крови, схлынув от сердца, забившегося быстро и сильно, как в молодости, пробежала по его телу, он даже весь выпрямился. — Видишь, сынок, сарай, въезжайте прямо туда, а я предупрежу домашних. — И он легким шагом прошел к дому.
Занятые своими деньгами, Джафар и Батырбек не уделили внимания приезду гостей. Правда, Батырбека удивило, что ему незнакомы эти русские гости. Но, может быть, это друзья Талиба, и он не стал отвлекаться от разговора с Джафаром.
Земсоюз, в котором работал Джафар, взял подряд на поставку для Юго-Западного фронта нескольких десятков тысяч коней, необходимых для ремонта кавалерийских полков. Обычно ремонт конского состава проводился самими полками. В Земсоюзе склонны были от этого подряда отказаться: при всей своей выгоде дело это было необычно. Джафара по этому вопросу телеграфом вызвали в Москву из Сибири, где он вел грандиозные закупки сливочного масла для армии. С ним советовались, как уроженцем Северного Кавказа. На Кавказе и должны были произойти основные закупки конского состава. Джафар дал благоприятный отзыв и, получив громадные полномочия, выехал в ставку Юго-Западного фронта, где был принят самим начальником штаба. Из разговора он понял, что будущей весной подготовляется грандиозная операция большого стратегического значения, — именно в этой операции должны сыграть свою роль кавалерийские полки. Уверенный в успехе дела, Джафар сразу же отправился в Краснорецк и только там, на месте, понял, что попал впросак: оказывается, принадлежащие в большинстве своем к самым зажиточным княжеским фамилиям коннозаводчики, считая цены военного ведомства слишком низкими, отказались продавать армии коней и, опасаясь реквизиции, угнали их в глубину кавказских ущелий. Очевидно, этим и следовало объяснить то, что военное ведомство передало эту операцию Земсоюзу.
Об угоне коней коннозаводчиками Джафару рассказал Батырбек Керкетов, встреченный им в Краснорецке, куда он переехал, не поладив с тестем. Сначала Батырбек перебрался в Арабынь, к горам поближе, но там, подозревая в конокрадстве, его едва не убили князья. Батырбек действительно «зарабатывал» себе на прожитие этим промыслом и прекрасно был осведомлен о том, почему в Арабыни и Краснорецке закрылись все конские заводы и исчезли с конских базаров хорошие кони. Лучше чем кому бы то ни было, ему известно было, в каких заповедных долинах Кавказа скрыты многотысячные конские табуны.
Таким образом, если Джафар представлял собой «спрос», то Батырбеку, легко было сообразить, что он может взять на себя «предложение». Сделка состоялась — выгодная для обеих сторон, так как затраты Батырбека по найму «ночных джигитов» были во много раз меньше той круглой суммы, которую Джафар получил от военного ведомства на поставку лошадей. Мало того, он и Батырбеку уделил хорошую долю. Проигрывали на этом деле лишь князья-коннозаводчики, они сами поставили себя при этом в такое положение, что и заступиться за них было некому.
Батырбека же, кроме выгоды, особенно подогревало желание отомстить своим гонителям князьям. Первый набег на табуны одного из самых крупных коннозаводчиков, Хасанбия Астемирова, удался превосходно, и сейчас в прохладной тени керкетовских яблонь компаньоны, совершив раздел барышей, обдумывали последующие операции.
А мимо них с криками и смехом бегали дети Керкетовых и Булавиных. Перекликаясь, они играли, и разность языков не только не мешала игре, но особенно оживляла ее. На стеклянной, примыкающей к дому галерее звенела посуда.
Батырбек наконец сказал.
— Пойду узнаю, что за гости такие прибыли к нам.
Джафар остался один. Лежа на спине, он смотрел сквозь недвижные, тяжело нависшие над землей ветви деревьев в бесконечно высокую небесную синь. Грудь дышала привольно, глаз радовался, но голова была занята другим. Он перебирал денежные цифры и подсчитывал то, что должно было ему остаться. Он прекрасно знал, что Акимов, Швестров и многие другие служащие Кооперативного банка и Земсоюза наживаются на поставках для армии, не говоря уже о Гинцбурге, для которого нажива была постоянным и единственным занятием. Но Джафар до настоящего момента в подобного рода сделках не участвовал: не представлялось случая, да он и сам, не будучи стяжателем по натуре, не искал его. А сейчас этот случай подвернулся, и то, что Джафар воспользовался им, принесло неожиданное и очень приятное чувство удовлетворения, новый источник самодовольства. Оказывается, самая погоня за наживой, кроме перспективы приобретения материальных благ, имеет свой азарт. Ловкий ум Джафара уже подыскивал подходящее обоснование этим новым поступкам и чувствам, столь, казалось бы, противоречащим его политическим взглядам. «Что ж, — говорил себе Джафар, — мы живем в капиталистическом обществе, в котором людьми правит стимул обогащения. Обогащаясь, я становлюсь сильнее, крепче и, таким образом, борьбе за социализм смогу отдавать большие, чем раньше, силы…»
Оживленный, громкий голос Батырбека, назвавший его имя, нарушил плавно-приятный ход этих мыслей. Джафар поднял голову.
— Джафар, гляди, какой гость! — воскликнул Батырбек, — обняв за плечи, он вел к Джафару Науруза.
«Неужто это опять Науруз? — удивленно подумал Джафар. — В русской одежде, обросший черной бородкой, — но это, конечно, Науруз».
Досаду, робость и смущение ощутил Джафар. Однако он быстро встал, изобразив на лице улыбку.
«Но ведь во двор Науруз не входил, на повозке его не было», — недоумевал Джафар, пожимая обеими руками горячую руку Науруза, который смотрел на него открыто и ласково. «Ну конечно, — приободрившись, подумал Джафар, — он же знает, что я был арестован… А сватовство к Нафисат? Ну что ж, он победитель, он может быть великодушен ко мне».
— Рад видеть тебя, дорогой Науруз, — сказал Джафар. — Я среди наших людей не являюсь отщепенцем и, как все, твоим честным, на всю округу известным именем скрепляю клятвы.
— Я тоже рад видеть тебя, знаю, что ты пострадал за наше общее дело.
Батырбек обнял их обоих и повел к столу, где уже рассаживались гости.
Общий семейный стол был не в обычае веселореченцев. Но Талиб давно уже настоял на том, чтобы вся семья каждый день по русскому обычаю садилась за стол. Этот порядок вошел в жизнь и очень сейчас пригодился при приеме русских гостей, которые свободно, каждый рядом со своей женой, разместились за длинным столом на галерее. Дети сели возле матерей, каждая стала кормить своего. За долгий путь дети проголодались, да и взрослых особенно потчевать не приходилось, не то что чинных и в еде медлительных и церемонных горских гостей! На стол было поставлено домашнее пенное пиво, холодное, хлебное и хмельное. Гости пили и похваливали: «Ах, какое пиво!» Тамаду не выбирали, сам Шехим сидел во главе стола и поднял первый тост — не за Науруза, как все ожидали, а «за добрых людей, за славных дорогих гостей, за тех, кто спас нам нашего славного джигита».
Все дружно и от души выпили за здоровье гостей, а Науруз, сидевший рядом со стариком по правую руку, вдруг поднялся и сказал:
— Филипп — мой кунак, а Родион — его брат. За жизнь мою, знаю, они бы кровь врагов моих пролили и жизнь свою отдали. Это верно, по не стыжусь я сказать, что спасла меня сегодня женщина, и должен я, как ею спасенный, все равно что снова рожденный, выпить раньше всего за здоровье ее.
И хотя Христя вспыхнула вся так, что даже ее открытая шея покраснела, и стала отмахиваться от Науруза обеими руками, он рассказал, что именно она придумала завернуть его в войлок, положить в повозку, сесть, нарядно одевшись, в эту же повозку всей семьей и вывезти Науруза в Верхний аул, к Керкетовым. Шехим встал, низко поклонился Христине и велел старшему внуку своему, шестнадцатилетнему Тазрету, прислуживающему за столом, поднести Христине большой рог с пивом. Христина не то хотела возразить, не то что-то объяснить, но вдруг свела свои темные брови, взглянула в лицо Наурузу, сказала ему:
— Будь здоров, сынок! — и, приложив рог к губам, пила, пила, пила, и рог уже запрокидывался.
Женщины, глядя на нее, уже стали ахать. Родион несколько раз просил ее передать ему рог, но она показывала рукой, что все допьет до дна. Белая сильная шея напрягалась, и видно стало, как содрогается горло, когда она глотает. Она допила и вытерла платочком румяный рот, а затем и ясный, покрывшийся мелким потом лоб. Глаза ее сверкали озорством и весельем. Опрокинув рог, с низким поклоном она наконец вернула его хозяину.
— Ай, Шатанэй! — сказал старик, назвав ее именем нартской хозяйки, чтимой всеми горскими народами, богатырши, красавицы и советчицы мужа, иногда превосходившей его умом и силой.
Совсем весело стало за столом, много было съедено и выпито. Но Филипп среди общего веселья был тих и точно озабочен. Улучив момент, когда Родион вышел из-за стола и, низко кланяясь зардевшейся снохе Шехима, стал быстро и дробно отплясывать приглашение к танцу, Филипп осторожно дернул за рукав Науруза.
— Скажи, кто будет этот человек? — тихо спросил он, кивком показывая на Джафара, который стоял спиной к ним и вместе со всеми хлопал в ладоши.
— Наш один человек, свой человек, — ответил Науруз. — А что?
Филипп промолчал.
— Когда тебя в лесу ловили, помнишь?
— Как забыть! — живо ответил Науруз.
— Он тебя тоже ловил. Он был вместе с Темирканом и приставом. И твою когда поймали, он тоже не по добру с ней говорил. Или она тебе не сказала?
— Сказала, он сватался к ней.
— Разве это сватовство? — Филипп махнул рукой. — Подлый это человек, он и с вами и с князьями, скользкий гад! Уходи отсюда, самое время, солнышко село.
Солнце, правда, уже село, но этого никто не замечал, на небе вдруг обозначилась луна, и ее тихий свет смешался со спелыми красками заката, только цветы стали казаться белее… Да, было самое время уйти.
— Прощай, кунак, спасибо тебе и всем вашим.
— Если что — всегда поможем…
— Делом отблагодарю тебя. Прощай.
Сошлись крепко руки, встретились глаза — на дружбу, на верность.
— Позови Батырбека, — попросил Науруз.
Батырбек вышел. Науруз его ждал за деревьями.
— Я по тому берегу пойду, — сказал Науруз. — Проводи до брода.
— Ты уходишь уже? Э-э-э, какой!
От Батырбека исходило хмельное веселье, возбуждение.
— Ну и жены у русских, а?
— Вроде твоей Балажан, — ответил Науруз.
Они шли к реке.
— Ну, моя Балажан не такая, — понизив голос, сказал Батырбек. — Она и в девушках была — никогда не плясала. А сейчас, как в город переехала, она у нас в доме русский порядок завела. Да и что говорить, русской грамоте выучилась.
Они шли некоторое время молча.
— Умная, — сказал Науруз.
— Да, умна, — как-то неохотно согласился Батырбек. — Шаг у нее крепкий, мужской и повадка вся такая. Ехали мы с ней раз в Арабынь, напали на нас человек пять. У меня кинжал был, я первого сразу срезал, а она другого кулаком по голове ударила, и он сразу под колеса… третьего убили. Если бы я один был, что и говорить, не отбился бы.
Они подошли к реке, играющей при лунном свете.
— Вот здесь, под водой, идет твердая галька почти что до того берега. Там самая сила течения. Но поперек упало дерево, ты по нему перейдешь.
— Ну, прощай, Батырбек, спасибо.
— Обожди! Уходишь, значит? Все по этим не своим делам ходишь?
— Почему же не своим?
— Э-э-э, разве это свои? Свои — когда барыш получаешь. Понимаешь ты слово «барыш»?
— Мне это слово ни к чему.
— А может, пойдешь ко мне в пай, лошадей воровать?
— Ты меня на этом же месте звал на это дело. Или не помнишь?
— Ну, иди, иди… А в случае чего помни: мы тебя выручим.
— Спасибо.
Науруз ступил в воду. Она была ему чуть выше щиколотки и струилась с той стремительной быстротой, какой обладают только ящерицы, — похоже было, что тысячи этих скользких и холодных тварей бегут по его ногам. Он шел, ощупывая ногою дно, шел, глядя на темный, кажущийся, далеким, лесистый, крутой берег и старался не смотреть себе под ноги, чтобы не закружилась голова.
* * *
Снова Науруз на родных пастбищах. Быстро спускался он на одну из огромных ступеней этой мягкой и зеленой лестницы, как бы поднимающейся из долины к белым снеговикам, к ледникам, в это время года грязновато-синим. Вот обмазанный глиной кош Верхних Баташевых, кое-где глина отстала, и из-под нее видны крепкие и искусно сплетенные стены. Обильные ручьи звенят вокруг так же, как звенели в детстве, и девочка в красном платке снова стоит у входа в кош.
Но нет белого барашка на ее руках, черноглазая и носатая; с большим лбом, не похожа она на нежную Нафисат. Почему так жалостно и со страхом, чуть приоткрыв свой большой румяный рот, смотрит она на него?
Это Саньят, племянница Нафисат. Видимо признав Науруза, она кинулась ему навстречу, только ноги, худые, голые, сверкают.
Науруз остановился и быстро отошел за кустарник.
— Не ходи к нам, у нас стражники тебя ждут! — сказала Саньят, задыхаясь.
— А где Нафисат?
— Увели!
— Увели?!
Темная тень накрыла пастбища, синева неба замутилась, сникла трава, и смолкли ручьи. Со страхом и сочувствием смотрит в лицо его девочка — совсем не схожая с Нафисат и все же, кажется ему, чем-то похожая на нее.
— Ты ведь тоже из Баташевых? — спросил Науруз.
Девочка кивнула головой.
— Я дочка Али, — ответила она гордо.
— Постой… Касбот — твой брат? Найди мне его.
Девочка закрыла лицо загорелой рукой.
— Он в солдаты ушел.
Потом опустила руку и уставилась на Науруза своими блестящими, словно свежепромытыми глазами.
— Он сказал мне, где спрятано то, что ему Нафисат для тебя оставила. Идем.
Знакомые тропинки, знакомые кустарники. Овцы по-обычному блеют, и поют пастушеские дудочки. Но неведомо куда, в далекую Сибирь, угнали деда Магмота, и неведомо где сейчас Нафисат… Нет, Науруз найдет к ней дорогу, хотя бы ее похитил семиглавый змей, не только что арабынский, похожий на красную жабу, пристав.
— Зарублю, выпущу его гнилую, вонючую кровь! — бормочет Науруз и с привычной ловкостью следует за красным платком по отвесной тропинке, спускающейся в сырую пропасть.
Девочка порой оглядывается на него ободряющим взглядом, — нос большой, и брови шире, и рот больше, а все-таки похожа, ведь Нафисат ей теткой приходится. Вот они уже возле бурной воды, в полутьме и сырости текущего ручья. Саньят нагнулась, неожиданно сдвинула большой камень, покрытый зеленоватым мхом, запустила под камень свою тоненькую ручку и достала сверток в тряпице, вышитой красной нитью. Взволнованный, он с горем и нежностью развязывал узел, завязанный рукой Нафисат.
Здесь лежали связки денег — три… нет, четыре… Каждая пачка перехвачена тесемкой. Здесь есть и желтая, и синяя, и красная, и зеленая тесьма. По цвету тесьмы Науруз узнавал: от Селима, от Идриса, от Тембота, от Хусейна — надежные люди. По самым глухим аулам, по самым высоким пастбищам собирали эти деньги в помощь бастующим бакинским братьям. Но торопился Науруз в Баку, не успели они в прошлый раз принести эти деньги, и Нафисат сберегла их до возвращения Науруза. Пусть забастовка кончилась, а деньги бакинским товарищам пригодятся: борьба продолжается. А это что? Белая чистая бумажка, на ней — только две арабские буквы и поставлено три креста. Три креста — это значит: доставь скорее, два «б» означает «Баку». Это письмо из Владикавказа, принес его рыжий осетин, Дмитрий Джикаев, такой же посыльный партии, как Науруз.
Владикавказ — это Сергей Киров. Ни разу не приходилось Наурузу видеть Кирова, но знает он, что Киров там, на северных склонах Кавказа, ведет за собой всех большевиков Северного Кавказа. «Бб», три креста — это значит: Науруз, скорее торопись в Баку, перейди снега, переплыви реки, змеей проползи, где можно ползти, волком пробейся, где нельзя ползти, но доставь в Баку эту белую бумажку, там знают, что с ней делать. Может быть, неровные края ее приставят к другому так же неровно оборванному обрывку бумаги, срастутся они воедино. А может быть, в Баку смажут чистую немую бумажку животворящей водой или подержат ее на огне — проступят на ней письмена, и заговорит бумага.
А как Нафисат? Так, значит, и останется она в холодных лапах кровавой жабы?
Да, останется до грозного дня, который близок!
* * *
Шел Науруз по заветной тропе, по которой его и Константина впервые провел Жамбот…, Расставила кровавая жаба тенета внизу, в солнечной Арабыни, и бьется в этих тенетах и жалобно стонет белая лань Нафисат.
Нет, кровавая жаба, пусть сердце Науруза пополам разорвется — не пойдет он в тенета. Через горы, по пышно-зеленой Грузии, по знойно-песчаному Азербайджану лежит путь Науруза, туда, где у синего Каспия завязан узел ветров, где неустанно бьет из земли черная нефть, мятежная кровь земли.
Глава вторая
1
Вася Загоскин вплоть до войны помогал матери, он часто приезжал в Арабынь и приободрял ее. От отца приходили письма: срок его ссылки подходил к концу. И снова возникли мечты о возвращении в Петербург, Но когда в четырнадцатом году Васю взяли в солдаты, Надежда Петровна поняла, что в Арабыни она застряла надолго. Потом пришло короткое и страшное письмо от товарищей из ссылки о том, что Роман Антипович на рыбной ловле поскользнулся у проруби и упал под лед. Муж утонул, от сына с фронта перестали приходить письма. Тут она почувствовала, что значит горе. Двое было мужчин в семье, и оба исчезли почти одновременно. Совсем не стало слышно смеха за столом у Загоскиных. Шли дни войны, и каждый день казался длиннее и томительнее предыдущего. И вот нежданно-негаданно сын вернулся. Хотел что-то сказать, закашлялся, кровью захаркал чистые половички на лестнице и, придя в себя, прохрипел, что приехал умирать, его освободили «вчистую», а это бывает только с живыми покойниками. Он, видно, долго думал, как объяснить свое возвращение, и решил сказать правду коротко, резко и сразу. Но эти жестокие слова не коснулись сердца матери. Ни на секунду не поверила она, что сын умрет, и, как ни страшны были его зеленовато-желтое лицо и окрашенные кровью губы, она, увидев его, обрадовалась. Он жив, он у нее в руках, здесь, в Арабыни. А раз здесь исцелилась дочь, поправится и сын. Любимым местом семьи была маленькая веранда, сбоку пристроенная к дому. Здесь лежала Наташа, когда приехала из Питера, здесь лег Вася — и должен был выздороветь, как выздоровела Наташа.
Он приехал в то переменчивое время года, которое на Северном Кавказе начинается с января — февраля и может затянуться до июня. Солнечная погода за один день несколько раз сменяется туманом и промозглой сыростью, на белый и розовый цвет яблонь, вишен, абрикосов, груш и слив может выпасть снег и тут же растаять. Надежда Петровна очень боялась этого времени, но все же, по опыту лечения Наташи, правильно рассудила, что лучшего лекарства, чем воздух, сыну и не нужно. Веранду очистили, разбитые стекла или склеили, или заменили промасленной бумагой и дверь теперь при ненастье стали наглухо закрывать. В темном же углу, куда выходил бок печки, где воздух был сухой и теплый, поставили кровать. Масло, сметану, яйца, мед на арабынском рынке еще можно было доставать, и все это доставлялось Василию. Надежда Петровна и ее две дочери перешли на лук и квас. Так Надежда Петровна начала выхаживать сына.
Весна, к счастью, наступила рано и выдалась на редкость кроткая, ласковая. Едва всходило солнце, дверь веранды открывали, и сразу же опахивало теплым, благоухающим воздухом, проникнутым запахом горного снега. Когда Надежда Петровна приходила утром с завтраком, сын уже лежал с открытыми глазами и встречал ее бодрым, приветливым взглядом. Постель, над которой возвышалась его голова, казалась плоской: он так исхудал, что тело его не обозначалось под одеялом, оно терялось в мягком тюфяке. Мать глядела только на его узенькое лицо с молодыми, отросшими усами и бачками и с радостью думала о том, какой у нее уже взрослый сын.
Бывали, конечно, и плохие дни. Васю лихорадило, он замолкал, губы чернели и складывались строго, нос вдруг точно вырастал и казался твердым, неживым. Тогда Надежда Петровна бежала к молодому военному врачу, который лечил, отказываясь от денег, — зато Надежда Петровна безвозмездно обшивала его семью.
Через три месяца Василий встал с постели. Сначала он бродил около дома, то и дело присаживаясь на лавочку, а потом, опираясь на трость, стал ходить уже и по городу. Тут впервые он написал о своем состоянии открыточку в Краснорецк, на квартиру господина Шехтера с просьбой «передать Броне». Прошло несколько дней, и Броня приехала. Это был долгий, счастливый день. О чем только не переговорили они за время медленных прогулок по пустым арабынским улицам! А вечером Василий проводил Броню к краснорецкому поезду.
К этому поезду спустя несколько недель проводил он и мать: Надежда Петровна нашила носовых платков, вышила несколько полотенец и поехала продавать их в Краснорецк, на базаре, чтобы купить сахару. В Краснорецке она заодно повидалась и с Броней. Тогда-то Василий, решив сделать матери приятное, и пришел на вокзал, чтобы встретить ее у поезда. Тут он и увидел, к своей радости, Асада.
С первой же встречи Надежда Петровна заметила, что этот подслеповатый юноша с двойными очками на носу, несколько мешковатый и застенчивый, чем-то под стать ее сыну. И теперь в дни, когда валил мокрый снег и город окутывался холодным туманом, она, чуть Васю начинало лихорадить, бежала не к врачу, а к Дудовым, так как видела, что Асад действует на Васю лучше любого лекарства.
Василий щадил мать и не рассказывал ей о том, что было пережито им на фронте. А как хотелось поговорить об этом! Траншейные сидения по пояс в воде по месяцу, по два и по три, размалывающая душу пытка многодневного артиллерийского обстрела и кровавое безумие рукопашного боя, во время которого Василий получил ранение в грудь тем плоским ножом мясника, что заменяет немцам штык, а затем, по возвращении в строй, отравление газами — словом, все то, о чем Асад слышал в вагоне от Комлева, Василий пережил за время войны. Тысячи людей, мужественных, здоровых, красивых, прошли перед его глазами. Умные, смелые, дерзкие, отчаянные речи погибших до сих пор точно носились в воздухе, и теперь не только Василий их помнил, но и Асаду они навсегда запали в сердце. Где же те, кто их произносил? Они сгнили в безвестных могилах, навеки покалеченные вернулись догнивать по домам. Были среди них и такие, что сошли с ума, и такие, что кинулись в грязный разврат, — водка и сифилис догладывали их. «За что? Во имя чего?» — так спрашивали миллионы людей, спрашивали с каждым часом войны все громче и громче.
Василию было легче, чем другим, потому что он знал, кому нужна война, кто извлекает из нее прибыли, каковы законы, вызвавшие войну. Василий знал этих преступников, и хотя слаб был голос его, но где бы он ни был — в окопах, или на госпитальной койке, или вот здесь теперь, у себя дома, — везде он говорил правду об этой страшной войне. Но порою, в ненастные дни, в дни телесных страданий, отвратительные воспоминания окутывали его душу. И как хорошо, что в такие минуты около него Асад, с которым можно, не сдерживаясь, не боясь, делить свой гнев, свою ненависть.
Василию еще продолжала угрожать чахотка. Асад только выкарабкался из темной ямы, куда его погрузила слепота. Но, найдя друг друга и взявшись за руки, они почувствовали себя сильнее не вдвое, а в десять, в двадцать раз. Нет молодости без дружбы! Признание за другом того, чего нет у тебя, готовность с ним поделиться тем, чего нет у него, не стыдясь принять помощь и с полуслова понять и кинуться на помощь — как это прекрасно! И, так же как цветы подсолнуха повернуты к солнцу, души согласно поворачиваются к одному великому и светлому. Глубоко в их души вошли понятия самой возвышенной дружбы, непобедимой дружбы единомышленников, крепче которой ничего нет на свете.
2
Снова перед Джафаром Касиевым тот самый дудовский тенистый садик, откуда его в теплый вечер мая тринадцатого года увел пристав и под арестом препроводил в краснорецкую тюрьму.
Всего лишь два года минуло с тех пор, а кажется, что прошла вечность, столько пережито за это время. А садик такой же, как был. И калитка по-прежнему болтается на одной верхней петле. Вечер знойный, и под раскидистой сиренью, под старой грушей стоит все тот же столик с самоваром и старый чудак Хусейн Дудов водит носом по газете. Но кто этот сутуловатый юноша со смуглым лицом, слегка опушенным темным пухом? Да ведь это же Асад! Как он вырос, повзрослел! И читать стал так же, как отец, склоняясь над самой книгой.
С удовольствием угадывая наперед все, что произойдет, Джафар, не стараясь быть осторожным, распахнул калитку. Как он и ожидал, она отчаянно заскрежетала, и все обернулись к нему.
— Что вам угодно? — учтиво спросил старик, поднимаясь со своего стула.
«Почему он так холоден со мной? — с тревогой подумал Джафар. — Или обо мне говорили что-либо предосудительное?»
Вся семья Дудовых — и сын, и отец, и мать смотрят на него вопросительно, как на чужого. «Да они же не признали меня! Разве могли они ожидать, что я приду в военном офицерском костюме? Ведь последний раз на их глазах меня здесь арестовали».
— Что значит быть долго в отлучке! — посмеиваясь, сказал Джафар. — Самые дорогие друзья не хотят сказать страннику слово привета.
— Джафар! О Джафар! — воскликнул старик и, опрокинув стул, кинулся к нему. — Мы же считали, что ты где-нибудь в Сибири, в снегах. А ты что? Этот белый узкий погончик? Ты не рядовой, во всяком случае? У тебя просвет и звездочка.
— Я служащий Земсоюза, — значительно сказал Джафар. — Или вы не знаете, что царская бюрократия, окончательно обанкротившись, постепенно передает нам все снабжение армии — от портянок до снарядов.
Он поздоровался со всеми и присел к столу.
— Отгадайте, что привело меня на родину? Может, вы думаете, я приехал поцеловать родные камни? Нет, я закупаю здесь коней для военного ведомства. Батырбек Керкетов предлагает мне сколько я захочу лошадей, все равно как если бы это были яблоки или картофель.
— Лошадь не яблоко и не картошка, — ответил старик. — В табуне каждый конь на счету и свою примету имеет. Думаю я, что удалой Батырбек торгует крадеными конями.
— Какое мне дело, откуда он достает коней для армии, — сказал Джафар.
Участливо покачивая головой, слушал он рассказы госпожи Дудовой о дороговизне, о том, что старому Хусейну приходится давать уроки, что у Асада были некоторое время поражены глаза…
— Да, вырос наш Асад, — сказал, вздыхая, Джафар.
Отец Джафара, почтенный Бекмурза, с торжеством сообщил ему, что аллах продолжает карать отступника Хусейна. Вот и Асад — четвертое поколение Дудовых — два года бродил почти что слепой.
Асаду же разговор о его здоровье, видимо, был неприятен. Он молчал, опустив глаза. Смуглое, бледное лицо его все определеннее выражало угрюмость, и, выбрав удобный момент, он спросил, обращаясь к Джафару:
— Рассказали бы вы лучше, Джафар, что на фронте слышно?
— Ничем порадовать не могу, — ответил Джафар. — Немцы оказались сильнее, чем могли предполагать в начале войны наши генералы.
Сохраняя тон объективности, Джафар рассказал о том, как русская армия, уже перейдя Карпаты, вынуждена была отступить: не хватало винтовок, снарядов. Все, что завоевано в первом полугодии войны, сейчас отдается обратно.
Джафар тут же с удовольствием занялся пересказом дипломатических и придворных интриг. Мелькали имена великих князей, думских деятелей. Понижая голос, он то и дело поминал тобольского мужика Распутина. Дудова ахала и всплескивала руками.
— Страна катится к пропасти, — внушительно подытожил Джафар. — Один мой приятель и до некоторой степени единомышленник утверждает, что война Россией уже проиграна. В результате этой войны державы более сильные разделят нашу страну.
— То есть как это разделят? — спросил Дудов.
— Как хищники. Раздерут в разные стороны: англичане возьмут Кавказ, французы — Новороссию, американцы…
— Да как ты смеешь?! — вдруг крикнул старик Дудов, стукнув маленьким кулачком по столу.
— Почтенный Хусейн, — с достоинством сказал Джафар, — вы можете со мной не соглашаться, но не будем привносить горячность в предмет спора, Да и что нам, пасынкам России, до ее судьбы?
— Ах, тебе даже нет дела до судьбы России? — с негодованием спросил старик Дудов. — Да разве все, что ты имеешь, все знания, все воззрения, разве все это не получил ты от русского народа?
— Ваши чувства можно разделять или не разделять, — ответил Джафар, — но я отношусь к ним с уважением. Однако я протестую против того, чтобы вносить субъективный момент при решении вопроса, который обусловлен ходом исторических процессов. Представьте себе, почтенный Хусейн, что мы встретились у постели тяжелобольного. Вопрос стоит о том, будет он жить или не будет…
— Будет, будет, будет! — резко прокричал Хусейн. — Для меня даже вопроса такого быть не может. И все то, что ты здесь рассказывал о придворных кругах, эту гниль и заразу Россия осилит!
В странном смятении слушал Асад этот спор. Казалось, ему следовало бы сочувствовать Джафару, аргументировавшему экономическим положением страны. Даже терминология у Джафара марксистская. В позиции отца Асад ничего нового не видел. Это был тот наивный и чистосердечный русский патриотизм, то чувство глубокой благодарности к России, которое было свойственно старику всю жизнь. При этом любовь к России у него сливалась с чувством преданности правящей династии. Правда, последнее время старик все чаще стал порицать царя.
Но, странное дело, Асад сочувствовал отцу. Джафар же, со своей холодно-иронической усмешкой и продолговатым лицом, чисто выбритый, как бы лоснящийся, с выражением превосходства в каждой черте лица, был даже антипатичен Асаду. Ему вдруг вспомнилась недавняя поездка из Краснорецка в Арабынь, ожили вагонные разговоры, полные серьезности, горя и заботы, — разговоры русских людей, ясно видевших, насколько опасно и трудно положение страны. Да, об этих-то людях и шел сейчас спор. Их тысячи, миллионы, они-то и есть Россия. Отец этих людей все-таки видит, хотя и не понимает. Но как же Джафар их не видит? Да нет, и он их, конечно, видит, не может не видеть. Только он сбрасывает этих русских людей со счета, как будто и без них можно решать этот вопрос. А они как раз и есть то, что придает весомость самому слову «Россия».
Так думал Асад, слушая Джафара, который внушительно продолжал:
— Я склонен думать, что чем скорее разгромят Россию, тем лучше это будет для дела прогресса и демократии. Так по крайней мере должны думать и социалисты всех стран, оставшиеся верными пролетарскому интернационализму.
— Вы не так излагаете позицию интернационалистов, — сказал вдруг Асад. — Ленин говорит о превращении войны империалистической в войну гражданскую, то есть — в революцию.
— Да ты что, Асад! — возмутился старый князь. — Откуда ты набрался? И ведь мы в саду! Здесь все слышно!
— Хочу революции, мечтаю о ней, — сказал Джафар. — Но предвижу не революцию, а военный распад, поражение… И кому, как не мне, имеющему все время дело с инстанциями, снабжающими армию оружием, не видеть всего этого распада, гниения, разложения. Количество вооружения, которое поставляют наши союзники, все повышается, роль союзников в России все растет, экономически они уже обеими ногами вступили на почву России. Войну мы уже проиграли.
Асад промолчал. Он вдруг понял точку зрения Джафара. От Василия Загоскина Асад знал как о позиции Ленина и большевиков, так и о позиции меньшевиков-оборонцев. Позиция же Джафара была для него нова. Она была неправильна и совсем не совпадала с ленинской позицией, несмотря на то, что Джафар старался изобразить себя сторонником пролетарского интернационализма…
3
Входя в калитку дудовского садика, Джафар был спокоен и уверен в себе. А теперь, уходя, он испытывал раздражение и какое-то беспокойство. В споре со стариком Дудовым он остался как будто победителем. На его стороне была серьезная, подкрепленная фактами и цифрами аргументация, старик в ответ на нее мог только восклицать и декламировать. К тому же Джафар давно считал своего старого учителя человеком хотя и благородных, но устаревших воззрений. А что такое Асад? Мальчишка, нахватавшийся где-то большевистских идей.
Вдруг тревожные и странные звуки нарушили ночную тишину, и Джафар очнулся. Сначала ему показалось, что это жалобно, по-ночному кричит какая-то птица. Но потом он разобрал отдельные слова. Два высоких голоса жалобно перекликались по-веселореченски: «Что еще нужно тебе, Нафисат, няня моя?» И откуда-то глухо, словно из-под земли, прозвучал ответ: «Ничего мне не нужно, братец мой… Наших всех обними, мать пожалей».
Джафар застыл на месте, имя Нафисат поразило его. Он оглянулся и узнал приземистые здания Новой крепости — так, в отличие от развалин древних стен Арабыни, назывались построенные во время кавказских войн укрепления. Теперь здесь помещалась тюрьма. Смутно белели в темноте ее низкие стены, и из-под них, откуда-то снизу, доносился глухой голос Нафисат. Жадно прислушиваясь к этой перекличке, Джафар забыл обо всем — о Москве, о фронте, войне. Все исчезло, будто вчера только была та памятная ночь облавы, там, в лесу, где он при свете луны вглядывался в румяное, смуглое лицо девушки, держа в руках ее горячую, вырывающуюся руку. Так бы держал, не отпуская, и все бы слушал этот глухой, откуда-то снизу идущий голос. Вдруг Джафар вздрогнул: Нафисат назвала имя Науруза. И в это мгновение Джафара схватили сразу за оба локтя и чья-то грубая рука зажала ему рот.
Он замычал и стал вырываться. Наган показался перед самыми его глазами, и, ослабив мышцы, он покорно пошел туда, куда его повели. Что ж, так, видимо, и должно было быть. Раз возник голос этой девушки, значит все пойдет неблагополучно, не так, как нужно, и ввергнет его в какие-нибудь несчастья. Ветви деревьев хлестали Джафара по лицу, но он даже не наклонял головы, шел, словно загипнотизированный. Перед ним открыли дверь. Его втолкнули в какое-то освещенное яркой керосиновой лампой помещение. По толщине стен и маленькому окошку он понял, что находится внутри крепости. Осип Иванович Пятницкий, которого он тоже не видал ровно два года, такой же краснолицый и злобный, покуривая папиросу, взглянул на него из-за письменного стола и пренебрежительно взмахнул рукой.
— Ну, не идиоты ли? — сказал он. — Кого вы привели?
— Как было приказано, — ответил плечистый усатый казак, приложив руку к козырьку и соответственно выкатив глаза на начальство.
— Ну и дурак, — сказал Осип Иванович, — опусти руку. А приметы тебе, дураку, сказаны были?
— Да личность-то получается одна. Черная бровь…
— Ну, и нос, и рот, и глаза — это все есть, да? Да ты хоть когда-либо видел абрека-то настоящего? Ну, погляди на него, — говорил Осип Иванович, бесцеремонно тыча пальцем в Джафара.
Джафар, поняв, что произошло недоразумение, откашлялся и сказал:
— Я не понимаю…
— Э, батенька, чего там понимать! — досадливо морщась, сказал Осип Иванович. — Ловили козла, поймали кобла… И чего это вы шатаетесь там, где вас не просят?
— Я просил бы вас выбирать выражения, — приободрившись, начал Джафар, — на мне погоны…
— Да ладно, чего уж там толковать, — пробурчал Осип Иванович, — можете идти. Я к вам ничего не имею. А что они идиоты, так я от этого радоваться не могу.
— Я попросил бы…
— Вы бы лучше ушли, пока дверь открыта, — сказал Осип Иванович, подняв на него свои злые белесые глаза, и Джафар прочел в них нечто такое, что заставило его мгновенно, точно кто дернул сзади, очутиться за дверями.
— Я буду жаловаться! — крикнул он из-за дверей, тут же захлопнувшихся.
«Скорее нужно уезжать из этой дыры, — с озлоблением подумал Джафар. — Обеспечить отправку лошадей, кончить все дела, — и вон отсюда».
Пройдя шагов пятьдесят по густому саду, окружавшему крепость, он невольно остановился и прислушался. Все было тихо, только река, как всегда особенно слышная в ночной тишине, перебирала камешки и шумела. Ветви деревьев, как бы ожидая чего-то, не шевелились в теплом воздухе. Всего несколько дней назад Науруз так приветливо говорил с ним на дворе у Керкетовых. «Неужели он знал уже об участи Нафисат?» Джафар тряхнул головой, прогоняя все это ему ненужное, и ускорил шаг.
«Еще хорошо кончилось, — думал он, вздыхая полной грудью, выходя на пустынную дорогу и направляясь в сторону тусклых огней Арабыни. — Да, все это какой-то бред, и какое мне дело до этой Нафисат, и до ее Науруза, и до всех этих живущих в горах непонятных мне людей! Я приехал сюда по делу, закупил лошадей, получу благодарность от начальства, да и малую толику себе положу в карман», — так подбодрял он себя.
Но зыбким, смутным сном все же казались ему его дела и намерения, и все вспоминалась ночная перекличка голосов — настоящая жизнь с ее страданиями и муками, с радостями и надеждами.
4
На следующий день после встречи с Джафаром Асад пошел к Василию и рассказал ему о споре, возникшем за домашним столом у Дудовых. Василий с интересом слушал его и хотя и не показывал виду, но был очень доволен. То, что, споря с Джафаром, Асад выказал некоторую самостоятельность и, как мог, выразил партийную точку зрения, которую ему все старался привить Василий, обрадовало его. Но для Асада Джафар был все же явлением новым. До этого он знал, что существуют большевики, которые борются за революционный выход из империалистической войны, и меньшевики-оборонцы, с начала войны перешедшие на сторону буржуазии, толкающие пролетариев на братоубийственную бойню, «социал-шовинисты» — называл их Василий. В Джафаре ни шовинизма, ни даже обыкновенного, присущего человеку патриотизма не было. Он говорил о том, что России суждено погибнуть в этой войне, совершенно спокойно, даже не без удовлетворения. Выслушав Асада, Василий усмехнулся и сказал:
— А мы сейчас разберемся. Ленин прямо говорит о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Нельзя позволить, чтобы буржуазия безнаказанно прекратила войну, чтобы, пролив потоки крови из-за своих корыстных интересов, грабители переделили рынки впредь до новой войны. Поражение царского правительства — самое выгодное условие для свержения его, для установления революционных порядков. Так мыслит Ленин, великий революционер. Ну, а твой Джафар с покорной подлостью склонил голову перед хищническим переделом мира в результате войны. Выходит, что Россия для него — объект дележа. А прикрыта эта подлость левыми фразами. Что сказать о подобных Джафару хитрецах? Они хотят в рабочем движении играть роль центра, упрекают меньшевиков за соглашательство, порицают Ленина за резкость и, изображая из себя среднюю позицию, важно усаживаются между двумя стульями. Но так как большевики этой позиции не терпят и даже части своего стула им не предоставляют, эти типы шлепаются об пол. В них просыпается меньшевизм, они накидываются на большевиков, называют их раскольниками и поносят, как могут. В их брани всегда ненависть и страшная зависть. Ленин все силы своей великой души отдал делу революции, а им хочется, чтобы их почитали, как Ленина, но душонки у них мелкие и мысли трусливые.
Василий говорил, высоко лежа на подушках и подложив под голову свои исхудалые руки, а Асад сидел у него в ногах на табурете и порою поправлял очки, чтобы лучше видеть лицо друга. Он впитывал в себя каждое слово Загоскина…
Однажды летом Надежда Петровна вернулась с базара в сопровождении того солдата, Сергея Комлева, с которым она познакомилась в вагоне. Комлев помог ей донести корзину с продуктами до дому и принял приглашение отобедать. С тех пор он зачастил к Загоскиным. Асад часто присутствовал при его разговорах с Василием. Речь шла все о том же: о войне и как покончить с ней. Комлев говорил, что «каждому, кому дорога жизнь, нужно с фронта бежать», а Василий отвечал:
— Чем же ты тогда отличаешься от купеческих сынков, которые за взятки устраиваются в тылу? — и опять настойчиво развивал знакомые Асаду мысли о революционном выходе из войны, о превращении ее в войну гражданскую.
Комлев выслушивал его внимательно, но нельзя было понять, соглашался он или нет. К Василию относился он с уважением и называл его — Василий Романович, хотя был значительно старше Василия.
Однажды Асад слышал, как Сергей Комлев говорил Надежде Петровне:
— Я на войне со студентами разговаривал. Да и офицеры наши, артиллеристы, — ничего не скажешь, народ ученый. Но против вашего сына все они — что кутята слепые. И не в том, оказывается, сила, что учен, а в том, что умен. То-то вы тогда, в поезде, о людях таких сказали, что вы их знаете! Как же не знаете: у вас и муж и сын из таких людей, — грустно говорил Комлев.
— Эта дорога перед всеми открыта, — ласково ответила Надежда Петровна.
— Не скажите, тут дело все же в уме. Ваш сын всю Россию, весь земной шар умом своим охватывает, а мне бы слабые свои делишки охватить — и то ладно.
Асад гордился своим другом и вполне соглашался с Комлевым. С первого дня знакомства признал он превосходство Василия Загоскина над собой. Но раньше он все же считал его таким же мальчиком, каким сам был, только постарше. После возвращения с войны Вася предстал перед ним уже взрослым человеком, совсем взрослым. По отношениям Васи с Броней Асад понял, что они поженились. И оттого, что они не венчались в церкви, их брак казался Асаду особенно возвышенным, свободным, чистым и достойным всяческого подражания, хотя сам Асад пока еще никого не мог поставить рядом с собой на то место, которое в жизни Насилия занимала Броня.
Асаду хотелось действовать. Глуха была Арабынь, но тот свет, который Асад чувствовал в душе, по самой своей природе требовал, чтобы его направляли против тьмы. Ему хотелось проповедовать, учить. Он чуть ли не наизусть знал «Коммунистический Манифест». И мысль Асада, направленная Василием, обратилась в сторону единоплеменников — веселореченцев. Река Веселая крутила в Арабыни колеса нескольких мастерских и маленьких фабрик. Ни на одной из них не работало более ста человек, но это все рабочие, и большинство из них — веселореченцы. И тут Асад вспомнил о старике Аксаре, которого знал с детства…
Одним из самых богатых арабынских промышленников был Нурреддин Хубов. Дед его Хазби Хубов ушел из аула Дууд потому, что, будучи пастухом, не уберег овец от волка. А не уберег потому, что занят был вырезанием уздечки из кожи.
Причина, заставившая Хазби Хубова убежать из родного аула, стала для него потом источником благосостояния. Он впервые вынес на арабынский базар дуудские, отделанные серебром уздечки и пояса.
Через пять лет Хазби вернулся в аул, щедро заплатил за погибших овец и, прощенный всеми, попросил родичей, что если кому невмоготу растить детей, пусть дадут ему в Арабынь, в мастерскую: он выучит детей ремеслу, и они будут жить у него как родные.
Аксар тоже принадлежал к фамилии Хубовых. Умер отец Аксара, и у матери осталось десять ребят. Аксару, второму ребенку в семье, тогда было одиннадцать лет. Все дети ревмя ревели, когда мать спросила, не поедет ли кто с дядей, а Аксар без слезинки согласился — очень уж интересно рассказывал дядя про Арабынь, про русских солдат, русские церкви, про русский вольный обычай. Так Аксар очутился в Арабыни.
Когда отец Асада, Хусейн Дудов, против воли всего рода Дудовых, захотел жениться на своей близкой родственнице, тоже Дудовой, и привез невесту в Арабынь, со свадьбой следовало поторопиться. Тут-то Аксару Хубову, тогда еще совсем молодому, бравому парню, с темно-рыжими усами и озорными зеленовато-карими глазами, и выпала роль названого брата невесты. Такой брат за руку выводит невесту из своего дома и передает жениху. Мать Асада, в то время пятнадцатилетняя девочка, бежавшая из Дууда, жила в землянке у Аксара Хубова, своего молочного брата. Из этой-то землянки под причитания и вой Аксаровой жены (так полагалось по обычаю) Аксар, как подобает брату невесты, передал ее дружке жениха, толстому Искандеру Батыжеву, отцу Темиркана. По обычаю, Аксар на всю жизнь оставался защитником своей названой сестры. В условиях чудовищного женского бесправия и порабощения только к родному или названому брату и могла обратиться за помощью замужняя женщина, если гнет и мучения в семье становились нестерпимыми.
Конечно, мать Асада никогда ни в какой защите от мужа не нуждалась. Но Аксар каждую пятницу появлялся у Дудовых с утра. Мать Асада низко кланялась Аксару, а отец обнимал его и, как почетного гостя, сажал в красный угол лицом к двери. Перед стариком ставилось угощение. Поглаживая рыжие усы и нарочито хмуря брови, Аксар спрашивал: «Ну, как живете? Ты говори, сестра: может, он тебя, часом, бьет?» — И озорные с зеленой искрой глаза его смеялись.
Он всегда носил одну и ту же черкеску, когда-то красную, а теперь ставшую бурой. Зато заплаты на ней были всех цветов — и синие и красные, а одна даже желтая, бархатная. Маленький Асад мечтал, что, когда он вырастет, будет носить такое же красивое платье. От деда Аксара неизменно исходил кожано-кислый запах, и Асад, попадая к нему на руки, обязательно чихал несколько раз.
— Э-хе-хе, родные мои! — говорил Аксар, выпив и закусив. — Не знаю, как у вас, по-ученому, считается, а у нас, по-простому, выходит так, что солнце все темнее светит и скоро навсегда настанет ночь. Покойный Хазби каждую копейку, которая в руки ему попадала, рублевым гвоздем прибивал, а все-таки был человеком справедливым, сам работал вместе с нами, и если хорошо работаешь, он тебя похвалит, ну, а если зазеваешься, поучит, но по-отцовски, не кулаком, а ладонью. Сын же его, плешивый Нур, только в магазине сидит да чай попивает, зато такой себе живот и налил — крутой, как у беременной коровы. Если в мастерскую зайдет, так нос в платок прячет, от платка дух идет, будто от городской барышни. Увидит меня и: «Здорово, дядя Аксар!» — а сам небось руку за спину.
— Платит-то он тебе сколько? — хмуря брови, спрашивал Хусейн. — Все тот же рубль?
— Все тот же рубль, — вздыхая, отвечал Аксар. — «Как, говорит, при отце моем Хазби было положено». Рубль в месяц, так и платит. Один тут бойкий паренек, Ашот, из армян, и говорит ему: «Это цены такой нигде нет». Так он его тут же выгнал.
— Ну, а вы что? — сердито говорил Хусейн. — Что ж вы, бараны?
— Тут баран или не баран, а раз стригут, так уж ничего не сделаешь, — произнес старик…
Вот о нем-то и вспомнил Асад, решив заняться пропагандой среди веселореченского пролетариата, не посвящая пока в это Василия. Но почему дедушка Аксар последнее время не ходит к ним? Когда Асад задал этот вопрос, мать заплат кала.
— Спасибо тебе, сынок, что помнишь нашего Аксара, — сказала она. — Беда с ним — заболел. Еле можется ему. А время, знаешь, трудное, все дорого, я уж сама ношу ему поесть.
Асад выразил желание навестить старика, мать расцеловала его и серьезно сказала, что это ему принесет счастье.
Дядя Аксар всю свою жизнь прожил в землянке на крутом обрывистом берегу Веселой — то была ничья земля, числившаяся за казной и находившаяся за чертой города. Прошло несколько десятков лет, и рядом с землянкой деда Аксара появилось уже несколько десятков землянок, целое «поселение», которое назвали Черной слободкой. «Слободку» населяли в большинстве веселореченцы. Подобно Аксару, они по бедности или же из-за родовых раздоров покинули свои родные места. Но, кроме веселореченцев, здесь жили и представители разных племен и народов, населяющих Кавказ. Жило здесь несколько русских семейств, и хотя русских было меньше, чем представителей других национальностей, в слободке господствовал русский язык — довольно исковерканный, он давал возможность людям, принадлежавшим к разным национальностям, общаться друг с другом.
Спустившись в землянку, Асад в полутьме разглядел в углу, на широком ложе, скорчившегося деда Аксара.
— Какой там шайтан пришел? — сказал он сердито по-русски. Но, узнав Асада, обрадовался и даже заплакал.
Он жаловался, что у него ломит руки и ноги, и сетовал на то, что нет водки, которую он считал универсальным лекарством. Речь его перемежалась глухим кашлем. Старик был плох, но, видимо, не сознавал этого и уверял, что если ему, достанут водки — а он уже послал свою дочку в Краснорецк на базар, — то у него все как рукой снимет. Во время этого разговора в землянку спустился молодой парень, напомнивший вдруг Асаду своей округлостью лица и продолговатым разрезом глаз Науруза. Только брови были не те — слишком черные и такие же черные молодые усы. Парень казался бледным, на его веселореченском лице не было обычного загара. Вправленная в брюки полотняная блуза с отложным воротничком и большим карманом на груди дорисовывала не совсем обычный облик этого молодого человека.
— Здорово, дед! — сказал он по-русски и поклонился Асаду. — Вот мы тут собрали для тебя, — он положил на стол две желтые рублевые бумажки и кучку серебра и меди. — Только ты своего лекарства не покупай, а купи лучше масла коровьего.
— Зачем старику коровье масло? — весело спросил дед. — Детей надо кормить коровьим маслом, а я много лет его не пробовал, живот заболит. Ну, спасибо тебе, Гамид, и всем добрым людям спасибо. Да вы не смотрите друг на друга, как два быка в одном загоне. Это Асад Дудов, земляк мой и родич, а это хоть и из другого аула, а человек хороший, Баташев Гамид.
Асад пристально и с интересом посмотрел на Гамида. Он слышал о нем. Это был молодой парень из многочисленного баташевского рода. Россказни Кемала о жизни в Петербурге прельстили Гамида, и он, никого не предупреждая, исчез из родного аула, а через год прислал письмо, написанное по-русски одним его знакомым. Он добрался до Петербурга, поступил на верфь плотником. Городская жизнь ему нравится. Одно нехорошо: за все нужно платить деньги.
— Вы, значит, вернулись из Питера? — спросил Асад по-русски. — Соскучились?
— В Питере не соскучишься, — приветливо улыбаясь, ответил Гамид. — V, какая может быть скука? А только своих надо тоже навестить.
— Стало быть, в своем ауле уже были?
— Это верно, — сказал Гамид, — в своем ауле я был. Вот где, верно, скучно!
— Обратно в Питер вернетесь?
— А что ж? Можно и вернуться. Ну, дедушка, будь здоров! — сказал Гамид, вставая. — Я еще зайду к тебе. — Он одернул на себе рубашку, рукой пригладил волосы.
Только в этих жестах сказались привычки веселореченского джигита, а во всем остальном — в громком голосе, в размашистой походке, в помятой кепке, заломленной набекрень, — проявлялся уже совсем другой, свободный русский городской навык.
— Есть у меня здесь знакомый один, — сказал Асад. — Тоже из Петербурга: Может, зайдете к нему? Он больной, с фронта вернулся.
— Из Петербурга? — переспросил Гамид, пристально вглядываясь в Асада. — Что ж, можно будет зайти. — Он повернулся и пошел к двери.
Асад попрощался со стариком и заторопился, чтобы догнать Гамида.
— Вот нарыли, прямо Севастополь, — сказал Гамид, кивая на землянки.
— Почему Севастополь? — удивился Асад.
— Книга такая есть, — ответил Гамид. — Студент у нас один читал. Толстого книга.
— «Севастопольские рассказы»? — живо переспросил Асад.
— Хорошие рассказы, — сказал Гамид. — Не то что наши сказки: пока слушаешь — занятно, а как оглянешься кругом — никакой в этих сказках правды нет. Это не то что там Сосруко или Батрес — то ли он был, то ли не было его. У Толстого-писателя люди все равно как я или вы. Эх, война, проклятое дело…
Они медленно шли по тихой улице Арабыни. Асад с интересом приглядывался к своему новому знакомому. Таких людей среди веселореченцев он еще не встречал. Ни Науруз, ни Жамбот, ни даже Талиб не вызывали у него такого ощущения новизны. Наоборот, Науруз и Жамбот казались Асаду воскресшими героями народных сказаний. А этот парень неслучайно пренебрежительна отзывался о сказках. За несколько лет пребывания в Петербурге в нем все переменилось, он даже говорил теперь только по-русски, правда иногда запинаясь. С Асадом Гамид не чинился, зная, что это сын вольнодумца Хусейна, и откровенно сказал, что из Питера ему пришлось уехать не по своей воле. Там была забастовка, он попал в черные списки.
Асад привел Гамида к Василию.
Прошло несколько дней, и Асад с чувством ревности заметил, что у них завязались какие-то свои отношения, в которые Василий Асада не посвящает.
* * *
Сергей Комлев вдруг перестал бывать у Загоскиных. Василий давно уже заметил, что со времени появления Комлева мать оживилась, помолодела. Он считал неудобным заговорить с матерью о Комлеве. И вот однажды Надежда Петровна напекла лепешек, купила на базаре махорки и деловито собралась куда-то. По тому, как аккуратно и споро был собран узелок, и по тому, что в него была положена хотя и сильно залатанная, но чистая сорочка, оставшаяся от отца, Василий догадался, куда собралась мать.
— Почему ты думаешь, что его в тюрьме искать надо?
Надежда Петровна, покраснев, вздохнула и прошептала:
— Да так уж.
Мать больше ничего не сказала, Василий тоже промолчал, только просительно предупредил, когда она уходила:
— Ты там поосторожнее.
Вернулась она к вечеру, заплаканная, но глаза ее блестели весело.
— Набито их там, голубчиков, человек двести, и больше всего солдат. И казаки там есть, и горцы.
— Да ты что, там внутри была? — спросил Василий.
— И внутри была, внутренний двор там есть такой, их туда гулять выпускают. Часовому отсыпала табачку, он и пропустил.
— Значит, ты его видела?
Она кивнула головой.
— За что же он попал? Срок отпуска, что ли, пропустил?
— Какой срок? — шепотом ответила Надежда Петровна. — У него, Вася, настоящего-то срока совсем нет… У него на руках заместо бумаг — липа…
Мать, оказывается, была в курсе всех дел Сергея Комлева, Излечившись после своей страшной раны, он твердо решил, что воевать ему не за что и что на фронт возвращаться незачем. В госпитале среди писарей нашел он сочувствующего, с ним вместе они и сготовили ту самую «липу», о которой говорила Надежда Петровна. Комлев происходил откуда-то из крестьян черноземных мест, но с юности забрел на Кавказ, полюбил этот край, и в «липе» прямо указывалось, что родиной его является Краснорецкая губерния. Для обычного времени эта «липа», может, и сошла бы. Но когда она попала в руки самому Осипу Ивановичу Пятницкому, производившему большую облаву на рынке, он заподозрил что-то неладное и задержал Комлева.
Был один из первых ясных осенних дней, когда еще все роскошно зелено, но воздух чуть-чуть начинает холодеть. И так будет не день, не два и не одну неделю, а несколько месяцев — может быть, вплоть до Нового года. Все станет пестреть, опадать, воздух по утрам будет морознее и прозрачнее, а дни — короче. Но солнце все положенное ему время будет царить на небе. Этому времени года на Кавказе соответствует северное бабье лето. Но для северян бабье лето стало грустным синонимом быстролетности, а хрустально-ясная осень Северного Кавказа может продлиться долгие месяцы и даже всю зиму.
В такое утро невозможно сидеть в комнате, и как только Асад пришел к Василию, они вышли из дому. Ведя разговор и наслаждаясь погодой, они шли по тихим улицам Арабыни и незаметно дошли до огромного плаца, примыкающего к самому городу, может быть привлеченные туда резкими командными окриками, звонко раздававшимися в тихом воздухе.
Там шло обучение новобранцев. В линюче-зеленом, застиранном обмундировании, они с криками «ура» и штыками наперевес бежали по полю и каждый со всего маху вонзал штык в подвешенного между двумя столбами болвана, составленного из мешков, набитых тряпками. Другие новобранцы по команде с походного порядка быстро перестраивались на боевой и тут же, падая, на землю, лихорадочно быстро окапывались и целились по воображаемому противнику…
— Первый сорт солдаты будут, — со странным выражением, соединяющим грусть и восхищение, сказал Василий.
— Это земляки мои, веселореченцы, с гордостью проговорил Асад.
Вася ничего не ответил. Он вглядывался в лица новобранцев. Все это были крепкие ребята, широкие в груди, тонкие в поясе. Пожалуй, много было темнобровых и смуглых, но не больше, чем среди местных казаков. Видно было, что они хорошо понимают команду, которая отдавалась по-русски и время от времени уснащалась ругательствами.
«Почему веселореченцы?» — подумал Василий. Утверждение Асада показалось ему неубедительным.
— Национальности не могу различить, — сказал Василий вслух. — Солдаты как солдаты. Погляди-ка хотя бы вон на того крайнего — явный русачок.
Это был крепкий, ширококостный парень. На его округлом румяном лице ярко выделялись небольшие синие глаза. Отделенный командир вывел его перед фронтом и заставил проделать ружейные приемы — очевидно, для образца, так как синеглазый проделал все с щеголеватой точностью.
— Молодец, — сказал Василий, — будет ефрейтор что надо.
Наступил полуденный перерыв, и тот самый русый крепыш, на которого показал Василий, засунув руки в карманы, разминаясь и потягиваясь, прошел мимо них неподалеку. Асад сам не мог бы объяснить, почему, но он был уверен, что этот парень, как и все прочие, тоже веселореченец. Его в этом убеждало не только лицо, но даже самые незначительные движения, повороты головы, улыбка… Асад внезапно окликнул его по-веселореченски:
— Эй, друг, здоровья тебе, ты из чьих будешь?
Парень остановился, видимо недоумевая, огляделся и даже наверх посмотрел. Потом, поняв, кто окликнул его, не спеша приблизился.
— Я? — спросил он, вглядываясь в Асада и прищуриваясь. — Я Верхнего Баташева Исмаила внук.
— Касбот — это был он, — взглянув на Асада, сразу догадался, с кем говорит. О Хусейне Дудове и его семействе знало все Веселоречье. И никем, кроме как сыном исчислителя Хусейна Дудова, не мог быть этот худенький юноша в серой шинели с орлеными пуговицами. Об Асаде Дудове Касбот слышал и от Нафисат — он сопровождал Константина, присланного в Веселоречье русскими друзьями. Касбот на всякий случай опросил Асада, кто он такой, и, убедившись, что предположения его правильны, удовлетворенно кивнул головой.
— Жаль, мы с тобой на пари не пошли, я бы выиграл, — с торжеством сказал Асад, обращаясь к Василию.
— Да, — сказал Василий, вглядываясь в лица других новобранцев, кучкой расположившихся неподалеку, и начиная замечать в них что-то отличное от русских, прежде всего сказывающееся в позах: все сидели, подобрав под себя ноги, ни один не лежал облокотившись. — Но как же так? Ведь веселореченцев как будто не призывают в армию?
— А это, верно, добровольцы, — сказал Асад. — Хотя нет, не похоже, добровольцы в черкесках. Я вижу, много тут наших земляков, — сказал Асад Касботу, который, выбрав, где трава почище, привольно раскинулся на ней. — Неужто добровольцы?
— Все добровольцы, — ответил Касбот, кусая травинку и прищуренными глазами глядя куда-то вдаль. — Весною приезжал с фронта дядя мой, Кемал, который состоит при особе князя Темиркана. Звал нас в добровольцы — коня обещал, одежду красивую. Ну, а мы ведь все женихи. Мышь в мышеловку забежала — ни воли, ни сала. — Он так смешно сказал эго, что Асад расхохотался.
— Чего это он? — спросил Василий.
— Потом расскажу, очень забавно разговаривает, — ответил Асад.
— Да, — раздумывая, говорил Касбот, — никогда не бывало, чтобы столько веселореченцев в солдаты набрали, — так надо же кому-нибудь начинать.
— Тебе понравилось? — спросил Асад.
— А чем плохо? Как у бабушки под платком. О еде не думай — накормят, спать уложат. Гуляем, песни поем. — И он тихонько затянул:
Соловей, соловей, пташечка, Канаре-ечка жа-алобно поет… —со старательной и явно нарочитой придурковатостью выговаривая слова.
Тут и Василий, глядя на его смекалистое лицо, засмеялся.
— Смешно? А? — спросил Касбот, широко улыбнувшись, отчего стали видны белые зубы. Но тут он вдруг мгновенно переменил позу и сел, поджав под себя ноги. Усмешки на его лице как не бывало. — Слушай, братец, — сказал он Асаду, снизу вверх глядя на него своими небольшими синими и пристально-настойчивыми глазами. — Как сын Хусейна, которого каждый веселореченец чтит за его справедливость, прошу тебя, помоги мне в одном деле. Если поможешь, вот эта рука, — и он протянул сжатую в кулак с напрягшимися жилами большую руку и разжал перед ним сильные пальцы, — будет твоя рука, только помоги.
— Что я могу сделать? — ответил Асад.
— Ты вольный, ты везде ходишь, а ведь нам из казармы можно выбраться только тайком. Здесь в тюрьме томится одна несчастная, она, как и я, землячка тебе, а мне приходится теткой, ее Нафисат зовут…
Но тут внезапно, не докончив своей речи, Касбот с неожиданной легкостью вскочил и вытянулся.
— Разговорчики! — услышал Асад начальственно-гнусавый, нарочито растягивающий звуки голос. Это был тот самый невысокого роста унтер с рыжими усами, который обучал новобранцев.
— Земляшок, ваше благородие, князь Хусейн Дудов сыношек будет, — старательно вытягиваясь, ответил Касбот, нарочито коверкая русский язык.
— Вот, — сказал благосклонно унтер, обращаясь к Асаду, — толкуют, вассиястьво, насчет вашего племени, что искони к военной службе не способны, и когда нас из учебной команды выбрали, чтобы, значит, ваших обучать, веселореченцев то есть, так меня все товарищи стращали: не ходи, мол, Кучерук, — это я — Кучерук, — намаешься с ними. А получилось обратное: и строй понимают, и ружейный прием любят.
— Ружье давай, палка надоела, — сказал Касбот.
— Молодец! — вдруг вырвалось у Василия, который услышал в его словах то, чего, видимо, не услышал унтер Кучерук.
— Именно так, молодец солдат, — поощрительно сказал унтер, похлопав по плечу Касбота. — Если так будешь успевать, в учебную команду определим. — И, кивнув головой, он ушел, унося с собой крепкий запах махорки и дегтя, которым смазаны были его сапоги.
— Сейчас барабан будет, — сказал Касбот, обращаясь к Асаду. — Дай мне ответ, утоли жажду души.
— Все, что могу, то сделаю, — сказал Асад. — Приду сюда и все тебе расскажу.
Застучали барабаны. Касбот схватил Асада за локоть, тряхнул и сам же поддержал его, так как Асада это выражение благодарности чуть не свалило с ног.
Касбот от отца унаследовал то, что родичи его и односельчане презрительно-добродушно называли миролюбием. Это означало, что Касбот, так же как и Али, не любил из-за мелочных причин ввязываться в драку. Как и отец, он обладал сметливой трезвостью ума, за которую Али слыл в селении хитрецом.
Касбот всегда казался сонным, даже участвуя в разговоре. Слова он цедил сквозь зубы. И когда они вдвоем с двоюродным братом Сафаром, сыном Мусы, захватив по топору и одну длинную пилу, уходили на заработки в лесничество, казалось, они вполне под стать друг другу — двое хозяйственных молодых крестьян, у которых одна забота: потуже набить мошну.
Конечно, Касбот был миролюбив. Но после того, как он узнал, что Нафисат, связанную, с кляпом во рту, увезли в город, он места себе не находил. Ему все представлялось, что ее, как овцу, взвалили на арбу, и чувства оскорбления и мести, неутоленной мести, не оставляли его. Он не только последовал за нею в город, он, подкупив тюремщиков, узнал, что она заключена в глубоком подвале Новой крепости, и даже разговаривал с нею, — этот-то разговор и услышал Джафар. При всем ужасе этих темных ям, они имели ту особенность, что их амбразуры были над самой землей и при попустительстве тюремщиков можно было переговариваться с заключенными. Пристав Пятницкий, по доносу Кемала прибывший на батыжевские пастбища с целью изловить Науруза, неспроста вместо него захватил в коше у Верхних Баташевых Нафисат. Свою тактику изловления Науруза он построил на опыте охоты: если подраненную самку оленя оставить привязанной в лесу, самец непременно придет к ней. Потому-то Осип Иванович и оставил открытой ту узенькую амбразуру, в которую не мог бы пролезть даже ребенок: она давала возможность близким Нафисат слышать ее голос и говорить с ней. Осип Иванович Пятницкий уверен был, что Науруз придет к Нафисат.
Но пока только Касбот дважды, и то урывками, сумел поговорить с Нафисат.
Касбот не мог бы объяснить свою уверенность в том, что прохождение военной службы в Арабыни даст ему возможность освободить Нафисат. Он никому не рассказывал этих затаенных намерений, даже невесте своей Разнят, которая уговаривала его убежать в горы, как это сделали уже некоторые из «добровольцев», разочарованные тем, что ни коня, ни красивой одежды они не получили.
— Если меч сам тебе в руки идет, хватай его за рукоять, — ответил он своей подруге старинной поговоркой.
Однако на первых порах его надеждам не суждено было оправдаться. Из Красных казарм, в которых разместили запасной батальон веселореченских новобранцев, ясно видны были белые приземистые стены Новой крепости, и все же Нафисат для него оставалась недосягаемой. Он даже толком не знал, что с ней. Но то, что он мог хотя бы издали видеть белые стены ее тюрьмы, подогревало его надежду. Он был терпелив, настойчив, его изворотливая мысль не пропускала ни одной лазейки. И вот неожиданное знакомство с Асадом Дудовым открыло перед ним вполне осуществимую возможность.
* * *
Асад, вернувшись домой, дождался, когда отец вышел к вечернему чаю, и спросил его:
— Папа, ты ведь бываешь в тюрьме?
— Бываю. А почему тебя это интересует?
И Асад рассказал о просьбе Касбота.
— Видишь ли, сынок, — смущенно ответил старик, — меня вызывают только к тем заключенным из наших единоплеменников, с которых судебным властям и тюремному начальству требуется снять дознание. К той несчастной, которую ты только что назвал, меня ни разу не требовали, я даже ничего не знаю о ней.
— Я обещал Касботу узнать все точно, и я узнаю, — упрямо сказал Асад.
Нет, нет, — испуганно заторопился старик. — Давай уж лучше я. А то ты опять попадешь на путь приключений, не дай бог.
На следующее утро старый Хусейн Дудов позвонил у крыльца одного из самых уютных домиков с маленькой медной дощечкой на дверях: «Врач Иннокентий Иванович Жасминов. Внутренние, детские и женские болезни». Дверь открылась, хорошенькая ласковая девочка сказала: «Папа в саду», — и умчалась куда-то в комнаты. По стеклянной пустой галерее Хусейн Асадович прошел на балкон и спустился в сад. Хозяин, в галифе и чувяках на босу ногу, в помочах поверх рубашки, костлявый, жилистый, присев на корточки, возился среди зелени. Своим лицом, с длинным, нависшим носом и тонкими, тоже свисающими усами, он напоминал индюка. Редкие волосы были растрепаны, руки до локтя — в жирной черной земле, но его скривившиеся в усмешке тонкие губы и даже кряхтенье говорили о том, что сейчас он наслаждается жизнью.
— А, Хусейн Асадович, прошу, прошу!.. Извольте видеть, земляника садовая. Три года вела себя отменно, а в этом году некоторые кусты мельчать стали. Вот я по зрелом размышлении и решил: кусты из грядки поскорей вон, а то они мне всю породу испортят. Прошу на скамейку. Чем обязан?
Старики знали друг друга несколько десятилетий, так как переводчика и врача часто вызывали по одним и тем же делам, большей частью по преступлениям, совершавшимся в аулах. Иннокентию Ивановичу хорошо было знакомо выражение лица Дудова, торжественная неподвижность и закинутая кверху голова — видно было, что старик чем-то сильно взволнован.
— Неужто Марьям Ибрагимовна занедужила? — спросил участливо врач.
— Нет, Иннокентий Иванович, у нас в семье все слава богу. Я к вам с делом не совсем обычным и заранее прошу извинения. Вопрос один задать хочу. Рассчитываю, что вы, как врач, поймете меня. Ведь вы у нас в Арабыни единственный тюремный врач и всех наших арестантов знаете. Видели ли вы несчастную женщину, Нафисат Баташеву, содержащуюся вот уже два месяца в одной из самых страшных ям Новой крепости?
Иннокентий Иванович встал во весь свой высокий рост и начал, ударяя рука об руку, стряхивать с них землю, не глядя в лицо собеседнику.
— Я-то видел, — сказал он сухо. — А к чему вам знать то что не надлежит?
— Родные беспокоятся. Знаете, горский хабар, он сквозь стены тюрьмы проникает. Больна она, говорят.
Иннокентий Иванович не то откашлялся, не то усмехнулся.
— Не знаю, как судить насчет ее здоровья, ведь ей родить скоро.
— Родить? — изумленно спросил Дудов.
Иннокентий Иванович поморщился. Он и сам не понимал, как это у него вырвалось. Теперь он сердился на себя и еще больше на своего собеседника.
— Я даже не знал, что она замужем, — растерянно говорил Дудов. — Ведь она Баташева, Баташева Исмаила дочка.
— Как же, замужем! И завидную партию себе составила, — злобно-насмешливо говорил Иннокентий Иванович. — Ее муж — это тот самый абрек Науруз, насчет которого споры были: есть он в действительности или нет. Куда уж действительней, супруга его последние месяцы дохаживает.
— А разве в подобном положении можно женщину держать в сырой яме? — запальчиво спросил Дудов.
— А на эту тему я, знаете ли, почтеннейший Хусейн Асадович, пас… Если в вашей семье у кого-нибудь мигрень, или понос, или другое что-либо сходственное… или даже, например, насчет рассады или саженцев, — пожалуйста, же ву при… А что касаемо до чего политического, я в это не вдаюсь.
Худой, тонконогий, он высился перед Дудовым, и тусклое выражение страха написано было на его продолговатом, индюшечьем лице.
Да Хусейн Асадович ничего другого от него и не ожидал. Он таков и был всегда, этот единственный на весь Арабынский округ чиновник медицинской службы, представитель судебной, уголовной, тюремной, санитарной и прочей официальной медицины. Хусейн Асадович прекратил разговор, тем более что узнал от врача больше, чем предполагал узнать.
Итак, дело шло о жене Науруза…
Асад даже тихонько взвизгнул, когда отец рассказал ему страшную новость. Ему вспомнилась тоненькая, с легким шагом девушка, которая в ту незабываемую ночь вела его и Константина на свидание с Наурузом. Как она шла! Если бы вода могла течь вверх, только с таким вот текущим вверх потоком можно было бы сравнить ее движения. Воображение рисовало Асаду ее освещенное ярким светом полной луны лицо, чудесно умеренные черты и выражение смелости и правды на нем. Асад не стал разговаривать с обеспокоенным отцом и тут же пошел к Василию.
— Вот что, — сказал Василий, выслушав взволнованный рассказ Асада, — ты только не приходи в отчаяние… Неужели два таких могучих ума, — усмехнулся он, — как мы с тобой, не придумают чего-либо дельного? Я предложу тебе, например, такой план. Ведь мама моя единственная на всю Арабынь модистка. Она всех здешних чиновниц украшает и одевает и бывает во всех их домах, — что-то я слышал мельком и насчет жены начальника тюрьмы.
Они тут же позвали Надежду Петровну. Она действительно бывает в доме начальника тюрьмы, есаула Бубекина: старшая дочь есаула выходит замуж, и Надежда Петровна шьет приданое. Узнав о Нафисат, Надежда Петровна даже всплакнула и сквозь слезы сказала, что через женщин можно узнать обо всем, что происходит в Арабыни.
Дело в том, что в бубекинском доме у Надежды Петровны была приятельница Таечка, которая самой Бубечихе приходилась племянницей. Она сиротка, жила у них из милости и выполняла обязанности домашней работницы. Таечка пользовалась полной доверенностью «тетеньки». Она и детей нянчила, и стирала, а когда в доме совершалось такое большое дело, как изготовление приданого, была приставлена к Надежде Петровне в помощь. Надежда Петровна заметила, что девушка переимчива, аккуратна, трудолюбива, и стала ее между делом учить своему искусству. Таечка очень обрадовалась: она давно мечтала освободиться от унизительного положения приживалки и была предана Надежде Петровне.
Известно, что есть такие темы, по которым женщины, как бы ни велика была разница в их общественном положении, говорят как равные. Такой темой является беременность. И, ловко наведя «тетеньку» на разговор, Тая узнала, что Нафисат должна скоро родить, она очень больна и жестоко кашляет, так как находится в сыром, ужасном подземелье, почто к амбразуре этого подземелья можно подходить и разговаривать с ней. Сам пристав Осип Иванович Пятницкий ведет ее дело, посещает Нафисат для допросов, мучит-пытает, о чем даже начальник тюрьмы есаул Бубекин, верный царский служака, состарившийся в должности тюремщика, видимо отзывается неодобрительно. Все эти сведения от «тетеньки» через Таечку и Надежду Петровну дошли до Асада и Василия.
— У него у самого, изверга, жена в положении, — рассказывала Надежда Петровна. — Он ее холит и лелеет, а над этой несчастной зверствует, как только может.
* * *
Узнав от Асада эти ужасные подробности, Касбот прежде всего решил освободить Нафисат и совершить суд над палачом, так как был уверен, что если он не устранит этой несправедливости, она будет торжествовать.
Среди сослуживцев Касбота было несколько его родичей и земляков, сотоварищей детских игр, которые знали Нафисат. После занятий Касбот собрал их и рассказал о том, что ему было известно о Нафисат. И слова сами с непроизвольной легкостью сложились в лад песни, этой песней выражена была его просьба помочь в деле мести. Простая, протяжная и подробная, песня эта быстро запоминалась, легко передавалась из уст в уста. Скоро все унтеры заметили, что «черкесы что-то запели». Если бы во главе рот и взводов батальона были офицеры местного происхождения, из казаков, они, конечно, встревожились бы и обязательно постарались разобраться, о чем поют горцы. Но командирами рот и взводов были назначены частью поручики и подпоручики, вышедшие из госпиталя, а частью молодые прапорщики, присланные из Средней России. Командир батальона штабс-капитан Рыжиков, у которого во время речи дергалась голова — последствие контузии, — прочитав рапорт фельдфебеля первой роты о том, что в его роте поют, вызвал фельдфебеля к себе, нецензурно изругал того и приказал не мешать горцам петь.
Тем временем командир отделения, благоволивший к Касботу, как смышленому новобранцу, откомандировал его в учебную команду, созданную при батальоне. Касботу это дало некоторое преимущество. Новобранцев не только не выпускали из казарм, боясь, что они разбегутся по аулам, но их даже по нескольку раз в день пересчитывали; в учебной же команде действовал обычный военный устав, разрешавший давать увольнительные записки, что представляло Касботу полную возможность встречаться с кем нужно. Обучающимся в учебной команде вместо деревянных макетов дали в руки настоящие винтовки; целая стойка превосходных «пехотных трехлинейных», отлично смазанных и готовых к употреблению, стояла возле стены в той обширной комнате, где на отдельных кроватях разместили будущих ефрейторов и унтер-офицеров.
Правда, в неучебное время к винтовкам не допускали, они были скованы цепью с замком, и ключ находился у дежурного офицера. Да и как вооружить друзей, если они, готовые пойти за ним в огонь и в воду, были не здесь, а в батальоне? Касбот чувствовал, что действовать надо быстро. Но каким образом?
И он пошел к Загоскиным. (Асад к тому времени уже уехал в Краснорецк продолжать учение).
— Говори, как делать надо? — требовательно сказал он, обращаясь к Василию. — Нашей сестре поможешь — брат нам будешь…
История с Нафисат до глубины души возмутила Василия. Мучить беременную женщину для того, чтобы жалобы и стенания заманили ее мужа в ловушку, было настолько подло и бесчеловечно, что стремление освободить жертву и расправиться с палачом не могло не зародиться в душе человека. Но для Василия эта гнусная история входила в обширный круг явлений и фактов, о которых одержимый желанием мести Касбот даже не подозревал. Василий подумал и сказал:
— Надо помочь бедняжке.
Больше ни слова не услышал на этот раз Касбот, и это не понравилось ему, он счел, что Василий уклоняется от помощи.
Глава третья
1
При первом же свидании с Броней Василий — он был еще на положении лежачего больного — попросил ее съездить во Владикавказ, в редакцию газеты «Терек», и встретиться с Сергеем Мироновичем Кировым.
— Когда разговариваешь с Миронычем, похоже, что дышишь каким-то необыкновенным, вселяющим бодрость и веселье воздухом, — рассказывала Броня, вернувшись из Владикавказа. — И сразу такую силу чувствуешь — горы бы перевернула!
— Это так и есть, — подтвердил Вася, держа в своей горячей руке холодную руку жены и вглядываясь в ее раскрасневшееся узкое лицо с черными пушистыми бровями. — Так что говорил Сергей Миронович о солдатках? — возобновил он прерванный разговор.
— Да он об этом как будто так, между прочим сказал, и я не записала, — огорченно ответила Броня. — И только в вагоне, когда возвращалась и солдатки о своих делах говорили, я вдруг вспомнила.
И Броня стала своими словами пересказывать то, что услышала от Кирова:
— Горе войны обрушилось на плечи женщин, и когда они выйдут на улицу, не будет в России такой воинской силы, которая подымет против них оружие.
— А почему Сергей Миронович заговорил о солдатках? — задал вопрос Василий.
Броня, смеясь, ответила:
— Да я прочла ему то стихотворение, которое у нас солдатки сочинили, я его тебе показывала.
— Скажи-ка его еще раз, — попросил Василий, и Броня прочла:
Бражку пило в восхищенье Волостное управленье. Но они не ведали о том, Что случится с ними днем. Как солдатки-говорухи Осерчали с голодухи, И пошли они гурьбой Получать паечек свой…— Дальше я забыла. Да, вот еще:
Ждали, ждали, им сказали: — Волостные загуляли… — Волостных солдатки били И до проруби водили…— Да, солдатки… — проговорил Василий. — Вот мы с тобой знали эти стишки и посмеялись, а Мироныч — он сразу увидел в этом еще одно проявление народных страданий, народного возмущения, еще одну примету нарастающего революционного кризиса.
— Да, Мироныч так говорил, — подтвердила Броня. — Каков бы ни был ход военных действий, но то, что война обнаружила гнилость романовского режима, это ясно всей России. Гибель царизма неизбежна. Но буржуазия из этого делает свои выводы, хочет повернуть ход событий себе на пользу, а пролетариату нужно сделать свои… Такая обстановка, когда война вынудила царизм вооружить весь народ, не повторится, она должна быть нами использована!..
Теперь, после поездки Брони во Владикавказ и свидания с Кировым, Василий, выполняя указания Сергея Мироновича, на каждое военное поражение на фронте отвечал тем, что составлял коротенькую листовку и отпечатывал ее на гектографе, привезенном Броней из Краснорецка.
Надежда Петровна вместе с передачей Комлеву в тюрьму переправляла эти листовки заключенным солдатам. По этим же листовкам Гамид проводил занятия среди веселореченских рабочих. Листовки говорили о неустраненной причине всех бед и несчастий России и о романовском режиме, обо всем прогнившем и ненавистном строе, о ненужной народу, во имя чужих прибылей, войне. Листовки настойчиво твердили, что война дала народу в руки оружие — могущественное средство избавления и расплаты.
Василий каждый день с утра, покашливая, выходил из дому и совершал прогулку по заросшим травой, пустынным улицам Арабыни. Он шел по базару и там в киоске покупал газеты. Во время этой прогулки то девушка с красным крестом на белой косынке быстро выходила к нему из госпиталя, то навстречу попадался человек в солдатской шинели — свой брат инвалид. Они разговаривали: у инвалидов всегда найдется общая тема разговора. Или какой-то старичок в фартуке появлялся перед Василием. Два, три слова, и они расходились.
Сергей Комлев не знал о Гамиде, а Гамид — о Сергее, но все нити складывающейся в Арабыни партийной организации сходились у Василия Загоскина. И, наверно, никто в Арабыни в то время не представлял так ясно все, что происходит в России, как этот болезненный, прогуливающийся с тросточкой молодой человек.
Потом Загоскиных посетил еще один гость из Краснорецка — медлительный в движениях парень высокого роста, в одежде, измазанной нефтью. Помощник машиниста, он прибыл с паровозом, приведшим состав из Краснорецка в Арабынь. Василий не сразу признал в нем Казьку Ремишевского, младшего братишку слесаря депо Стася Ремишевского, с которым они вместе создавали кружок молодежи в железнодорожном поселке Порт-Артур. Мобилизованный одновременно с Загоскиным, Стась погиб на фронте. Казька за один год очень вырос, и, видно, такой быстрый рост изнурил его: худощавое, тонкое, без румянца лицо, бледные губы и белокурые волосы, тонкие и мягко-волнистые… Но когда он рассказывал о краснорецких новостях, карие глаза его блестели задорно и весело.
Оказывается, что в Краснорецкий запасной полк, где сейчас находилось несколько тысяч солдат-новобранцев и возвращающихся из госпиталей фронтовиков, попал самый близкий друг Василия — Виктор Зябликов, тот машинист, который в день начала веселореченского восстания на перроне краснорецкого вокзала обратился к казакам с речью, призывая их не участвовать в подавлении восстания. Находясь в ссылке, он был призван и попал на фронт.
Виктор участвовал в боях и за то, что взял в плен немецкого офицера, был награжден георгием, произведен в чин ефрейтора, а потом младшего унтер-офицера. После тяжелого ранения его эвакуировали в тыловой госпиталь и по выздоровлении направили в Краснорецкий запасной полк. Здесь его определили в оружейную мастерскую.
Но где бы ни находился Виктор — в окопах, в госпитале, в учебной команде, — везде оказывался он солдатским вожаком: мог по-большевистски правдиво ответить на любой вопрос, тревожащий солдат в это смутное время. В Краснорецке находилась вся семья Виктора: мать, братья, сестры и жена с ребенком. Вернувшись в Краснорецк, он сразу же вместе с механиком пантелеевской фабрики Максимом Колющенко и Броней взялся за воссоздание разгромленной в начале войны большевистской организации. Снова большевистское слово слышно стало в депо, на заводах и фабриках города, в казармах и в госпиталях. С помощью Кази Ремишевского была установлена и связь с Кировым.
Работа в оружейных мастерских позволила Виктору Демьяновичу (так почтительно называл Казя Виктора Зябликова) подготовлять оружие… «Революция не за горами, и в случае чего можно будет начать с солдатского бунта в запасном полку», — говорил Виктор Демьянович. Он слал привет Василию Романовичу Загоскину и спрашивал, как обстоит дело в Арабыни.
Был в этом вопросе оттенок несколько задорный: что-де у вас, в вашей Арабыни, может быть хорошего? Виктор, еще когда они оба работали мальчиками-учениками железнодорожного депо, любил то, что называется «подначить» друга, вызвать у него дух дружеского соперничества. Вспомнив это, Василий усмехнулся — ему приятно было во взрослом и почтенном человеке, которого уже иначе не называли, как Виктор Демьянович, признать эту знакомую мальчишескую черту.
Да и верно, что могло быть хорошего в Арабыни, захолустном, тихом местечке, железнодорожном тупике, в глубине гор? А Краснорецк как-никак губернский город, там есть десяток, а сейчас, пожалуй, и больше партийных товарищей, а он здесь один, загнанный в Арабынь болезнью. Там и железнодорожное депо, и промышленные предприятия, и новая, пробуждающаяся революционная сила — запасной полк, десять тысяч человек. Впрочем, нельзя сказать, чтобы в Арабыни в смысле революционных возможностей уж совсем хоть шаром покати. То, что нарастает в Питере, в Москве, в Краснорецке, проявляется по всей стране, как и в Арабыни…
Василий обстоятельно рассказал Ремишевскому о своем знакомстве с Гамидом Баташевым и о том, как через него удалось создать группу сочувствующих большевикам — рабочие арабынских фабричек и мастерских в большинстве веселореченцы и русские, есть армяне и дагестанцы. Установлена связь с солдатами, заключенными в тюрьму за уклонение от военной службы и нарушение дисциплины, — им грозит военный суд, это ребята отчаянные, готовые на все.
— Передай Виктору, что обстановка в Арабыни складывается напряженная, события могут пойти очень круто, — подумав, проговорил Василий; не хотелось ему до поры до времени рассказывать о том, какое брожение происходит в батальоне, среди веселореченцев, и в тюрьме, у заключенных… И не хотелось пока рассказывать о Касботе.
2
Касбот отбывал наряд, охраняя находившиеся в канцелярии учебной команды винтовки, установленные на деревянной стойке. Приставив винтовку к ноге, Касбот стоял не шелохнувшись, и только глаза его следили за движениями дежурного офицера, подпоручика Марковского, сидевшего за столом. Так как делать подпоручику было нечего, он занимался тем, что называлось у него «выработкой подписи», — бесконечное количество раз размашисто и вычурно расписывался, все выше и выше вскидывая петлю буквы «в».
— Вот проклятое «к», — бормотал он, — что с ним делать, никак не поймешь! А без него обойтись — будет просто «Марков», фамилия не та получается, гнать же вверх «к» — вся подпись дыбом встанет.
Отбросив наконец перо, он подошел к темному окну. За окном слышно было мерное капанье и хлюпанье воды — весь день то накрапывал дождь, то падал снежок, над землей стоял туман. Обругав погоду, подпоручик стал бесцельно ходить по комнате. Неожиданно взгляд его упал на неподвижного Касбота.
— Вот так фунт! — сказал он удивленно и подошел ближе, рассматривая Касбота. — Русак, а? — спросил он. — Как фамилия?
Касбот молчал, вытянувшись в струнку и тараща глаза на молоденькое, с усиками и бачками, прыщавое лицо подпоручика.
— Молчишь… Устав соблюдаешь… В унтера метишь. Да, всякое творение божие на этом свете вверх лезет, карьеру сделать стремится. Все равно всех перещелкают… Так-так-так… — и подпоручик, изобразив всем телом и лицом, будто лежит у воображаемого пулемета, очень похоже передал захлебывающийся ритм пулеметной стрельбы. — «А пошли в атаку, прапора не стало», — пропел он из популярной в то время песенки. — Из двухсот прапорщиков один только уцелевший: Антон Сосипатрович Марковский, сиречь полпроцента. И то с тяжелым ранением… Произвести в следующий чин и послать в запас, обучать пополнения — дьяволу в пасть, а?
Касбот безмолвствовал.
— Кто же ты все-таки такой?
Подпоручик подошел к столу и углубился в изучение списка сегодняшнего наряда.
— Вот так фу-унт! — сказал он удивленно. — На охране винтовок и денежного ящика — Баташев Касбот… Фамилия, положим, не важна. У нас во граде Туле проживают знаменитые самоварных дел фабриканты Баташевы — люди православные, великие жертвователи на божьи храмы… Так почему же все-таки ты такой белесый? — спросил он. — А? Не иначе что по закону Дарвина (Антоша Марковский не одолел второго курса духовной семинарии и о Дарвине имел понятия самые своеобразные): мамаша твоя, черноокая черкешенка, спуталась с каким-либо дюжим казаком.
Вот если бы в этот момент подпоручик посмотрел на лицо часового, он, может, заметил бы, что веки его дрожат, а глаза сузились, и понял бы, что упоминать в оскорбительном тоне мать Касбота совсем не следовало. Сегодня вечером как раз предполагалось то дерзкое дело по захвату военной тюрьмы, в котором Касбот должен был играть роль довольно важную, — в его кармане уже хранились отвертка, переданная ему Гамидом. Касбот, как только Марковский уйдет спать — а это, Касбот знал по опыту, произойдет очень скоро, после девяти часов вечера, — с помощью этой отвертки предполагал вывинтить шуруп, которым прикреплялась стальная цепочка, пропущенная через спусковые скобы винтовок. Одно оставалось неясным: следовало ли во время этой операции оставить дежурного офицера спокойно спать (Марковский спал очень крепко) или во сне заткнуть ему рот хотя бы его же, сейчас лихо надетой набекрень, кубанкой, связать или убить сонного? Убить, конечно, проще всего. Касбот, которого не зря, как и его отца Али, называли «миролюбивый», хотел избежать напрасного пролития крови. Но грязные и глупые слова Марковского, оскорбляющие мать Касбота, решили участь бесталанного поповского сына, единственного из двухсот прапорщиков чудом уцелевшего в полку после атаки, — ему предстояло бесславно погибнуть в глубоком тылу, в Арабыни…
Касбот встал на пост в восемь часов вечера, а в десять его должны были сменить. Большие круглые часы показывали без десяти девять. После девяти Марковский пойдет в комнату дежурного офицера и завалится спать, потому что с этого времени перестанет звонить телефон. Встанет Марковский не раньше двенадцати, обойдет батальон, проверит посты, так как с полуночи можно ждать проверки со стороны бдительного начальства — приезда дежурного по гарнизону или командира батальона, а то и телефонного звонка коменданта города. Время около девяти часов вечера считается самым спокойным: ни день, ни ночь! Темно, как ночью, а ночные меры предосторожности еще не принимаются — сквозь ставни арабынских домиков пробивается свет, и в офицерском собрании идет свирепая картежная игра. Марковский — завзятый картежник, потому-то он и подходил время от времени к окну, чтобы послать завистливый взгляд в сторону приземистого здания офицерского собрания… «Ничего не поделаешь, раз дежурный, так отдувайся за всех».
Наконец, обругав в последний раз погоду и предсказав безмолвному Касботу и его товарищам скорую отправку на фронт, в пополнение так называемой «дикой» дивизии, а также славную гибель в первом же бою, Марковский, зевая, погрозил кулаком обоим телефонам: городскому, прикрепленному к стене, поблескивающему своими двумя округлыми металлическими чашечками, и военному, в желтом ящике, и ушел спать. У дежурных офицеров звонок вызывает реакцию совершенно безусловную: еще не проснувшись, вскочить и бежать к телефону. Звонок — это, пожалуй, действительно единственное, что может помешать Марковскому хорошенько выспаться.
Но как раз сегодня никакой телефонный звонок уже не разбудит подпоручика.
Одна за другой солдатские фигурки выходят из казармы запасного батальона и скапливаются под теми слабо освещенными окнами, где на втором этаже находится канцелярия учебной команды. Дождь со снегом не перестает, но заговорщикам в туго подпоясанных серых шинелях скорее жарко, чем холодно. Они возбуждены, а то, что снег, подмешавшись к дождю, создал в природе непроглядную рябь и мелькание, — так это им только на руку: ничего теперь не разглядишь.
Невысокая арабынская каланча наконец медлительно и лениво отбивает удары. Роковые десять часов наступили. Один из заговорщиков ловко вскакивает на плечи другому и, встав на карниз, заглядывает в окно. Сквозь сетку капель, струящихся по окну, первое время он ничего еще не видит. Потом из темноты выступает огромное выпуклое око часов на стене, винтовки, поблескивающие на своей деревянной, свежестроганной стойке… В комнате неподвижно и пусто, нет никого. Но вот в дверь быстро вошел Касбот, руки его странно растопырены. Он нагнулся, достает из-за стойки с винтовками тряпку, предназначенную для обтирания винтовок, и вытирает руки, тщательно, насухо, а потом сует тряпку в карман. Вынув отвертку, он стал отвинчивать шуруп на стойке. Шуруп вынут. Осторожно, бесшумно, как это может делать только горец, винтовки освобождены от цепочки, но они, не колеблясь, держатся еще на стойке.
Касбот подходит к окну и видит за стеклом мокрое лицо товарища, который с возбуждением и восторгом, с готовностью к действиям следит за Касботом. И на душе Касбота, омраченной убийством Марковского, сразу делается веселее.
Тихонько распахнув окно, он впускает товарища в комнату. Хлюпающие и всхлипывающие звуки струящейся воды становятся сильнее. Но в окне уже появляется другое, с таким же выражением ожидания и готовности, взволнованное лицо. Не сговариваясь, согласно и ловко Касбот и влезший в комнату товарищ передают винтовки через окно третьему. На стойке все меньше винтовок — четыре, три, две, одна, ни одной…
Стойка пуста, комната тоже. Касбот, держа в руках винтовку, с которой он стоял на часах, спускается в черное окно, несколько заботливых рук снизу принимают его. Теперь быстро построиться. Заранее приготовленные погоны прапорщика прикрепляются к плечам Касбота. Построенное попарно отделение, взяв винтовки на плечо, направляется к воротам. Касбот, придерживая саблю, снятую с Марковского, как и полагается офицеру, ведущему команду, идет впереди, сбоку. Ловко, не сбиваясь с шага, он поворачивается и идет спиной вперед, будто проверяя, как марширует отделение, и вместе с этим пристально вглядывается в лица товарищей. Нет, все в порядке, на лицах написана твердость, решимость, готовность ко всему.
Опаснейший момент: перед ними ворота казармы. Над воротами висят два красноватых керосиновых фонаря, там стоит часовой — он в бурке, с винтовкой. Крепко держа винтовку, он с любопытством вглядывается в темноту двора, откуда прямо к воротам стройно марширует команда, офицер, придерживая саблю, идет сбоку.
Солдаты в шинелях, а офицер — франтит — в одной гимнастерке, обыкновенной солдатской, как часто носят прапорщики. Но кубанка офицерская, дорогой смушки, с синим перекрещенным верхом. Он ведет свою команду прямо на ворота. И хотя по форме часовому следовало бы свистком вызвать караульного начальника, часовой, на что и рассчитывали заговорщики, ни за что не будет связываться с офицером, ведущим команду. Калитка распахнута, часовой вытянулся. Касбот козырнул небрежно, по-офицерски, встал возле калитки и пропустил мимо себя всех своих. Вспомнив предсказание Марковского о том, что им всем суждено погибнуть на фронте, Касбот мысленно обращается к мертвому телу, которое лежит на койке дежурного офицера, прикрытое шинелью, чтобы не было видно крови, и шепчет:
— Ты уже сдох, а мы будем жить, будем долго жить!
3
Дрожа от холода и возбуждения, Сергей Комлев стоял неподалеку от тюрьмы и поджидал Касбота. Дождь перешел в снег, медлительный, ленивый, здание тюрьмы, проступавшее среди мелькающей белизны, теперь стало казаться ближе, чем на самом деле. Комлев прислушался: ни одного звука.
Сквозь мелькающий снег четко, как бы толчками, быстро следующими один за другим, приближался отряд Касбота. Увидев, что русский солдат ждет его на условленном месте, и угадав, что это и есть Комлев, Касбот почувствовал, что в груди у него стеснило. Ему захотелось сказать Комлеву ласковые русские слова, какие бывают только в любовных и колыбельных Песнях. Но он не знал этих русских слов.
И Касбот сказал только:
— Говори, что делать надо, приказывай.
— К тюрьме! — сказал Сергей.
Калитка, прорезанная в огромных железных дверях тюрьмы, была раскрыта, возле нее стоял в гимнастерке без пояса (у арестованных солдат отнимали пояса) солдат с винтовкой. Он притопывал, пританцовывал и с веселым интересом вглядывался в сдержанно-взволнованные молодые лица веселореченцев, входящих в тюрьму.
— Ну как, Сергей, дела? — спросил он Комлева.
— Как по маслу, — ответил Комлев.
— Так чего же мы в этих стенах проклятых собираемся? Скорее бы прочь отсюда, уйти в лес.
— В лес не торопись, соскучишься, — ответил Комлев.
Начальник тюрьмы, пожилой, худощавый человек в зеленом вицмундире с серебряными капитанскими погонами и без шапки — таким его взяли из квартиры, находившейся при тюрьме, — держался прямо: то ли он старался соблюсти свое достоинство, то ли потому, что руки его были перекручены сзади. Снег падал на его слипшиеся жиденькие волосы, и видно было, что ему и холодно и страшно. Смотря прямо в лицо Сергея Комлева своими выцветшими глазами, он говорил негромко и размеренно:
— Конечно, господин Комлев, вы можете меня убить, на то воля божия, но ключи от всех казематов находятся у господина пристава, он сам прибывает каждый раз для допроса упомянутой Нафисат Баташевой.
— А как же вы кормите ее? — спросил Сергей.
— Через особое окошечко в стене, — ответил начальник тюрьмы.
— Давай скорее, где она? — спросил срывающимся голосом Касбот.
Начальник промолчал.
— Ты слышал, пес, что тебя спрашивают? — угрожающе сказал Комлев.
Начальник вздохнул, голова его судорожно дернулась.
— На все божья воля, — пробормотал он. — Идемте, здесь близко.
В крепостную стену была вделана железная дверь.
— Вот здесь, внутри стены, находятся казематы, — сказал начальник тюрьмы, — но только ключа от этой двери у меня тоже нет.
Касбот со всего размаху ударил прикладом. Дверь загудела, известковые и кирпичные осколки посыпались на снег.
— Постой, парень, силой тут ничего не сделаешь, — сказал Комлев. — Замок есть замок, он с хитростью сработан, его с хитростью ломать нужно.
Комлев вставил штык в замочную скважину и стал мерно раскачивать.
— Теперь бы стамесочку или отверточку, — сказал он ласкательно и хищно.
Касбот вспомнил, что отвертка у него в кармане, и протянул ее Комлеву. Тот, осмотрев ее, сунул в узенькую щель между дверью и косяком, обитым железом, прямо напротив замка. Легонько ударил прикладом по рукоятке отвертки раз, другой, и отвертка встала торчком.
— Теперь хватит, теперь можно опять штыком пощекотать, — сказал Комлев.
Снова раскачка штыка, вверх, вниз, вверх, вниз, опять легкие удары по отвертке — и дверь, вдруг щелкнув, распахнулась, точно ее кто-то отомкнул изнутри.
Касбот шагнул в темноту.
— Осторожно, можете упасть, — раздался предупреждающий голос начальника тюрьмы, и Касбот почувствовал, как крепкая рука Комлева ухватила его за локоть.
Это был узкий коридор внутри крепостной стены: с одной стороны — глухая кирпичная кладка, с другой — через каждые двадцать шагов на уровне неровного каменного пола видны при колеблющемся огне свечи, которую зажег Комлев, какие-то отверстия, достаточно широкие, чтобы спустить туда вниз человека. Свет был красноватый, красноватой казалась стена. «Как под веками, когда закроешь глаза», — подумал Комлев и спросил:
— А здесь еще кто-нибудь заточен?
— Со времени кавказских войн никого здесь не заключали, — ответил начальник тюрьмы. — И я должен сказать вам, господин Комлев, что считаю зверством применять в отношении беременной женщины…
— Знаем, жалеете вы нас, как кошка мышку, — проговорил Комлев.
— Уже пришли, — сказал тюремщик. — Вот лесенка, ее нужно спустить вниз, вот так.
Касбот спустился, и Комлев сверху подал ему свечу.
Подняв ее высоко, Касбот осветил неровно и грубо обработанные серые каменные стены. Под ногами хлюпала вода. Касбот опустил свечу. Где же здесь Нафисат?
— Нафисат, няня моя! — забыв обо всем, позвал Касбот так, как звал в детстве, когда был трехлетним увальнем, падал, и она, худенькая шестилетняя девочка, изо всех сил поднимала его. — Нафисат!
Вслед за Касботом сошли все, в яме стало тесно.
— Может, ты обманываешь, чтоб время оттянуть? — сердито спросил Сергей. — Тогда тебе отсюда живым не уйти.
— Нет, еще вчера проверяли, была здесь, — испуганно ответил начальник тюрьмы. — Вот сюда посветите-ка… сюда.
И огонь, колеблясь точно от ужаса, осветил угловатые очертания человеческого тела, истлевшую солому, клочья ткани, дне босые ноги, грязные и очень худые… Встав на колени, Касбот коснулся их и со стоном, точно ожегшись, отдернул руку: они были холодны, холоднее камня… Одной рукой держа свечу, Касбот другой рукой нашел лицо, пушистые широкие брови, холодный заострившийся нос, оскаленные зубы. Губы были липки и окровавлены, запекшаяся кровь была повсюду — на раскрытой сухой груди, на животе, который в сравнении с худым телом казался огромным…
— Касбот, братец дорогой, — сказал, вдруг всхлипнув, Комлев. — Давай-ка вынесем ее отсюда, нельзя ее здесь оставлять.
— Нельзя оставлять, — подтвердил Касбот и взял на руки жалкий труп. — Мы ее в горы унесем, там, на нашем родовом кладбище, схороним.
Они вышли из подземелья. Двор тюрьмы был пуст и потому казался особенно большим. Снег уже переставал идти, и только из глубины черного неба падали отдельные снежинки.
Одинокая фигура с винтовкой приблизилась к Касботу — это был один из веселореченцев.
— Пока тихо. Но в любой момент враги могут опомниться, — сказал он. — Я отправил наших людей из города и остался здесь с тремя товарищами. Одного я поставил у ворот, другой сторожит пленных. — Он оборвал русскую речь и спросил по-веселореченски, обращаясь к Касботу: — Сестра наша?
— Сестра, — сказал Касбот. — Возьми ее и уходи, я догоню тебя.
Тот кивнул головой и осторожно взял на руки тело Нафисат, он понял намерение Касбота.
И хотя разговор происходил по-веселореченски, Комлев понял, почему Касбот передает драгоценную ношу.
— Я с тобой тоже пойду, — сказал он.
4
Поимка Науруза обещала Осипу Ивановичу Пятницкому крупное продвижение по службе. Убедившись, что Науруз не идет на помощь своей подруге, как это было хитроумно задумано Осипом Ивановичем, он начал требовать, чтобы Нафисат указала, где и у кого прячется Науруз, и назвала его сообщников. Нафисат молчала. Тогда-то и начал свирепствовать арабынский пристав. Он заставлял Нафисат часами простаивать на каменном ледяном полу, избивал ее палкой и обливал соленой водой. Потом начались пытки, воскрешенные Осипом Ивановичем из страшных застенков средневековья: пошло в ход подвешивание за руки, раскаленное железо…
Только жалобные стоны сквозь стиснутые зубы удавалось вырвать у Нафисат, и это было единственное удовлетворение, которое получал пристав.
С первой же встречи с Нафисат, в ту памятную ночь, на облаве в горах, когда она попалась ему в руки и, смело взглянув своими блестящими глазами, назвала его псом, Осип Иванович возненавидел эту девчонку едва ли не больше, чем Науруза, сокрушительный кулак которого чуть не отправил Осипа Ивановича на тот свет. Даже жена Осипа Ивановича, полновластная хозяйка дома, называла мужа на «вы» и по имени-отчеству, а когда он входил в комнату, вставала. Не только женщины, но и такие, как Джафар Касиев, бледнели от неподвижного, снизу вверх, жабьего взгляда светлых глаз арабынского пристава. А эта — смотрит и глаз не отводит. Тоненькая, кажется, схвати и сломишь, а не ломается и не гнется.
А когда было установлено, что Нафисат беременна, Осип Иванович стал неистовствовать еще более. Теперь он палачествовал уже ради самого палаческого искусства, так как понимал, что ничего не сможет добиться от своей жертвы. В его монотонной жизни появилось развлечение, и он каждый раз не без удовольствия шел терзать Нафисат.
Она уже кашляла кровью. Все тело ее было в ранах, и едва они начинали заживать, как после каждых новых пыток вновь открывались. Доведенная до горячечного состояния, она потеряла представление о реальности всего происходящего. И пристав действительно казался ей отвратительной, со слюнявым и кровавым ртом бешеной собакой, хрипло лающей, своими клыками и когтями рвущей ее тело. Нафисат будто наяву оказалась в мире страшных сказок, и, так как сказочный мир с детства не был для нее отделен от мира действительности, она даже не удивлялась тому, что попала на растерзание такой сказочной лютой собачище, — Нафисат точно предчувствовала, что та гордая и трудная тропа, на которую она вступила, избрав своим мужем Науруза, должна была привести ее в долину ужаса. Но в сказках на помощь жертве обязательно приходит мститель-избавитель, и она его ждала.
Первое время заключения она вспоминала о Наурузе и звала его на помощь. Но потом в бредовом мире мучений, день за днем, неделя за неделей, мысли о Наурузе и о счастье быть с ним стали вызывать такие приступы горя, которые (она это почувствовала) могли поколебать ее сильнее всяких пыток, и она запретила себе думать о Наурузе. С ней теперь оставались только ее сыновья — она была уверена, что родит именно двух мальчиков. Очнувшись на окровавленной, липнущей к открытым ранам соломе, на холодном полу подвала, она по-прежнему ощущала существование своих детей и жадно отыскивала на полу куски хлеба и сырую картошку, которую ей кидали сверху, в амбразуру подвала. Она засыпала, и ей снилось, что два белых сокола летают над нею — это были ее сыновья: «Юсуф и Жакып». А потом уже эти птицы стали прилетать наяву. И во время самых страшных пыток она призывала их на помощь.
— Юсуф? Жакып? — бесновался пристав. — Кто такие?
— Вот они, здесь, соколы, белые птицы, — отвечала она. — Их заковали в стране снега и льда. Но они разбили темницу, прилетели ко мне.
— Бежали из заключения? Бежали, да? Это друзья твоего Науруза? Да? Отвечай, чертовка!
Но едва произносилось имя Науруза, как Нафисат смыкала губы, и опять ничего, кроме стона, не мог от нее добиться Осип Иванович.
Под действием пыток она уже давно потеряла рассудок, и пристав не догадывался об этом только потому, что его самого нельзя было признать душевно нормальным человеком, — то свирепое бешенство, во власти которого он находился, было для окружающих неизмеримо опасней и отвратительней водобоязни.
Подобной болезни подвержены бывают палачи и по призванию и по вдохновению, это болезнь угнетателей, и только беспощадной расправой угнетенных над ними пресекается подобная болезнь.
* * *
Осип Иванович находился в состоянии полудремы, когда дребезжащий звонок вдруг разбудил его. Он сел и прислушался. Жена, потревоженная этим движением, тяжело повернулась и со стоном вздохнула. Звонок повторился, настойчивый, решительный. Никто в Арабыни не осмелился бы поднимать такой трезвон. Это мог быть только звонок нарочного из Краснорецка — от генерал-губернатора. Накинув халат и сунув ноги в мягкие туфли, пристав упруго, мячиком, сбежал по лестнице и, не спросив, кто его беспокоит — он уверен был в том, что увидит нарочного из губернии, — открыл дверь. Его рывком схватили за руку, выдернули на улицу и мгновенно сунули в открытый рот (Осип Иванович хотел закричать) какую-то грязную тряпку, пахнущую оружейным маслом и кровью.
«Какой страшный запах!» — мелькнула в глубине сознания мысль. Перед ним стояли солдаты с винтовками — два или три…
Обозначился рассвет. За ночь выпал первый снег, горы белели сверху донизу, и только массив батыжевского сада чернел у самого основания близких округлых холмов. Воздух чист, мир прекрасен… Осип Иванович захрипел и дернулся.
И тут же один из солдат, круглолицый, скуластый, с покусанными в кровь губами, взял на изготовку свою с примкнутым штыком трехлинейную винтовку.
— Жить хочешь? — спросил он нерусским говором. — А другим жить не даешь? Кричать хочешь? А сколько времени наша Нафисат от тебя кричала? Теперь иди в загробный мир, будешь для нашей Нафисат на том свете воду носить.
Касбот говорил на веселореченском языке, но имя Нафисат все объяснило Осипу Ивановичу. Поняв, что это пришла смерть, он стал дергаться, отчаянно оглядывая мир, ища, кто бы пришел ему на помощь. Но кругом было безлюдно. Осип Иванович твердо знал, что помощь должна прийти, только бы не опоздали, он знал, что сила порядка одолеет прорвавшуюся силу мятежа. Но что до того — ведь тогда его уже не будет… И вдруг он замер, даже обвис на руках у своих врагов. Среди белесоватой серости окружающего появилось одно необыкновенно яркое и свежее пятно: красный, медленно пошевеливающийся флаг над тюрьмой. Это Комлев, раньше чем покинуть тюрьму, поднял над ней красное знамя. Свежий ветер с гор едва колебал его. И тут душа Осипа Ивановича умерла — карающая революция пришла к нему на год раньше…
Проследив за направлением взгляда потускневших и заслезившихся глаз пристава, Касбот спросил, кивнув в сторону флага:
— Увидел?
И, дав полное утоление взлелеянному в продолжение последних недель чувству мести, Касбот тем привычно ловким и сильным движением, которому его так тщательно обучали во время строевых занятий, вогнал штык в тело Пятницкого, вогнал глубоко, до самого сердца. Выдернул и ударил еще два раза.
— Готов, — сказал Комлев, отпустив тело пристава, оно мягко шлепнулось на свежий, быстро заалевший снег. — Пошли.
И когда они, приняв вид военного патруля, обходившего город, посредине улицы в ногу отошли на квартал от дома пристава, отчаянный женский крик заставил их вздрогнуть и оглянуться…
Женщина в темной шали стояла над телом Пятницкого. Еще два раза во весь голос крикнула она и упала на тело мужа.
— Плачь, плачь, мы тоже плакали, — сказал Касбот.
Комлев взглянул на его лицо и отвернулся, оно показалось ему страшным.
5
Проснувшись в обычное время, Василий удивился странной тишине, господствовавшей в доме. Мать строго настрого запретила ему вставать голодному — она сама приносила сыну еду, — и Вася терпеливо ждал ее появления, но она все не шла. «Наверно, помогает Касботу», — подумал он. От Надежды Петровны Василий знал, что она взялась быть связующим эвеном между Комлевым и Касботом.
Сергей Комлев и другие арестованные солдаты сидели в той же тюрьме, что и Нафисат, но в другом флигеле, построенном в более позднее время. Изолированное нападение солдат горцев на тюрьму с целью освобождения Нафисат почти никаких шансов на успех не имело бы. Но нападение на тюрьму, изнутри поддержанное бунтом арестованных солдат, открывало возможность освободить не только Нафисат, но и других узников.
От Гамида Василий знал, что Касбот собирается, освободив Нафисат, вместе с нею и другими своими соплеменниками уйти в горы и укрыться там.
Может быть, Комлеву с освобожденными солдатами лучше всего уйти вместе с горцами? Они могут составить ядро революционного отряда и еще пригодятся.
Но, может быть, события пойдут еще стремительней. Все говорило о том, что отсрочка революции, которую получил царизм, ввязавшись в 1914 году в империалистическую войну, приходит к концу. Позорные неудачи на фронте и небывалое, известное всему народу разложение среди правящих кругов, связанное, в частности, с именами Распутина и Алисы — иначе теперь не называли царицу, подчеркивая ее немецкое происхождение, — все говорило о близости бури. Народ негодовал против подлого поведения буржуазии, наживающейся на спекуляции и биржевых махинациях. Голодные очереди в городах и бунты солдаток, у которых полицейские власти не стеснялись зажиливать скудное пособие, исчезновение промышленных изделий в деревне и обнищание бедноты и солдатских семей, то и дело вспыхивающие по стране солдатские бунты и начавшиеся поджоги помещичьих имений — все свидетельствовало о том, что гроза приближается. Снова началось со всех промышленных городах стачечное движение, под большевистскими лозунгами зарево революции вставало над страной.
В этих условиях кто может заранее предсказать, как обернутся события в Арабыни? Нужно было только обеспечить влияние на их ход через посредство людей, участвующих в событиях.
Василий так глубоко задумался, что не заметил, как вернулась мать. И когда она вошла в комнату с подносом, на котором стояло горячее молоко и яичница, Василий залюбовался ею — такая она была оживленная, помолодевшая, с ярким и свежим румянцем на щеках.
— Заждался? — спросила она. — А как спал?
В этом вопросе сын почувствовал какую-то скрытую шутку и вопросительно посмотрел на мать.
Она подсела к нему и сбивчиво стала рассказывать о событиях этой ночи. Произошло все то, что он и предполагал. «Итак, у нас есть в горах вооруженный отряд, — думал он. — Надо будет сообщить в Краснорецк».
— Удалось освободить эту бедняжку? — спросил он.
Мать заплакала, и Василий все понял.
— Бедный Науруз!.. — сказал он.
А ведь гада-то этого, пристава, убили, все утро на улице валялся, у крыльца.
— Собаке — собачья смерть, — сказал Василий. — Жаль только, что не пришлось его судить по всей революционной форме.
Часть четвертая
Глава первая
1
Все словно спит в этой огромной долине, где протекает Кура. Даже облака, под которыми скрыты сейчас Большой и Малый Кавказ — два хребта, ограничивающие Великую долину, — даже эти облака, синие и плоские снизу, кудрявые и белые сверху, как будто застыли и не меняют своих очертаний. И так огромны эти две уходящие ввысь горные стены, что в сравнении с ними все кажется приземистым и маленьким: и огромные, то там, то тут растущие чинары, поднявшие свои темно-зеленые шапки среди арыков и полей, и даже самый город Елисаветполь, с его тонкими минаретами и церковными главами, белыми домами и старыми крепостными стенами.
Час еще ранний, солнце не встало, все неподвижно, все спит. И только по старому почтовому тракту, по щербатым камням его, легкой трусцой бежит сытенькая смирная лошадка рыжей масти и тащит за собой линейку-долгушу, нечто вроде усовершенствованной телеги, где сидеть можно, только спустив ноги или на одну, или на другую сторону, с опорой на длинную подножку. Смугленькая черненькая девочка лет тринадцати в шелковом нарядном платьице, с невыспавшимся лицом, полулежала на подушках, сплетя руки и положив их под голову. Ее не по-детски суровый рот полуоткрыт. Приподняв темные, слабо намеченные брови, она смотрела на небо — наверно, заснула бы, но тряская езда мешала. Звали ее Айбениз, что значит: луноликая.
Лошадью правил отец этой девочки Мир-Али-Бала Абасов. Девочка похожа на отца. У него такое же продолговато-смуглое лицо, и взгляд из-под длинных ресниц так же спокойно-внимателен, и даже очертания рта и носа, как у дочки, такого же рисунка и брови. Тонкие черные усы обрамляли его рот, как бы повторяя рисунок бровей. Мир-Али — преподаватель русского языка и литературы в маленьком, населенном исключительно азербайджанцами уездном городке Елисаветпольской губернии. Окончив так называемое татарское, то есть предназначенное для азербайджанцев, отделение учительской семинарии в Гори, он на всю жизнь остался приверженным к русскому образованию и к русской литературе. Двое сыновей его учились в реальном училище в Елисаветполе, и ему хотелось, чтобы светское образование получила и любимая дочь Айбениз. Но мысль о том, чтобы отдать Айбениз в женскую гимназию и оставить ее где-нибудь в Елисаветполе на квартире в знакомой азербайджанской семье, ему, а тем более жене его казалась невозможной. Тогда он сам начал проходить с ней гимназический курс, год за годом. А в этом году, весной, впервые повез он девочку в Елисаветполь, и она при женской гимназии сдала экзамен за пять классов, сдала превосходно, на круглые пятерки. Это было очень приятно.
Чтобы до ночи вернуться домой, Мир-Али еще на рассвете запряг лошадку, разбудил крепко спящую девочку, и вот они по сонным улицам города выехали на широкую, перерезанную арыками равнину. Ехали они уже более получаса, а по обе стороны дороги все одно и то же: надгробные камни, или стоящие прямо, стоймя, или накренившиеся, а то и вовсе упавшие. На них можно разглядеть арабские буквы, местами полустершиеся и потому однообразные. Жалобные эти обращения к аллаху, начертанные на камнях, звучали бессвязно, словно те слова, которые человек произносит перед смертью, в агонии. Заметив, что дочка отвернулась от земли и смотрит на небо, Мир-Али сказал:
— Большое кладбище. Ни один город в долине Куры не имеет такого огромного кладбища, как Гянджа. Да и вся эта местность, где сейчас едем, представляет собою огромный старый город — старая Гянджа. Приглядись. Видишь остатки старых стен? Это граница древнего города, он был довольно велик. Приглядись к той земле, по которой ступают копыта нашей лошади. Видишь, порой самой причудливой формы разноцветные камешки втоптаны и песок? Это все черепки посуды… Погибают города, люди, книги, а черепки остаются. Они свое скажут!
Отец замолчал, девочка, повернувшись, взглянула на дорогу, под копыта лошади.
— Наши муллы, которые все на свете начинают от корана, — заговорил Мир-Али, — утверждают, что построили этот город арабы, когда они огнем и мечом утверждали здесь коран. Но муллы могут говорить все что угодно — камни говорят правду. Пока ты была в школе на испытаниях, я прошел вдоль той части стены, где пробои наиболее значительны. Там под стенами тысячелетней давности можно обнаружить еще более древние: их складывали, не употребляя связывающего цемента, а просто накладывая один сырой кирпич на другой. Отвердевая, кирпичи сливались воедино, срастались навеки. Даже и сейчас видно, что эти древние стены сложены из множества отдельных кирпичей, но отделить один кирпич от другого невозможно, и эту часть стены не могли сокрушить даже пушки. И знаешь, что особенно взволновало меня? Эта самая древняя часть стены, основа ее, уже сложена в виде правильного четырехугольника, а углы городских стен обращены к четырем странам света. Так строили города в те древнейшие времена, когда первые открытия в сфере точных наук казались откровениями богов. Значит, наша Гянджа построена в те времена, когда геометрию и механику употребляли в Египте для строительства пирамидального вида усыпальниц фараонов и когда в Вавилоне первые обсерватории были неотъемлемой частью храмов. Совсем иначе построены города ислама: их мечети все обращены в сторону Мекки, и соответственно этому расположены площади и улицы. Нет, старая Гянджа много старше ислама. Ислам возник там, где караванные пути пересекают великие пустыни, это религия кочевых купцов и кочующих разбойников. Не только ислама, но и христианства еще в помине не было, когда на таких вот плодородных речных долинах возникали первые очаги человеческого труда и культуры, — в долине Нила, в междуречье Тигра и Евфрата, а здесь, у нас в Закавказье, — между Арагвой и Курой, между Курой и Араксом. Еще великий Низами, хотя он и жил во времена свирепых войн, превративших в пустыни эти места, так говорил о нашей родине…
И Мир-Али, раскачиваясь, нараспев прочел стихи Низами, которые, казалось, сами благоухали цветами. В них воспевался этот опоясанный Курой край цветов: райским рощам подобные рощи на берегах ее, луга, где круглый год благоухали вечнозеленые травы, край, где весенние ветры веют зимой и куда суровый дей (январь — декабрь) приходил в одеянии цветов. Здесь было место сборища птиц со всей земли; нужно тебе любое птичье перышко — ищи его здесь.
При последних словах суровые губы девочки шевельнулись, она грустно усмехнулась: вокруг была засоренная черепками пустыня, сборище могил, заросшие развалины, С грустной нежностью задержался взгляд ее на приземистом кирпичном здании, возвышавшемся совсем неподалеку. Жадно, как медовое питье, впитывала Айбениз произносимые отцом стихи. И красные камни мавзолея своим немым языком подтверждали достоверность той картины, которую написал великий гянджинец, — здесь он был похоронен.
— И он это видел, — прошептала она.
Хотя она сказала совсем тихо, точно выдохнула эти слова, отец услышал их, понял ее и, обернувшись, с волнением ответил:
— Да, он это видел, он жил здесь, и народ наш вот так же, как ты, говорит: «Он это видел», — и надеется на лучшие времена. А об этом мавзолее мне удалось кое-что выведать у старого Зульфагара-ага. Он потом притворялся глухим и клялся, что мне это почудилось, но что сказано, то сказано.
Он говорил, невольно возвышая голос, так как с запада нарастал грохот ни с чем не сравнимый — бодрый грохот приближающегося поезда. Поезд уже весь стал виден: дымно-черная голова и членистое, пестрое тело — поезд был пассажирский. Быстро мелькали вагоны между старинными усыпальницами, древними камнями и массивными чинарами. Паровоз оглушающе крикнул, и Мир-Али замолчал, так и не закончив своего рассказа. Он придержал лошадь, невольно залюбовался поездом, и мысль, которая рождалась у сотен, тысяч и миллионов, мысль о невиданной мощи нового века пришла ему в голову.
Отец и дочь наблюдали за поездом. Он совсем близко пробежал мимо них, потом изогнулся, следуя мерному закруглению железнодорожного пути, стал замедлять ход. И вдруг дочь схватила отца за руку: кто-то выпрыгнул из поезда. В воздухе мелькнула фигура человека, широко раскинувшего руки, как бы готового взлететь, мгновенно возникла в воздухе и исчезла… Поезд стремительно уходил, уменьшался…
— Ты видел? Он выпрыгнул!
— Да. Это безумие. Наверно, разбился.
— Нет, нет! Поможем ему!..
И Айбениз, не слушая предостережений отца, соскочила и легко, как можно бежать только тринадцати — четырнадцати лет, перепрыгивая через камни и ямы, понеслась в ту сторону, где должен был находиться тот, кто выпрыгнул из поезда.
Вот и железнодорожный путь. Человек в форменной фуражке железнодорожника склонился над неподвижным телом.
— Живой? — опросила она по-азербайджански и, видя недоумение в поднявшихся на нее светло-серых глазах, повторила вопрос по-русски.
— Пока еще живой, — не очень охотно ответил железнодорожник, — а что дальше будет… хрипит очень…
И верно, тот, что, раскинувшись, лежал на земле, со стоном хрипел. Это был красивый, могучего сложения молодец. Ей казалось, что именно такого она и ожидала увидеть, когда бежала сюда. Но на ее глазах живой и яркий румянец погасал на этом лице, оно становилось бледнее, желтело, конвульсия ползла по всему телу, его вырвало с кровью, с желчью… Он откинулся назад и затих. Железнодорожник (это был путейский сторож, будка видна была из-за цветущих кустов) приник к его груди.
— Жив.
И радостным эхом повторились эти слова в душе девочки.
— Сотрясение мозга, — озабоченно произнес из-за ее плеча голос отца.
Железнодорожник взглянул на лошадь, которую Мир-Али держал под уздцы, и сказал в раздумье:
— Надо бы его деть куда.
— В больницу? — быстро спросил Мир-Али. — Мы можем вернуться в Гянджу.
Но сторож, как бы не слыша его, продолжал:
— Поезд не остановился, значит жандармы — это он от них, наверно, скрывался — не видели, как он выпрыгнул, и ищут его по вагонам. Через пять минут поезд дойдет до станции, ну, клади еще минут десять или двадцать, пока паровоз подадут. Через полчаса могут за ним приехать.
— Кто? — удивленно спросил Мир-Али.
— А те, кто за ним гнался, — с усмешкой, сразу оживившей его изрезанное морщинами лицо, ответил сторож. — Это можно только от большой беды прыгать с поезда на ходу.
— Какой беды? — спросила Айбениз.
Сторож искоса скользнул взглядом по ее взволнованному лицу и быстро стал выворачивать карманы пиджака и брюк молодого человека, продолжавшего лежать неподвижно. Спички, несколько медных монет, пестрый, как хвост павлина, кисет, но пустой, без табака. Ни паспорта, ни одной письменной бумажки. Он сунул руку за пазуху лежавшего — и по неподвижному, с крепко стиснутыми зубами лицу прошло содрогание, даже глаза открылись на мгновение, карие и ясные, как солнце. И снова лицо помертвело, выражая лишь застывшее страдание. В руках сторожа была ладанка, искусно сделанная из кожи, маленькая, туго затянутая тоненьким ремешком. Ремешок тут же развязали. Отверстие, которое стягивал ремешок, раздвинули. Большие, ловкие пальцы железнодорожника достали оттуда лист бумаги, развернули… Две арабские буквы значились на нем.
— Два арабских «ба», — сказал Мир-Али. — Что бы это могло значить? Во всяком случае, человека надо спасти.
Айбениз взглянула на него благодарно и с гордостью: «Вот какой у меня отец!» Но он ничего не заметил, он обдумывал положение.
— Увезли бы его куда, — настойчиво повторял сторож. — А то ведь за ним приедут. Если его здесь не найдут, я уж как-нибудь отбрешусь.
— Да, мы увезем его. Айбениз, устрой, чтоб мягче было лежать, взбей подушки.
— Сенца бы подложить, — я только вчера с вечера накосил, — сказал сторож. Видно было, как он сразу повеселел.
Большую охапку свежего, душистого сена, первого сена, в котором так много всегда желтых и синих цветов, принес он, завалил им всю линейку и помог Айбениз поудобнее умять его.
Хотя Мир-Али и сторож с величайшими предосторожностями подняли не приходившего в сознание молодого незнакомца, его все же опять стошнило. Айбениз положила ему под голову свою маленькую узорчатую подушечку, подарок бабушки.
Лошадь тронулась.
— Прощайте, добрый человек! — сказал Мир-Али. — Вы, значит, нас не видели, мы незнакомы.
— Езжайте, отопрусь, — подняв фуражку, сказал железнодорожник.
Повозка тронулась, и Айбениз, увидев, как по неподвижно-страдальческому лицу человека при первом же движении пробежали судороги, повинуясь какому-то инстинктивному побуждению, подсунула свои ладони под его тяжелую голову и, сообразуясь с медленным покачиванием линейки, стала предохранять джигита от сотрясений.
Поглощенная этим, она не следила за дорогой и не вслушивалась в то, что говорил отец. Только когда линейку вдруг сильно встряхнуло на ухабе, из стиснутых зубов незнакомца вырвался стон. Айбениз сердито подняла голову и увидела, что они едут по какой-то другой, неизвестной ей дороге, что вокруг поднимаются скалы и вода бежит где-то внизу, в ущелье.
— Куда мы едем, отец? — спросила она.
— Так я же говорил тебе, — удивленно ответил отец. — К дедушке Авезу. Никому не придет в голову искать там молодого человека.
2
С того момента, когда Науруз, преследуемый с двух концов поезда облавою, вынужден был выброситься из поезда и ударился о землю, ему казалось, что он с еще большей стремительностью летит в каком-то рдеющем пространстве, среди ослепительных болевых молний, то и дело пронизывающих его всего. И вдруг нежные, единственные в мире руки, руки Нафисат, нашли Науруза в этом красном мерцающем мире и откуда-то сверху, непостижимо как, охватили его голову.
Болевые молнии теперь, пожалуй, падали реже, но по-прежнему были остры и жгучи. И все же его «я» очнулось и начало борьбу за себя. Возникло ощущение иного, не стремительного, а медленно-потряхивающего движения. Правда, порой жгучие молнии вновь переносили Науруза в мир стремительного полета, но руки Нафисат были с ним и удерживали его… И еще что-то непередаваемо-родное овладело его восприятием — он давно уже, сам того не сознавая, с наслаждением вдыхал запах свежего сена, на котором лежал, и оттуда возникло первое представление: «Нафисат увозит меня на пастбища».
Нет, это были еще не слова, это было похоже на какой-то напев, успокоительно мерный, и Науруз заснул. То, что он уснул, Айбениз сразу поняла: гримаса, сковывавшая его лицо, смягчилась, и дыхание стало мерным и спокойным.
— Отец, он заснул, — тихо сказала она.
— Это хорошо, — ответил отец.
Солнце низко висело над каменными горами, окрашивая их в какой-то красный, дикий и печальный цвет. Путники довольно высоко поднялись в горы.
— Мы будем ехать всю ночь? — спросила Айбениз.
— А ты устала? Потерпи, девочка, скоро мост, за мостом есть небольшая пещера, там можно будет переночевать.
Она долго молчала. Красный свет на горах становился все печальнее, он постепенно погасал. Солнце ушло за горы, горы почернели. И вдруг красный, но совсем другой, чистый и радостный, такой, какой бывает на небе, свет вспыхнул там, куда ушло светило.
Айбениз тихо спросила:
— А сколько еще речек нам осталось проехать?
Отец засмеялся.
— Кто же их считал! Реки и ручьи, арыки, вброд и через мосты…
— А сколько мостов? — спросила Айбениз — и так тихо, что он не расслышал, и она обрадовалась этому.
Если бы только отец мог догадаться, какую странную мысль пробудило у его дочери упоминание о том мосте, после которого им предстоит ночной привал. Она вдруг подумала: «Третий мост, еще четыре осталось». И, как бы отвечая вспыхнувшим в тот момент краскам закатного неба, яркий румянец загорелся на ее смуглом лице.
Еще четыре моста переехать с этим молодцом, голову которого она держала на руках, с этим отважным героем, жизни не пощадившим за какое-то благородное дело, — и она навеки не расстанется с ним, станет его женой.
Семь мостов только нужно переехать вместе с любимым, чтобы никогда с ним не расставаться, — эту старую песню пела ей бабушка. И как ни стыдила себя Айбениз, как ни пыталась отогнать от себя прочь эту назойливую, тревожащую мысль, она не покидала девочку.
Неполная луна, туманная и печальная, высоко висела над землей. Науруз был спокоен, только раз вздохнул, взглянул не то на нее, не то на небо и прошептал:
— Нана…
«Он за мать меня принял», — подумала Айбениз, и слезы счастья выступили у нее, и она не могла их вытереть, так как руки ее были под головой Науруза…
На следующий день с утра они тронулись и три раза подряд вброд переезжали ручьи. А потом перед ними оказался мостик, до того старый и ветхий, что отец призадумался, а у Айбениз дрогнуло сердце. «Сейчас вброд пойдем», — подумала она. Но нет, ручей под мостом ревел слишком внушительно, и отец, ласково понукая заупрямившуюся лошадь, заставил ее вступить на сотрясающийся мостик.
— Это не мост, а искушение шайтана, — облегченно сказал отец, едва они перебрались на другую сторону.
Айбениз сказала себе весело и смущенно: «Четвертый, четвертый мостик!» — И она смелей стала разглядывать мужественное лицо, на которое сегодня вернулся румянец.
Науруз проспал весь день… Она вливала ему в рот воду — он жадно пил. Попробовала дать ему каймака — его вырвало.
День длился и длился, а дорога все вилась и вилась и уходила выше, каменистая, кое-где размытая весенними дождями. Мостов то долго не было, то вдруг один следовал за другим. Два раза подряд пришлось перебираться по мостам с одного берега на другой. И когда перед ними на высокой горе возник город, в бесчисленных окнах которого отражалось солнце, Айбениз могла считать себя дважды обрученной. Через шестнадцатый мост перебрались они уже возле самого городка.
* * *
Это был тот самый город, где в доме при мечети прожил всю свою жизнь дедушка Авез, отец матери Айбениз, он же Авез Рассул оглы, довольно известный среди народов Ближнего Востока поэт и философ, у которого в свое время побывал Буниат.
Расположенный верстах в семидесяти от железной дороги, город стоял на высоте летних пастбищ. Сюда с весны вместе с табунами откочевывали жители знойных долин — азербайджанцы и армяне. В летнее время с плоских крыш и балконов, а также с некоторых возвышенных мест города видны были прорезанные ущельями и поднимающиеся к ледникам неровные зеленые просторы, пестрые кибитки и пасущийся скот, словно рассыпанный горох — белый, рыжий и черный.
И так же, как горами, город этот окружен был легендами и сказками, их и посейчас неустанно записывал старый поэт. Родившись здесь и прожив всю жизнь, он и теперь на очередной встрече прочитывал иногда своим друзьям стихи, в которых воспевался родной город, сказочное местоположение его, таинственное прошлое, светлое будущее. Писатель Ахвердов, любивший посещать дом Авеза, с удивлением и восторгом говорил:
— Там, где я вижу стада безмозглых баранов в человеческом образе, которых я назвал шутки ради, в духе традиций восточной поэзии, «мои олени» — стадо тучных обжор, развратников, пьяниц и святош, — там видишь ты чертоги, населенные мудрецами.
— Наверно, мы оба правы, — с усмешкой отвечал поэт. — Если бы жители нашего города узнали, что хозяин вон той мастерской, что ютится в подвале, известный в городке под прозвищем «нелюдимый курд», Сулейман Мамед оглы, мрачный неразговорчивый человек, сочиняет басни, и такие, что мы с тобой завидуем, то они очень удивились бы. Они видят вон ту вывеску «Аптека» и подсмеиваются над чудаковатым лысым кругленьким хозяином ее Геворгом Ханаяном, а ведь мы знаем его как великолепного кеманчиста и лучшего знатока вин. Что они знают о чиновнике межевого ведомства Илье Андреевиче Петрищеве, кроме того, что он единственный из всех русских чиновников не играет в карты? А мы с тобой знаем, что в нашем друге Илье Андреевиче, которого мы называем Ильяс-ага, может быть погиб второй Шаляпин. Знают ли они, что разорившийся дворянин Рустам-бек — а он живет один в своем обветшавшем, заросшем травой доме и неизвестно чем кормится — является замечательным историком?
И пока маленький старичок в стоптанных туфлях на тоненьких ножках, поглаживая свою реденькую и кудрявую бородку, в заплатанной чохе, измазанной красками, произносил эту напыщенную, немного старомодную речь, которая вот-вот может перелиться в стихи, саркастические морщины на внушительном, умном, украшенном красивыми усами лице Ахвердова разгладились, ласковое веселье зажглось в его крупных серо-голубых глазах…
Дедушка Авез замолк, а Ахвердов в таком же тоне и в такой же старинной традиции продолжил:
— И кто из жителей нашего городка знает, что чудаковатый старикашка, живущий при мечети и по должности своей вечно враждующий с муллой, нарисовавший чуть ли не все вывески города и не пренебрегающий малярными работами, за свою жизнь переписал от руки несколько сотен редчайших книг и создал около десятка своих собственных и что песни его поют по всему Востоку?.. А там, где я вижу вонючий и дикий городишко, в котором мулла и священник соперничают между собой в невежестве, фанатизме и низкопоклонстве перед господином исправником, там видишь ты подоблачный чертог мудрецов. Что ж, друг Авез, видно, таково свойство твоего высокого ума.
Городок этот при всем своем подоблачном положении был одним из тысяч уездных городков Российской империи. В городке сидело полагающееся для него уездное начальство и чиновничество, пропадало со скуки и пило горькую, писало друг на друга доносы губернскому начальству, вертелось в клубе, играло в карты, дралось и танцевало завезенные с Запада танцы. Еще нужно добавить, что городок этот был местом ссылки самых нерадивых, в чем-либо проштрафившихся и невежественных чиновников. Народа они, конечно, не знали и знать не хотели, а лишь снисходили к местному купечеству — и то потому, что были с ним связаны взяточничеством. Тем, как живут населяющие город ремесленники, землепашцы и садоводы, они не интересовались.
Правда, исправнику было известно, что у проживающего при мечети старика Рассула оглы каждый месяц, точнее сказать каждое новолунье — в день рождения нового месяца — собирались почти всегда одни и те же люди (исправник знал их наперечет), но все это люди пожилые, связанные давней дружбой. Подозрительно, конечно, было, что такой видный человек, как член Государственной думы Ахвердов, тоже иногда бывает на этих сборищах. По слухам, почтил Авеза также наезжий из Тифлиса, беспокойный человек Джалил Мамед Кулизаде, редактор журнала «Молла Насреддин».
Но на сборищах этих главным образом пели, рассказывали сказки и пили, впрочем довольно умеренно. Исправник через муллу, ненавидевшего старого Авеза, подослал своего шпика, владеющего азербайджанским языком, — нет, ничего предосудительного на этих собраниях не происходило! Авезу, впрочем, было известно, что их подслушивают. Да и трудно ли подслушать? Пиршества происходили, если не считать зимнего времени, на стеклянной галерее, окна ее постоянно открыты, и хоть не всегда можно было разобрать, о чем говорят, но пение и музыку мог слушать всякий, стоило только подойти к мечети.
Исправник однажды, будто бы разыскивая воров, обокравших мечеть (Авез был уверен, что мечеть ограбили с участием муллы), обыскал все имеющиеся при мечети помещения. Побывал он также в маленькой комнатушке, где зимой происходили эти сборища. Очаг, находившийся в этой комнате и сложенный из самодельных, самим Авезом изготовленных плиток, несколько выдавался вперед, он был предназначен для того, чтобы можно было зажарить шашлык и обогреть комнату. Самый очаг и стены комнаты окрашены в светло-желтый, солнечный цвет, на котором ярко выделялись узоры зеленой листвы, — казалось, что вся комната оплетена ветвями. Яблоки, груши, виноград и сливы висели среди ветвей, разноцветные птицы, летящие и поющие, гибкие змеи с изумрудными глазами и пестро раскрашенными телами, разинув пасти и грозясь смертельными жалами, видны были повсюду.
— Это что? — спросил изумленный исправник.
— Ай, аллах, богохульство! Какое богохульство! Дерзкий смеет уподобиться создателю в изображении живых зверей, — сказал мулла, сопровождавший исправника.
— Это, ваше благородие, изображение рая, — смело ответил Авез. — Видите, здесь и змеи, и яблоки, и змей-искуситель. Нет только изображений людей, но тут я согласен с досточтимым нашим муллой: ислам запретил изображать человека, — да и к чему? Мы сами люди, искушения дольнего мира живут в наших душах, и нам нет нужды изображать их на стенах.
Исправник ушел, за ним — мулла, бормоча молитвы и проклятия.
Исправник не считал эти сборища явлением, достойным внимания. У него была другая работа. Неуловимая чья-то рука продолжала из года в год возмущать народ: прокламации не только Бакинского комитета, но даже порой из Петербурга и Москвы, возмутительные брошюры, явно отпечатанные за границей, продолжали залетать в заоблачный город. Сколько ни изощрялся исправник, он никак не мог поймать эту руку.
«Избранная беседа», — называл себя круг людей, собиравшихся у Авеза. Его самого, самого старшего по возрасту, они тоже, как если бы были его детьми и внуками, называли «дедушка Авез» и считали, что нет у них человека ближе Авеза. И они имели все основания так думать.
— Если аллах из-за десяти праведников сберегает этот город и не сбрасывает его в пропасть, то эти десять праведников и есть вы, мои друзья, — не раз говорил Авез.
Друзья благодарили его за такие лестные слова. Они не знали, что есть у дедушки Авеза тайна и нити этой тайны идут сюда не только из Петербурга, Тифлиса, Баку, но и далеко из-за границы, что имя Авеза знакомо и дорого тому великому учителю, который через горы, моря, через границы и кроваво-огненные линии фронтов шлет лучи своего светлого разума всем угнетенным и порабощенным. Еще со времен ленинской «Искры» лучи эти преломляются в светлой голове Авеза и рассеиваются по всем погруженным во тьму селам и пастбищам Азербайджана…
Отцу Айбениз, Мир-Али, мужу старшей дочери Авеза, кое-что известно об этих потаенных делах тестя, потому-то он и повез к нему этого молодца, который предпочел разбиться насмерть, но только не попасть в руки врагов.
Старик еще ничего не знал об этой новой заботе, которая медленно двигалась к нему со стороны Гянджи. Пока что его отягощала другая забота. Его младший сын, студент технологического института, долговязый Гафиз, приехав на каникулы, привез с собой приятеля, студента этого же института, Мадата Сеидова, сына известного бакинского нефтепромышленника. Это было бы еще ничего, но с ними был также английский корреспондент Кавказского фронта, мистер Седжер, прекрасно говоривший по-азербайджански, армянски, персидски и арабски и несколько хуже — по-русски. Оказывается, Гафиз при первом же знакомстве с англичанином (они познакомились в Баку в доме Мадата) рассказал о замечательных «беседах» избранных, происходящих в начале каждого лунного месяца в доме его отца, как раз тогда, когда, подобный ноготку ребенка — такое сравнение есть в стихах деда Авеза, — молодой месяц повисает над каменными домами города, рассыпанными по горе.
Старику не очень нравился Мадат, его бугристая бритая голова и цепкие глаза. Но англичанин, с его улыбкой, которая вдруг внезапно зажигалась и сразу же погасала на обветренно-красном лице с синими глазами, слишком близко посаженными друг к другу, казался деду Авезу еще более опасным и враждебным человеком.
Конечно, в доме Авеза, хотя жена его была больна и почти не вставала с постели, гостей приняли так, как подобает принимать: истопили баню, угостили обедом и уложили спать.
Старик покачал головой и, шепча любимые изречения из Низами и Омар Хайяма, стал готовиться к традиционному пиршеству. Он решил, что в конце концов если он перехитрил исправника, так перехитрит и этого иностранца и что сегодняшней встрече избранных в его власти придать характер самый безобидный.
Авез, собственноручно зарезав откормленного молодого барана (он считал приготовления к пиршеству слишком важным делом, чтобы доверять это кому-нибудь), освежевав его и разрубив на части, принялся строгать на открытой галерее шампуры для шашлыков; на них каждый из собеседников будет жарить свою долю — таков был установленный обычай на встречах. И вдруг он услышал снизу, со двора, резковатый голос любимой внучки:
— Дедушка, мы приехали!
Он увидел сверху линейку, въехавшую во двор, тревожное лицо зятя и понял, что в этот день еще одна забота свалилась на него.
3
Вина предложены были самые лучшие, и юный Гафиз, едва только замечал, что бокал опорожняется, тут же наливал его. Свежая кровь спеклась на шампурах, шашлыки давали сок, щекочущий ноздри, и зубы сами вонзались в хрустящее, обтекающее жиром мясо. Огонь в очаге прыгал, как веселый рыжий пес на цепи, преданный и свирепый, — он веселился, как всегда. Но на знакомых лицах, которые он освещал, хозяин не видел ответного веселья, принужденны были улыбки и недоверчивы взгляды, бросаемые в сторону присутствующего здесь иностранца в зелено-травянистом костюме, хотя он ежеминутно показывал свои белые зубы, а это должно было свидетельствовать о том, что гостю весело и что он смеется. Англичанин отчетливо произносил любезные слова на правильном, по-настоящему хорошем азербайджанском языке, но так, как он говорил, принято лишь писать на бумаге. Живости разговорного языка не было в этой изысканной речи.
«Огонь горит хорошо тогда, когда все дрова ровно высушены, а огонь нашего веселья не разгорается, потому что в него сунули сырое полено», — подумал дед Авез об англичанине.
Ему хотелось все-таки развеселить людей. «Подброшу-ка я в огонь веток цветущей розы», — подумал он и приказал своему младшему, Гафизу, прекратить беготню. Видно было, что гости уже насытились. Гафиз послушно встал у двери, и другой юноша, молчаливый и смуглый, в черных крупных кудрях, стал исполнять обязанности виночерпия.
— Возьми, Гафиз, кеманчу, спой любовную песню.
— Какую? — покраснев, спросил Гафиз, но покорно снял со стены нарядно отделанную перламутром кеманчу, красновато отсвечивавшую при вспышках пламени.
— Последнюю… Или ты в Петербурге замолк, как кенарь, покрытый черной попоной?
Тут Мадат рассмеялся.
— Нет, почтенный хозяин, даже серая попона петербургского неба не потушила пламени вдохновения вашего сына, — сказал он. — Спой, Гафиз, ту, что пел нам в Баку.
— А, Кара-гиле, Кара-гиле… — рассмеялся Гафиз, и ямки обозначились на его румяном лице. — Послушай, отец, и скажи, удалась ли мне песня, — сказал он, подняв почтительно-робкий взгляд красивых глаз на отца, перебирая и при этом поправляя струны.
И вдруг полился серебристый звон кеманчи, а Гафиз, сделав лицо одновременно умоляющее и строгое, нежным, но как бы прерывающимся от рыданий голосом стал на нитку мотива нанизывать слова, издавна выражающие любовную страсть. Ничего особенно нового не было в этой песне о юноше, прокравшемся в комнату, где девушка спит одна среди роз. Юноша боится потревожить сон девушки, и хочется ему разбудить ее, чтобы увидеть черный зрачок… Кара-гиле, Кара-гиле… В этом настойчиво-страстном, как бы задыхающемся повторении слова «Кара-гиле», являющегося одновременно именем девушки, была вся незамысловатая, но свеже-благоухающая прелесть песни, в которой куст розы, колеблемый ветром, ронял лепестки на черные, лежащие на белой шее кудри, на цепь кудрей. А эта метафорическая цепь позволила певцу сразу же со страстью воскликнуть: «Я в цепях твоих, Кара-гиле!»
И снова розы, увядшие розы, которые поэт обещает освежить своими слезами… Похоже было, что в огонь очага действительно подбросили цветущие ветви роз, казалось, что их маслянистое благоухание разлилось по комнате. И чудное дело! Глаза у всех приобрели тот живой, веселый блеск, который не придали им ни вкусная еда, ни пьяное вино. Все зашумели, заговорили, восхваляя молодого поэта…
— Ты можешь спокойно умереть, Авез, твой калам попадет в достойные руки, — сказал старинный приятель Авеза и сверстник его, худощавый седоусый Рустам-бек, в бархатном зеленом, когда-то щегольском, а теперь сильно потертом архалуке. Авез поблагодарил старого друга за благородные слова. Сам он, любя Гафиза и ценя его, в глубине души был, однако, уверен, что способность писать стихи покинет Гафиза вместе с молодостью и что унаследовать мудрый калам Авеза Гафизу не придется.
Но сейчас стихи Гафиза сделали свое дело. Все оживились, послышались шутки и смех, в комнате стало весело и шумно, как всегда во время таких вечеров. Хозяин, перемигнувшись с одним из присутствующих — лысым и веселым кривоносым аптекарем, достал старинную, слегка помятую широкую чашу с полустершейся надписью. Аптекарь, весь сияя от удовольствия, подал Авезу-баши пузатенькую глиняную с коротеньким горлышком бутылочку, и темно-красное, пахнущее виноградом вино, звонко булькая, как бы напевая, полилось в чашу. Все умолкли. Сейчас, на кого Авез-баши укажет, тому предстоит рассказывать. А рассказать нужно что-нибудь неслыханное, может быть даже недостоверное, но такое, что было бы или поучительно, или остроумно, или уносило бы в мир поэзии.
Держа чашу в руке и поглаживая свою маленькую бородку, хозяин обвел взглядом всех собравшихся — и многие смущенно отвели от него глаза. А Сулейман-оружейник совсем не поднял взгляда, он точно высматривал что-то на полу.
Загорелись глаза дедушки Авеза, как загораются у охотника, когда он видит добычу, и с поклоном поднес он чашу старому другу Сулейману-оружейнику. Тот своей большой узловатой рукой принял ее, поставил возле себя и необыкновенно молодыми и яркими карими глазами обвел друзей.
— Хозяин наш знает, что если с Сулейманом ничего не случалось необычайного, — так сказал он густым, заполняющим всю комнату голосом, — выдумать он ничего не может. Вот, думает, поставлю старого друга в положение мальчика, который пришел в медресе, не выучив урока. Но о том забыл наш хозяин, что охотники по всему краю чтут старого оружейника и он один только имеет терпение возиться с их ружьями, оставшимися еще со времен старых войн… Известно, что платят они мне не деньгами, а дичью да вдобавок еще, чтобы не было скучно, охотничьими рассказами.
Все засмеялись, и старик улыбнулся важно и весело.
— Над рассказами охотников принято смеяться, но друг наш, которого мы все именуем здесь Ильяс-ага и который сидит вот рядом со мной, — Сулейман положил свою большую руку на колено своего рыжего, в багровой тюбетейке, соседа, — принес мне однажды русскую книжку — рассказы охотника и стал переводить, а я слушал, плакал и смеялся.
— Книга хорошая, — согласился хозяин. — Это Тургенева Ивана книга, ее во всем мире знают. Но тебе, старый хитрый медведь, не удастся спрятаться за широкую спину великого Тургенева, мы тебя все равно поймаем… Рассказывай свою историю!
— А я к ней и веду, — сказал Сулейман, — а о рассказах мудрого русского охотника я помянул только потому, что настоящая история так же правдива, как то, что рассказано им.
Он помолчал и, убедившись, что все в комнате полны внимания, начал:
— Едва ли кто из вас знает молодого охотника Исмаила, в городе он бывает только по вечерам, так как днем наш тихий городок кажется ему слишком шумным. Зато в лесах и горах он свой человек и даже два раза принес мне подарок — застреленных им уларов, серо-желтых индеек, о которых другие охотники только рассказывают всякие чудеса. А ведь Исмаил за уларами даже и не охотится, они попадаются ему лишь тогда, когда он преследует туров — горных козлов. Вот эта голова с загнутыми назад рогами, которая уже больше десяти лет глядит на наши сборища своими стеклянными глазами, принадлежит туру. А улары и горные козлы еще со времен создания мира заключили союз. Этот союз достоин басни, восхваляющей дружбу, но я в стихосложении неловок, и никак у меня не составляется эта басня.
Улары в суровые зимние месяцы питаются возле туров, так как туры, чтобы добраться до травы, разрывают снег своими твердыми копытами, а когда уходят, улары в разрытых местах находят себе пропитание. Потому тура и трудно выследить, что улары всегда пасутся поблизости, и при первом же приближении опасности они свистят, красиво свистят, словно в дудочку. «Кто услышал свист улара, тому в этот день тура не убить», — такова примета охотников.
И вот друг мой Исмаил целый день шел по следу маленького туриного стада — и все не мог подойти на расстояние выстрела. Там, где турам достаточно было сделать головоломных три прыжка и уйти от него, ему, чтобы достичь этих мест, приходилось спускаться в пропасти по склонам, на это он тратил по два, по три часа. Исмаил рассчитывал, что вечером, после захода солнца, туры, по обыкновению своему, спустятся вниз, на зеленые лужайки, орошенные ручьями, бегущими из-под снеговиков и ледников. Но чуткие звери, наверно, ощутили на этот раз угрожающую им опасность и остались на узкой, длинной площадке, примыкавшей к самому гребню скалистого хребта. Высоко стоял на хребте сторожевой тур. Исмаил видел его. Но чтобы подползти к нему на выстрел, следовало обойти его с другой стороны — так, чтобы ветер дул не на чуткого зверя, а на охотника.
Исмаил так и сделал. Там, где хребет раздваивался, он осторожно пополз по узкой скалистой перемычке, рассчитывая к утру подползти к турам. Было очень холодно, но ясно и безлунно. Светили только звезды. А белые, точно разостланные по горам снега отражали их свет снизу. Как это часто бывает в горах, Исмаил неточно рассчитал время: рассвет застал его в некотором отдалении от туров. Ожили краски, внизу зазеленели леса, обозначились речки, засверкали ледники, снега оказались не такими уж белыми — грязноватыми, ноздреватыми, какими и бывают весной.
Исмаил стал оглядываться, чтобы понять, где он находится. Преследуя туров, он потерял направление. Здесь было несколько гребней, идущих рядом и как бы связанных в узел одной снеговой горой; эти гребни, как складки ее одежды, ниспадали вниз. На одной такой гигантской складке находился Исмаил, а на другой Исмаил увидел внезапно такое, что заставило его забыть о турах…
Соседний гребень весь зарос лесом, розовые лучи встававшего солнца пробивали лес насквозь, и в глубине леса стало вдруг видно какое-то огромное строение, занявшее всю гору. Некоторые стены этого строения были настолько гладко сложены, что даже неприхотливые сосны не могли пустить здесь корень, бойницы выступали на стенах, как гнезда ласточек, и ряды окон, подобно ожерелью, охватывали этот замок.
Да, это был замок, крепость. Башни поднимались одна над другой, и некоторые из них были полуразрушены — там густо разрослись деревья, — а те, что были целы, гордо поднимали над лесами и снегами свои короны и стрельчатые вышки.
Несколько минут разглядывал Исмаил это чудесное строение, а потом увидел и своих туров. Они оказались много ниже, вверх шел пологий подъем, и ветер дул со стороны туров. Заметив то место, откуда был виден чудесный замок, Исмаил пополз. Ему повезло: он убил тура…
Сулейман замолчал.
— Ну, а как же замок? — с интересом спросил англичанин.
Сулейман покачал толовой и затянулся трубкой, погасшей во время рассказа. Все, кто был в комнате, не сводили глаз с него.
— Замка он больше не нашел. Застреленного тура он не мог бросить: это его хлеб, а если бы он бросил свою добычу, ее бы съели шакалы. Он притащил тура домой и, отдохнув, вновь отправился в ту местность, уверенный, что легко найдет замок. Но сколько ни искал, так и не нашел.
— А может быть, ему показалось? — спросил англичанин. — Знаете, рисунки выветренных скал в их сочетании с лесом могут принимать самые неожиданные очертания. Я охотился в Гималаях, и со мной был такой же случай.
Сулейман покачал головой, видимо не соглашаясь, но промолчал, не желая спорить с гостем.
Старый Рустам-бек откашлялся и сказал:
— Если разрешит мне уважаемый наш баши, я хочу, в свою очередь, сказать несколько слов: мне от деда известен такой же рассказ охотника, который лет, может быть, сто назад в тех же местах видел этот замок и описал его деду примерно так же.
— Это еще ничего не доказывает, — перебил англичанин, — я же говорю, что со мной было в Гималаях.
— А может быть, почтенный гость, вы и в Гималаях видели развалины дворца? Чем можете вы доказать противное? — сказал дедушка Авез, и в голосе его послышалась насмешка. — К тому же, помнится мне, лет двадцать тому назад я прочел, что во времена нашествия Тимура один из царевичей, после того как отец его погиб в бою, видя, что ему не справиться с врагами и не желая им подчиниться, забрал царскую сокровищницу и ушел жить в охотничий замок царя, находившийся в дикой и уединенной местности среди гор. Вы знаете, что страна наша после нашествия Тимура запустела, стала предметом усобицы, и только лет через сто вспомнили об охотничьем замке. Тогда еще известна была дорога к этому замку… Но когда туда пришли, оказалось, замок разрушен землетрясением и попасть в него невозможно.
— А велико было это сокровище? — спросил Мадат Сеидов, и столько живого интереса слышно было в его голосе, что все засмеялись и громче всех Авез.
Утерев слезы, выступившие на глазах, он весело сказал:
— Теперь все мы видим, что не напрасно была рассказана эта чудесная история: в душе нашего юного бакинского гостя Мадата проснулось желание овладеть сокровищницей замка — значит замок будет найден, потому что богаты Сеидовы. А для увеличения своих богатств, богач, как известно, кругом земли обежит. История, рассказанная Сулейманом, хороша — пусть же на здоровье выпьет он преподнесенную ему чашу.
Пока Сулейман пил, все хлопали в ладоши и пели ему заздравную.
А когда он опрокинул чашу, сказал свое «якши» и поблагодарил хозяина, тот снова налил чашу до краев, и по установившемуся обычаю встал Сулейман и с веселой важностью обратился к гостям:
— Ныне я султан, визирем своим назначаю дорогого гостя нашего Мир-Али, почтенного учителя детей, и повелеваю: нанизать на нить повествования свой драгоценный камень. Мир-Али — человек ученый, и ничего ему не стоит из книг, прочитанных им за свою жизнь — и наших, и русских, и персидских, и арабских, и французских, и английских, — выбрать какую-нибудь чудодейственную историю. Но я, как слабый игрок в шахматы, севший перед шахматистом во много раз меня сильнейшим, прошу заранее отдать мне самую сильную фигуру игры — королеву: я налагаю властью, данной мне вами, запрет на все, что случилось не на нашей земле, и на все, что уже написано в книгах, — пусть Мир-Али, как и я, расскажет то, что вправду случилось на нашей земле.
— О-о-о!
— Это хорошо придумано!
— Трудно тебе будет, Мир-Али, учитель детей!
— Ничего, он одолеет.
Мир-Али молча поставил чашу возле себя и, обращаясь к Сулейману, сказал:
— О премудрый султан Сулейман! Чтобы ты не забраковал коня, которого я намерен вывести перед тобой, хочу я задать тебе один вопрос.
— Спрашивай.
— Запрет, наложенный тобой, относится также и к книгам, хранящимся при мечети?
Сулейман недоуменно развел руками и оглядел всех.
— Книги при мечети? Ну что можно вычитать из этих книг? Кто сколько внес на поминание родственников денег или скота… Это те самые книги, которые в непрестанном ведении нашего хозяина. Что можно вычитать в подобной книге?
Авез покачал головой и ничего не ответил, но Мир-Али задорно спросил:
— А если я вычитал там историю, которую назову «встреча поэтов»?
— Встреча поэтов?! — с изумлением и восторгом воскликнул Гафиз.
— Тогда твоя взяла, — сказал Сулейман. — Но ты разжег наше любопытство, подогревай на нем свою новость.
— Можно ли назвать новым вино, более столетия хранящееся в земле? — спросил Мир-Али.
— Зависит от крепости его, сын мой, — ответил Авез. — Если твое вино заставит проплясать мои ноги, значит его можно считать вином веселой молодости. Рассказывай.
И Мир-Али, учитель детей, начал:
— Направляясь к вам, в ваше каменное гнездо, дорогие друзья, побывал я в древней Гяндже, которая вашему старинному городу, как известно, приходится старой бабушкой, — так древен каменный скелет Гянджи.
Все присутствующие знают кирпичный мавзолей великого Низами, навеки прославившего нашу родину и наш народ среди других народов. Имя его известно здесь всем; хозяин наш славится тем, что наизусть выучил едва ли не большее количество строчек Низами, чем кто-либо, и умеет толковать самые глубокие иносказания нашего великого земляка. Впрочем, каждый из нас грешных тоже хранит хотя бы ничтожнейший грош из сокровищницы мудрости великого гянджинца. Но прежде чем перейти к моей истории, я хочу спросить: кто может сказать, когда и при каких условиях поставлен мавзолей на могиле Низами?
Наступило молчание. Люди переглянулись, и все глаза устремились на деда Авеза. Он потер лоб и сказал:
— Построен этот новый мавзолей вскоре после того, как уничтожено было Гянджинское ханство… Я не помню года основания, но он у меня записан. Вот кем он построен?.. Верующими, наверно.
— Если ты, отец, не знаешь, значит никто не знает! — торжественно сказал Мир-Али. — Я сказал, что в моем рассказе произойдет встреча поэтов. Встреча эта состоялась около ста лет тому назад, ранней весной, когда вся усеянная черепками и осколками камней равнина, словно каплями крови, краснеет тюльпанами и маками… Большая толпа жителей Гянджи и окрестных сел собралась в тот день возле мавзолея Низами, только что отстроенного. Лица собравшихся были печальны, в толпе не слышно было шуток. Мулла вышел вперед и отслужил заупокойную службу по Вазир-Мухтару, на чьи деньги отстроен был мавзолей.
— Ты имеешь в виду Грибоедова?! — изумленно и вопросительно произнес аптекарь.
— Да, — ответил Мир-Али.
— О печальной встрече двух великих Александров русской литературы известно от того из великих поэтов, кто пережил другого, — сказал дедушка Авез. — Я думал ты хочешь рассказать… Но Низами и Грибоедов…
— Мир-Али предупредил нас, что он расскажет историю из книги поминаний, — ответил за него Сулейман.
— Я нахожу рассказ твой недостоверным, — сказал Мадат. — Не верится мне, чтобы народ наш так скоро после завоевания русскими Кавказа стал оказывать честь русскому Вазир-Мухтару, убитому нашими единоверцами.
Мир-Али взглянул на него быстро и, пожалуй (но это заметил только лишь Авез-баши), несколько презрительно.
— Дорогие слушатели, история моя не кончена… И, подобно старинному замку, о котором была сейчас речь, имеет она, помимо явных, также и тайные ходы, и я приведу вас к ним. Нетрудно припомнить, что за год до того, как возле могилы Низами была отслужена заупокойная по Грибоедову, он проехал по этой же дороге живой, в сопровождении молодой красавицы жены и пышной свиты, подобающей Вазир-Мухтару. Могила великого Низами представляла тогда собой холмик, поросший травой, но наши люди, пронесшие сквозь века благоговейную память о великом своем поэте, как это всегда происходит, пришли из разных мест нашей земли поклониться могиле Низами, прочесть заупокойную молитву. И вот грозный Вазир-Мухтар императора русского остановил поодаль свой караван, как это подобает делать, когда хотят почтить покойника, и подошел к могиле. Народ молча расступился перед ним. Грибоедов поздоровался с народом и спросил: «Так это могила Низами?»
Когда ему подтвердили, что это так, он встал на колени, отдал месту успокоения великого поэта глубокий поклон, потом, поднявшись, спросил: «Кто хранитель могилы?»
Из толпы вышел мулла, — у могилы Низами всегда, как известно, находится кто-либо из мечети, чтобы, если понадобится, отслужить заупокойную службу. И тут же, на глазах народа, русский великий поэт передал мулле одну тысячу пятьсот рублей на восстановление могилы Низами…
Мир-Али замолчал.
— Ты рассказываешь об этом так, как будто эти деньги при тебе отсчитывались, — сказал с насмешкой Мадат.
— Ты отчасти прав, звон денег через столетие дошел до меня, — ответил Мир-Али. — На страницах другой книги, сохранившейся в мечети, — книги пожертвований, — сохранилась запись о сумме, внесенной русским Вазир-Мухтаром на восстановление гробницы великого Низами.
Он помолчал и добавил:
— Но дело здесь не в деньгах, а в благородстве. Народ увидел слезы на глазах великого русского человека, — так завоевывается сердце народа, которое нельзя завоевать никаким оружием.
— Откуда узнал ты все это? — живо спросил дед Авез.
— Я ночевал у старого Зульфагара-ага, который приходится мне дядей со стороны матери, — это старик злой, нелюдимый, замкнутый и вечно роющийся в старых книгах. Вот он-то и показал мне эти записи, хотя потом он притворялся глухим и говорил, что все это мне почудилось и что записи можно толковать по-разному. Но что сказано, то сказано, я поймал эту прилетевшую из прошлого птицу и бережно привез ее вам.
И уже Сулейман-оружейник, как это положено, хотел было произнести похвальное слово в честь своего визиря, предложить ему выпить чашу и провозгласить его султаном вместо себя, как вдруг слова попросил англичанин.
— Конечно, мне в этом деле быть судьей не подобает, — начал он смиренно. — Но прискорбное событие, случившееся около века тому назад в Тегеране, принадлежит истории. Многие англичане были свидетелями ему, и у нас, в моем отечестве, есть по этому поводу суждение, о котором я хотел бы рассказать, если сэр султан мне, конечно, позволит, — быстро сверкнул он зубами в сторону оружейника.
Сулейман с важностью кивнул головой, и англичанин продолжал:
— Не берусь судить о произведении гения чужого народа, мне комедия Грибоедова показалась сродни произведениям язвительного соотечественника нашего Теккерея, для которого нет на родной земле ничего святого — все подлежит осмеянию и охулению. Впрочем, повторяю, может быть, я и ошибаюсь, об этом судить не берусь. Но о чем я могу высказать положительное мнение — это о том, что русскому правительству не следовало поэта назначать дипломатом. Сэр Грибоедов повел себя в Тегеране неправильно. В особенности роковое действие имело то горестное рвение, с которым он хотел освободить из гаремов грузинок и армянок. Вопрос о гареме, как вам известно, есть вопрос религиозный, и мы, англичане, не позволяем себе вторгаться в религиозный уклад, — да и следовало ли освобождать из гаремов этих прелестных грузинок и армянок, как бы созданных для гаремов?..
— Молчи, шакал, сын шакала! — сказал вдруг тот рыжий человек в багровой тюбетейке, которого называли Ильяс-ага. Он все время скромно сидел у самого входа или усердно басом подпевал во время пения.
«Неужели, кроме меня, здесь присутствует еще какой-либо христианин? — подумал мистер Седжер с досадой. — Разве можно было бы это предположить?»
Он быстро обвел взглядом присутствующих и понял: настроение отнюдь не в его пользу, лица кругом потемневшие, злые… А ведь этим грязно-игривым суждениям по поводу гаремных затворниц он хотел польстить мусульманам. Нет, сделана ошибка, скорей отступать…
Мистер Седжер развел руками и сказал, скаля зубы в улыбке и обращаясь к деду Авезу:
— Меня оскорбляют в вашем доме.
— Как хозяин дома, приношу извинения. — И Авез низко поклонился ему. — Наш друг Ильяс — человек воспитанный, но на этот раз он повел себя несдержанно.
«Илья! Неужели русский?» — подумал мистер Седжер, еще раз взглянув на своего противника и отметив его выпуклые светло-синие насмешливые глаза, его толстые, свирепо и умно сложенные губы.
А хозяин продолжал:
— Но в извинение другу нашему Ильясу должен сказать, что вы оскорбили его религию.
— Вы знаете, Авез, я неверующий, — уже спокойно ответил русский. — Но ведь на нашей дружеской сходке присутствуют двое армян.
«Вот те на!» — подумал англичанин, и такую крайнюю степень изумления и растерянности выразило его лицо, что многие из присутствующих отвернулись, пряча улыбки.
— Позвольте, Авез-ага! — сумрачно сказал лысый аптекарь. — Я армянин и не буду скрывать, так же как и наш молодой соотечественник Нерсес, — он кивнул на безмолвного юношу, который был виночерпием, — что слова малоуважаемого мистера оскорбили нас. Но не только за нацию обиделись мы — больше всего обиделись за человечество.
— Наш дорогой Грегор правильно сказал, — поддержал его сидевший с опущенной головой Мир-Али. — Сейчас пришло то время, когда лучшие люди нашего народа борются за освобождение наших жен, матерей, сестер и дочек от позора гаремов. А мистер Седжер — ему подобало бы поддержать нас в этой борьбе — думает, что, сказав похвальное слово гарему и насмеявшись над участью христианских невольниц, он польстит нам… И еще одно чувство оскорбил присутствующий здесь гость с Запада: он позволил себе сказать слово хулы о великом Грибоедове, поэте, и этим принял на себя вину за его кровь.
— Еще что вы скажете? — высокомерно спросил мистер Седжер.
— Да скажу, что английские дипломаты здесь не без греха, это они поощряли фанатиков.
— Так они делали и делают всегда во имя коммерции, — начал было Ильяс, но Авез, нахмурившись, хлопнул в ладоши, и тот послушно замолчал.
— Прекратим эту распрю, друзья! Когда гости ссорятся, сердце хозяина рвется на части. В оправдание нашему гостю, приехавшему издалека, хочу лишь сказать, что он не знал, куда попал, а если бы знал, то, как человек воспитанный и умеющий держать себя, не высказал бы вслух того, что высказал. И чтобы не было у нас больше недоразумений, мистер Седжер, я скажу, кто мы такие, собравшиеся здесь. Много лет назад мы, просвещенные люди, проживающие в этом городе и принадлежащие к разным религиям и нациям, основали это общество для поучительного и веселого времяпрепровождения, — и мы гордимся, что вы приняли нас за людей одной нации. Здесь присутствуют, кроме азербайджанцев, и армяне. Здесь, как вы уже знаете, присутствует наш русский друг Ильяс, я мог бы сказать, что премудрый наш султан, султан Сулейман, именуется во всем городе и во всей округе курдом. И он, правда, курд по происхождению, хотя по языку азербайджанец. Есть среди нас друг персиянин — он, к сожалению, болен сегодня. Наезжает сюда к нам из Кахетии друг наш грузинский поэт, и тогда веселое вино Кахетии мешаем мы с терпкими винами наших нагорий. И сейчас, когда мир прорезан обильно текущими потоками братской крови, мы заявляем, что не разрушим наш союз, и если бы сейчас вошел в наш дом такой немец, как Карл, мы спели бы заздравную… Мы славим француза Андре и того великого русского, имя которого бережем мы в наших сердцах.
Так говорил он, все более волнуясь, и Мир-Али, уже с беспокойством прислушивающийся к его речи, поднял чашу.
— Вино, столь давно налитое, теряет аромат и свежесть, — сказал он и, обращаясь к Сулейману, весело спросил: — Не разрешит ли султан своему визирю осушить эту чашу?
— Разрешаю, — важно сказал Сулейман. — Ты много говорил, промочи горло. И отныне ты султан, а я ухожу на покой.
— За дружбу, за братство всех людей, за мир на земле! — сказал Мир-Али.
Все молча следили за тем, как медленно, бережно запрокидывая чашу, пьет учитель детей, и не было ни смеха, ни шуток, словно он совершал великое дело.
А выпив, он сказал:
— Теперь же, друзья мои, взгляните в окно. Восток уже проснулся, нам пора на покой… Потому не стану я выбирать себе визиря, чтобы он рассказал нам о чем-либо достойном внимания, а свою власть султана употреблю на то, чтобы пропеть нашу старую песню — песню друзей… Если бы мы наш пир начали с нее, у нас не было бы недоразумений, в ней названы все нации, присутствующие здесь.
И красивым высоким голосом он затянул, а все подхватили:
Споемте, дети, и вспомним тот день, Когда молодая луна народилась… Гордость вселенной и разум ее — Наш добрый Авез Собрал у себя всех, кто достоин был его доверия… Один из них был сын курда — Сулейман, Оружейник и создаватель многих басен, А другой был армянин, сын Вартана, Грегор, Аптекарь, лекарь и кеманчист… И был еще здесь иранец — Джабар Кербалай, что на старости лет снял свою чалму И стал сочинять безбожные песни… И сказал Кербалай Джабар Сулейману, сыну курда: — Почему, о премудрый Сулейман, Собрал нас здесь хозяин? — И сын курда ответил: — Нас четверо здесь, самых верных друзей. Мы собраны в день новолунья Для мудрого слова, для тихой беседы… Вот зачем собрал нас хан ханов дед наш Авез. — Нет, — перебил его сын Вартана, Грегор, — Нас собрали здесь для веселья. Чтобы под звон кеманчи пели мы песни. И пусть столько вина здесь будет разлито, Чтобы мы в этой комнате по колено бродили, как при весеннем половодье, Вот зачем собрал нас премудрый хан ханов, дед наш Авез. - И сказал Кербалай Джабар: — Короток наш путь до могилы. Чтобы скоротать нам этот путь, Будем играть мы в нарды, в игру, которая вызывает страсти, но лишена злодейства. — И молвил тут хан ханов, Хозяин наш мудрый Авез: — Я знал, кого собрал: Мужей света и дела… Все будет так, как сказал здесь каждый из вас, Отныне все так будет! - И в каждое новолунье съезжались друзья: Одни приезжали на серых конях, Другие на гнедых, И лилось здесь вино, и песни неумолчно звучали. И в музыку веселья вплетались слова грусти, И душа обновлялась — ей дали лекарство… Грегор-виночерпий, принеси вино хану ханов. Чтобы ударил он по струнам своего калама И миру рассказал бы о том, что Пришлось ему изведать за долгую жизнь… Чтобы люди и события, им виденные, Сохранились в памяти людей, Хотя о многом виденном говорить трудно… Не бойся злодеев, Смело коли их своим каламом, Каламом, что убивает злодеев, как молния убивает змей и скорпионов! И будет тебе слава навеки…Так пел Мир-Али с неожиданным юношеским пылом, пел то, что сложил сам, когда ему было восемнадцать лет. Он тогда бывал в этом доме и полюбил бойкую умницу Фирюзу, дочь Авеза, ставшую верной женой и родившую ему двух сыновей и трех дочерей, — младшую из них он привез сегодня к деду…
А после того как спели эту песню дружбы и любви, все присутствующие пожали друг другу руки и разошлись…
4
Все в конце концов закончилось веселой песней и примирением — как вы понимаете, Мадат? — спросил мистер Седжер после того, как они погасили свет в отведенной для них комнате.
Мадат уже лег, ему не хотелось разговаривать: и выпито было немного, и стыдно было за неловкость, совершенную им и его иностранным приятелем в этот вечер. Англичанину, видимо, не давали спать эти же чувства, и он слонялся по комнате. А так как она была невелика, он все время маячил перед глазами Мадата, и когда попадал в полосу лунного света, который вместе с тишиной и покоем струился в узкое длинное окошко, его шелковая полосатая пижама блестела.
Встав перед окном, он заслонил его, в комнате стало совсем темно. «Уснуть бы сейчас», — с тоской подумал Мадат. Но англичанин продолжал разговаривать:
— Полумесяц на минарете, полумесяц на небе, и какая мудрая тишина кругом!.. Люблю мусульманство: оно не требует чрезмерных добродетелей на земле, а блага, которые оно обещает в раю, — это все земные, чувственные наслаждения. Но я, признаться, впервые вижу на Востоке — и на таком подлинном Востоке, как здесь у вас, — чтобы мусульмане садились за один пиршественный стол с неверными… А здесь — и армяне и русские. И эти речи… А кто этот учитель, который рассказывал малоправдоподобную историю о Грибоедове, возомнившем себя дипломатом?
— Мир-Али, ближайший родственник нашего хозяина, муж его дочери, преподаватель русского языка в городском училище.
— О том, что в России множество беспокойных людей, я знал, но чтобы попадались такие…
Мадат сонно зевнул и ничего не ответил.
— Вот этот ваш зевок, Мадат, был притворный зевок, — со смешком сказал англичанин.
— Почему притворный? — удивился Мадат. — Мне правда хочется спать.
— Вам не хочется со мной сейчас говорить, так как вы чувствуете себя передо мной виноватым, вот что, — сказал англичанин, приблизившись к кровати Мадата и полосато-белым столбом возвышаясь над ним.
— Я? Виноватым? Нисколько.
— Пустяки, пустяки… Вы злы, смущены, мне все понятно. Вы обещали, что приведете меня в кружок просвещенных мусульман, с которыми можно установить отношения…
— Это все Гафиз, уверяю вас, мистер Седжер, — это все он мне наговорил.
— Мистер Гафиз — это не более как взрослое дитя. У него ангельская, невинная душа. И почему у такого демона, как этот живущий при мечети старик, родился такой ангел — это загадка. Во всяком случае, вы неверно сделали, что вполне доверились этому дитяти Гафизу, неспособному отличить собак от волков, за что, несомненно, он пострадает в жизни. Ну, а мне следовало со святым недоверием отнестись к вашим знакомствам. Не надо хмуриться, Мадат, давайте лучше разберемся в бабушкином наследстве, как сказал молодой вор, залезший в чужую кладовую.
— Какая еще бабушка? — настороженно спросил Мадат.
— Вы не уловили оттенка моей речи, вы недостаточно владеете английским языком. О бабушке речь будет потом… Этот старик оружейник… вы давно его знаете?
— Давно, но не очень хорошо.
— Если вы скажете ему, что мне захотелось поохотиться на этих козлов, — это, кстати, наверно, так называемые безоаровые козлы, а у меня, в моей коллекции, они представлены неважным экземпляром, — он поверит, что речь действительно идет об охоте?
— А зачем вам нужно, чтобы он вам верил?
— Не знаю, как у вас, а у нас в Англии манера отвечать вопросом на вопрос считается невежливой, особенно у младших по отношению к старшим.
— Я прошу прощения, — ответил Мадат. — Но если вы правда хотите охотиться на этих козлов, так я попрошу Гафиза познакомить вас с каким-нибудь охотником.
— Козлы, как вы знаете, меня интересуют. Помните этот великолепный экземпляр десятилетнего тура? Шкура его хранится у вас в бакинском доме и поедет в Англию, где из нее будет приготовлено прекрасное чучело. Но если бы дело шло только о козлах, так меня мог бы, конечно, устроить любой охотник. Нет, дело тут не только в козлах, и потому мне нужен именно тот самый молодой охотник, который рассказывал об этом замке в горах.
— Вы хотите попытаться найти сокровище, да? — Мадат поднял голову с подушки, сон мгновенно исчез, глаза загорелись.
— Именно так, — медленно произнес англичанин, а про себя подумал: «Конечно, хотя этот мальчик клялся и любви к Англии и в ненависти к России, но зачем ему знать о том, что местность эта, где якобы расположен замок, находится вблизи границы? И, конечно, он никогда и ни от кого не узнает, что я должен во славу империи найти горные ущелья, по которым легко было бы на крайний случай провезти даже и пушки».
Какое-то всхлипывание, чуть ли не стон, вдруг донеслось со двора, и мистер Седжер мигом очутился у окна. Что-то белое, точно светящееся в лунном свете, пронеслось через двор и скрылось в противоположном конце здания.
Минарет высился, весь как бы обвитый ветвями и листвой. Побеги складывались в причудливую вязь арабесок, угадывались буквы, бессвязные обрывки арабских слов — угадывались и вновь рассеивались. Залитый луной пустой двор, полумесяц на минарете и полумесяц внизу, тишь, тайна…
— Что случилось? — спросил Мадат, быстро встав с постели и подходя к окну.
Англичанин шикнул на него.
— Что-то происходит в доме, — сказал он, — подождем.
* * *
После того как Науруза привезли и уложили в одном из потаенных помещений при мечети, Айбениз опять села у его изголовья. Ей казалось, что она могла бы годы просидеть, поддерживая ладонями эту тяжелую, ставшую ей такой дорогой голову. Когда она высвободила руки и торопливо ела — еду принесла ей бабушка, непрестанно охавшая и требовавшая, чтобы Айбениз пошла отдохнуть после дороги, — Науруз застонал, беспокойно задвигался, и она, растроганная этой слепой привязанностью, тут же вернулась к нему. Она угадывала возвышенную причину его бесстрашного поступка. Но затаенный подсчет мостов и желание, чтобы эта примета, забавная и нежная, сбылась, — первое желание любви, первая мысль о ней, — еще глубже волновали ее.
Бабушка пожаловалась деду. Но дед неожиданно принял сторону девочки и сказал, что о молодом джигите стоит заботиться, и Айбениз оставили с Наурузом.
Науруз успокоился. Его стоны, вызывавшие к нему особенную жалость, прекратились, дыхание стало глубже, сильнее, — это было обычное дыхание спящего человека. И Айбениз тоже задремала…
Науруз медленно, точно выплывая из тысячеверстной глубины, приходил в себя. Пахло старыми книгами, мышами и той особенной тухловатой прогорклостью, которая возникает в тех помещениях при мечети, где в течение многих лет складываются приношения верующих, и Науруз понял наконец, что он находится при мечети.
Мечеть — это означало возвращение вспять, и он вернулся вспять, в те сумрачные времена своего детства, когда он жил и учился в доме при мечети. Но он вернулся туда не один, его как-то непостижимо сопровождала та, которая держала руки под его головой…
— Нафисат!..
Ему казалось, что он воскликнул на весь мир это светлое имя, но он простонал сквозь стиснутые зубы. И едва он простонал, Нафисат вдруг скрылась, как при пробуждении тает в руке вещь, которую только что видел во сне…
— Нафисат! — простонал он еще раз. Нет, ее не стало больше с ним.
Он вдруг осознал себя. Схватился за грудь, ища ладанку — ладанки не было. И он с ужасом припомнил, что ее снимали с его шеи. Как и где, он не знал, но такое ощущение оставалось.
«Что ж это? Где я?» Запах был как в комнате при мечети, и маленькое окошко было высоко. Раз при мечети — значит у врагов. Он вдруг вспомнил, как прыгнул с поезда. Беззащитный, потерявший сознание, заточен он в какую-то мечеть. Науруз с силой рванулся с места, молнии боли вновь пронизали его, и он снова исчез, потерял себя.
Айбениз, услышав, как он произнес женское имя, обольстительное, нежное, чужое имя — Нафисат, сразу очнулась. Слезы заполнили ее глаза, похоже было, что ее грубо пробудили, и сон, который вот-вот готов был воплотиться в счастливую жизнь, вдруг отлетел. Ей показалось, что она грубо высмеяна, оскорблена, и, отняв руки от головы Науруза, Айбениз выбежала из комнаты.
Комната эта была с западной стороны мечети, вделана в округло-каменное тело ее. Айбениз стремительно перебежала через двор. Ее всхлип, мимолетный бег и привлекли внимание мистера Седжера. Вбежав в ту часть длинного двухэтажного здания, окружавшего мечеть, которую занимал дедушка Авез, Айбениз устремилась не на женскую половину, к бабушке, а на половину деда: ей хотелось скорее отыскать своего отца. Она пробежала по галерее, где пахло масляными красками и где лунный свет выхватывал доски, куски холста, — здесь была мастерская деда. Во второй, темной комнате помещалась его библиотека. Айбениз миновала ее. Из третьей комнаты, из-под двери, плотно закрытой, виднелся свет. Она вбежала туда. Большой письменный стол был темен, в углу, на низенькой софе, сидели дед и отец, керосиновая лампа стояла возле них на низеньком столике. Оба сразу подняли на нее встревоженные и строгие глаза.
«Что же это я сделала? — опомнившись, подумала вдруг Айбениз. — Разве можно было бросить его одного?»
— Что случилось? Айбениз, что с тобой? — спросили оба — дед и отец.
— Он заговорил, — ответила она еле слышно.
— Что он сказал? Он в себя пришел?
— Какое-то имя.
— Кого он назвал? Может быть, Буниата? Или Кази-Мамеда? — спросил дед.
— Не разобрала я, — ответила Айбениз краснея. — Я к нему вернусь.
— Ты выглядишь так, точно лихорадку перенесла. Что скажу я маме? — проговорил отец. — Сядь, отдохни.
— Он там один.
— Тебя бабушка сменит, она и то все время беспокоится о тебе, — сказал отец и быстро вышел из комнаты.
Дед держал в руках ту самую бумагу, которую нашли в ладанке на груди джигита, но сейчас на ней было что-то написано желтоватыми и, кажется, русскими буквами. Дед перехватил ее взгляд.
— Вот для того, чтобы бумага эта не попала в руки полицейских и охранников, он прыгнул с поезда, не побоявшись смерти. В Баку, к людям, продолжающим борьбу против самодержавия и гнета, должна быть доставлена эта бумага. Приляг, Айбениз, отдохни, через час вы уедете: в доме моем находятся люди, которых следует опасаться, — этот не ведомый никому англичанин и Мадат, бакинский богач, хозяин нефтепромыслов.
— А что станет с джигитом? — чуть слышно спросила Айбениз.
Старый Авез долго молчал, склонив голову.
— Увозить его нельзя — это грозит его жизни, ему еще долгое время нужно лежать спокойно. Мой дом небезопасен. Но что делать? Иного выхода нет, он будет лежать у нас.
— Но если здесь небезопасно, так лучше, может быть, нам его увезти, — сказала Айбениз и подняла на деда глаза.
Старику показалось, что он говорит совсем не с внучкой своей, а со взрослой девушкой — таким неожиданно ярким огнем сверкнули ее черные глаза.
Глаза Айбениз уже были опущены, но жалостью и сочувствием ответило сердце деда на этот мгновенный взгляд. Перед ним был взрослый человек — и он как со взрослым человеком заговорил с нею:
— Ты видела, Айбениз, что джигит этот лишился сознания: он жив, но душа как будто бы отлетела от него. Это так и есть, душа джигита в той бумаге, что скрыта была в его ладанке на груди, и он будет счастлив и спокоен, когда узнает, что эту душу его мы спасли от врагов и что она в безопасности. Мы ему сообщим об этом. А без нее в руках своих врагов он сам подобен этой бумаге, в том виде, в каком она попала в наши руки, — белая, чистая, тайный смысл ее скрыт, и нужно быть таким искусником, как твой дед, чтобы заставить эту чистую бумагу заговорить.
Авез даже с некоторым наивным самодовольством помахал бумажкой, испещренной бледно-желтыми строчками, перед лицом своей внучки.
* * *
Мистер Седжер и Мадат продолжали стоять перед окном. То один, то другой порывался уйти и все же не уходили. И вот они дождались.
По двору в сторону конюшни прошли с фонарем, послышалась возня, и по каменистой почве двора застучали колеса и копыта… Слышно было, что во дворе запрягают лошадь. Настороженное ухо различало тихий говор, то мужские, то женские голоса… Мадат не выдержал и вышел из дома во двор. На воздухе было прохладно, почти морозно, как бывает в горных местностях, и Мадату сразу же захотелось вернуться обратно в дом. Но он пошел под навес, откуда доносились все эти возбуждавшие его любопытство звуки.
Там действительно запрягали лошадь, смирную, старую лошадь, которая уже стояла в оглоблях. Еще не взнузданная, она неторопливо ела, отбирая из охапки сена на земле наиболее лакомые травинки.
Запрягал Мир-Али, здесь же суетился Авез, он подавал зятю сбрую. Они торопились. На линейке, подобрав под себя ноги, сидела девушка. Она куталась в пальто городского покроя, волосы и лицо ее были открыты. И это освещенное месяцем лицо, с темными, слабо намеченными бровями и маленьким ртом, как бы отражало месяц — в нем была такая же желтоватая матовость и даже легкий румянец.
Она первая увидела Мадата, и легкое восклицание сорвалось с ее губ. Мадат поклонился ей, она кивнула ему и отвернулась, покрыв платком голову. Мужчины обернулись к Мадату.
— Асалам алейкюм, молодой человек! Почему вам не спится? — с шутливостью спросил Авез.
— Алейкюм! — ответил Мадат. — Я вообще сплю чутко. Услышал возню на дворе, подумал: не воры ли?.. Час подходящий для похищения красавиц, — с шуткой обратился он к Мир-Али.
— Это дочь моя, — сдержанно ответил Мир-Али, продолжая запрягать.
Он даже не представил Мадата девушке, как этого ожидал и желал Мадат, и того разозлило такое пренебрежение к его особе. Девушка сидела неподвижно, только кончик носа и подбородок видны были из-под платка.
— Я прошу прощения, почтенный Авез, что выразился, быть может, несколько неосторожно, но ведь час этот действительно не подходящий для поездок, если только тут нет намерения что-либо скрыть.
Он видел, как дрогнул платок на голове девушки и она вздохнула. Мир-Али продолжал спокойно запрягать, а дед в тон Мадату так же шутливо ответил:
— Вот и видно, молодой Сеидов, что богатства отца отдалили тебя от народной жизни и от обычаев простых людей. В далекий путь выезжают затемно. Ты не слышал об этом? Зять мой, чтобы порадовать меня, старика, привез внучку, которая только что сдала экзамен при женской гимназии в Гяндже, и сдала на круглые пятерки. Вот он и привез ее ко мне, даже не заезжая домой, а сейчас торопится обратно. Час для знакомства, конечно, необычный, но это ничего, знакомьтесь, молодые люди, я человек вольных воззрений и не считаю, что юноши и девушки должны украдкой посматривать друг на друга.
Мадат поклонился и назвался.
— Айбениз, — прошелестело в ответ.
— Айбениз — лунный лик, таково значение имени девушки, — повторил Мадат с удивлением и восторгом, показывая на месяц, спускавшийся уже к горам и все более румяневший…
Линейка уехала, утих стук по каменной мостовой. Мадат вернулся в дом и рассказал мистеру Седжеру о том, что было причиной ночной возни.
— Я видел эту девушку, вполне оправдывающую свое имя, так как лик ее действительно подобен луне, — сказал англичанин. — Я убежден, что это именно она со стоном или плачем пробежала через двор со стороны мечети к дому. Тайна, какая-то тайна пробежала мимо нас, Мадат, едва не задев своим белым покрывалом наши лица. Пробежала, пролетела и навек осталась нам недоступна… — говорил он, и Мадата раздражала вычурность его речи, ему не хотелось, чтобы англичанин своими жесткими губами произносил лунное имя девушки.
Глава вторая
1
О горестной гибели возлюбленной своей Нафисат Науруз узнал от Гоярчин, жены Алыма Мидова. Алыма еще во время большой забастовки четырнадцатого года выслали из Баку в Сибирь, и Гоярчин с трудом перебивалась с двумя детьми. (Младший родился вскоре после того, как Алым был арестован.) И все же, узнав, что Науруз в больнице, Гоярчин собрала, что могла — немного хлеба и сушеного винограда, — и пошла в больницу навестить «братца Науруза», всегда ласкового с ней и с ее детьми.
Науруз лежал без подушки на больничной койке. Последствием его прыжка с поезда было сотрясение мозга. Раскрыв глаза, он увидел Гоярчин в ее черном полупрозрачном платке, прикрывающем лицо. Слабый румянец выступил на его заметно побледневших щеках, он улыбнулся. Кроме него, в палате было еще трое, и Гоярчин, зная, что Науруз, как и муж ее, занят опасными партийными делами, не стала расспрашивать его о том, что с ним. Но надо же было как-то выразить свою жалость к нему. Она немного попричитала над ним — совсем тихо, почти шепотом, раскачиваясь и нараспев перечисляя все его беды-злосчастья. Из этого перечисления Науруз и узнал о гибели Нафисат.
Гоярчин была уверена, что Науруз уже знает о страшной своей утрате, иначе она поостереглась бы рассказывать ему, больному, такие новости. Только по хриплому стону Науруза, по бессвязным вопросам и бледности, залившей его лицо, Гоярчин поняла, что он ничего не знает, и, зарыдав, стала с подробностями рассказывать о том, что пристав-собака мучил и истязал Нафисат, пока не уморил ее, и что за это собаку пристава казнили солдаты.
Какое бы трудное дело по приказу партии ни совершал Науруз, как далеко ни уходил от своей Нафисат — всегда он знал, что есть на свете родная земля Веселоречье, что горит там и светит, подобно свече, тоненькая и стройная Нафисат.
И вот загасили свечу… Холодны и неприветливы стали для него ущелья Веселоречья, и мечта о возвращении на родину умерла вслед за смертью Нафисат.
Но тут, возле его постели, склонившись над ним так низко, что горячие слезы ее капали ему на лоб, плакала Гоярчин, мешая азербайджанские слова с русскими и порою вставляя усвоенные от мужа веселореченские. Она жаловалась Наурузу на то, как трудно приходится ей без Алыма, о том, как голодают дети — «не мои, у меня хоть отец жив, он помогает, а все бакинские дети».
— Бастовать надо! — всхлипывая, сказала она, и он, услышав эти слова, живые и гневные, положил на ее голову свою тяжелую руку.
Уже до прихода Гоярчин богатырская природа Науруза брала свое. Время от времени он поднимал голову над подушками и садился на постели, но все начинало кружиться перед ним, и он снова ложился… Науруз охотно и много спал.
Что с ним случилось сразу после прыжка с поезда, он не знал, только все представлялось ему, что Нафисат приходила его баюкать.
Не прошло и двух минут после того как ушла Гоярчин, и Науруз впервые поднялся с койки. Сначала спустил ноги на пол — в глазах все дрожало и плыло вокруг, — и шаг за шагом, держась за стену, под сочувствующие слова и восклицания товарищей по палате он прошел к окну.
Дул норд, злой норд, и даже сквозь щели закрытого окна тянуло холодом. Под студено-синими небесами лежало гораздо более синее, почти уже черное, все в белых барашках, ходуном ходившее море, к которому ступенями спускался город, темный, величественно-дымный, окаймленный вышками. Множество вышек, сливавшихся в какой-то странно-угловатый, безлиственный лес, виднелось вдали. Черные потоки нефти струились по канавам, прокопанным в серо-желтой бугристой почве, и по тропке между этими канавами, согнувшись, брела Гоярчин. Крикнуть бы ей: «Не сокрушайся, сестра! Не сокрушайся о том, что ты принесла мне горестную весть. Ведь надо же было мне от кого-то узнать о гибели моей Нафисат».
Науруз, может, так и не отошел бы от окна, разглядывая сумрачный и дорогой ему город, но врач Раиса Моисеевна, застав его не в постели, приказала ложиться.
Врачу Раисе Моисеевне, работавшей много лет в Баку и состоявшей давно в бакинской организации большевиков, не приходилось видеть Науруза до того, как его без памяти доставили в больницу и вкратце рассказали о том, при каких обстоятельствах получил он сотрясение мозга. На него была заведена история болезни, но значился он в этой «истории» под чужим именем и фамилией. Под крылом кроткой Раисы Моисеевны, под ласково-успокоительным взглядом ее больших глаз Науруз медленно поправлялся; после злой вести, принесенной Гоярчин, выздоровление пошло скорее.
Науруз мысленно перебирал обстоятельства, вызвавшие гибель Нафисат. Ведь если бы, узнав от маленькой Саньят о том, что Нафисат увезли в арабынскую тюрьму, он кинулся ей на помощь, кто знает, может он смог бы спасти ее. Но ведь у него на руках была тогда бумага из Владикавказа, от Кирова, к бакинским большевикам, на ней стояли три креста — это значило, что бумага была очень срочная, — и он сделал все, чтобы доставить ее. Он и в больницу попал потому, что жизни своей не щадил, чтобы выполнить это поручение. Эти мысли словно подталкивали его, и он буквально считал часы, когда его выпишут из больницы, представлял себе лица товарищей, которых увидит на воле.
И вот наконец желанный миг наступил. Его выпустили из больницы. Прощаясь с ним, Раиса Моисеевна указала, к кому надлежит ему направиться, — и как он обрадовался, услышав имя Буниата Визирова!
2
Буниат как старого друга принял Науруза у себя в семье, посочувствовал его горю и тут же назначил ему работу.
В Бакинском комитете Буниат ведал связью. Науруз, исполняя партийные поручения, ходил из Сабунчей в Баилов, оттуда в Сураханы и колесил по всему огромному Баку. И на том и на другом конце промыслового Баку казалось ему, что слышит он все те же слова, которые сквозь слезы проговорила Гоярчин, когда посетила его в больнице, слова о том, что после того, как началась война, жить людям становится все труднее и труднее. Науруз видел, что петля дороговизны все туже сжималась на горле простых людей. Об этом говорили и в Баилове, и на Балаханах; только в центре Баку, когда Науруз ночью пересекал город, этот рокот гнева заглушался криками пьяных спекулянтов, доносившимися из ресторанов и духанов, из открытых окон богатых квартир.
Во всех кварталах города выбирали комитеты по борьбе с дороговизной. Правительство не рискнуло запретить эти организации, как будто бы не преследовавшие политических целей. Но массы старались выбирать в эти комитеты людей самых неподкупных и решительных, а такими людьми были большевики, хотя об их партийной принадлежности избиравшие по большей части и не знали.
На третий год войны комитеты по борьбе с дороговизной стали опорными пунктами большевиков, центрами их влияния на массы.
После начала войны на русской территории появились сотни тысяч беженцев. Здесь были и армяне, бежавшие из Турции, и айсоры, переселившиеся из Персии, и курды-иезиды, которых турки преследовали за их религиозные воззрения. Тогда-то в Баку некоторыми интеллигентами — врачами, адвокатами, инженерами, учителями — создан был Комитет помощи беженцам без различия национальностей. На учредительное собрание этой организации пришел Мешади Азизбеков. Он произнес горячую речь и закончил ее предложением организовать отделения этого общества в районах. Многим из организаторов этого общества такое предложение не понравилось.
— Значит, вы боитесь этого общества, не хотите, чтобы рабочие тоже помогали беженцам? — спросил Азизбеков. И пункт о создании районных отделений был принят.
На этом же собрании заместителем председателя был избран Мешади Азизбеков, а секретарем — Надежда Николаевна Колесникова, давний работник бакинской партийной организации. Так Комитет помощи беженцам стал одним из центров большевистской работы и идейного влияния большевиков на массы.
Таким образом, спустя два года после полицейского разгрома 1914 года бакинская партийная организация была восстановлена. Большевики вновь получили большинство в такого рода массовых организациях, как профессиональные союзы, клубы. По всем районам и промыслам вновь были созданы подпольные кружки, восстановлены старые связи и наконец проведена Кавказская конференция большевистских организаций.
Во время стачки 1914 года Науруз не раз слышал о Степане Шаумяне, но тогда даже не знал точно, находится ли Шаумян в Баку. Теперь же Науруз, исполняя партийные поручения, несколько раз видел Степана Георгиевича, которому приходилось посещать далеко отстоявшие друг от друга промысловые районы, собирать большевиков, проводить собрания, писать листовки. Когда за Шаумяном охотились в Баку, он уезжал в Тифлис и работал там.
Растущая дороговизна и нехватка продуктов, недовольство войной делали свое: забастовки начинались и в Тифлисе, и в других городах Закавказья. Охранка видела, что пламя, казалось бы затоптанное в начале войны, вновь поднимается, и ранней весной 1915 года она попыталась вновь провести разгром большевистских партийных организаций. На этот раз охранникам удалось арестовать в Грозном Степана Георгиевича Шаумяна, энергичных работников большевистского подполья Надежду Колесникову и Якова Зевина (известного рабочим под именем Павла Кузьмина), а также ряд членов городского и районных промысловых комитетов.
3
Буниата Визирова во время этих событий в Баку не было. Он в качестве инструктора Комитета помощи беженцам разъезжал по городам Бакинской и Елисаветпольской губерний, где, исполняя поручения комитета, одновременно разыскивал и собирал уцелевших или вернувшихся из тюрьмы и ссылки большевиков, восстанавливал партийные организации и направлял их деятельность.
Вернулся Буниат пароходом. В случае если бы все было благополучно, его должны были встретить на пристани. Но его не встретили, и это сразу насторожило его. Прямо с пристани, не заходя домой, Буниат отправился на явку, — о ней, кроме него и некоторых работников, осуществлявших связь по городу, никто не знал. Это была хашная, которую содержал друг его детства Агахан. Там-то Буниат и узнал о размерах разгрома.
Но он узнал и о том, что, арестовав Шаумяна, охранка не тронула Мешади Азизбекова, ближайшего друга и соратника Шаумяна. Для того чтобы арестовать Мешади Азизбекова, члена городской думы, требовались не подозрения, а серьезные улики. А их у охранки не было. Или, может быть, Мешади нарочно оставлен охранкой на свободе, чтобы, дав ему возможность действовать, выяснить все прочие большевистские связи и тогда уже устроить новый разгром?
Так думал Буниат. Осторожно известив Мешади о своем возвращении, он не стал искать с ним встречи, хотя ему очень хотелось встретиться и поделиться именно с Мешади радостными вестями о настроениях родного азербайджанского крестьянства. Проводя сбор пожертвований в пользу беженцев, Буниат объехал глухие местности Джебраильского, Нухинского, Казахского уездов, и везде охотно и отзывчиво откликались на его рассказы о бедствиях людей, согнанных войной с насиженных мест, и жертвовали кто что мог. Конечно, Буниат открыто говорил, что речь идет об армянах и айсорах. И муллы и беки, узнавая об этом, всячески противодействовали ему, играя на религиозном фанатизме и национальных предрассудках — и что говорить, иногда это им удавалось. И все же Буниат вернулся в Баку с радостным чувством. Его уверенность, что веками живущие рядом армянские и азербайджанские крестьяне по-соседски сжились друг с другом и что народу чужд человеконенавистнический шовинизм, окрепла. Буниат собрал за время поездки двести с чем-то рублей. Мало, конечно, но ведь жертвовали копейками. Женщины часто приносили сыр, яйца, куски домотканой материи. Но если бы Буниат мог принести армянским матерям то, что дороже денег и пищи, — драгоценные слезы сочувствия на глазах азербайджанских матерей! Вот об этом надо поговорить с Мешади, он поймет и порадуется. Опутанная беками и деревенскими ростовщиками, в значительной степени потерявшая землю, которую присвоили помещики, азербайджанская деревня волновалась. И, проводя сбор для беженцев, — дело, разрешенное правительством, — Буниат завязал новые и возобновил старые связи с отважными, готовыми на все людьми. Кое-кто приберегал оружие еще с прошлого, чувствуя, что дни, когда это оружие можно будет поднять на ханов и беков, по всему судя, могут наступить очень быстро.
В хашной у Агахана Буниат узнал, что в Комитете помощи беженцам уцелел один из служащих — Гурген Арутинянц, член партийной организации. Буниат, как полагается прибывшему из командировки служащему, явился в Комитет. Здесь от Гургена Арутинянца он узнал о том, что некоторым большевикам удалось избежать ареста. Ивану Столетову для этого пришлось уехать из Баку. Однако адрес его известен.
Уже после разгрома организации вернулся, отбыв ссылку, Али-Акбер, один из трех делегатов, вручавших требования бакинских рабочих Совету нефтепромышленников накануне стачки 1914 года. Али-Акбер опять поступил на сеидовские промыслы, где работал до ареста. Буниат встретился с ним и узнал, что Акоп Вартанян, вместе с которым Али-Акбер вручал ультиматум Совету съездов, бежал из ссылки и тоже находится сейчас в Баку под чужой фамилией. Акопу предстоит призыв в армию, он просит сообщить через Али Акбера — как ему быть? Не тронула охранка и Мамеда Мамедьярова. Не зря этот хитрец носил мохнатую шапку и чоху и порою заглядывал в мечеть. Даже когда он попадал под арест, его быстро освобождали, потому что он умел прикинуться простачком, апшеронским крестьянином (каким он и был по происхождению). Мамед Мамедьяров продолжал жить в своей родной деревне, где и сейчас жил его отец и где проживали его деды и прадеды.
Еще при первой встрече Гурген показал Буниату открыточку, которую он получил на свой домашний адрес. На открытке стояла подпись «Вера». Бегло прочитав открытку, можно было подумать, что писала ее взбалмошная, ищущая развлечений девушка. В открытке, между прочим, сообщалось, что Вера очень рада наконец съездить к тете в столицу, но что она никогда не забудет бакинского гостеприимства. Вера сообщала, что «совершенно случайно!!!» встретилась она с двумя бакинцами: Алымом и долговязым Ваней, который так часто посещал дом Сеидовых, где ему, очевидно, нравилась одна из дочерей. Оба они, и Алым и Ваня, очень-очень беспокоятся о сердечных своих пассиях, «которые, в отличие от меня, оставшейся верной бакинкой, не пишут своим обожателям, — ха-ха-ха…»
Сестра Гургена, в руки которой попала эта открытка, несколько дней не давала брату покоя.
— Вера, Вера, ха-ха-ха! Вера, Вера, ха-ха-ха! — издевалась она над братом.
Гурген смущенно отмалчивался. Да и что он мог ответить?
Эта открытка сказала Гургену о многом: и о том, что писала ее Вера Илларионовна Николаевская, старый работник бакинской партийной организации, арестованная еще осенью 1914 года, и о том, что сейчас Вера Илларионовна бежала из ссылки, и, наконец (ради чего она, очевидно, и писала открытку), что два каких-то бакинских товарища-большевика, по всей очевидности находящиеся в ссылке, не имеют известий от своих близких. Кто такие эти большевики, Гурген не мог установить. Буниат же, когда Гурген показал ему открытку, легко разгадал, о ком идет речь. Алым — это, без сомнения, Алым Мидов, черкес Алым, как называли его в Баку; а длинный Ваня — это, судя по упоминанию о Сеидовых, Иван Никитич Сибирцев, служивший в этой фирме механиком. Буниат тут же вспомнил о Наурузе Керимове, так как Науруз и Алым были веселореченцы.
Буниат вызвал Науруза в хашную Агахана.
Хаш, кушанье из бараньих внутренностей, — излюбленное блюдо бакинского простого народа, и не только уроженцев Востока, но также и русских и украинцев. Конечно, полиции не приходило в голову, что хозяин хашной Агахан, с широким желтым лицом и вопросительно приподнятыми черными бровями, казалось бы весь погруженный в коммерческие расчеты, в сделки с мясниками, содержит явку большевистской партийной организации.
Агахан посадил Науруза и Буниата у столика возле окна, — окно вело на галерею, а оттуда на крышу, откуда можно было спрыгнуть во двор, выходящий на далекую улицу. Одобрительно следя за тем, как переменно и основательно ест Науруз, Буниат сам с удовольствием съел тарелку вкусного блюда, вытер усы и рассказал Наурузу о письме Николаевской.
— Алым по состоянию здоровья вряд ли приедет в Баку, полезней всего ему будет вернуться на родину, — говорил Буниат.
— Это так, — согласился Науруз и, помолчав, добавил: — Может быть, устроить, чтобы семья Алыма переехала на родину, к нам в Веселоречье?
— Об этом стоит подумать, — ответил Буниат. — Но ведь жена Алыма по-вашему не понимает, да и по-русски не очень. И вообще, ты знаешь наших мусульманок, каково ей будет ехать по железной дороге…
Науруз помолчал.
— Подумаю, — сказал он. — И семью Сибирцева поищу и тоже подумаю.
— Думай и действуй. Для этого я тебя и позвал, — сказал Буниат.
Науруз молча взглянул на него. Буниат, слабо улыбаясь, сочувственно кивнул. Он понимал Науруза: легко ли потерять такую верную и преданную подругу, как Нафисат! «Без любимой свет не светит», — поют в песне. Понижая голос, Науруз сказал:
— Знаешь, Буниат, я ведь после того, как прыгнул с поезда, мало что помню. Кажется, что везли меня куда-то все вверх, вверх и руки у меня под головой держала Нафисат и песни пела надо мной. А ведь она… не была она тогда жива…
Буниат дергал себя за черный ус, смотрел на взволнованное и печальное лицо Науруза. Как поступить? Сказать или не сказать? Во время своей поездки по Бакинской и Елисаветпольской губерниям посетил он старика Авеза, и тот расспрашивал его о Наурузе. Старик рассказал, что все время, пока везли Науруза, Айбениз, внучка Авеза, подложив руки под его разбитую голову, оберегала Науруза от толчков… Сказать об этом — и в дым рассеется сотканное горем и болезнью мечтание Науруза о том, что бесплотная тень Нафисат прилетала к нему и облегчала его страдания. Ну и пусть рассеется призрак, пусть торжествует жизнь! И Буниат сказал:
— Значит, ты думаешь, что твою голову поддерживала бесплотная тень Нафисат? А что, если я тебе докажу, что это были руки другой девушки, живой и прекрасной? И что это она облегчала твои страдания?
— Нет, это была Нафисат, — тихо ответил Науруз. — Зачем тебе отгонять ее тень от меня?
Буниат пожал плечами.
— Всегда лучше знать правду. Ты ведь не знаешь, что произошло с тобой после того, как ты разбился. Я тебе расскажу, я сам узнал все это сейчас, во время поездки…
Он рассказывал. Науруз молча слушал. Черная завеса, скрывавшая память, заколыхалась, какие-то отрывистые, непонятные речи доносились оттуда, он вслушивался в них с жадностью.
— Итак, ты видишь, Науруз, что спасли тебя не духи, а добрые люди и что голову твою держала юная Айбениз, дочь учителя…
— Айбениз? — переспросил он. — Лунный лик?
— Именно так ее и зовут, — подтвердил Буниат и вдруг увидел, что Науруз непроизвольно схватился рукой за глаза.
Ведь и тогда, когда его везли все вверх и вверх, в короткое мгновение просветления увидел он высоко над собой лунный лик и, по далекому воспоминанию сиротского детства, сказал «нана», призывая мать к себе на помощь, — и вдруг лунный лик приблизился к нему, знойный цвет апельсина проступил сквозь лунную голубизну, и горячая, живая слеза капнула ему на лоб… Да, это была не Нафисат, Буниат говорил правду.
— Если ты не веришь мне, — продолжал Буниат, — пожалуйста, я дам тебе адрес. В доме учителя тебе обрадуются, там ты увидишь ту живую девушку, которая облегчила твои страдания.
— Я верю тебе, друг Буниат, — сказал Науруз. — И прошу тебя передать этим добрым людям, что сердце мое полно благодарности.
— А ты сам им об этом скажи. — Буниат щурился и посмеивался, дергая себя за ус.
Науруз, не соглашаясь, покачал головой и сделал рукой так, словно отвел что-то невидимое.
— Нет, не пойду я туда. Призраки рассеиваются, но воспоминание живет. Я останусь верен памяти Нафисат и отворачиваюсь от живой Айбениз. Я не хочу ее видеть, так как человек слаб.
Буниат взглянул на него удивленно.
— Ну, ну, — сказал он. — Я все-таки думаю, что живое всегда сильнее мертвого… — Он помолчал. — А впрочем, кто знает, как бы я поступил на твоем месте? — Он вздохнул. — Может быть, так же, как ты. Призраков нет, но власть памяти… Ну что ж, борись с собой, осиль себя, это большая победа. А теперь иди. Судя по цвету того полотенца, которое вывесил Агахан возле рукомойника, выход свободен.
Когда Науруз, уже встав с места, протянул ему руку, Буниат задержав ее в своей руке, спросил:
— Ну, так как?
Науруз понял этот настойчивый вопрос и ответил:
— С каждым днем все туже и туже петля на шее народа.
— Чем туже натягивается, тем скорее лопнет! — ответил Буниат.
4
Исполнив поручения Буниата Визирова, Науруз шел на дом к Мамеду Мамедьярову, куда его вызвали. Науруз не знал, зачем он вызван, однако предполагал: он должен сообщить о выполнении поручения, касающегося семей ссыльных товарищей. Но жена Алыма Мидова соглашалась поехать на родину мужа только с тем условием, что Науруз будет ее сопровождать. Наурузу же не хотелось возвращаться сейчас в Веселоречье.
Так шел он, задумавшись, и вдруг вздрогнул и оглянулся. Что произошло только что, неожиданное и опасное? И разве можно задумываться, когда идешь с делом по городу?
Закат разбросал алые перья на полнеба, их словно несло ветром. Но нет, ветра не было, тихо лежала пыль на щербатой мостовой. У девушки, которая с лицом, завешенным черной кисеей, переходила дорогу, ветер не шевелил кисеи, и след ее маленькой босой ноги четко отпечатывался на дороге. Безветрие в Баку бывало так редко, что чувство опасения у Науруза, наверное, вызвано было именно этим внезапным прекращением однообразного воя ветра, который обычно с пылью и дымом несется над городом, сопровождаемый скрежетом и визгом какого-нибудь оторвавшегося где-то куска железа.
Да, кругом было все спокойно. Ни писец с крашеной бородкой возле белевшей ограды приземистой мечети, ни босая женщина, подошедшая к писцу, ни даже полицейский в своей белой летней мешковатой форме — никто не обратил внимания на Науруза. Да и с чего? Таких парней в мохнатых барашковых шапках, перепоясанных тонкими, отделанными тусклым набором ремешками, со здоровыми крепкими руками много можно встретить на улицах Баку. И особенно сейчас, когда на фронт ушло столько русских, грузин и армян. Из горных ущелий и прикаспийских равнин на смену им пришли аварцы, кумыки, лезгины, лаки, талыши…
Ну, а если Науруза все-таки остановят? Что ж, он скажет: «Я черкес с реки Веселой», — и покажет паспорт. «Ну, иди дальше, черкес, кому до тебя дело, иди, куда тебе нужно». И кто знает о том, что Науруз идет, чтобы встретиться с представителем Бакинского большевистского комитета Мамедом Мамедьяровым?
Обычно Мамед Мамедьяров назначал Наурузу встречи где-либо в людных местах, но на сегодня вызвал к себе — Мамед подвернул ногу…
— То, что на огни Баку собираются люди с Кавказа, с Волги и даже из Персии, — это всем известно. А я вот не шел в Баку, Баку само пришло ко мне, — так шутил Мамед Мамедьяров.
И это была правда: промыслы сами пришли к нему. Здесь почти при всех домах были еще виноградники и на дворах около приземистых белых домиков высились кудрявые деревья инжира. Кое-кто из крестьян сеял еще хлеб, и женщины ткали знаменитые нежные и веселые апшеронские ковры, которые легко и выгодно можно было сбывать на рынке в Баку. Но уже вышки с севера, от Сураханов, обходили по каменистой гряде деревню, а перед первой мировой войной они начали появляться и с юга, со стороны моря.
Пришлые рабочие давно уже стали селиться здесь у крестьян, что было выгодно крестьянам, а молодые парни из деревни пошли на заработки на промыслы. Среди них был и Мамед Мамедьяров. Рослый и крепкий, он зарабатывал хорошо. Рано женился, у него росли умные дети, которых он обучал русскому языку. Но это, пожалуй, единственное, чем он не был схож со своими земляками, апшеронскими крестьянами, — по обычаям и по одежде он старался не выделяться среди соседей.
Мамед Мамедьяров никогда не пользовался чужим паспортом.
— Если я возьму чужое имя, апшеронская земля застонет: «Он Мамед, сын Мамеда и внук Мамеда — и никак его нельзя иначе называть, кроме Мамед», — шутил он.
Наурузу не раз приходилось от руководителей Бакинского комитета доставлять Мамеду Мамедьярову листовки, написанные по-азербайджански, и получать их от него исправленными.
— Видишь ли, земляк, — объяснял он Наурузу, — писали это люди ученые, а читать будут неученые, вроде меня. А я уж знаю, как надо с нашим братом разговаривать, какую пословицу сказать, какой стих из песни привести.
День был хотя и безветренный, но холодный, и Науруз, войдя в дом, с наслаждением отстегнул крючки, своего изрядно потрепанного и уже истончившегося бешмета. В доме топилась знаменитая печь, которой Мамед гордился. Эта чудо-печь занимала половину комнаты, она обогревала дом, а одновременно нагревала воду. На деревянном полке над ней можно было мыться, как в бане. Эту печь изобрел и оборудовал сам Мамед, когда женился и отделился от отца.
Сейчас Мамед сидел в передней комнате, пил чай и благодушно прислушивался к веселому визгу ребят. Одна нога его была в сапоге, а другая в туфле.
— О Науруз-джан! Ты точен, как часы на губернаторском доме.
Мамед, видно, сам только что искупался, и его большое, с мужественными складками, багрово-распаренное лицо обтекало потом. — Свет очей моих, — сказал он старшей дочери, долгоногой смешливой девочке с резкими движениями, — налей гостю чаю… — И он обернулся к Наурузу: — Буниат дал тебе поручения. Считай, что я Буниат, и говори все, что ты хочешь сказать ему. Но сначала выпей чаю.
Науруз выпил чашечку крепкого, ароматного, почти красного чая — он в Баку привык к этому напитку — и стал рассказывать.
Мамед, внимательно выслушав его, сказал:
— Ну, с Иваном Сибирцевым все ясно. Жена его уехала на родину, мы ему напишем об этом. Конечно, тебе придется еще потрудиться — достать ее адрес в Ижевске…
— Адрес я достал, она оставила его соседям. Вот он, — ответил Науруз.
— Э-э-э… Я вижу, не напрасно ты работаешь у Буниата, он кое-чему тебя научил. Значит, по этому адресу мы вышлем денег. Не бог весть какие это будут деньги, а все-таки помощь товарищей. «Это будет шибко хорошо… шибко хорошо», — повторил он русское выражение и засмеялся. — Ну, а с Алымом как? — И улыбка тут же сбежала с его лица. — «Не шибко хорошо…» Значит, не хочет наша Гоярчин ехать, а? А ведь Баку не курорт, Алым здесь помрет, — она этого не понимает?!
— Почему не понимает. Понимает, жалеет его, плачет, а ехать одна в наши горы не хочет… Боится…
— Одна боится? — обрадовавшись и делая ударение на слове «одна», сказал Мамед и воздел кверху свои большие, слегка опушенные рыжим волосом руки. — Видишь, что значит учиться в медресе? Мулла учил, что умение поставить ударенье для управления речью, равносильно умению управлять конем посредством узды. Так-то! Она боится ехать одна? А если с кем-нибудь?
Науруз молчал. Мамед угадал истину. Гоярчин прямо говорила, что если он, Науруз, будет сопровождать ее, то она не будет бояться. Но как же Баку, где шла напряженная борьба?.. Да и не хотелось ему в Веселоречье. Науруз молчал, Мамед глядел на него, ожидая ответа. Вдруг он прислушался. В открытое окно донеслись тревожные свистки — один, другой…
— Плохо дело, — сказал Мамед. — За тобой кто-то шел, братец? — сказал он Наурузу, и Науруз покраснел, вспомнив, как, словно от внезапного толчка, пробудился он, когда шел сюда, оглянулся — и никого не заметил. Значит, кто-то выследил его и привел полицию к дому.
Между тем Мамед взял его за руку и ввел в соседнюю комнату, откуда исходил жар. Мамед подвел недоумевающего, но послушного Науруза к черному, по всей видимости предназначенному для топки отверстию печи.
— Лезь туда, лезь, поглубже, глубже лезь, не бойся. И скажи товарищам, которые там находятся, что есть опасность, но что я отведу ее.
Науруз, весь скорчившись, влез в печку. Там совсем не было так жарко, как можно было предполагать. В черной темноте сделал он несколько шагов, наткнулся на стену, которая вдруг сдвинулась, и сразу в глазах его стало светлее, потянуло прохладой. Оказывается, за печкой было свободное пространство, бледно освещенное откуда-то сверху дневным светом. Науруз оказался в маленькой, но с высоким потолком комнате. Он узнал черноусого Буниата, Ивана Столетова с его высоким лбом и глубоко посаженными блестящими глазами и Гургена Арутинянца, который, как только вошел Науруз, задвинул большой массивный засов входного отверстия. Люди сидели вдоль стен на маленьких скамеечках, здесь даже стоял невысокий, на коротких ножках стол. Все лица, казавшиеся благодаря рассеянному свету несколько бледнее, были обращены к Наурузу.
— Мамед велел передать, что есть опасность, но что он отведет ее, — сказал Науруз.
— Опасность? — переспросил Гурген и, подойдя к стене, вынул один из кирпичей. Сразу стало слышно, что в доме двигают тяжелые вещи, плачут дети и причитают женщины.
— Ну вот, — раздался густой, спокойный голос Мамеда, — вы видите, что и под этой кроватью, которую ни разу не сдвигали с места четырнадцать лет после нашей свадьбы, тоже никого нет. Я уверяю вас, что ваш соглядатай — вот этот, я хорошо его помню, так как в прошлом году двинул его по уху, приняв за вора, — сводит со мной счеты.
— Я свожу счеты?! — послышался быстрый голос шпика. — Да я же докладывал, что этого молодца в черном бешмете я несколько раз видел, но не с этим Мамедом, а с другим, маленьким.
— Я не знаю, кто такой маленький Мамед и кого ты с ним видел, — загудел голос Мамеда. — Но сейчас твое усердие в службе и ненависть ко мне ввели тебя в ошибку. Если тот большой молодец, о котором ты говоришь, здесь, то возьми его. Не превратился ведь он в эту палку…
— Не тронь палку! Ваше благородие, не давайте ему брать палку…
— Да с чего ты взял, что я беру твою палку? — удивленно спросил Мамед. — Я, слава аллаху, всю жизнь управляюсь без палки. А насчет парня, который якобы шмыгнул к нам во двор, я догадываюсь, что это за парень. Кроме моего дома, на нашем дворе стоит еще дом моего отца, а мои младшие сестры обе на выданье. Вы знаете, как строг наш закон насчет свадьбы, ваше благородие, а бедному жениху хочется хоть краем глаза взглянуть на то, что ему собираются всучить. Пойдемте в дом к отцу — и уверяю вас, что мы найдем следы этого парня…
— Айда, — сказал урядник. — Который раз, собачье мясо, ты подводишь меня… — проворчал он, видимо обращаясь к шпику.
Голоса смолкли. Только слышно было, как плачут дети и как их успокаивает женщина.
— Ну что же, — своим обычным неторопливым голосом сказал Буниат, — не будем терять драгоценного времени и продолжим обсуждение этого дела. Слово Столетову.
Столетов встал.
— Товарищи, — сказал он, оглядывая всех, — сборы эти в пользу беженцев, о которых рассказал Буниат, производились, судя по его словам, насколько я понял, не только с христианского населения. Рабочие-мусульмане, а также и жители азербайджанских местностей с такой же охотой, как и христиане, последним делились с людьми, потерпевшими бедствие из-за этой проклятой войны. И, помогая им, люди эти поднимались выше религиозных и национальных предрассудков, поднимались до истинного интернационализма. Так давайте доведем это благородное дело до конца! И пусть армяне-беженцы, которым предназначается эта помощь, получат ее из рук дорогого нашего Буниата.
Глаза его сияли, и хотя говорил он почти шепотом, такая сила убеждения слышна была в его голосе, что все сомнения сразу таяли, — на твердом убеждении в благородстве человеческой души зиждилась эта речь.
— Ну что ж, — сказал Буниат. — Я ведь не возражаю против поездки. Пока еще председатель Комитета помощи беженцам мне доверяет, он даже произнес передо мною целую речь, обвиняя Степана и Надежду Николаевну (речь шла о Степане Шаумяне и Надежде Николаевне Колесниковой). Я промолчал и сказал, что разберусь. Так что мандат он мне подпишет. С этим мандатом я выполню ваше поручение, проникну в прифронтовую полосу — и думаю, что отыщу Алешу Джапаридзе и поставлю его в известность об аресте Степана и других товарищей. Посоветуемся с ним о дальнейших действиях.
Но спор у нас шел не об этом. Вы говорили, что поездку в Петербург отложить можно, а я говорю — нет. И если сейчас надо ехать на фронт, то пусть в Петербург кто-нибудь другой поедет.
— Ты съездишь в Петербург, а потом на фронт, — сказал Столетов. — После Петербурга твоя поездка на фронт приобретет двойную ценность.
Буниат, не поднимая глаз, помолчал, видимо раздумывая. Потом вдруг повеселевшим взглядом окинул всех.
— Согласен! — сказал он. — И мне понравилось то, что говорил здесь Ванечка. Еще раз повторю: не легкое это будет дело — говорить с армянами именно мне, мусульманину! Да и как не понять их? Армяне, бежавшие из Ванского вилайета, испытав на себе турецкие зверства, предубежденно будут смотреть на каждого мусульманина, тем более что дашнаки делают все, чтобы натравить их на нас. Но именно потому я поеду и выполню то, что должен. По совести и чести интернационалиста должен выполнить, — тихо и убежденно сказал он.
— Ты выполнишь, непременно выполнишь! — воскликнул Гурген и, смутившись, спросил: — Так и записать? (Он вел протокол.)
— Пиши так: сначала в Петроград, потом на фронт.
Буниат прислушался.
За стеной вдруг послышались громкие шаги и густой веселый голос Мамеда. Слышно было, как он успокаивает женщин, ласкает детей.
— Все благополучно, — с усмешкой сказал Буниат. — Такой толстый и неповоротливый на вид, а хитрый.
— Медведь тоже и толст, и кажется, что неуклюж, а хитрей его нет зверя, — вдруг сказал Науруз.
Все засмеялись, а он смутился.
Гурген отодвинул засов.
В дверях показалось большое, весело улыбающееся лицо Мамеда.
— Аллах керим, дождь падает в реку, река течет в море… Отец вчера зарезал овцу, половину сейчас отдал уряднику. Догадливая моя сестренка, когда я сердито приступил к ней, стала кричать и плакать, что она ни в чем не виновата и что негодный Джамиль уже не в первый раз прячется в винограднике, чтобы проследить ее, когда она ходит за водой. Все это, конечно, выдумано. Джамиля она назвала потому, что это из соседских парней самый сознательный, в случае, если его спросят, он, не моргнув, скажет, что действительно собирается жениться. Так и удалось мне увести беду. Урядник даже пнул ногой своего неудачливого соглядатая. Но тебе, братец, — и он повернулся к Наурузу, — нужно исчезнуть из Баку, тебя выследили.
— Да, — подтвердил Буниат, — ничего не поделаешь. Так было со мной в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда меня выследили, и я уехал Измаиловым, а вернулся Визировым. Ничего не сделаешь, такова работа.
— Куда же мне ехать? — спросил Науруз.
— Ясно, куда, — ответил Мамед. — Тебе нужно жену земляка твоего Алыма отвезти в Веселоречье…
Глава третья
1
Прийти в редакцию журнала «Вопросы страхования» в военной форме Константин, по понятным соображениям, не хотел. Требовалось переодеться в штатское. Константин рассчитывал достать штатскую одежду у своей двоюродной сестры Веры, которая проживала где-то в Петербурге и была замужем за некиим Карабановым. Но где живут Карабановы, Константин не знал, адресный стол дал ему справку не сразу, — Карабановы несколько раз меняли квартиру…
И вот наконец адрес в руках.
Взбегая по звонким ступенькам чугунной лестницы и жадным взглядом проверяя номера квартир, Константин вопреки очевидности представлял себе, что увидит те знакомые комнаты в квартире Котельниковых, которые с детства были милы ему. Котельниковы едва ли были богаче Черемуховых, но жили совсем по-другому — по-господскому, по-городскому. После Николая Котельникова, отца Веры, механика, расстрелянного в девятьсот пятом году во время восстания во флоте, осталась целая этажерка книг, а мать Веры, сестра его отца, преподавала рукоделие в епархиальном училище, и ее скатерочки, коврики и вышивки украшали стены комнаты. Но там, в той квартире Котельниковых, были низкие потолки, до которых можно было достать рукой, а тут, едва дверь открылась, уже в прихожей, Константин увидел, что потолка точно совсем нет, сверху сквозь стеклянный фонарь струился ровный бледный свет, окон в передней совсем не было. Перед ним стояла черноволосая красавица в длинном лиловом, отделанном кружевами платье, и он, хотя не видел свою двоюродную сестру семь или восемь лет, сразу признал в ней Веру.
Все, что было так привычно, знакомо и мило Константину в маленькой девочке, подруге детских лет, теперь расцвело чудесно. Казалось, что такие, как у нее, синие глаза непременно должны быть оттенены черными, сходящимися в переносье бровями, а тонкие очертания носа сочетаться со строгим и чистым рисунком небольшого рта, сейчас вопросительно приоткрытого.
Но она тоже узнала его. Кровь схлынула с ее щек, глаза расширились.
— Костя! — вскрикнула она, и в высоких потолках квартиры отдалось эхо.
Она кинулась к нему, как в детстве кидалась, когда он приходил к ним во время ее болезни. И так же, как в детстве, заплакала.
— Костя? Да идем же сюда. Ну, снимай, снимай скорее шинель! Ты в солдатах?.. Ты узнал меня? Как же ты отыскал нас? Да ведь Игнаша — это мужа моего так зовут, — и он разыскивает тебя, и ему дали достоверные сведения, что ты в Сибири, на каторге, — говорила она, расстегивая крючки его шинели, и, сама снимая с него ремень и портупею, обнимала и гладила его по голове белой рукой с длинными пальцами. На безымянном Константин заметил массивное обручальное кольцо. Эти большие, казавшиеся ему пустынными комнаты (квартира была лучше мебели, которая в ней стояла) он оглядывал с каким-то давно уже забытым чувством облегчения. Он вдруг подумал, что вот у него есть все-таки свой дом, где о нем помнили, где его любили и ждали. Дом? Да, здесь дом его, хотя он, конечно, не будет тут жить, но все равно это его дом, потому что здесь Вера, сестра.
Константин на всю жизнь запомнил то время, когда отец Веры, Николай Котельников, плавал механиком на буксирном пароходике, бегавшем по Каме. И как весело было, взяв за руку маленькую Верочку, идти на высокий откос и оттуда высматривать белый дымок буксира! Родной отец Кости уже покинул дом. Но отец Веры, дядя Коля, между Костей и Верой не делал разницы: обоих сразу носил на плечах, обоим дарил лакомства и даже купил Косте ботинки. И долго еще после того, как дядя Коля ушел во флот, донашивал Константин эти последние им подаренные, много раз чиненные ботинки, пока они не развалились на его ногах.
Косте не исполнилось еще и пятнадцати лет, когда летом пятого года сослуживцы Николая Константиновича Котельникова прислали его жене письмо о смерти мужа. Костина мать выхаживала тогда Верину мать и нянчилась с маленьким Борей, а на долю Кости досталось возиться с чернобровой и синеглазой Верочкой, которая в это жаркое, грозовое лето стала тихо таять. Костя был всего на три года старше Веры, но казался взрослым, и, случалось, в забытьи она называла его папой. А наяву настойчиво домогалась узнать, как убили ее отца. И он рассказывал ей все, что знал. Сотни раз твердил он ей, что такая смерть не напрасна, что отец Верочки погиб за правое дело, что нет ничего достойней такого конца, и сам все больше утверждался в этих убеждениях. Он любил дядю Колю, больше того, благоговел перед ним, и сердце его запеклось от горя. Но сильнее, чем это горе, была жалость к ней, маленькой чернобровой подружке.
Чем сильнее жалость, тем круче ненависть к врагам. Словно лед и огонь, жалость и ненависть много раз проходили сквозь его душу. Он взрослел в эти часы. И кто знает: если бы не все это, созрел бы он так быстро для революционной борьбы? Ведь осенью того же года он принял участие в восстании, за что в седьмом году, хотя ему только исполнилось шестнадцать лет, его закатали на каторжные работы.
После оживленных, беспорядочных вопросов и ответов Константин и Вера замолчали, сидя на каком-то с деревянной резной спинкой диване. Она, крепко обхватив его руку возле плеча, прильнула к нему головой.
— Сестреночка моя, единственная, — тихо сказал он.
— Костенька… — ответила она.
Так просидели они в молчании. Важно тикали в углу большие стоячие часы. Слышно было, что в одной из комнат дома играют на рояле, все лился, лился и никак не мог излиться один и тот же переливающийся и все тоньше становящийся мотив.
— Это дочурка моя занимается с учительницей, очень способная девочка. Я тебе ее покажу… Напрокат рояль взяли, я тоже немного играю — Игнаша, мой муж, захотел. Костя, Костя… Ты здесь… Да, вот ты и здесь. Я всегда тебя помню… Как ты нянчил меня, когда папу убили и мама заболела… Ведь когда мама умерла, и я осталась одна с Боренькой, и ко мне подсылали старух от богатых купцов, — как мне плохо без тебя было! Я ведь на берег Камы выходила, на воду глядела. Но подумаешь: «Есть на свете Костя. Хоть где-то там, в Сибири, далеко, но живет он, благородный, и ему, конечно, хуже чем мне, но он головы не клонит ни перед кем». И свидеться с тобой захочется, и жить сразу хочется. А потом — как чудо — встретил меня на улице Игнаша Карабанов, теперешний муж мой… Случайно ведь все… Он привез оборудование для строящегося завода. Ну и, что рассказывать, в три дня все решилось. И мы прекрасно живем. Мой Игнат Васильевич очень хорошо зарабатывает: он мастер снарядного цеха. Но сейчас на заводе была забастовка, и он бастовал вместе с рабочими. Большинство инженеров, техников и мастеров в забастовке не участвовали, а Игнаша участвовал. Говорит мне: «Нельзя от своих отбиваться». Ведь это правильно, да? Игнаша из рабочей семьи и сам начинал простым рабочим и всегда об этом помнит…
Она рассказывала и не видела, что в дверях комнаты стоит брат, невысокого роста худощавый мальчик… Фуражка с большим лакированным козырьком обита набок, морского образца бушлат расстегнут… Он только пришел. Услышал из передней оживленный разговор, заглянул — да так и застыл в неподвижности. Тонкостью лица, черными бровями похож он был на сестру, но еще сильнее, чем она, вызывал он в памяти незабвенный образ своего отца — того матроса, расстрелянного в Севастополе, которого Константин с отрочества взял как образец для подражания…
— Это не Боря ли? — спросил Константин.
Она оглянулась.
— Борис! Ты знаешь, кто это? Это — Костя! Да что ты остолбенел? Ну, иди поздоровайся.
Мальчик подошел, взволнованно и застенчиво пожал руку, и Константин ощутил, что ладонь Бориса была загрубелая, жесткая.
— Работаешь? — спросил Константин, взглянув на эту еще отроческую ладонь.
Борис кивнул головой.
— Вот горе мне с ним, — рассказывала сестра. — Как только приехал в Питер, он хорошо сдал экзамен в гимназию, стал учиться и учился все время на пятерки, а дошел до четвертого класса — вдруг начал дурить: «Не хочу учиться, пойду в мореходное училище». Видишь, по-морскому вырядился.
— По отцовской дороге? — спросил Константин серьезно.
Бледные щеки мальчика вспыхнули, глаза сверкнули, он опять кивнул головой.
— Хорошо, что помнишь, — сказал Константин.
— Вот то-то и оно, что не только мы одни отца нашего помним, нашлись и другие памятливые; на экзамене в мореходное училище один из преподавателей-офицеров все приглядывался, а потом спросил: «Вы не сынок ли Николая Константиновича Котельникова?» Боря, конечно, признался. И представь, не приняли его, хотя экзамен сдал на пятерки. А из гимназии ушел и возвратиться не захотел. Игнаша взял его к себе в цех, хочет из мальчика подготовить мастера. Да что же это я?! — вдруг вскинулась она. — Скоро Игнаша вернется, да и ты, верно, голодный. Я сейчас… сейчас… — И она убежала.
В комнате секунду длилось молчание. Константин и Борис продолжали разглядывать друг друга, и чем дольше длилось молчание, тем больше нравился Константину его двоюродный братец.
— Я много про вас знаю, — сказал Борис.
— Да уж; верно, сестра все уши вам прожужжала, — ответил Константин.
Борис отрицательно покачал головой.
— Сестра все одно и то же твердит… А вот Антон Михайлович… — сказал он, таинственно понижая голос.
— Какой Антон Михайлович? — недоуменно спросил Константин.
— А вы с ним в ссылке вместе были.
— Погоди-ка… Иванин Антошка? Да неужто? Значит, он жив? Здоров? А откуда ты его знаешь?
— Мы с ним на одном заводе работаем.
— Верно, верно, ведь он питерский. Где же мне его увидеть?
— Я провожу вас.
— Проводи, Боренька, проводи… Как же это здорово! Ну, а ты как? Значит, с нами?
Разговор прервался. В комнату вернулась Вера, она привела толстенькую, свекольно-румяную девочку и гордо представила:
— Вероника.
Косички у Вероники были туго заплетены и дрожали, как пружинки. Своими маленькими, как у медвежонка, зеленоватыми глазками она неприязненно оглядела незнакомого дядю, неохотно, но вполне благопристойно подала ему красную холодную ручку. «Совсем на мать не похожа, — подумал Константин. — Верно, в отца».
— Ну, идем, я тебе покажу нашу квартиру, — сказала Вера. — Мы ведь только месяца два как сюда переехали, а то раньше жили возле самого завода. Но там душно было и две всего комнаты, а удобств никаких. А здесь ванна — видишь какая? Ведь Игнаша с работы грязный приходит. И кухня — видишь? Кухарку наняли, — торжественным шепотом сказала она. — Ну, а дом я сама прибираю, это мне удовольствие… Мебели только мало. Когда сюда, в светлые комнаты, переехали, видно стало, что все-таки неказиста наша обстановочка. Ну да ничего, мы обзаведемся… Меня только беспокоит, как на заводе. Ведь могут рассчитать Игнашу, а? Как ты считаешь?
— А забастовка проиграна?
— Проиграна, Костя, проиграна… Потому что недружно действовали. Меньшевики — против забастовки. И ведь правда же, война идет, армию нужно снабжать снарядами, а тут забастовка.
— Ты что же, тоже за меньшевиков? — спросил Константин, и в его шутливом голосе слышался испытующий вопрос.
— Нет, нет! — она замахала руками. — Я все это, конечно, плохо понимаю. Но Игнаша с самого начала войны говорил, что требование увеличения расценок — правильное требование. А из-за этих требований и началась забастовка. Ведь акционеры сейчас миллионы загребают, а расценки у нас с начала войны ни на копеечку не поднялись.
Она не кончила говорить, как входная дверь громко стукнула и басистый мужской голос о чем-то спросил.
— Игнаша! — Вера, подхватив подол платья и, шурша юбками, убежала.
Константин пошел за ней, подумав: «Наверно, Антоша Иванин и направляет эту забастовку. Непременно нужно успеть сегодня же свидеться с ним».
Он вошел в столовую, ярко освещенную сильной электрической лампой без абажура. Странно было, что в этой оклеенной красивыми обоями комнате, кроме стола, покрытого золотисто-желтой скатертью, и ряда новых, чинных стульев, ничего не стояло.
Большого роста человек, смуглый, сильно облысевший, добродушно улыбаясь и протянув вперед крупную руку, шел навстречу Константину, пристально вглядываясь в него своими маленькими, такими же, как у девочки, глазами. На нем была серая простая рубашка с отложным воротничком и таким же серым, в крапинку, галстуком, из кармана торчали ножки циркуля и записная книжечка. Широкий пояс охватывал его живот, величина которого скрадывалась общей крупностью фигуры. Он пожал руку Константину, — рука у него была теплая, мягкая и сильная, но чувствовалось, что пожать он мог бы и посильнее.
— Очень, очень рад, — говорил он, все еще вглядываясь из-под густых, слегка лохматящихся бровей в Константина.
Около отца, держа его за большой палец, прыгала Вероника, а Вера, указывая на стол, где лежали пакеты и стояла большая бутылка, окутанная серебряной фольгой, оживленно говорила, положив свою белую руку на широкое плечо мужа:
— Ты видишь, какой он у меня умный? Где-то шампанского достал. И ведь не знал, что ты приехал, а вот как кстати.
— Сердце весть подало, — посмеиваясь, сказал Игнат Васильевич. Говорил он слегка в нос, но густой его голос был приятен своим добродушием.
— Ну как? — спрашивала Вера. — Забастовщиков на завод принимают?
— Э-э-э!.. — Игнат Васильевич с досадой даже махнул рукой. — Давай лучше есть, а то я голоден… Прошу к столу! Тащи, Вороненок, посуду.
Девочка принесла тарелки, а он, разворачивая и раскладывая по тарелкам колбасу, ветчину, сыр, семгу, говорил, обращаясь к Константину:
— Государство переживает серьезнейший момент своего существования, может быть решается вопрос, быть или не быть России, а господа акционеры ничего и знать не хотят, копейкой не хотят поступиться. Завод встает, производство снарядов в разгаре войны останавливается, они же, изволите ли видеть, собираются зачинщиков забастовки в солдаты отдавать.
«Все с разных сторон, а об одном и том же», — подумал Константин, вспомнив разговор с генералом Розановым.
— Как в солдаты? И тебя, Игнаша? — переспросила Вера, бледнея: она внесла в комнату суп и слышала последние слова мужа.
— Какой я зачинщик! — ответил Карабанов. — Но с завода, между прочим, погнать могут. Они думают, что весь свет на ихнем заводе сошелся. Ничего, и без них обойдемся.
Он покрутил крепкими пальцами круглую пробку бутылки — пробка гулко вылетела с дымом и с пеной.
— Демисек, — сказал он, по-русски выговаривая французское слово. — Ты уж прости, Верушка, искал сухого — не нашел.
— Да удивляюсь, как и это ты нашел, ведь все запрещено, — сказала Вера и такими преданно-восторженными глазами поглядела на мужа, что Константину стало весело и завидно.
— Чего там — запрещено! Были бы деньги. По ресторанам и шантанам — море разливанное… Ну, дорогой товарищ Константин, — сказал он, чокаясь. — Ваше, дорогой шурин, драгоценное здоровье! Потому что с первого дня нашего знакомства, — он прикрыл своей большой темной рукой длинные пальцы жены, — о вас столько наслышался, что в пору бы ревновать, если бы я считал это подлое и оскорбительное чувство совместимым с истинной любовью. И хотя по старой поговорке: «Зять да шурин — черт их судит», — думаю, судиться нам не о чем. Сам я не революционер, но я, видите ли, из рабочих продрался чуть ли не в инженеры, все вот этой башкой, — он звонко хлопнул себя по темени. — Есть у меня такая идея: люди, как я, и такие, как вы, в общем к одному идем! Итак, второй тост — за нашу дружбу! А теперь ешьте да рассказывайте, как это вы в солдатскую шкуру попали и надолго ли к нам.
— Только не думайте, что я на нелегальном положении, — с усмешкой ответил Константин. — Между прочим, нет! Мобилизован я под своей фамилией, отпущен сегодня по увольнительной и должен поглядывать на часы. Собрали сюда нас, землемеров, едва ли не со всей России. Военных топографов в армии оказалось недостаточно, приходится пополнять.
— На охоту ехать — собак кормить? — спросил Карабанов. — Это у нас во всем. Не готовы оказались к войне? А?
— Не готовы.
— Судя по погону, вы юнкер?
— Вроде. Учреждены краткосрочные курсы. Через два месяца прапорщик — и на фронт.
Разговор шел легко, быстро. Через короткое время Константину казалось, что Игната Васильевича он знает давно. Но он помнил, что люди подобного типа обычно бывали всегда ярыми прислужниками капитала, и поэтому Константин соблюдал осторожность, хотя ему очень хотелось спросить о товарище своем по ссылке Антоне Иванине. Впрочем, он промолчал еще и потому, что Борис обещал устроить с Иваниным встречу сегодня же.
Сразу же после обеда Константин, попросив извинения, ушел вместе с Борисом.
По тому, как Игнат Васильевич хотя и просил его заходить, но не очень задерживал, Константин почувствовал, что Карабанов не зря привез бутылку шампанского, у него есть какая-то своя новость — и, очевидно, приятная, но никому, кроме жены, он сообщать ее не хотел.
И это было действительно так. Едва захлопнулась дверь за Константином и Борисом, Игнат Васильевич обнял жену и сказал голосом, которому носовые звуки придавали особенно выразительный отпечаток торжества, довольства собой и радости:
— А теперь, Веруша, оставшись вдвоем, чокнемся за наши с тобой дела. Я знаю, квартира эта тебе нравится, но — что делать! — придется с ней расстаться. В Москву-матушку перебираемся, в Москву!
— Ой, Игнаша! — она изумленными и восторженными глазами глядела на мужа. — Я так и поняла, что ты не хочешь говорить при Косте. Но почему? Ведь ты видел его. Правда, он такой, какой я говорила? Он понравился тебе?
— Для тебя такие люди в новинку, а я вырос среди рабочих и, как ты знаешь, в молодости сам был связан… И на твой вопрос даже недоумеваю, что тебе ответить. Для рабочих такие люди — очень хороши, это их единственные верные друзья и заступники, это правильно. Ну, а для хозяев… Видишь ли, Вера, чем я ближе сейчас становлюсь к хозяевам, тем больше их понимаю. Может ли человек любить свою болезнь или смерть?.. А они, такие, как твой Костя, — смертельная болезнь современного промышленного устройства.
Игнат Васильевич задумался. Вера с ожиданием смотрела на него.
— Конечно, — сказал он, — они обещают вместо этого современного устройства установить свое, новое, более справедливое. Вместо капитализма — социализм… Ну что ж, посмотрим. Что такое капитализм — это известно, а что такое социализм — что можно сказать о том, чего не было, а? — задумчиво, сам с собой, говорил он. И вдруг, точно опомнившись, сказал: — Да что ж это мы отвлеклись бог знает куда!.. Костя твой — хороший малый, честный, но посвящать его в свои глубоко личные дела, думаю, что не стоит пока. А дела очень интересные. Получил я предложение ехать начальником цеха, а точнее сказать, директором нового строящегося завода в Москву. Оклад — четыреста рублей в месяц. Чуешь? Работа — та же, что и здесь: снарядное производство, но с той разницей, что все нужно наладить самому. Дело придется иметь с чудесным человеком — Рувимом Абрамовичем.
— Это что ты тогда рассказывал, который поддержал тебя?
— Он самый. Умница, чудесная голова. И вот что еще интересно: имею возможность нанять на завод всех наших здешних забастовщиков.
— Кого? — переспросила она. — И Антона?
— И Антона и всех. Понимаешь?
— Вот за что я тебя, Игнаша, особенно люблю: что ты не только о себе, а также и о людях думаешь, — сказала Вера, не сводя с лица мужа пристального и глубокого взгляда.
— Спасибо тебе на добром слове, но, между нами говоря, здесь соображения прямой выгоды. Ведь предприятие нужно будет начинать наново. Уже и сейчас, после мобилизации, которая проведена была в промышленных центрах под тем углом зрения, чтобы спихнуть в армию всех беспокойных людей, ощущается нехватка квалифицированных рабочих и в особенности по механическим цехам. Правда, производство снарядов по тому способу, который я установил на заводе, дело не очень сложное и могут быть к этому делу привлечены даже подростки… Но ведь на новом заводе предполагается сначала две, потом три, а потом шесть тысяч рабочих… Всю эту массу новых людей нужно научить. И вот я забираю всех уволенных с завода в связи со стачкой — а их около тридцати человек — и с их помощью пущу это дело.
— А они поедут?
— Думаю, что да. Выхода у них нет. С Антоном я говорил — обещал дать ответ завтра.
— А как твой наниматель, этот самый Рувим Абрамович? Что он скажет?
— Так ведь он сам завел со мной этот разговор. Прямо сказал, что с квалифицированной рабочей силой в Москве дело швах. Тут-то я и предложил ему эту комбинацию. Он, конечно, поморщился. Я же тебе говорил: ни один хозяин не может испытывать нежности к таким вот носителям лихорадки на предприятии, какими являются наши друзья, вроде Антона или твоего Кости. Ну а, с другой стороны, выхода-то ведь нет… «Нельзя ли, говорит, что-нибудь придумать насчет рабочих, более благонамеренных?» А я говорю: «Во-первых, благонамеренных рабочих в том смысле, как вы понимаете, очень мало, а во-вторых, им нет расчета уезжать из Питера». — «А вы, говорит, ручаетесь за то, что эти люди действительно будут нам полезны?» Я, конечно, поручился. Потому что все эти бунтовщики являются слесарями и токарями первой руки. Возьми хотя бы Антона: он сейчас лучший разметчик едва ли не по всему заводу, он может совершенно самостоятельно произвести разметку для новых и самых сложных конструкций. Дай ему чертеж и оставь его в покое часа на три. Если раньше срока подойдешь, ругается: «Что, контроль наводить пришел?» Ну, а если уж взял мел в руки и начал размечать на листах железа и стальных балках и угольниках, тут можно и заговорить, и порасспросить, и пошутить, и поспорить. Да он тут сам совета попросит: скажи, мол, свое слово. А что скажешь? Всегда все точно… Заграница сейчас уехала от нас за тысячи верст, все самим делать надо. Отовсюду поступают заказы — то на паровой котел, то на мост для электрического крана, то на понтон для драги. А Иванин отличается тем, что самую сложную, объемную конструкцию умеет переложить на рабочий чертеж. Думаешь, я зря ему Бориса в подручные дал? — шепотом спросил Игнат Васильевич. — Я тебе скажу, он ему такое образование даст — куда там гимназия!.. Да с таким помощником, как Иванин, я не то что снарядный цех — сложный машиностроительный завод берусь оборудовать. И откуда что берется? Когда в ссылку уезжал Антон, так был хотя и неплохой, но всего лишь слесарь, а вернулся — точно университет окончил. Если бы не политика, далеко бы пошел.
Он помолчал и добавил задумчиво:
— Да, видно, мне такая судьба — работать с Рувимом Абрамовичем. Помнишь, как мы с ним еще на том деле сошлись? — многозначительно спросил он.
Она утвердительно кивнула головой.
«Дело», на котором «сошлись» Игнат Васильевич Карабанов и Рувим Абрамович Гинцбург, состояло в том, что Карабанов, которого еще до войны назначили от завода принять оборудование, поставленное немецкой фирмой «Блом и Фосс» для строящейся в системе завода верфи, отказался это сделать. Он написал докладную записку с указанием, что «Блом и Фосс» сбывают под видом нового устаревшее и даже отчасти изношенное оборудование. Игнат Васильевич был уверен в своей правоте и вдруг неожиданно для себя оказался чуть ли не накануне снятия с работы. Однако он получил в этом деле поддержку, и тоже неожиданную, со стороны Рувима Абрамовича Гинцбурга. Гинцбург, находясь в составе этой же комиссии, буквально спас Игната Васильевича от гибели. Игнат Васильевич приписывал этот поступок принципиальности Гинцбурга и его благородству, не зная, что Гинцбург в данном случае использовал выгодную ситуацию для того, чтобы устранить из конкурентной борьбы могущественную немецкую фирму и вместо нее поддержать английскую «Виккерс», интересы которой защищал Гинцбург. Рувим Абрамович тоже запомнил этого техника, показавшего себя знатоком в оборудовании механических цехов. Рувим Абрамович всегда сочувственно относился к людям, хорошо владеющим своей специальностью и смело берущим на себя ответственность при решении сложных вопросов. И, запомнив Игната Карабанова, он специально приехал сейчас в Питер и сделал ему предложение в кратчайшее время выстроить снарядный цех при заводе Торнера.
Несостоятельность русской военной промышленности, преступная нехватка орудий и снарядов в то время уже обнаружилась в полной мере. Игнат Васильевич специально политикой не занимался, но его чистосердечный и наивный патриотизм был растревожен, и это стало побудительной причиной, подсказавшей ему принять предложение Гинцбурга. Но было и другое: Игнат Васильевич, как он откровенно признавался, любил «зашибить деньгу». Да и как не любить, когда жена — красавица, надо ее одеть на удивление и зависть людям. Дочку хочется учить не так, как его самого учили, а по-господски, не говоря уже о том, что и сам Игнат Васильевич почувствовал в то время вкус к комфорту. И вот они, оставшись вдвоем с женой, строили планы новой, куда более богатой и вольготной жизни в Москве…
Зная оклад Карабанова на заводе, Гинцбург уверен был, что ему удастся уговорить Игната Васильевича перейти на завод Торнера. Рувим Абрамович рассчитывал на ту силу, против которой — он был уверен — никто не устоит: на силу денег. А тут еще забастовка, и Рувиму Абрамовичу даже не пришлось уговаривать Карабанова — он сразу же согласился на переезд в Москву.
2
Дома у Рувима Абрамовича все было так, как и должно быть, спокойно, привычно: жена и дочь шили туалеты, сын ходил в гимназию и без особенных усилий учился. Жена, правда, жаловалась, что он стал груб, молчалив и скрытен, но под грубостью она разумела отрывистость речи и упрямое нежелание отвечать на вопросы: «Где был?» и «Кушал ли?» Но какой мальчик с охотой отвечает на подобные вопросы? Нет, все дела шли превосходно. В этот день Рувим Абрамович, закончив дело с Карабановым, с утра созвонился с ван Андрихемом, с которым он после его возвращения из-за границы не виделся, — как с ним, так и с узаконенной ныне супругой его связь поддерживалась с помощью переписки.
К телефону подошла Анна Ивановна и сказала, что муж «плохо себя чувствует и спит». Рувим Абрамович позвонил спустя несколько часов — и снова подошла Анна Ивановна и передала, что хозяин к телефону не подойдет и просит Гинцбурга приехать. Рувим Абрамович сразу ощутил то новое, что принес законный брак. Анна Ивановна раньше всегда принимала своего хозяина у себя, в квартире же ван Андрихема, большой и холодной, она никогда не бывала.
«Сейчас воцарилась у него дома. Так, так…» Покачиваясь на рессорах и слушая размеренно-усыпительные удары копыт о торцы, Рувим Абрамович щурился на длинные гирлянды фонарей и раздумывал о том, что ему лично сулит узаконенный брак ван Андрихема с Анной Ивановной.
Когда из поперечной улицы вдруг несло пронзительным холодом с Невы, он поднимал воротник и думал, что все-таки Петербург — единственный европейский город в России. Иногда, так же как холод из поперечной улицы, приносило вдруг долгую, тоскливую солдатскую песню: «Идем… идем… идем мы за царя…» И тут Рувим Абрамович вспомнил о войне. Он, признаться, в первые дни войны думал, что Россия будет очень быстро разбита. Нет, исход войны, пожалуй, гадателен — в таких вот солдатских песнях звучала настойчивая и внушительная сила. Мысль его снова вернулась к двум телефонным разговорам с Анной Ивановной. Как-то по-другому стала она разговаривать. Не то чтобы менее любезна, нет, она явно обрадовалась его звонку, но что-то такое появилось в ее голосе, будто цена ее повысилась. «О! — с удовольствием сказал себе Рувим Абрамович. — Законная супруга — значит цена повысилась, именно так!» Проезжая по Морской, Рувим Абрамович заехал в цветочный магазин — один из лучших в столице. Его привлекло апельсиновое деревце в цвету, единственное в магазине; оно было заказано для какой-то великолепной свадьбы, но свадьба не состоялась. Вот это-то деревце он и взял. И когда Анна Ивановна, вошедшая в гостиную, где было поставлено деревце, всплеснула руками и сказала: «Какая прелесть!» — он понял, что угодил ей. И она сделала то же, что любая женщина сделала бы на ее месте: сразу же сунула нежно зарумянившееся от удовольствия лицо в белые, начавшие ронять лепестки и по-весеннему пахнущие цветы.
Тут же Анна Ивановна сообщила, что после свадьбы ван Андрихем прихварывает, стал очень беспокоен и не отпускает ее от себя.
«Не отпускает от себя», — подумал Рувим Абрамович, окинув оценивающим взглядом ее светлые волосы, оттененные темными бровями, и все ее исполненное уверенности в себе, невольно останавливающее взгляд лицо. В ее костюме, как бы составленном из отдельных больших лоскутов оранжевого и белого шелка, произвольно прилаженных один к другому, небрежно связанных узлом на животе и как бы нечаянно открывавших узкую щель по правому плечу, было что-то весеннее. Хотя это и не было подвенечное платье, но какой-то намек на него…
— Вы написали Темиркану? Имеете, что-нибудь от него? — быстрым шепотом спросила Анна и отвлекла Рувима Абрамовича от подсчета стоимости платья, которым он тотчас же непроизвольно занялся.
Но в этот момент раздался звонок и звук резковатого голоса ван Андрихема.
За эти два года, пока Гинцбург не видел ван Андрихема, в его наружности, произошли такие перемены, что лицо Рувима Абрамовича, конечно, выразило испуг, и ван Андрихем, заметив это выражение, недовольно зажмурился. Он лежал на широкой постели в теплой пижаме, с ногами, укрытыми пледом. Он не то что похудел — он никогда не был толст, — но весь пожелтел, даже позеленел, пожалуй. Рувим Абрамович точно впервые увидел глаза его, темно-зеленые, полные злой требовательности и тоски.
Рувим Абрамович пришел в себя, поздравил «молодого». Ван Андрихем опять зажмурился и отмахнулся. Он сразу же засыпал Гинцбурга вопросами, относящимися к состоянию русских военных заказов. Рувим Абрамович знал, что вследствие нехватки различных редких металлов, необходимых для сплавов, тот могущественный банк, руководителем которого в России был ван Андрихем, взял на себя приобретение и доставку этих редких металлов из-за границы. Операция эта была в высшей степени выгодна, но старик требовал подробностей, относящихся скорее к технике и технологии. Рувим Абрамович сразу же признался, что обстоятельно не может ответить ни на один из этих вопросов и доставит все необходимые сведения не позже чем через три дня.
Ван Андрихем помолчал. Кабинет, в котором происходил весь этот разговор, был скудно освещен настольной лампой под темно-синим абажуром.
— На юг надо бы поехать, — сказал ван Андрихем.
— Если вы предполагаете этим летом выехать на арабынскую дачу, то следует принять в расчет некоторые письма нашего управляющего, — начал Рувим Абрамович, осторожно подбирая слова: он давно не говорил по-английски и чувствовал, что касается щекотливой темы.
— Наши обе дачи можете ликвидировать, — резко прервал его ван Андрихем.
— А концессионный договор на участки?
— Сохранить, — так же безапелляционно, но уже менее резко сказал старик. — Беречь, но ничего на них не предпринимать. Вообще поменьше вкладывать пока капиталов, больше продавать. Покупать дешевый русский хлеб, заваливать промышленными товарами. Немецкая политика в России — самая правильная.
— И займы, — тихо подсказал Рувим Абрамович.
— Займы… о да! Это так. Все, что им нужно, пусть покупают у нас. Чем меньше заводов, тем лучше. Русского рабочего не легко обуздать… Мы за границей знали, наверно, лучше вас о том, что происходило здесь перед войной…
В комнату вдруг бесшумно вошел лохматый мужик в белом, фартуке, он нес огромную вязанку дров. Неслышно ступая в своих белых валенках, он так же тихо положил дрова возле камина, прошуршал, потрещал, чиркнул спичкой, подул — и вдруг красное колеблющееся пламя вспыхнуло в камине, пробежало по лентам сухих стружек, по белой бересте и сухой хвое. В комнате запахло костром, лесом, стало багряно-красно, огромная мохнатая тень прошла по комнате и исчезла в дверях.
— Международный престиж России сильно вырос, — сказал ван Андрихем, когда дверь за истопником закрылась. — Если бы не Россия, что было бы с Францией в первый же год войны? А? Насчет Англии уже не плохо сказано было в прошлом столетии: что при международных столкновениях всегда проигрывает ее ближайший союзник. Это Наполеон сказал, а?
— Не помню, — ответил Гинцбург.
— Да, теперь на Западе никто не надеется закончить войну в ближайшие полгода, говорят о трех и четырех годах… Боялись краха экономической системы, социалисты об этом и сейчас еще пишут. Пустяки, экономическая система оказалась крепче, чем когда-либо. А военные заказы? Никто в мирное время не мог предвидеть того значения, которое они приобрели за войну. Конечно, когда германская армия ринулась к Парижу, на бирже была страшная паника и мошкара гибла тысячами. Но после паники положение укрепилось. Министры-социалисты оказались весьма толковыми — и в Англии и во Франции. Толковее, чем можно предполагать, гибче и совсем без предрассудков.
— А у нас опять забастовки, — вставил Гинцбург.
— Правительство бездарное, — вздохнув, ответил ван Андрихем. — О стране и об армии за границей стали говорить почтительно, но над русским правительством смеются во всех кабаках, в юмористических журналах, всякие анекдоты… А сменить правительство нельзя: наши либеральные друзья — все эти кадеты, прогрессисты — они сразу полетят к черту, мужик всех задавит. Лохматый, бородатый — видели, который дрова принес?
Гинцбург кивнул головой.
— Этот Швестерзон, который по нашему поручению в прошлом году в Баку выезжал, — он прибалтийский? Немец? Латыш? Еврей? — спросил ван Андрихем.
— Какой Швестерзон? — недоуменно переспросил Гинцбург. — Ах, Швестров? Он русский.
— Швестров, Швестров, — повторил ван Андрихем, — я перепутал, что-то немецкое в фамилии. Хвалят его наши друзья.
— Я знал, кого посылаю, — с удовольствием подтвердил Гинцбург. — Ведь поручение было в высшей степени деликатное, и мне приятно, что на Западе нами довольны.
— Вполне. Потому что война эта — кто ее знает, как она повернется? И в Баку эти Тагиев, Нагиев — они ведь там свои люди… Ведь население все-таки в большинстве мусульманское.
Гинцбург ничего не ответил. Вопрос о религиозной и национальной принадлежности бакинского, как, впрочем, и любого другого, уголка земного шара его не интересовал. С помощью Швестрова, как представителя Кооперативного банка, в пределах Российской империи была удачно установлена связь англо-голландского могущественного банка с группой мусульман-нефтепромышленников. Все это состоялось под непосредственным руководством самого Рувима Абрамовича. Но о политическом значении этого дела он не думал, не хотел думать, и ему казалось странным, что об этом думает умирающий старик…
А ван Андрихем помолчал и неожиданно сказал:
— Германия оказалась в положении более опасном, чем она предполагала. — И, снова помолчав, добавил: — То, о чем я просил вас, вы мне сообщите. И не по телефону, а сами заезжайте.
Рувим Абрамович встал с места, старик протянул ему дряблую, безжизненную кисть.
— Это я простудился в кирке. Почему не топят? Если бы я знал, то провел бы дома весь обряд. Хорошо, что наш мудрый Лютер свел обряд до соблюдения формальностей, совершенно неизбежных.
Рувим Абрамович вышел в соседнюю комнату, ярко освещенную столовую. Его встретила Анна Ивановна.
— Я все слышала, — сказала она вполголоса. — Но не все поняла. Что вы говорили там насчет Арабыни? — спрашивала она, не сводя с него глаз.
— Арабынские дачи будем ликвидировать.
— Я это знала, — прошептала она, сразу побледнев. — Он так ревнует меня к Темиру, никогда и ни к кому не ревновал, к нему — первому. Что ж, он прав.
Они перешли к столу, где от зеркально-блестящего прибора исходил теплый спиртовой запах: синее пламя горело под кофейником.
Рувим Абрамович проглотил рюмку коньяку, выпил две маленькие чашечки черного сладкого — по-турецки — кофе и почувствовал, что согревается и освобождается от ощущения холода в этой громадной, холодной квартире. Весело и немного по-заговорщицки он сказал, нагибаясь к Анне Ивановне.
— А вы недурно провели это дело.
— Замужество? — она пожала плечами. — Вообще-то ничего не изменилось, уже два года он не отпускает меня от себя ни на минуту.
— А что говорят доктора?
— Нехорошо, если правильно понимать язык, на котором они говорят.
— Нет, вы очень удачно все это… — и он сделал округлый жест рукой, — довершили… И вовремя. Знаете, если найдутся наследники, какие-нибудь родственники… Вести процесс при отношениях, так сказать, неузаконенных было бы трудно, даже при наличии завещания…
— Наследников нет, — сказала Анна Ивановна. — Мы ведь были в Нидерландах, там у него нет ни одного родственника, и это не его родная страна, он смеется над ней. Нидерландская Индия, Ява, Суматра, Целебес — вот эти места он часто вспоминает и любит, он воевал там в молодости. Раньше он не вспоминал обо всем этом, сейчас часто рассказывает. Очень много крови он пролил — и ничего. Настоящий мужчина, куда там молодым!.. Темиркан, вот он тоже такой, только попроще… Жалостный, — сказала она, точно в забытьи, сказала по-простонародному. — Не томите меня, Рувим Абрамович, скажите: вы имеете от него хоть что-нибудь? Он обиделся, да?
Рувим Абрамович удивленно пожал плечами. Он с веселым удивлением смотрел на свою собеседницу.
— Я написал ему, он не ответил. Если он вас так интересует, я узнаю о нем и сообщу вам. Но послушайте меня, Анна Ивановна, ведь мы с вами старые приятели и даже, смею употребить это в высшей степени обязывающее слово, компаньоны. Погодите год-два, и когда все свершится, что должно свершиться, — он многозначительно и грустно кивнул в сторону комнаты, где лежал ван Андрихем, — то я, если уж вам так нравятся титулованные особы, я вам принца найду. Ну, а что наш друг Темиркан? Замуж за него выйти вы не можете: он мусульманин. В христианство он не перейдет, потому что от всей своей варварской души презирает эту для нашей грешной земли слишком благородную христианскую религию. Уж это поверьте мне, со мной он откровенен. В сущности говоря, он дикарь, правда выдающийся среди своего племени, но дикарь.
— Вот этим-то он и лучше вас всех, — грубо сказала Анна Ивановна. — И не томите меня больше, а то я сейчас скандал устрою.
Рувим Абрамович с испугом взглянул на ее бледное с красными пятнами на скулах лицо и поспешно сказал:
— Извольте. Темиркан Александрович в начале войны командовал полком и в первом же бою был тяжело ранен.
— О-ой! — шепотом произнесла Анна Ивановна, это было похоже на шипение.
— Подождите, все благополучно. Какая вы нервная! Он уже выздоровел и назначен начальником штаба кавалерийской дивизии на Кавказском фронте.
— Тяжело был ранен, да? — Она раскачивалась, держась рукой за щеку, точно у нее зуб болел.
— Да, но все прошло. Я имею деловые отношения с некиим Джафаром Касиевым, вы, может быть, помните его, тоже веселореченец. Он рассказал мне обстоятельства ранения. Его ранили вот сюда, — Гинцбург тихонько шлепнул себя по жирному затылку. — Пуля повредила челюсть и задела язык.
— Бедный, бедный… — шептала Анна Ивановна. — Но почему сзади?
— Знаете, полк состоял из его единоплеменников, а отношения у них, особенно после восстания, такие сложные.
— Поймать бы этого, кто стрелял, и пальцы отрубить, потом язык… И на мелкие кусочки! — сквозь стиснутые зубы проговорила Анна Ивановна, и Гинцбург поежился: он не любил видеть пролитую кровь и даже представлять ее себе не хотел.
«Тоже хорошая дикарка, — подумал он. — Стоят друг друга».
— Не надо волноваться, — сказал он успокоительно. — После того как мы введем вас в права наследства, вы в конце концов можете позволить себе роскошь иметь князя Темиркана в любом качестве, в каком захотите. И тогда, если даже из Нидерландов или Нидерландской Индии явится какой-либо претендент…
— Я вам говорю: ниоткуда никто не явится, — нетерпеливо сказала она.
— Но всякий человек где-нибудь родился, — возразил Гинцбург. — У него могут быть если не родные братья и сестры, то двоюродные, или там дядя, или племянники, еще какие-нибудь ван Андрихемы…
— У него никого нет. Он стал ван Андрихемом в этой Нидерландской Индии. А родился он… — она помолчала. — Мне кажется, что родился он в Германии, потому что бредит по-немецки.
И как только она это сказала, Гинцбург вдруг понял, что она права, что никем, кроме как немцем, он быть не может.
«Это надо запомнить», — подумал Рувим Абрамович, рассеянно кивая головой и слушая ее шепот. Она просила во что бы то ни стало помочь ей свидеться с Темирканом, вызвать его в Петербург, чтобы встретиться и объясниться…
3
Борису и Константину нужно было пройти с одного конца Петербурга на другой. Боря предложил проехать в трамвае, но Константин отказался. Конечно, юнкерский погон давал некоторые привилегии Константину, он даже имел право войти внутрь вагона. Но там всегда можно было встретиться с офицером, а среди офицеров порой попадались заносчивые и придиры. А придраться можно было ко всему: ремень недостаточно затянут, фуражка набекрень, честь отдал небрежно. И будут тебя распекать на глазах всей публики.
Борис и Константин быстрым шагом в ногу прошли по всему Литейному. На вопросы Константина Боря отвечал очень коротко, видимо стеснялся. Так дошли до Невского, где Константин после приезда в Питер еще не бывал. Весь в белых и желтых огнях электричества, в пестром мерцании витрин, Невский гремел трамваями, и серо-стальные таксомоторы, оставляя бензиновую вонь, один за другим пролетали мимо. Толпа запрудила панели. Константину бросилось в глаза несколько вывесок кафе, то вертикальных, то написанных наискось. Выкрики, взвизги. Намалеванные женщины на перекрестках вплотную приближали свои лица к Константину, так что он отшатывался.
— Автомобилей стало много, — сказал Константин.
Борис поднял к нему бледное, с красными губами, обмерзшее лицо.
— Я слышал от одного военного, что маршал Жоффр, когда немцы подошли к Парижу, мобилизовал все парижские таксомоторы, несколько тысяч, и, перекинув целую армию с одного участка фронта на другой, заткнул таким образом прорыв, который сделали германские дивизии.
— Ты внимательно следишь за военными действиями? — спросил Константин.
— Сначала следил внимательно. В кабинете у Игната Васильевича висит карта обоих театров военных действий, и я флажками отмечал каждое изменение фронта.
— Ну, а теперь не отмечаешь? — спросил Константин.
Борис ничего не ответил. «Наверно, почувствовал в моем вопросе оттенок насмешки», — подумал Константин.
— Так кто же все-таки победит, по-твоему? — теперь уже серьезно спросил он.
— Зверь из бездны победит, — ответил Борис и резко захохотал. Константин взглянул на него с удивлением: смех был не по возрасту злой и тоскливый. — Попал я тут недавно на молитвенное собрание к баптистам, там дедушка один начитывал из апокалипсиса: и два царя, и три всадника, и семь печатей. Но главный номер — зверь из бездны. И таким он расписал этого зверя, что мороз по коже: столько голов, и рогов, и зубов, жало змеиное, дыхание зловонное… Бабы воют, в подвале тьма, факелы дымят. Жутко, Константин Матвеевич, в Питере. По Невскому пройдешь — не только дамочки, даже мальчишки есть накрашенные. Из кафе вдруг, когда дверь откроют, такой жирный спекулянт вывалится, как свинья в дохе. Шарит, сволочь, в кармане и кредитки по земле роняет. А у нас на заводе сколько времени бастовали — и ведь из-за копеек… Ну да ничего. «Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год…»
Константин даже остановился.
— Это… что это? — спросил он.
— Маяковский. Футурист.
— Футурист? — спросил Константин. — На футуризм не похоже.
— Футуризм — это до войны было, баловство, — сказал Борис. — Сейчас всерьез пошло!
И Борис стал, громко скандируя, читать любимые стихи, невнятным мычанием заменяя забытые строчки. Впервые стихи Маяковского прочел он в «Новом Сатириконе». С тех пор искал их всюду. И когда находил в маленьких, пестро изданных книжечках, то выучивал наизусть.
Уже огни центра были позади. Позади осталась и тусклая вода Обводного канала, а они все шли куда-то в синеватую мглу, среди нескончаемых шеренг молчаливых домов. Боря, подбодренный вниманием Константина, от чтения стихов перешел к каким-то столичным анекдотам, к уличным песенкам.
А лавочник в переднике Возвысил грозно бас: — Куда вы, привередники? Нема муки для вас! —пел он на какой-то лихорадочно подпрыгивающий, не то унылый, не то разухабисто-веселый мотив: голод, горе, нужда. В этой жутковатой песенке Константину чудилась та обнаженная правда, которая так поразила его в стихах Маяковского. Правдивость, переходящая в обнаженность и выворачивание нутра, для Константина была уже неприемлема.
Нет, он никогда не стал бы рассказывать перед всем городом, перед всем человечеством о неразделенной любви к девушке, как рассказывал этот огромный, сильный и беззащитный человек в своей поэме с названием, которое Константину показалось манерным: «Облако в штанах». Но когда Боря читал эти стихи, становилось жаль поэта, хотелось ему помочь, так же как и этому мальчику, в черной морской куртке, с поднятым воротником, болезненно худым лицом и покрасневшими на морозе надбровьями. Взвинченные нервы, одиночество, гордость, а может быть, и недоедание. Ведь все-таки сирота. «Дом замужней сестры — не то что родительский», — думал Константин. А вокруг большой город, столица империи. И всё в мире день за днем кричит о крови, о войне, о страданиях человечества.
Константину нравился Борис, и беспокойно было за него. Он вспомнил вдруг приятеля и спутника своего Асада с его страшным несчастьем — с внезапной слепотой. Несчастье страшное, может быть непоправимое, а за Асада, за самую душу его беспокойства не было.
Борис привел Константина к почерневшему бревенчатому двухэтажному дому. С прикрытыми ставнями, освещенными красноватым светом уличного фонаря, какие к тому времени сохранились только на окраинах Петербурга, дом этот выглядел тоскливо. Впрочем, такой была вся улица — прямая и широкая, застроенная такими же домами, уходившими куда-то в туман, где мерцали редкие огни. Борис нажал кнопку звонка. Долго не отворяли, потом послышались осторожные шаркающие шаги по лестнице.
— Кто там? — спросил старушечий голос.
— Это я, бабушка, Боря.
Слышно было, как старуха поднимает засов.
— Это, знаешь, какая старуха? — шепотом сказал Борис Константину. — Других только по паролю пропускает, ну, а меня — по голосу.
Гордость была слышна в его шепоте.
Старушка, открыв дверь и увидев Константина, его солдатскую шинель, вздрогнула и отшатнулась.
— Бабушка, не бойся, это свой, — сказал Борис.
Они поднимались по темной лестнице, старуха, ворча что-то, возилась с засовом.
— Вот здесь, — и Борис указал на закрытую дверь, откуда сквозь щели струился свет, показавшийся Константину голубоватым. — Заходите, я с бабкой поговорю, чтобы не сердилась.
Открыв дверь, Константин увидел небольшую, чисто прибранную и, пожалуй, даже кокетливую комнатку — эта комната могла принадлежать только девушке. В углу, у маленького столика, где на шахматной доске расставлены были фигуры, сидели двое, и комната была погружена в то сосредоточенное безмолвие, которое сопровождает шахматную игру. Один из шахматистов, черноволосый, в черном пиджаке, сидел спиной к двери. Другой, покачиваясь, покуривал, ерошил свои темно-русые, с рыжеватым отливом, густые волосы. Цвет волос, скуластое веснушчатое лицо и даже манера раскачиваться в минуты сосредоточенного обдумывания — все это были неизменные приметы Антона Ивановича. Но Константин помнил Антона всегда растрепанным, обросшим, с расстегнутым воротом. А сейчас: новенькая серая тройка, крахмальная сорочка, красивый галстук… Сделав ход, он поднял от доски сосредоточенный, занятый шахматными комбинациями взгляд. Глаза у него были светло-голубые, брови рыжеватые. Константин, посмеиваясь, стоял в дверях комнаты. По выражению изумления и даже тревоги он видел, что друг не признал его. Да и не мудрено! Ведь перед ним стоял юнкер, — чего доброго мог ждать Антон от человека с юнкерскими погонами? Уже щеки Антона стали буреть, румянец выступил сначала на скулах, кулаки сжались, и взгляд его мгновенно обежал комнату, наверно подыскивая, что бы такое схватить потяжелее ударить непрошеного гостя, загородившего дверь на улицу. Но тут Константин громко расхохотался и сказал:
— Табуреткой по голове — сразу с ног свалишь.
Антон быстро встал, не забыв при этом поддержать шахматную доску с расставленными на ней не очень многочисленными фигурами, — игра, видно, шла к концу. Не сводя широко раскрытых светлых глаз с Константина, он шагнул в его сторону. И вдруг улыбнулся во весь рот и со своим, только ему присущим выражением открытой, ребяческой радости протянул обе руки.
— Костя Черемухов! — воскликнул он. — Да неужто вправду ты? И юнкер?
Руки их сошлись, они поглядели друг на друга и поцеловались, для чего Антону понадобилось несколько нагнуться, — он был ростом выше Константина и весь крупнее его.
— Да как ты попал в эту комнату? Нет, это сновидение, право.
— Меня Боря привел, мой двоюродный брат.
— Борька Котельников? Да я ж ему не велел никого сюда водить.
— То-то он и улепетнул.
— Но, конечно, к тебе это не относится, и он молодец… Да откуда ты сейчас?
— Прямо из казармы… Мобилизован с июля четырнадцатого года, прислан сюда обучаться.
— Ты ведь, Костя, уехал из Баку в первые дни войны? Верно? Мы знаем, что ты был в Баку и там понравился.
— Особенно Джунковскому и Мартынову понравился: они человек десять арестовали — все ловили петербургского делегата, — сказал знакомый голос с непередаваемо мягкими бакинскими интонациями.
Константин, живо повернул голову, увидел деликатно отошедшего в сторонку Буниата Визирова, — Константин его несколько раз встречал в Баку. Добрым, внимательным взглядом ответил он на вопрошающе-изумленный взгляд Константина и улыбнулся. «Да, это я, — говорил этот взгляд, — и я тоже признал тебя и рад тебя видеть».
Безмолвное, крепкое рукопожатие. Константин снял фуражку, сел, оглядел обоих друзей и рассмеялся.
— А вы оба этакими франтами — не то что я, в своей серой шкуре.
На Буниате была черная пара, приличный пиджак, темный галстук. Одет он был скромнее, чем Антон, но все же не сравнить с тем Буниатом, какого Константин помнил по Баку: кожаная куртка, брюки, заправленные в грубые сапоги.
— Нам иначе никак нельзя, я как-никак столичный деятель, бываю в лучшем обществе, меня уже господин Гучков приметил и очень на меня сердится, — говорил Антон. — С Буниатом тоже не шути: прибыл в Петербург как представитель «Комитета помощи беженцам без различия национальностей». С таким мандатом он не только в столице — и в штабе Кавказского фронта побывает.
Буниат покачал головой и сказал.
— Пока принимают.
— Я вижу, вы неплохо живете. А я с начала войны без постоянной партийной информации.
— Значит, тезисов Ильича не знаешь?
— Каких тезисов?
— О войне. Еще Самойлов, депутат Думы, из-за границы привез. Ну, я тебе наизусть расскажу. Эти тезисы — первое настоящее слово. «Социал-демократа» номера — Лиза скоро придет, у нее тут где-то спрятаны — я тебе достану, там статья Ильича.
— Так, так… Ну, а как он сам-то, Владимир Ильич?
— Что же сказать… Против этого грязного шквала шовинизма только он один — утесом, маяком стоит и всему пролетариату указывает светлую дорогу… Арестовали его…
— Где? Кто?!
— Австрияки… за границей.
— О подлецы! Ну и что?
— Выпустили.
— А товарищ Сталин что? А Яков Михайлович? Всё в Туруханске?
Не разжимая губ, Антон кивнул, и желваки забегали на его скулах.
— Там сейчас и депутаты наши, и Спандарян — все русское бюро ЦК. Они летом там собирались, подытожили политический опыт суда над нашими депутатами. Большевики везде и всегда останутся большевиками! — сказал Антон с тем оттенком озорного задора, который был свойствен только ему.
— Как я рад, что тебя вижу! — сказал Константин. — Ведь за этот год ни одной большевистской души не встретил.
— Право, точно домой приехал. Мне бы как-нибудь до ЦК добраться.
— Все это мы в два счета устроим. Лиза, жена моя — ведь это она в этой комнате живет, — работает в журнале «Вопросы страхования». А после разгрома думской фракции мы по указанию Владимира Ильича перенесли в этот журнал центр нашей организационной работы. Да, наша партийная организация воскресла из огня, как та птица — как ее звали, ты еще в ссылке мне объяснял?..
— Феникс, — ответил Константин. — Ты, я вижу, по-прежнему питаешь любовь к таким словечкам.
Антон, охватив одной левой рукой плечи Константина, так стиснул его, что у того кости хрустнули.
— И, чувствую, по-прежнему могуч, — кряхтя, сказал Константин.
Когда Константина и Антона ссылали в Восточную Сибирь, они оба получили примерно одинаковую меру наказания. Царское правительство таких врагов, как Иванин и Черемухов, насчитывало десятками тысяч. Константин разоружал железнодорожных жандармов на Самаро-Златоустской дороге. Антон оказал сопротивление при разгоне митинга внутри одного из самых больших петербургских заводов. Сопротивление было не вооруженное, только лишь собственными кулаками, но кулаки были настолько увесисты, что Антон при этом покалечил нескольких полицейских и был покалечен сам. Правая рука у него так и не наладилась, зато он виртуозно владел левой.
Попав в ссылку, Константин с самого начала стал готовиться к побегу. Побег, однако, удался только потому, что Константину деятельно помогал Антон, с которым они сразу сдружились. Бежав, Константин отправился не на родину, а прямо в Петербург, с большим трудом разыскал партийный центр и послан был в Поволжье на партийную работу. Его еще раз арестовали и сослали в условия более суровые, а он снова бежал, и опять в Петербург. Партия направила его потом на Кавказ, в Краснорецк.
Антон же исправно отбыл срок ссылки. Оказавшись в ссылке, он с помощью Константина поставил перед собой большую программу самообразования и к концу ссылки, уже после побега Константина, прошел ее всю. Когда Антон, отбыв срок, вернулся в Петербург, полиция и охранка посчитали его утихомирившимся — попадались и такие среди бывших ссыльных, — и это дало ему возможность снова поступить на свой завод. Репутация благонамеренности окрепла, когда он показал себя отменным производственником и разметчиком первой руки. Начальство, как заводское так и полицейское, не догадывалось, что именно он, Антон Иванович, пользуясь своей репутацией, восстановил партийную организацию — сначала у себя на заводе, а потом и во всем районе. С первого же дня возвращения он начал деятельную пропагандистскую работу в подпольных кружках. Кампания подписки на «Правду», а также избирательная кампания в Государственную думу были организованы им.
— Да что же это ты в шинели сидишь? — спросил Иванин.
— Мне скоро уходить пора, я по увольнительной.
— Даже и думать не смей уходить, я сейчас самоварчик вздую.
И как только он вышел из комнаты, Буниат пододвинул свой стул поближе к Константину и сказал, понизив голос:
— Встретил я в Баку одну нашу общую знакомую…
Он помолчал, взглянув в глаза Константину мягко-бархатным сочувствующим взглядом, и Константин понял, что речь идет о Людмиле и что Буниат или догадывается, или знает, что для него эта девушка… Казалось, вся кровь кинулась в лицо Константину. Буниат тихо усмехнулся…
— Я особенно рад вас видеть, товарищ Константин, еще и потому, что эта такая хорошая барышня на мой вопрос, не знает ли она, где вы, ответила, что вы погибли на фронте и что она имеет об этом официальное сообщение, — Буниат помолчал. — Она заплакала даже, — совсем шепотом добавил он.
— А что делает Людмила Евгеньевна в Баку? — затрудненно спросил Константин. Он был одновременно счастлив и несчастлив, а сердце его так билось, что трудно было говорить.
Буниат покачал головой.
— Из Баку она уехала тогда же летом, и не по своей воле — ее выслал Мартынов. Насколько я знаю, она некоторое время жила в Петербурге, а в Баку снова вернулась с Баженовым уже в начале войны. Вам, конечно, знакомо это имя? В Северной Персии, как раз в той зоне, где находятся наши войска, были случаи, подозрительные по чуме. А наша организация, о которой вам сказал уже товарищ Антон, имеет дело с беженцами как раз из этих мест. — Буниат взглянул на Константина. — Люди сдвинулись с мест, где они сидели буквально тысячелетиями. Не говоря уже об армянах, спасающихся от варварства оттоманских головорезов, в Россию хлынули также потомки ассирийцев, так называемые айсоры, они хотя и являются христианами, но живут на том же бытовом уровне, что и во времена Сарданапала. И если только среди этой массы, поголовно неграмотной и некультурной, вспыхнет чума, это будет очень большая беда. По этим-то вопросам Людмила Евгеньевна и посетила наш комитет и, должен сказать, восхитила нас своей энергией и деловитостью.
Он помолчал и добавил тихо:
— Мы в Баку опять пережили тяжелый разгром. Взяли Степана Георгиевича…
— Шаумяна?
— Его. И еще ряд товарищей. Но Мешади уцелел. И Ванечка, — произнес он, выделяя особо ласковой интонацией имя друга.
Буниат рассказывал о бакинских большевиках, а Константин подумал, что о партийной организации в Баку можно сказать то же, что и о питерской организации, — в огне войны она возродилась, как феникс.
— Товарищ Константин, — сказал вдруг Буниат. — Я ведь могу передать вам из Баку привет от другого вашего друга, веселореченца Науруза.
— Науруз? — взволнованно переспросил Константин. — А где он? Что с ним?
— Он еще со времени стачки — бакинец. Мы знаем и любим его. Он оказал нам неоценимые услуги. В частности, последнюю информацию о том, что партийный центр надо искать через «Вопросы страхования», привез нам он. И когда в пути пришлось спрыгнуть с поезда — спрыгнул, и его едва отходили.
— Науруз? Вот это да! А где он сейчас? Перевез он свою Нафисат в Тифлис, как я ему советовал? Или, может, перевез в Баку?
— Нет, товарищ Константин, все сложилось хуже. Мы получили весть от краснорецких товарищей, что Нафисат замучена в тюрьме одним из царских палачей. Это совпало с солдатским бунтом в военной тюрьме, все восставшие с оружием в руках ушли в горы…
— А Науруз знает о смерти Нафисат? — спросил Константин, понижая голос.
— Знает, — коротко ответил Буниат.
— Ну и как он?
— Был у нас дома перед самым моим отъездом, — ответил Буниат. — У меня жена, дети. Долго он сидел — видно, грел душу у нашего очага… Потом вдруг сказал: «Ушла Нафисат и увела с собой того Науруза, которого вы знали. Тот Науруз, как на долгой веревке, ходил вокруг своего Баташея, вокруг своей Нафисат, но как бы далеко ни уходил, а веревка его обратно тянула. Того Науруза нет. Новый Науруз рождается сейчас, и одно будет у него в душе: только любовь к тем простым, трудовым, обманутым и живущим в нищете людям, которыми полна земля, — иной любви у него не будет!»
— Настоящий человек, — сказал Константин. «Бедный», — подумал он. Сам он теперь уже знал, где находится Людмила и где ему искать ее!
Слышно было, как Антон где-то близко грохочет самоварной трубой. Константин оглядывал комнату. Кровать была застлана кружевным покрывалом, на окне стояли цветы, тщательно обхоженные, они даже цвели — это были бело-красные фуксии. Этажерка с книгами: Горький и несколько томиков стихов — Лермонтов, Некрасов, Уитмэн. На ночном столике возле кровати лежала раскрытая книга — Шарль де Костер, «Тиль Уленшпигель».
— Это мы с Лизой, когда время есть, вслух читаем, — сказал Антон, вернувшись в комнату и увидев, что Константин держит в руках «Тиля Уленшпигеля». — Конечно, конспирация была у этих товарищей гезов, — показал он на книгу, — прямо сказать, из ольхи рубленная, и мы бы при теперешнем полицейском внешнем наблюдении с этим фламандским криком петуха и жаворонка, вместо пароля и отзыва, мгновенно засыпались. Но по своим временам они были боевые ребята, — одобрительно постукивая по книге, говорил Антон. — Это Лиза принесла, она всегда хорошую книгу найдет. Мы с ней «Детство» Горького вслух прочли. Ах, какая книга!.. Главное, что жизнь без всякого обмана показана: драки, всякое жульничество, слепая злоба, жадность маленьких паучков, вроде этого дедки Каширина. А ведь все равно, и злоба берет на него, тирана, и любишь его… Помогать людям хочется — всему человечеству — веришь? Да, Горький… Лиза тут интересно говорила.
— Ну, теперь давай рассказывай про Лизу свою.
— Лизу? — переспросил Антон с оттенком самодовольства. — Соколова Елизавета Андреевна. Жена моя. Она в этой комнате живет. Разве Борис тебе ничего не говорил?
— Нет, он говорил, что ведет меня к тебе.
— Великий конспиратор! — усмехнулся Антон. — Лиза — это, я тебе скажу, такая девушка, такого ума и такой крепкой хватки!.. У-у!
— Есть русская поговорка: «Умный хвалится отцом-матерью, а глупый — молодой женой», — шутливо сказал Константин, обращаясь к Буниату.
Но Антон на шутку ответил с полной серьезностью:
— А как же мне, Костя, не похвастать своей Лизой? Ведь она тоже у нас здесь, у заставы, родилась и выросла и с четырнадцати лет пошла работать. А когда после начала войны организовался дамский комитет помощи больным и раненым, то собрали они общее городское собрание. ЦК послал именно Лизу на их большое собрание, в доме графини Паниной. Всякого было на этом собрании напущено шовинистического дурмана и тумана, а Лиза так сказала насчет этой войны, что дамочки — кто в слезы, кто кричит, кулаками машет. А потом говорят: «Большевики нас обманули, вместо работницы прислали переодетую курсистку». Лизавету мою за курсистку приняли, так-то! — сказал он с гордостью. — Ведь мы с ней в начале войны чуть в Вену на партийный съезд и на международный социалистический конгресс не тронулись, — понизив голос, рассказывал Антон. — И вот, знаешь, как мы по-немецки говорить научились? Ей труднее дается язык, мне — легче, а она говорит свободно. А почему? «А потому, что я, говорит, все время упражняюсь: куда иду или в трамвае еду, все время сама с собой разговариваю по-немецки»…
Антон рассказывал, Константин слушал с интересом и вниманием. Ему до сих пор не приходилось встречаться с такими девушками. Он знал или девушек из учащейся молодежи, особенно курсисток, — некоторые из этих девушек самоотверженно отдавали свою молодость и все свои силы на борьбу за дело рабочего класса. У рабочих-революционеров, таких же, как Антон, по большей части были преданные жены, верные подруги. Но та, о которой рассказывал Антон, была для Константина явлением новым. Поднявшись из рабочей среды, Лиза шла рядом с мужем, порой даже, видимо, опережая его, женщина-боец, женщина-товарищ, с твердой поступью революционерки.
И, слушая Антона, Константин все вглядывался в гравюру, висевшую в углу, где место обычно иконам, — на ней изображена была могучая, широкоплечая девушка. Сложив большие, скованные цепями руки на сильных коленях, она, сидя на земле и гордо выпрямившись, точно всматривалась в окружающую ее тьму. Это была Жанна д’Арк в темнице. Но Константин невольно представил хозяйку комнаты в этом облике, с полным гордости и мужества, устремленным вдаль взглядом.
— Что же ты, Антоша, друг милый, хочешь лишить меня последнего родительского благословения? — раздался женский голос, глуховатый и ласковый.
— Самовар! — воскликнул Антон, вскочив с места.
— Теперь уж не тревожься, еще не распаялся.
Она ничем не походила на Жанну д’Арк. Это была худощавая веселая девушка в английском, строгого покроя, костюме с белыми воротничком и манжетами. Щурясь и отстраняя лицо от пара, она на вытянутых руках внесла в комнату брызгающий и отчаянно шумящий самоварчик и поставила его на пол.
— И поднос даже не приготовил. Эх, ты! Вот и пускай вас таких, беспаспортных, в квартиру! — весело говорила она, изображая голосом кого-то, видимо ей очень хорошо знакомого, может быть даже родного, и приветливо улыбаясь Буниату. И тут она увидела Константина.
Лицо ее было худощаво, без румянца — обычный петербургский цвет лица. Темные глаза пристально вглядывались в Константина, темные брови хмурились, тонкие подстриженные волосы разлетались из-под гребешка, обрамляя это лицо, характерное, нервное лицо городской интеллигентной девушки-труженицы или учащейся. Но Константину подумалось вдруг, что если бы накинуть пестрый платочек на эти тонкие русые волосы, сразу такой девушке было бы место у любого деревенского плетня.
— Лизуха, не удивляйся, — говорил Антон. Он за это время поставил поднос на стол, водворил на него самовар, расставил стаканы, заварил чай. — Это ведь Костя, ну, Черемухов… Костя — я же тебе рассказывал.
— Товарищ Константин, — она улыбнулась и протянула ему руку. Крепкое, но быстро ускользающее рукопожатие скрытного и не легко допускающего в свой внутренний мир человека. — Ну, наконец-то вы отыскались. Ведь уехал из Баку и пропал, как иголочка в стогу. Но как же я рада вас видеть! Вы, значит, в армии?
— В армии.
— И надолго в Питере? Вы юнкер — и в инженерных войсках, судя по погонам?
— О, вы, оказывается, мастерица полки разбирать.
Она кивнула головой.
— Значит, будущий офицер? Это хорошо. Нам нужны офицеры, — решительно и серьезно сказала она.
Тут Буниат, незаметно ушедший в переднюю, принес сверток и выложил на стол бакинские гостинцы: грецкие орехи, покрытые прозрачной медовой корочкой; маленькие, обсыпанные сахаром хлебцы и крендельки; нанизанные на нитку, начиненные орехами, сваренные из виноградного сока, по внешнему виду неказистые, похожие на колбаски, но такие вкусные чурчхелы… И Лиза вдруг захлопала в ладоши, засмеялась — и тут же сконфузилась.
— Э-э-э, сластена! — сказал Антон.
— Молчал бы, — ответила она.
— Из Баку с богатыми подарками, — смеясь, сказал Константин.
Буниат серьезно взглянул на него.
— Мы в Баку не забыли, как Питер нам подмогнул в четырнадцатом году, — сказал он, выделяя слово «подмогнул», произнесенное Константином во время забастовки.
Конечно, этот маленький, не очень крепко стоящий на четырех ногах стол не мог похвастать богатым угощением, и, кроме бакинских сладостей, на тарелке лежало лишь несколько тонких ломтей серой булки да стояла масленка, в которой масла оставалось совсем мало, на дне. Лиза развернула принесенную с собой колбасу и нарезала ее на тарелочку. Объяснять, что в этой семье всего в обрез, не нужно было. И гостям этого, конечно, не объясняли, наоборот, только все угощали, упрашивая, чтобы ели. Антон, видимо, проголодался, но ел, сдерживая себя. Масло мазал на хлеб тонко, но только стоило ему увлечься разговором — и кусок вдруг целиком исчезал у него во рту, после чего Антон исподтишка очень забавно оглядывал стол: не лежит ли где этот кусок. А Лиза, ведя общий разговор, краешком темного глаза из-под густых ресниц все время следила за Антоном, видно сразу — жила и своей и его жизнью…
— Ну, а ты как? — спросила Лиза, обращаясь к мужу.
— У меня новостей во! — ответил он, дурашливо раздвинув руки. — Имею от Игната Карабанова заманчивое предложение ехать в Москву.
— В Москву? — переспросила она. — А ну, расскажи, расскажи, что такое?
— Видишь ли, я могу рассказать только то, что мне сообщил сам Игнат. Его зовут в Москву на какой-то там завод — не то расширять, не то новый цех строить. Одним словом, речь идет, конечно, все о том же: воевать начали, а снарядов не заготовили. И тут энергично заработал тот самый задний ум, которым мы, как известно, издавна крепки. Предложение это Игнату нашему, видно, выгодно, на заводе у нас ему после забастовки тесновато, а он попросторнее любит. Но дело, судя по всему, все сначала начинать нужно: сам станки изготовляй, сам трансмиссии навешивай. Михрюткам такого дела не поднять. И знаешь, что он предлагает? Мне и всем забастовщикам нашим перебраться в Москву. «А то, говорит, все равно вас всех в армию заберут».
— Ну, а ты что ответил?
— Что же я мог ответить? — сказал он с наивным самодовольством. — «У меня, говорю, здесь жена молодая, потому лучше бы мне в Питере остаться. А насчет военной службы — на это у меня свое начальство есть. Если прикажет — винтовку возьму, если прикажет — на нелегальное положение перейду. Ну, а насчет других забастовщиков, это с ними говорить нужно».
— Ты еще ни с кем не говорил? — спросила она.
— Нет.
Она помолчала.
— Антоша, принимай это предложение, — тихо сказала она. — В Петербурге тебе дальше оставаться невозможно, а в Москве тебя не знают. Вот почитай сегодняшние газеты… Вот тут мною отмечено. Письмо этого подлеца Гвоздева.
Антон поглядел в газету.
— Но ведь это же публичный донос в охранку! — с негодованием сказал он. — Что значит «вместо одного из выборщиков присутствовало некое неизвестное лицо и даже не рабочий»? Кто же тут не рабочий? Это я не рабочий? До чего исподличалась ликвидаторская сволочь: рабочая масса их представителей в военно-промышленный комитет избрать отказалась, так он, видите ли, не только буржую Гучкову сапоги лижет, а уже в охранку на большевиков доносы пишет, — говорил Антон, взглядывая то на Константина, то им Буниата.
— А в чем дело? Я ведь не в курсе еще, — спросил Константин.
— Ну, насчет военно-промышленных комитетов ты знаешь? Читал? Гнусная затея буржуазии, одобренная правительством: вовлечь общественность и, в частности, рабочий класс в дело снабжения армии вооружением. Ты представляешь, а? Ну, партийная линия, конечно, тебе ясна: не участвовать в выборах, использовать все возможности для разоблачения перед рабочими этой буржуазной затеи… Мне поручено было выступить на собрании выборщиков нашего района. У нас на заводе меня знают, любят, и один из беспартийных выборщиков уступил мне свой мандат. Тут-то я и выступил.
Антон взъерошил волосы и захохотал.
— Понимаешь, Гвоздев важный такой приехал, благосклонно всем улыбается, уже, видно, чувствует себя министром несуществующего кадетского министерства… А когда сказал я насчет того, что главные враги русского народа находятся в нашей стране — царское самодержавие, крепостники-помещики и жиреющие от крови банкиры и промышленники, — тут начали мне аплодировать. А он вскочил, весь красный, растрепанный, галстук набок, — и на меня: «Вы кто такой? Я вас не знаю!» — «Зато мы, полупочтенный Кузьма, знаем тебя весьма», — отвечаю я. (Константину хорошо известна была эта особенность Антона: в минуты полемического задора переходить на рифмованно-бойкую, сбивающуюся на раешник, речь.)
Нам известна ваша торговая сноровка. В потребиловке торговали вы ловко. Теперь эти рамки оказались вам узки, С господином Мильераном торгуетесь по-французски, Оптом продаете буржуазии русский рабочий класс И еще тут толкуете нам, что буржуазии не обеспечить военной победы без нас. Мы свою силу знаем И ее на чечевичную похлебку социал-предательства не променяем! Мы эту силу на то употребим, Что эту кровавую, преступную войну прекратим, Штыки повернем на царское правительство…Ну конечно, это у меня сейчас все так складно получается, тогда шло поухабистей. Но ведь, знаешь, когда видишь перед собой в лицо и главного обманщика-иуду, и своих братьев, питерских пролетариев, как они с доверием слушают тебя, тут откуда что берется…
— Все-таки сказалось, что опыта выступления перед большими аудиториями у тебя нет, — тихо проговорила Лиза. — Но партийные лозунги ты хорошо провозгласил. И удачно сказал о социализме: «Если уж буржуазия, вынужденная войной, берется за организацию производства с целью набить свои карманы, значит нам сам Маркс велел взяться за социалистическую организацию производства, значит пришло желанное время экспроприации экспроприаторов». Ведь верно он определил? — обратилась Лиза к Константину, и тот кивнул головой.
— Значит, не совсем уж плохо сказал? — спросил Иванин и живо обернулся к жене.
— Если бы плохо, разве мы бы тебя прятали сейчас? — сказала Лиза.
Грусть слышалась в ее голосе, она придала какую-то особую глубину и серьезность тому, о чем только что с таким переходящим в шутку оживлением рассказывал Антон. А на Константина пахнуло разгоряченным воздухом пролетарской борьбы, которой ему так не хватало.
— Да, пожалуй, придется в Москву, — со вздохом сказал Антон.
Забыв обо всем, смотрели друг на друга Антон и Лиза, так смотрели, что она уже руку подняла, наверно чтобы провести рукой по его волосам, и снова ее опустила. А поймав себя на этом движении, она с силой тряхнула головой, и ее прямые и легкие волосы разлетелись во все стороны. Видимо рассердившись на себя, она порывисто встала с места.
— Все свои посты и должности я ему вот передам, — сказал Антон, обняв Константина левой рукой. — Он свеженький, его полиция еще не распознала, а солдатская шинель имеет свои достоинства. Верно, Костя?
— Несомненно, — ответил Константин и почувствовал на себе внимательный, пожалуй даже придирчивый, взгляд Лизы Соколовой.
— Конечно, — сказала она, не сводя с него глаз. — Если верить слухам, так вы будто бы подняли горцев на Кавказе и во главе их сражались с войсками.
В этих словах чуткое ухо Константина уловило оттенок недоверия, насмешки… И он, смеясь ответил:
— Что это еще за миф? Откуда такое?
— Да с Кавказского фронта тут товарищ один приезжал, грузин молоденький. Офицер.
— Саша? Вы его слушайте, он вам и не такое расскажет.
— Вы его здесь видели? — быстро спросила Лиза. — Он уже уехал?
— Да так сложились его дела. Вот как, значит это он? Этак не успеешь оглянуться, и в какого-то Зелимхана превратишься. Нет, товарищи, не так все это произошло. Восстание было, но я в нем не участвовал, подоспел только к разгрому его. Моя роль скромнее. Я пришел к ним уже после восстания, чтобы сказать им, что дела их не безнадежны, что есть у них великие союзники — русский пролетариат и трудовое крестьянство. Это произошло в Веселоречье — есть на Кавказе маленькая пастушеская страна, оказавшаяся на путях капиталистических хищников… Союз банкиров с феодалами, и царизм на охране интересов этого союза.
Константин рассказал о проекте постройки железной дороги через пастбища веселореченцев, о присвоении пастбищ и разгораживании их. Он рассказал то, что знал о Темиркане и Гинцбурге, о той зловещей роли, которую Гинцбург, этот агент заморских монополий, через Темиркана сыграл в судьбе пастушеского народа.
— Так международные банкиры, вступая в альянс с феодалами, используют для порабощения народов пережитки средневековой дикости… Это особенность нашего времени, именно это нашел я на Кавказе.
Наступило молчание.
— Владимир Ильич написал книгу об империализме, замечательную, гениальную книгу, она, товарищ Константин, и объяснит все, о чем вы здесь так интересно рассказывали, — сказала вдруг Лиза.
Слова ее звучали совсем уже по-другому, с дружеским уважением.
— Книга? — живо переспросил Константин.
— Да, об империализме. О том, что вас интересует: о роли финансового капитала в борьбе за передел мира. Я вам достану гранки этой книги — нам удалось наладить ее печатание… Цензура, конечно, сильно изуродовала. Но мысль Ильича проникает сквозь любые цензурные рогатки.
— Отовсюду искры летят, скоро, пожалуй, загорится! — сказал Антон, и Константину вспомнилось: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год!» И стало весело и тревожно. Близкое, неотвратимо надвигающееся зарево представилось ему, оно веяло жаром, испепеляющим и благодатным.
Примечания
1
Саол — азербайджанское приветствие.
(обратно)2
Зимбиль — плетеная сумка, которая употребляется в домашнем хозяйстве.
(обратно)3
Амбал — носильщик.
(обратно)4
Хаким — врач.
(обратно)5
Намазлык — коврик.
(обратно)6
Закиат — отчисление с доходов.
(обратно)7
Валаги — восклицание изумления.
(обратно)8
Араби — ей-богу, честное слово.
(обратно)9
Социви — грузинское кушанье.
(обратно)10
На войне — как на войне.
(обратно)



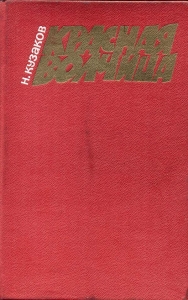


Комментарии к книге «Зарево», Юрий Николаевич Либединский
Всего 0 комментариев