Соседи
Повести
Соседи
Суворовой Тамаре Тимофеевне
1
Александре Васильевне захотелось пить, и она проснулась. Осторожно, чтобы не разбудить Петра Ивановича, перелезла у него в ногах, ступила на самодельный коврик и, окончательно просыпаясь, пошла тяжело на кухню.
Кружка под руку не попадалась. Тогда она взяла со шкапика стакан, зачерпнула воды. Напившись, поставила стакан рядом с ведром и посмотрела в окно. Скользнув взглядом по звездам, мерцавшим на той стороне болота над лесом, увидела в белом лунном свете крыльцо и угол террасы, изгородь, которая заканчивалась длинными воротами с двумя высокими столбами со снимавшейся перекладиной; из-под горы виднелся верх колодезного журавца. Справа от тропинки, ведущей к колодцу и бане, росла картошка, и эта половина огорода казалась ночью вспаханной; другая половина светлее — там был покос, на краю которого, всегда на одном и том же месте, чернел зарод. Снизу, от колодца, медленно поднимался человек. Он сделал несколько шагов и остановился на тропинке шагах в пятидесяти от ворот. Теперь он стоял неподвижно, и Александре Васильевне казалось, что он видит ее.
Боясь пошевелиться, она негромко позвала мужа. Не дождавшись ответа, медленно отступила от окна, подошла к кровати, растолкала Петра Ивановича.
— Встань-ка, старик.
— В чем дело? — спросил он, не собираясь вставать с постели. Ему всегда стоило немалых трудов уснуть, и он был недоволен, что его разбудили. — Ложись-ка ты лучше спать, — сказал он и подвинулся к стенке.
— Кто-то на огороде. Встань посмотри.
Александра Васильевна вдоль стены подкралась к окну, взглянула на пригорок: человек стоял все на том же месте, а может, подошел чуть-чуть ближе. Не помня себя, она вернулась к Петру Ивановичу.
— Близко стоит.
Хрустнув коленями, он сел на край постели, громко зевнул, пытаясь в это время что-то сказать. Глянул вниз, отыскивая свои огромные тапочки, увидел, что Александра Васильевна стоит на полу босыми ногами.
— Ты что босиком ходишь? Где тапочки? — строго спросил Петр Иванович. Свои он уже надевал.
— Чего ты копаешься? — все так же шепотом торопила Александра Васильевна.
Он сказал жене лезть в постель и греть ноги, а сам, жалея, что ему перебили сон, пошел на кухню. Александра Васильевна шла за ним следом.
Он подошел к окну, наклонился, его лоб едва не касался стекла, и долго смотрел на пригорок, где, по словам жены, стоял человек. Там никого не было.
Петр Иванович приглядывался к каждой тени у ворот и забора, обследовал взглядом крыльцо и угол террасы, но ничего подозрительного не увидел. Александре Васильевне казалось: пока они стоят и смотрят, кто-то выставляет окно в большой комнате или стоит сбоку от окна на завалинке и ударит сейчас по стеклу…
Луна вырвалась из облаков, осветила темный закоулок и снова катилась своей дорогой — к сосновому лесу, темным островом стоявшему сразу за деревней.
Как будто сожалея, что ничего не удалось рассмотреть, Петр Иванович вздохнул, отошел от окна и сказал:
— Чудишь, старуха.
Все еще боясь громко говорить, Александра Васильевна вполголоса сказала:
— Стоял на тропинке.
— Кто?
— Человек.
Кажется, он поверил Александре Васильевне, и ей сделалось страшно. Она прошла впереди Петра Ивановича, села на стул возле кровати и уронила лежавший на краю стула портсигар, на крышке которого чьей-то искусной рукой был выгравирован орден Отечественной войны. На внутренней стороне крышки читались слова: «Девятого мая — День Победы». Орден пообтерся, но зато слова о победе казались вырезанными будто вчера.
Упавший портсигар отвлек немного Александру Васильевну от того, что она видела человека, поднимавшегося по тропинке, а затем стоявшего и смотревшего на дом Мезенцевых. Она старалась убедить себя, что опасаться нечего, что страх ее преувеличен, что здесь, по-видимому, прав Петр Иванович и что она зря его разбудила.
— Это ж надо, — ночью ходить! — проговорила она, держа в одной руке портсигар, а в другой — старую шерстяную кофту, которую только что взяла со спинки кровати.
— Ты что, спать не собираешься? — сказал Петр Иванович. Он сел на кровать и, чтобы успокоить жену, высказал предположение: — Знаешь, что я думаю: это парень с девчонкой сухари сушат!
— Какие тебе сухари, — взглянув на стрелки будильника, ответила Александра Васильевна. — Три часа ночи.
Он хотел закурить, но Александра Васильевна остановила его.
— Не закуривай, видно будет с улицы.
Петр Иванович подержал в зубах папиросу и снова положил в портсигар. Он и сам не верил в свое предположение: женихов и невест в деревне, можно сказать, не было. Разве что крутил любовь кто-нибудь из старшеклассников? В их краю старшеклассников только двое: сын Петра Ивановича — Володя и Коля Лохов. Володя спал в своей комнате. Двери в комнату были открыты, и оттуда доносилось сонное Володино дыхание.
В соседнем дворе громко залаяла собака. Петр Иванович оделся, сунул в карман папиросы и спички, вышел на улицу.
Он пригляделся, первое неприятное ощущение, что кто-то неожиданно нападет на него, исчезло. На загоне тяжело отдувалась плотно наевшаяся за день корова, хрюкали полугодовалые поросята.
Под сараем он сел на широкую сосновую чурку. Хотелось курить. Он нащупал в портсигаре смятую папиросу, которую ему не удалось выкурить во время разговора с Александрой Васильевной, ощутил особенный вкус приплюснутого папиросного мундштука, когда папироса еще не зажжена, торопясь, как будто опять кто-то помешает, достал спички, быстро прикурил. Чтобы не спугнуть, если кто-то ходит около дома, Петр Иванович держал папиросу в полусогнутой ладони огоньком к себе.
Сидеть под сараем надоело. Он заплевал окурок, который давно погас, носком сапога вдавил его в землю. Смирившись с тем, что сон окончательно разбит, что теперь все равно долго не уснуть, Петр Иванович решил еще немного понаблюдать за огородом.
Он подумал, что ничего в том особенного, если он дойдет до колодца и бани и взглянет, все ли там в порядке. Если забрела в капусту чья-нибудь корова, то это плохо не только тем, что она кочаны попортит, а еще и тем, что объелась на огороде Мезенцевых. А если так, Петр Иванович сделает сразу два хороших дела: спасет капусту и корову.
Он бы сразу спустился к колодцу и бане, посмотрел бы, как это делал раньше, и давно бы лежал в постели, рассказывая, какая сегодня ночь, но вспомнил перепуганный вид Александры Васильевны и не торопился идти к колодцу. Он снова шагнул в тень сарая, привалился спиной к столбу, около которого любил заниматься физзарядкой и его старший сын, и стал смотреть на огород, на небо и звезды над тропинкой, вспоминая, какие упражнения чаще всего делал Ваня.
Эта привычка осталась у Вани от артиллерийского училища с 1941 года… Закончить училище сыну не удалось: курсанты были брошены под Сталинград. Скоро от артиллерийского полка, в который было переформировано училище, осталось два человека: старший сержант Мезенцев с Белой пади и командир полка.
«Дурак немец! — рассказывали после войны белопадские мужики и парни. — Стреляет по ногам!»
Все взрослое мужское население Белой пади, оставшееся в живых, как правило, было ранено в ноги.
Военный врач сказал Ване, что хромота останется на всю жизнь. Ваню это не устраивало, и он, забросив в амбар сначала один костыль, потом другой, оставшись с палочкой, начал упорно заниматься около столба упражнениями, которые, на первый взгляд, были ему не под силу. Падая, Ваня хватался за столб и снова, как казалось Петру Ивановичу, продолжал издевательство над собой. По багровому Ваниному лицу катились струйки пота. Петр Иванович не выдерживал и отворачивался…
На следующий год, весной, Ваня забросил тем же порядком, в амбар, березовую палочку и, не без скандала, добился, чтобы его поставили тракторным учетчиком.
Колхоз «Победа Сталинграда», как будто нарочно названный в честь Вани, состоял из одной бригады, учетчикам — ни полеводческому, ни тракторному — коня не полагалось. Если бы Ване как-нибудь дали коня, он бы все равно от него отказался. Ни верхом, ни на телеге ездить ему нельзя было: проедет, потом хоть плачь, не ступить на раненую ногу. С саженью, хромающим по полю, видели его то в Манхаихе, то в Листвяках, то на Татарской заимке…
Предупредив Александру Васильевну, Петр Иванович прошел к колодцу и бане и вернулся в ограду. Взглянув на черные окна, поблескивающие от лунного света, он подумал, что надо идти в дом, а то будет переживать старуха. Вдохнул, насколько хватило легких, свежего осеннего воздуха, к которому примешивались речные и болотные запахи, особенно сильные ночью. С той стороны болота, от леса, донеслись уже не такие слабые, как это было вначале, когда он вышел на улицу, предрассветные голоса птиц, услышал, как будто кожей почувствовал, как прошелестел черемуховый куст, свесивший половину ветвей в соседний огород.
Отвлекшись от куста, Петр Иванович увидел стоявшего на тропинке человека.
Что за чушь! Заблудился кто-нибудь? Но почему он так странно ведет себя? Заблудившийся человек прошел бы по огороду, открыл ворота, постучал бы в окно… А этот… ему что-то другое нужно…
Прошла минута, другая… Человек не сдвинулся с места.
Луна ярче осветила пригорок, и Петр Иванович заметил, как человек переступил с ноги на ногу или сделал шаг назад.
Может, ему надоело стоять и смотреть, и он переступил с ноги на ногу или сделал шаг назад по этой причине? Или он был недоволен, что луна ярко осветила его.
Длинная цепь облаков, дымясь, старательно закрывала диск луны, стало темнее, будто кто-то невидимый вывернул фитиль гигантской ночной лампы. Человек продолжал стоять все на том же месте.
Петр Иванович нарочно негромко кашлянул. Человек быстро спустился вниз.
Петр Иванович постоял, размышляя, что бы это могло быть такое, искурил папиросу, глядя все это время на пригорок, и по высокому крыльцу медленно стал подниматься на террасу.
С террасы он еще понаблюдал за огородом — никто больше не появлялся — и ушел в дом, закрыв на крючок обе двери.
2
Стадо коров разбрелось по лесу вдоль болота. Путь от Среднего хребта коровы проделали быстро, и паслись теперь сразу за мостом. Чтобы стадо не прорвалось в деревню, Яков Горшков стоял на мосту и время от времени хлопал бичом на коров, выходивших из леса.
Дементий Лохов завернул коров, направлявшихся к Харгантуйскому мостику, по которому можно войти в деревню с другого конца, и вспомнил, что надо прутьев нарезать, а то из-за метлы опять дома ругань будет. Перед высокой колодиной, заросшей сочной зеленой травой, слез с коня, привязал его к тоненькой березке. Рыжий конь с белой звездочкой на лбу нетерпеливо взмахивает хвостом, резко вздрагивает, отгоняя жадных паутов и слепней, и тянется к траве. Дементий медленно ходит среди высоких кочек, выискивая тонкие березовые прутья и лозины, срезает их.
Отсюда, с болота, хорошо видно деревню. С пучком прутьев Дементий застывает среди черных обугленных берез, ему кажется: это какая-то другая деревня, а не Белая падь. Он отыскивает дом учителя и смотрит, смотрит до слез в глазах. Прогоняя слезу, часто моргает, — дом учителя теряет очертания, колеблется и снова делается похож на крепость.
Этот дом, высокий, огромный, с красноватой железной крышей и водосточными трубами давно притягивает к себе Дементия, так давно, что Дементию порой кажется, что это было всегда. Издалека видно высокое крыльцо, ведущее на террасу. Дементий представил, как он стоит на террасе, смотрит на Школьный лес, подступивший к заборам, на песочные ямы, густо заросшие молодым сосняком, — там пахнет смолой, красными муравьями, белой и желтой ромашкой, засыхающей на полянах, разбросанных вокруг песочных ям.
Первые крупные капли дождя заставляют его взглянуть на диковинную тучу, нависшую над тайгой. Ветра нет, и туча надвигается на чистое небо медленно, почти незаметно.
Пастухи пригнали коров в деревню.
Туча все так же медлит, как будто ждет, когда люди спрячутся в домах. Делается темно, хотя солнце еще не закатилось. Не желая прибавлять шагу, Дементий с тревогой поглядывает на небо. Дождь настигает его перед самым домом.
Поднявшись на крыльцо, Дементий поворачивается лицом к дождю, трогает пиджак и штаны, удивляется, что за короткое время, пока шел от ворот до крыльца, промок до нитки. Навес над крыльцом узкий, дождь захлестывает на самое крыльцо.
В сени с пустым ведром вышла Арина. Она сердито посмотрела на мгновенно побежавшие ручьи по ограде, загнем на мужа.
— Дождя не видел, стоишь? Лезь на чердак! Ведро к трубе поставишь, а то избу затопит.
Дементий взял ведро и по тоненькой шаткой лестнице полез на чердак. Арина старательно поддерживала лестницу. Ухватившись обеими руками за потолочные плахи, Дементий крикнул вниз:
— Залез!
Арина не отходила от лестницы и все время смотрела, когда появится Дементий. Наконец он подошел к темневшему чердачному проему, нагнулся, чтобы увидеть, на месте ли Арина.
— Крепче держи, буду спускаться!
— Держу, — ответила Арина, переживая, чтобы Дементий, чего доброго, не загремел с лестницы. Вздохнула спокойно, когда он коснулся ногами пола.
— Когда лестницу сделаешь? — спросила Арина.
Дементию кажется: и крыша и лестница могут еще подождать — не каждый же день льет такой дождь!
В сенях Дементий переоделся в сухое, зашел в избу. Арина с разнесчастным видом сидела на лавке, скрестив руки. Ее голова и плечи отражались в большом зеркале, висевшем на стене. В зеркале Арина показалась Дементию еще более согнутой и несчастной. Что-то есть, подумал он, иначе бы Арина не придиралась так с крышей и лестницей.
— Что-нибудь Коля сделал?
— Садись.
Дементий опустился на другой конец лавки.
— Что он сделал?
— А ты как думаешь, что он сделал?
— Я весь день в лесу.
— Учиться не хочет, вот что сделал!
— Где он?
— Ушли куда-то с Володей. Володя тоже бросил.
— Не может быть! — не поверил Дементий.
Поужинали. Коли не было. Дементий хотел сходить к Мезенцевым, но Арина отговорила его.
Ночью проснулся Дементий не от того, что дождь стучит по его деревянной крыше, ударяет в окна, — проснулся Дементий от того, что услышал, как звонко идет дождь по учителевой крыше и потоками стекает вода по трубам.
Он поднялся с постели, надел брезентовый плащ с капюшоном и будто бы за нуждой вышел на улицу. У колодца свернул, прошел вдоль гряд, перелез через низенький забор в школьную ограду. Здесь его никто не видит… К школе дом стоит северной стороной, в этой стене Дементий не прорубил ни одного окна — зачем, только холод зимой напускать?
Дементий открыл запертую изнутри школьную калитку, окованную резным листом железа, оглянулся в обе стороны на дорогу — никого нет. Стоять под аркой ворот удобно: дождь не мочит!
Таких ворот мало осталось, рассуждал Дементий, новые ворота хозяева строят неосновательно, так себе, тяп-ляп, — и готово! Не то что арки, иногда и совсем ворот никаких нет, жердинами наспех загородят и прыгают через них, как козы. Другое дело дом учителя: учитель живет в бывшем кулацком доме. Такой дом, кроме школы, один на всю деревню. Достался Мезенцевым. И не такой великий грамотей учитель, а только и слышно в деревне: «Петр Иванович, Петр Иванович…»
Открылась в тридцатых годах начальная школа в Белой пади. Временно сделали Мезенцева учителем. И вот учит он год за годом, а снимать его никто не собирается. И как-то привыкли к тому, что Петр Мезенцев, — учитель. Петром даже самые близкие знакомые называть стеснялись, да и понимали: нельзя!
Была полночь, окна в домах ни у кого не горели. Дождь стих, и Дементий, бросив свой наблюдательный пост, решил пройти по деревне. Дорогу расквасило, он шел вдоль забора и тына по траве. Остановился около учительского амбара, из которого доносился на улицу разговор. Он сразу же узнал голоса: говорили Коля с Володей. Чей-нибудь голос смолкал, и тогда слышался крепкий хруст огурца.
«Не спят, черти!» — подумал Дементий, снимая капюшон. Ему хотелось крикнуть: «Коля, марш домой!», но что-то удерживало его. Он постоял, послушал, слов разобрать нельзя было.
От амбара он хотел повернуть домой, чего блудить по дождю, но какая-то сила, как бы Дементий не противился ей, заставляет его подойти к дому учителя.
Окна на улицу закрывали густо разросшиеся кусты черемухи, дикой яблони и рябины. Дементий открыл калитку, шагнул в палисадник и остановился, боясь затронуть сплошные ветви и листья, переполненные водой. С листьев и ветвей капало, мокрый сад отражался в стеклах. Ветви покачивались, вздрагивали… Сколько этой черемухи, яблони и рябины перевидел Дементий в лесу, и — ничего особенного! Почему же сейчас хочется смотреть на них?.. Не в том ли причина, что растут они около дома? Он не разглядел и наступил на изогнутый ствол черемухи — и его сразу же обдало как из ведра. Дементий смахнул с лица капли и неподвижно, как привидение, продолжал стоять среди толстых черемуховых стволов.
Зачем он здесь? Этого Дементий и сам не знал. Может, он представлял, что он уже в своем саду, что-нибудь оставил, например, топор или лопату, и пришел взять, чтобы не мокло под дождем. Осторожно обойдя черемуховый ствол, Дементий выбрал сухое место — в углу палисадника, под крышей. От угла дома его отделял зубчатый штакетник и маленькая калитка, которую — странное дело! — он закрыл на крючок, когда входил в палисадник. И тут же ему стало понятно, зачем он ее закрыл: калитка была маленькая, аккуратная, ее было приятно открыть, и с той же приятностью Дементий закрыл ее, хотя, казалось бы ее нужно было оставить открытой, чтобы лишний раз не скрипнуть или не звякнуть крючком. Калитка открылась и закрылась бесшумно, не издал никакого звука крючок, и Дементию еще раз стало приятно, что бесшумная калитка как будто была заодно с ним!
Он услышал, как в двух шагах от него, переливаясь, позванивала вода, и устремил взгляд на водосточную трубу. Где заканчивалась труба снизу, он не мог разглядеть — мешали темнота и штакетник — да это и не нужно было: Дементий и так хорошо помнит, на какой высоте от земли водосточная труба! Считай, каждый день смотрит! Такая же труба и на другом углу дома, только ее не видно из-за деревьев…
До слуха Дементия долетали то смех, то возгласы ребят из амбара. Они ему не мешали, даже, наоборот, подбадривали… Он уловил какой-то лесной запах и сразу же узнал его: пахло смородиной. Несколько кустов дикой смородины перекочевали под окно к Мезенцевым много лет назад. Кусты состарились, засохли, но в глубине палисадника в тени росло несколько молодых побегов.
Дементий вспомнил, как Мезенцевы садили под окном черемуху и смородину. Наклонившись тогда на гладко обтесанную верхнюю жердь палисадника, Дементий смеялся: «Петр Иванович, ребятишки тебе только мешают!» Так, казалось, оно и было: не успел учитель оставить лопату, чтобы поговорить с Дементием, как за нее, крича и ссорясь, уцепились трое младших сыновей Петра Ивановича и самая младшая из дочек — белая, пухлощекая, похожая на подберезовик. Куча мала нисколько не смутила учителя, ему даже нравилось, что именно его лопатой хотят работать сразу четверо детей. Порядок Петр Иванович навел быстро, как в классе. «Где тишина? — спросил он у ребят. — Коля, Алеша, Юра! Вам не стыдно отбирать лопату у Нины?» Счастливая, не успевшая отрасти от земли Нина старается поддеть лопатой перемешанную с зерном и навозом землю, принесенную с маленького огородчика от бани.
Дементий тоже садил под окном черемуху. Детей отгонял, помогала только Арина. Временно загородил молоденькие деревца жердинками: где на гвоздь прибил к углу дома, где привязал на веревочку или на проволоку. Свиньи залезли и все выкопали…
Выйдя из палисадника, Дементий взглянул на крышу — и сердце его замерло от восторга: блестит железная крыша, как будто радуется, что идет дождь! Не надевая капюшона, а только поправив кепку с длинным козырьком, он, обходя лужи, пошел домой. Смолкнут в амбаре голоса — он остановится, заговорят Коля с Володей — он снова идет по грязи, вынимая из нее сапог медленно, чтобы не слышали ребята.
Арина спросила, куда ходил Дементий. Он не ответил. Разделся, лег на Колину кровать и, сколько не старался, не мог заснуть. Опять, как раньше, стал думать, в чем он хуже Петра Ивановича. Народили они с Ариной восьмерых детей: пять сыновей и три дочки! У Петра Ивановича на одного меньше, так что… количеством Дементий козырнуть не может — что семь, что восемь, считай, одинаково. У Петра Ивановича шестеро позаканчивали техникумы, институты, и седьмой… не остановится же он, пойдет дальше. А у Дементия, которого не возьмешь — четыре класса, пять классов! Вот разве что Коля…
В одном Дементий одинаков с Петром Ивановичем: и у того и у другого жены колхозницы. Была учителева жена уборщицей в школе, так и Дементьева жена в этой же школе была уборщицей. Много лет у Петра Ивановича было две коровы, до четырех свиней, птица, гектар огорода. И у Дементия то же самое. Мяса у Дементия даже больше было: дикая козлятина зимой и летом; прибавь к этому глухаря, утку, рябчика… Зато у Петра Ивановича сладостей было больше — на деньги работал. Конфет накупит, баранок, печенья… Про сахар, что и говорить, не выводился. И еще мода была в доме учителя: сам в ботинках с калошами ходит, и все дети — и ребята и девчонки!
Но вот если завести учителя километров за двадцать в тайгу, в такие места, где одни звериные тропы, то он оттуда сразу не выйдет, поплутает. А Дементий пройдет половину дороги с закрытыми глазами! Ружья в руках учителя Дементий не видел лет тридцать, это тоже роняет учителя в глазах таежного человека. Но вот уж что правда, то правда: учителя хлебом не корми, дай только по грибы сходить! Где какой гриб растет, учитель знает в доскональности. Но гриб, считает Дементий, бабье дело, за грибами он не пойдет, отправит жену или ребятишек.
Завтра, а теперь уже можно считать — сегодня, Дементий пойдет к учителю. Раньше он и тогда мог пойти к нему, когда идти, казалось, совсем не к чему. А он возьмет и пойдет. Просидит весь вечер молча, только слушает, и уйдет недовольный. Чего приходил Дементий, непонятно.
Учитель таким заходам Дементия не удивлялся и воспринимал их приблизительно так же, как вот этот неурочный дождь: ни полям, ни огородам он не нужен, а сыплет и сыплет, и что с того — хочешь ты этого дождя или не хочешь, не перестанет же он.
Бывало и по-другому: размечтается Дементий, почувствует себя наравне с учителем, и проговорят они до полночи. Не всегда эти беседы устраивают Дементия: выспорить у Петра Ивановича ему никогда не удается. Обида оседает в душе Дементия, копиться, как пыль на дороге. Что и говорить, голыми руками учителя не возьмешь. А Дементию так хотелось положить его на лопатки, прижать как следует и посмотреть, что запоет учитель!
3
К утру дождь перестал. Ведро на чердаке было полным — один бок у печи мокрый, известка взбухла, на кухне стояла лужа. В сенях крыша была худее, и на полу у порога можно было пускать кораблики. Собирая воду большой тряпкой, Арина размахнулась и вымыла целиком в сенях, на кухне, а заодно и в избе.
Вернувшись с улицы, Дементий сказал, что коров сегодня Яков погнал один, и сел бриться.
Он долго водил бритвой по черному, загорелому лицу, трогал щеки и подбородок, оставался недоволен — бритва была старая и тупая. Правил ее на широком армейском ремне и, снова морщась, ругая бритву, скреб по третьему и по четвертому разу непробритые места. Кадык у Дементия огромный, с петушиную голову, и тут Дементий проявлял немало виртуозности, чтобы не порезаться.
Побрившись, налил в ладонь одеколона, не глядя в зеркало растер лицо, и оно сразу вспыхнуло, загорелось, — Дементий помолодел лет на пять. Расчесал, тоже без зеркала, сильно побелевшие, но еще густые, слегка курчавые волосы.
За столом Арина бросает на мужа короткие взгляды, безразличным голосом спрашивает:
— К Петру Ивановичу пойдешь?
Арина как будто недовольна, что Дементий пойдет к Петру Ивановичу, но говорит совсем другое:
— Сходи, может, посоветует что-нибудь. Колю домой посылай! Не вздумай там драться с ним!
На крыльцо Дементий выходит с некоторой торжественностью: этому помогают и горячий луч солнца, скользнувший в сени, и свежее, выбритое лицо, и диагоналевый костюм, которому лет десять, а он все еще как новый. Бодрости Дементия не могут омрачить ни целое озеро воды у самого крыльца и у ворот, ни то, что чужие свиньи гуляют по ограде, как у себя дома. Он занят сейчас одним: как придет к учителю, как тот встретит его, как они будут говорить.
Выбравшись по доскам из ограды, Дементий задержался у ворот: оглушая деревню, разбрасывая веером жидкую грязь, к дому Лоховых подошел темно-синий ДТ-54. Трактор новенький, кажется, что он посинел от большой скорости и оглушительного рычания. Из кабинки с Дементием поздоровался его старший сын Сергей.
— Ко мне? — спросил он у отца.
— Нет. К Петру Ивановичу схожу.
— Ну, ладно. А то бы на тракторе довез.
— Что у тебя сегодня за работа? — глядя не на Сергея, а на трактор, спросил Дементий.
— За тесом в Муруй надо съездить.
— В Хорге утонешь.
— Вылезу.
— На новом тракторе хорошо заработаешь. — сказал Дементий, чтобы сказать сыну что-нибудь приятное.
— Должен бы, — ответил Сергей, довольный не только тем, что хорошо заработает, но и тем, что именно ему дали новый трактор.
— Зайдешь? — спросил Дементий.
— Поздороваюсь. Все хорошо?
— Коля барахлит.
— А что он?
— Учиться не хочет.
— Что его — жареный петух клюнул? — Сергей вылез из кабинки, посмотрел на окна отцовского дома, сдвинул на затылок кепку, которая держалась теперь на копне курчавых волос. — Ты вот что, отец: за ремень или за утюг не хватайся, поговори с ним по-человечески, парень он не глупый, поймет. И я с ним потолкую.
Замечание насчет ремня и утюга покоробило Дементия, заморгав припухлыми, красноватыми веками, приглядываясь к Сергею, он сказал:
— А что, с вами я по-человечески не говорил?
— Ремень часто ходил по спине! Как станешь гонять, бежали босиком по снегу кто куда! — Сергей захохотал.
— Зато людьми выросли.
— Как сказать…
— А что тебе не нравится?
— Так бы ничего, грамотешки, отец, не хватает. Сейчас, сам знаешь, с четырьмя классами далеко не ускачешь.
— Может быть, — согласился Дементий.
— А белобрысый как?
— Так же, как и наш. Пойду к Петру Ивановичу, расскажет.
Сергей, как будто довольный, что Коля не один куролесит, а с сыном учителя, взглянул на дом Мезенцевых, утопающий в зелени, и сказал:
— Ну, там будет кино поинтереснее!
Сергей вступил на прогибающуюся, хлюпающую по воде доску. Пройдя по ней, не стал перешагивать на вторую, свернул к завалинке, взял две доски потолще, бросил их к крыльцу.
Дементий дождался, когда Сергей зайдет в избу, и, аккуратно ступая по грязи, пошел к Мезенцевым. В ограде у Петра Ивановича как будто и дождя не было, который прошел ночью, — были лужи, но по ним даже идти приятно — песок. Мурава чистая, зеленая. Дементию кажется: Мезенцевы только тем и занимаются, что с утра до вечера выметают сор в ограде и на улице. Рядом с приамбарком, около прясла, штабель нового дранья, — опять учитель собирается что-то строить! Куда он все строит…
Учитель не держал собак. Дом без собаки — этого Дементий не мог понять, и камень-валун с полуовальной вершиной, лежавший под стеной террасы, показался ему огромным сторожевым псом, который лежит до поры до времени, а потом оживет и сделает прыжок. Дементий не удержался, подошел к камню, погладил рукой но холодной шероховатой спине.
Учитель вышел на террасу.
— Здравствуй, Дементий Корнилович! Что ты тут нашел?
— Понимаешь, Петр Иванович, камнем заинтересовался!
— Что в нем интересного?
— Петр Иванович, как же я раньше не видел, — камень похож на волка или на собаку! Посмотрю и спина, и голова…
Учитель внимательно пригляделся к камню, не нашел никакого сходства.
— Выдумываешь, Дементий Корнилович. — В его голосе звучит неодобрение, что Дементий Корнилович занят пустяками.
— Петр Иванович, об этот камень Лаврен Чучулин убился?
— Ну, об этот.
Бывший хозяин дома Лаврен Чучулин, узнав, что его идут раскулачивать, пьяный вышел на террасу и бросился с ножом на председателя сельсовета. Председатель слишком сильно толкнул Лаврена — тот полетел с террасы и ударился головой о камень. По дороге в больницу Лаврен умер. Учителю разговор об этом неприятен. Дементий знал эту историю не хуже самого Петра Ивановича, но время от времени начинал спрашивать снова — или забывал, или делал это нарочно.
С каждой секундой пригревало сильнее. Трава, черемуховый куст около тына, подсолнухи искрились на солнце. Белый туман, клоками поднимавшийся от реки, не успевал превратиться в облако и на глазах таял.
Петр Иванович Дементия в дом не приглашает, а, энергично вытянув правую руку в сторону низенькой толстой скамейки, вкопанной под южной стеной дома, коротко и повелительно бросает:
— Садись.
Дементий подчиняется учителю как гипнотизеру, Петр Иванович продолжает стоять, как-то по-особенному вздыхает. Садится он на скамейку быстро, по-деловому, будто сидеть — это не отдых, а тоже работа. Достает из кармана трикового пиджака портсигар, длинными пальцами выхватывает две папиросы — Дементию и себе.
Учитель, глядя куда-то в сторону, а не на Дементия, задает свой излюбленный вопрос:
— Что нового в жизни, Дементий Корнилович?
— Ничего нет, — нажимая на «ч», говорит Дементий, скользнув взглядом по учителеву лицу.
Про Колю говорить рано, надо выждать, и он, размахивая руками, начал рассказывать, как видел на днях двух диких коз, выскочивших на дорогу, и как у него ружья не было, и как он крикнул, и как они, оглянувшись, перебежали дорогу и скрылись в осиннике.
Петр Иванович не проявлял интереса к тому, что рассказывал Дементий. Тогда он оставил коз и начал рассказывать про грозу, сбившую огромную лиственницу возле Татарских полей. И этот рассказ Петр Иванович слушал плохо, и Дементий так и не рассказал, что могло быть, окажись он или еще кто-нибудь рядом с лиственницей, когда в нее ударила молния.
— Петр Иванович, случилось что-нибудь?
Учитель бросил на траву еще большой окурок, взял новую папиросу, прикуривать не стал, придвинувшись ближе к Дементию, озабоченно проговорил:
— Такой случай у меня впервые…
— Какой? — осторожно спросил Дементий.
— Сегодня мне этот сопляк оказал, что не хочет учиться.
— Какой сопляк? — притворился Дементий, хотя отлично знал, о ком идет речь.
— Мой младший — Володя.
— Ну и что?
— Я ж тебе говорю: не хочет учиться.
Дементий взглянул на удрученное лицо учителя и захохотал так громко, что копавшиеся рядом в земле куры с криком кинулись в разные стороны.
— Это они договорились!
— Кто? С кем?
— Володя с моим Колей! Это ж два дружка!
— И что тут смешного?
Петр Иванович резко согнул ноги, все тело наклонилось вперед, руки уперлись в скамейку… Он сидел с таким выражением на лице и во всей фигуре, которое говорило: ну что, Дементий Корнилович, какую еще глупость скажешь?
Дементий не мог больше сдерживаться и двинулся в атаку на учителя.
— Неправильное твое рассуждение, Петр Иванович!
— Какое рассуждение?
— А вот такое!
— Объяснил бы, а то ночь буду думать, не спать.
— У тебя и сон пропал?! — засмеялся Дементий. — У меня из восьмерых ни один ничего не закончил. Самому младшему бросить — и картина будет полная! Мне тогда что, всю жизнь не спать?
— А это как ты захочешь, — в тон Дементию ответил учитель и тоже засмеялся.
Уверенность Петра Ивановича вышибала Дементия из колеи, и он нередко говорил совсем не то, что хотел сказать. И только потом, когда оказывался один, находился нужный ответ. Он боялся опять проиграть и решил говорить с учителем смелее.
— Петр Иванович, у тебя как по-писаному выходит! Что ты за человек такой? Может, подскажешь, что с Колей делать?
— При чем тут Коля?
— Он тоже бросил.
— Мне Володя про твоего ничего не говорил.
— Понятное дело: договорились! Я ждал этого.
— Ждал?
— А что тут особенного. У меня все бросают. И этот бросит.
— Вон ты как рассуждаешь! У меня ни один не бросал.
— Бросит.
— А это я еще посмотрю…
— Что тут смотреть: бросит — и ничего не сделаешь. Силой не заставишь.
Дементий покрутил головой и даже на мгновение плотно сожмурил веки, что должно было означать, что Петр Иванович «ничего не сделает!»
— Почему?
— Учеба — дело добровольное: хочет человек — учится, не хочет — не надо. К чему насиловать.
— По-твоему, Дементий Корнилович, грамотные люди нам с неба свалятся?
— Сколько ж их должно быть, грамотных?
— Все до единого.
— А работать кто будет?
— Машины.
— А на машинах кто?
— Люди.
— Какие?
— Грамотные.
— А где ты их возьмешь? Все грамотные уехали в город!
— Приедут.
— Когда? Вот мы, старики, помрем, и некому будет хлеб сеять.
— Ошибаешься, Дементий Корнилович.
— Мои-то никуда не уехали. А вот своих, Петр Иванович, ты всех в город повыгнал!
— Никого я не выгнал. Сами уехали.
— Что ты мне рассказываешь! — заикаясь, подхватился со скамейки и сел снова Дементий. — Думаешь, я не знаю, какая у тебя была цель? Выучить всех, чтобы ни один в колхозе не работал. Скажи, не так?
— Далеко ты хватил, Дементий Корнилович, цель у меня была другая!
— Какая?
— Хочу, чтоб мои дети были грамотными, культурными людьми.
— Какая там культура! Просто ты не хочешь, чтобы твои дети в деревне жили!
— А ты что, специально не учишь детей, чтобы они в колхозе остались?
— Что их, за ручку в школу водить? Это ж все-таки пять километров!
— А ты задумался, почему они у тебя школу бросают?
— Хочешь сказать, мои дети глупее твоих?
— Я не хочу этого сказать.
— А на что намекаешь?
— А ты подумай.
— Много будешь думать — быстро состаришься.
— Не бойся. Это у меня голова блестит как луковица, а у тебя чуб еще крепкий.
Петр Иванович провел ладонью по широкой лысине, открывавшей высокий лоб, пригладил короткие серебряные волосы на висках и засылке и засмеялся над самим собой. Огромная лысина нисколько не смущала его, наоборот, из этого, казалось бы, недостатка он сумел сделать достоинство: голый череп был внушительных размеров, теперь его еще заметнее обрамляли беловатые кустистые брови, из-под которых строго смотрели синие большие глаза, — и не было человека, который бы взглянул на огромный лоб Петра Ивановича без уважения. Он дотрагивался до своего лба или опирался лбом на согнутую руку с расставленными пальцами с неизменной торжественностью и значением.
Вот и сейчас, как будто потеряв интерес к Дементию, он поворачивается боком на скамейке, кладет руку на ногу и, опершись локтем о колено, расставленными пальцами касается высокого лба. Петр Иванович не хочет обострять разговор с Дементием. Они никогда раньше не ссорились, и сегодня, думал Петр Иванович, тоже не обязательно ссориться. Он поступит с Дементием как учитель с учеником: он может его простить, а может и наказать. Так вот, он прощает. С таким видом, молча, Петр Иванович сидит минуту, две…
Дементий понял, что дал маху, и поворачивал оглобли назад: пыл его поубавился, решительности, с которой он начал разговор, и в помине не было.
Петр Иванович наконец меняет позу: садится прямо: долго и со стоном зевает. Дементий тоже как будто спокоен. Но вечер, разумеется, испорчен. Учитель угощает Дементия папиросами. Дементий берет папиросу, из чего должно следовать, что друг на друга они не сердятся. И Дементий уходит.
4
Оставшись один, Петр Иванович пытается разобраться, что произошло. Осуждает себя за то, что проговорился.
«Какое дело, особенно Дементию, до того, что Володя не хочет учиться? Нашел кому жаловаться… Только смеяться будут, скажут: сын учителя, а не хочет учиться…»
Петр Иванович прошел по тропинке вдоль картошки, пугнул куриц, подражая ястребу, и в густых картофельных зарослях раздалось отчаянное кудахтанье. Две самые вредные курицы, ныряя между кустами, мчались к забору, их путь легко можно было проследить по вздрагивающим высоким кустам картофеля.
Перед тем как уйти с огорода, Петр Иванович постоял на тропинке, вспоминая, что предстоит сделать на завтра: забрать цинковый бачок от колодца, а то как в прошлом году утащит кто-нибудь; к топору сделать новое топорище; сказать Володе, пусть осторожно пройдет по картошке и повыдернет сорняки. Что еще, не забыть бы… Но стоило вспомнить о Володе, и все мелкие дела отодвигались, делались еще более мелкими, не обязательными, последний Володин поступок заслонял их собой полностью.
Давно горели огни в деревне, и только в доме Мезенцевых не было света.
Петр Иванович ходил в волнении по комнате, и ждал, что скажет сидевшая у печи с покорным видом «старуха», его жена, которую в особенные дни он звал Саней или полностью по имени-отчеству: Александрой Васильевной.
С начала сумерек и до темноты говорил один Петр Иванович. Жена слушала его, вздыхала. Вздыхала она и оттого, что ей тяжело было слушать все, что говорил Петр Иванович, и оттого, что говорил он слишком долго. К тому же Александра Васильевна не знала, что отвечать своему мужу, которого она всегда немного побаивалась.
— Что ты вздыхаешь?
Устало и безнадежно, точь-в-точь как Александра Васильевна, он, передразнивая, вздохнул два раза, остановился напротив Александры Васильевны.
— Он же еще ребенок…
— Этому ребенку пятнадцать лет!
— Ну, сам подумай, что это — пятнадцать лет? Он же ничего не понимает.
Александра Васильевна говорила с такой проникновенностью и мольбой, что, казалось, Петр Иванович, начинавший курить одну папиросу за другой, послушает ее и меньше будет ругать сына.
— Все он понимает… Я в пятнадцать лет вступил в Красную гвардию!
Петр Иванович сел за стол, отодвинул от себя будильник, низко нагнулся над столом, опершись подбородком о ладонь правой руки, левая была вытянута вдоль стола — это было сигналом, что теперь Александра Васильевна может сказать все, что она считает нужным и Петр Иванович будет внимательно ее слушать.
— Я в пятнадцать лет ни читать, ни писать не умела, — сказала Александра Васильевна.
— Что ты за пример? Что ты сравниваешь? Прошло то время, о котором ты говоришь.
— Дай ему ремня, может, полковником станет, — посоветовала Александра Васильевна, желавшая хоть как-нибудь закончить неприятный разговор.
— Каким полковником? — не понял Петр Иванович.
— Ты что, забыл? Перед войной на Бадонках отец своего сына уздой отмутузил!
— Ну и что?
— Это ж ты рассказывал?
— Ничего я не рассказывал.
— Тогда слушай. Мальчонка уже ладный был, тоже, как наш, учиться не хотел. Назначили его к пастуху коров помогать пасти. Сам пастух один раз пошел сено косить, а коровы и пропаслись день в пшенице. Отец узнал под вечер, взял узду и давай своего мутузить! А соседская девчонка подсмотрела, как отец лупцует ее жениха! Мальчонка был старше нашего, у него уже и невеста была, он ей из лесу букетики приносил. Отлупил его отец, ушел в избу. Мальчонкина невеста свесилась с забора, смотрит во все глаза на своего жениха. Он достал букетик и подает. А девчонка говорит: «Я видела, как отец тебя бил, не надо мне твоих цветов!» Отец-то, конечно, ошибку сделал: не надо при девчонке-то лупить! Только все оно как раз к лучшему повернулось. От стыда жених убежал совсем из дому. Мать ходила по деревням и у каждого встречного спрашивала: «Вы моего Федю не видали?» Надо же, вспомнила, как зовут: Федя Редчанков!
Александра Васильевна помолчала, сама растроганная своим рассказом, и закончила:
— А через двадцать лет приехал Федя в гости к отцу полковником!
История с уздой Петру Ивановичу как будто понравилась.
— Ни разу не слышал. Такая история под боком… А говорят, бить нельзя!
Александра Васильевна насторожилась:
— Это на кого как: другому каждый день трепка, а пользы никакой.
— Каждый день не надо, — засмеялся Петр Иванович. — Один раз, но так, чтоб всю жизнь помнил! Сегодня поздно, пускай спит. А завтра задам мурцовки, пусть бежит! Может, генералом вернется?
— Так уж и генералом сразу, — не без тревоги сказала Александра Васильевна. — Не было в нашей родне ни полковников, ни генералов и не надо.
— Как не было? А генерал Шмаенков в Москве?
— А ты видел этого генерала?
— Ну так что, что не видел? Что он от этого, — сделался рангом ниже?
— Откуда ты знаешь, что Шмаенок генерал?
— Как откуда? От родни.
— От какой?
— От родни генерала Шмаенкова. От его племянника, от Гриши.
— И ты, думаешь, Гриша этот тебе правду скажет?
— А зачем ему врать?
— Бывает, что и соврать надо.
— Ну, знаешь ли, — начал сердиться Петр Иванович. — Одно дело — прибавить сержантскую лычку, ну, звездочку лейтенантскую, а генеральный чин — ого-о, это тебе не просто!
Такой ответ Александру Васильевну никак не убедил, она все с той же непоколебимой сомнительностью отвечала:
— Какое тебе дело до генерала Шмаенкова, если только он генерал? Да и не мог он сделаться генералом! В Белоруссии Шмаенки жили от нас недалеко, в соседней деревне. Перед гражданской войной черняховские парни к нам на вечерку приходили. Был там и твой Шмаенок. Начнется вечерка, он стоит, губы развесит… У него всех девчонок из-под носу уведут!
— Это еще ни о чем не говорит, — защищает Петр Иванович.
— Обо всем это говорит. Птицу видишь по полету. Я, конечно, не хочу спорить, всякое в жизни бывает, а только не мог Шмаенок сделаться генералом, не поверю. А что ты его защищаешь? Какая он тебе родня — седьмая вода на киселе?
Выяснение родственных отношений с генералом Шмаенковым заняло не меньше получаса. Александра Васильевна всячески открещивалась от дальнего родственника, которого в военном чине она ни разу не видела. Петр Иванович настаивал на родстве и не позволял жене снимать со Шмаенкова звание генерала.
Александра Васильевна не была сварливой женщиной или же любительницей поспорить, она бы сразу уступила мужу в этом довольно простом вопросе: родня или не родня им Шмаенок, и генерал он или не генерал? Она слышала, что в дальней родне Петра Ивановича будто бы есть генерал и живет в Москве. Генерал не сообщал о себе Мезенцевым. Надо полагать, Мезенцевы для него с тех пор, как он сделался генералом, не существовали, а тогда, скажите, с какой стати Александра Васильевна должна признать существование генерала?
Новое упоминание о нем в обычный день так бы не затронуло ее: есть Шмаенков — хорошо, нет Шмаенкова — тоже хорошо. Но упоминание о Шмаенкове сегодня да еще как о генерале в расчеты Александры Васильевны не входило. Тогда получалось, что зря Александра Васильевна рассказала историю с Федей, то есть через что он стал полковником. И тут, как-то совсем уж близко, этот генерал Шмаенков. Безвыходное положение у Володи: с одной стороны полковник, с другой — генерал. Очень уж два больших чина! Рядом с такими чинами Володино поведение заслуживает самого серьезного наказания.
Александре Васильевне нужно было решительным образом снять генеральский чин со Шмаенка или, на худой конец, выразить полное недоверие к тому, что он в таком чине находится. И тогда, считай, оставался один Федя полковник. А с одним, что ни говори, если он даже полковник, справиться легче.
Петр же Иванович настаивал на родстве совсем из других соображений. Во-первых, он не хотел и не мог согласиться со следующим: зачем отказываться от родства со Шмаенковым, если он действительно родня? Во-вторых, и это было самое главное, Петр Иванович с юных лет и вот уже до пенсионного возраста сохранил любовь к военным.
Поднявшись из-за стола, Петр Иванович подошел к порогу, включил свет и сказал:
— Что, Саня, будем делать с нашим лентяем?
— Я его лентяем не считаю, — смелее заговорила Александра Васильевна, так как Петр Иванович теперь уже был не опасен: голос его был веселее, угрозы в нем никакой не было.
— Краснеть мне потом придется, — сказал Петр Иванович, садясь на прежнее место.
— Чего тебе краснеть? Пойдут ребятишки в школу, и он пойдет. Что ему дома делать?
Петр Иванович оглянулся на Володину комнату, в которой Володи не было, — он спал в амбаре, — и, словно боясь, что Володя все равно может услышать, переходя на шепот, сказал:
— Ты же видишь его характер? К нему другой ключ нужен! Он же какой-то бесстрашный!
— Я в этом ничего не понимаю. Делай, как знаешь, чтоб потом не говорил.
— Тогда лишнего не защищай.
— А может, и правда, у него от учебы голова болит? Посмотри, какое у него лицо бледное. Петр Иванович похвалился:
— Я в его годы был на полголовы выше и в плечах шире. Мне моих лет никто не давал. А силища была разве такая? — Петр Иванович искоса глянул на свои худые, опущенные, как у ястреба, плечи. — Я мог поднять на вилы копну! Несу, самого не видно, будто живая копна идет! Помнишь, Саня? За троих работал и отдыха не просил!
Кто-то не очень громко постучал в кухонное окно. Петр Иванович подумал, что ослышался, и посмотрел на Александру Васильевну. То же самое сделала и Александра Васильевна. В ожидании, что стук повторится, они посидели молча, затем Петр Иванович, недовольный, что его прервали на самом интересном месте, вышел в коридор и громко через дверь спросил:
— Кто там?
Никто не ответил.
Петр Иванович постоял, подождал, не зная, открывать двери или не открывать. Стук ему не понравился. Если бы что-то нужно было Володе, он бы постучал громче и, не дожидаясь, когда спросит Петр Иванович, первый бы сказал: «Открывайте». Значит, это был не Володя. И потом, уж так было заведено у Мезенцевых, младшие поздно не стучались, а шли спать в амбар.
— Володя, ты? — громко еще раз спросил Петр Иванович, отодвинул деревянный засов и вышел на террасу. Около ворот на загон кто-то перелез через за-плотник и, срезая угол, побежал к черемухову кусту. Слышно было, как под ногами путалась и шелестела картофельная ботва. Человек остановился или ступил на широкую скошенную межу, идущую вдоль тына от черемухового куста до самого низа, и все стихло.
Петр Иванович нашарил в сенях на полке ключ, замкнул двери. Потом сообразил: если Александре Васильевне вздумается выйти на террасу и дверь окажется запертой, она испугается. Он отомкнул замок, повесил его на место.
Прошел к амбару, дважды с силой толкнул дверь. Как и ожидал, дверь изнутри была запертой. Не очень громко, но и не очень тихо постучал ключом по скобе.
— Кто? — услышал он Володин голос.
— Я.
Глухо прозвенел широкий без ручки рашпиль, на который была закрыта дверь.
— Ты в окно стучал?
— Нет.
— Иди в комнату, — сказал Петр Иванович. — Кто-то около дома ходит.
— Пусть ходит, — белея в темноте голыми плечами, ответил Володя.
— Идем, я сказал.
— Жарко в избе. Я в прошлом году спал в амбаре, пока снег не выпал.
— Потом будешь спать в амбаре, а сейчас делай так, как я сказал. Ботинки нашел?
— Нашел, — ответил Володя, все еще надеявшийся, что отец уйдет без него. Петр Иванович терпеливо ждал.
В трусах и майке Володя, подрагивая от холода, бежал впереди отца, смешно выбрасывая ноги, как будто ступал по раскаленным углям.
5
Утром, когда до восхода солнца оставалось не меньше часа, Мезенцевы-старшие уже не спали. Александра Васильевна, пошатываясь после крепкого предутреннего сна, растапливала печь. Петр Иванович пошел в амбар, чтобы бросить курицам две-три горсти крупной желтовато-белой пшеницы.
Куры наперегонки подбегали к амбару. Пока Петр Иванович нагибался через стенку сусека, чтобы поддеть зерна ладонью, самые нахальные из них проскакивали в амбар и прятались в укромных уголках, всякий раз надеясь, что Петр Иванович сыпанет зерна на улицу и уйдет. Но Петр Иванович никогда не забывал проверить укромные уголки. Что тогда делалось в амбаре! Куда только не залетали и не садились курицы, где только не гадили от страха! Нахалку, залетевшую в сусек, Петр Иванович выгонял легкой осиновой лопатой с длинным чернем. Поединок заканчивался всегда одинаково: спасаясь бегством, с гвалтом курицы выскакивали на порог и, не касаясь подамбарка, разлетались в разные стороны. Затем, спохватившись, подбегали к стае, которая заканчивала вкусный завтрак, внимательно выискивая отлетевшие в траву зерна. Петр Иванович бросал зерна еще.
Оставив на досках в амбаре немецкий замок с сильной звонкой пружиной, он закрыл двери на тонкий четырехугольный болт, который всегда издавал характерный звук, ударяясь о верхнюю скобу шляпкой.
Спустившись по широким толстым ступеням с подамбарка, Петр Иванович увидел на загоне красно-пеструю, с большими рогами корову, стоявшую около закрытых ворот в ожидании пойла, годовалого бычка, пытавшегося на своих коротких рожках поднять ворота и выйти с загона, и двух полугодовалых поросят, сумевших протиснуться между столбом и воротами и теперь своими длинными носами портивших ограду. Петр Иванович прогнал их с лужайки и пошел к колодцу.
Большая собака, мастью, ростом и даже хвостом похожая на волка, хотела перескочить забор в самом низком месте, увидела Петра Ивановича, соскочила опять в соседний огород и как ни в чем не бывало вдоль забора, а затем вдоль тына побежала вниз, к болоту. Близко к мосту без перерыва крякала дикая утка, будто нарочно указывала место, где она прячется; ей ответила другая утка.
Небо за Школьным лесом порозовело, верхушки сосен тоже были розовыми, как будто, раскалившись, собирались вспыхнуть.
Каждое утро, идя за водой, за луком, и огурцами, Петр Иванович, остановившись у колодца, любил разглядывать, что делается в природе. Все, что видел он сегодня, не было таким радостным. Он не стал спускаться к колодцу, вернулся с полдороги, обследовал заплотник в том месте, где кто-то перелез ночью. Следы вели к черемуховому кусту и терялись на меже. Несколько картофельных стеблей, где был след, помяты, сломлены.
Петр Иванович достал из кармана перочинный ножик, срезал черемуховую ветку и стал замерять ею следы.
Александра Васильевна, бросив доить корову, наблюдала за Петром Ивановичем.
Подойдя к заплотнику, около которого с подойником стояла Александра Васильевна, он показал два толстых прутика с белыми зарубками.
— Ну, что здесь? — недоверчиво спросила она.
— Размер сапог.
— А это что? — Александра Васильевна показала на коротенькие отметины.
— Длина и ширина каблука.
— По этим палочкам найдешь?
— Найду.
Петр Иванович составил пойло из теплой воды с отрубями, ловко подхватил ушатик, вынес на улицу, поставил на земле недалеко от крыльца.
Красно-пестрая Марта, как только ей развязали передние ноги, с легким мычанием мгновенно оказалась рядом с ушатиком, который Петр Иванович надежно защищал от свиней.
Александра Васильевна, удерживая в левой руке подойник с утренним молоком, правой отбивалась от красного бычка, сумевшего за лето два раза сотворить беду: один раз он перевернул подойник, когда она заканчивала доить корову, другой раз, неизвестно откуда появившись, поддел ведро, когда Александра Васильевна шла с загона. Она отругала бычка, но это на него не подействовало, и он норовил опрокинуть подойник в третий раз. Она подняла с земли хворостинку, замахнулась на бычка, сказала, что за такое поведение он не получит ни свекольных, ни капустных листьев, а вместо пойла будет пить воду из болота. Как будто поняв угрозу, бычок бросил Александру Васильевну, остановился посреди загона и замычал ей вслед громко и обиженно.
Поросята несколько раз стремились завладеть ушатиком, но с позором отбегали и завистливо косились на ушатик.
Петр Иванович стерег до тех пор, пока Марта не начала слизывать со дна картофельные шкурки. Вылизав досуха дно, она мотнула головой, оглянулась на поросят, стоявших у забора и следивших за нею, подошла к углу дома, где ей всегда нравилось стоять, и стала ждать, когда ее выгонят на улицу. Пока она стояла, поросята, выжидательно хрюкая, пробежали мимо нее раз пять.
Спускаясь по тропинке к бане, Петр Иванович вспомнил: вчера, когда он уходил с огорода, бадья была в колодце, он сам опустил ее, чтобы не рассыхалась. Сегодня бадья гуляет в воздухе. Кто-то пил из бадьи ночью… Петр Иванович вылил из нее воду. Теперь его интересовала баня. Можно подойти к тыну, издали посмотреть — нет ли кого на крыльце, подперта ли дверь? Подумав так, Петр Иванович пошел, как он ходил всегда по тропинке, огибающей баню с левой стороны.
На потолке бани, под односкатной драньевой крышей, росли бурьян, лебеда и невесть откуда залетевший дикий горошек. Петр Иванович и раньше с любопытством взглядывал на заросли бурьяна, лебеды и горошка на потолке, а сегодня посмотрел на них с каким-то особенным вниманием, как будто старался увидеть там кого-то спрятавшегося.
Обогнуть левый, передний угол бани, и Петр Иванович увидит длинное, широкое крыльцо и дверь; выступающие по углам бревна защищают крыльцо от ветра. Петр Иванович поравнялся с выступом — на крыльце никого нет, дверь подперта поленом. Разбирающиеся, из досок, воротца не тронуты. Опустив две верхние доски, он перешагнул из своего огорода в поскотину, дошел до моста, вернулся. Откинул полено, подпиравшее дверь, заглянул в баню: все на месте.
Двинувшись к колодцу не по тропинке, а с другой стороны бани, вдоль огурцовой гряды, Петр Иванович наткнулся на пустую бутылку, валявшуюся в бурьяне. Поднял ее. Бутылка была новенькая, даже этикетка поблескивала. Петр Иванович наклонил бутылку горлышком книзу — капли вина покатились по стеклу. И вдруг ему стало неприятно: он увидел связь между сегодняшним ночным посещением и бутылкой. Кто-то выпил для храбрости…
Пустую бутылку мог кто-нибудь забросить из поскотины, рассуждал Петр Иванович, глядя за тын и предполагая, с какой стороны и кем могла быть брошена бутылка.
Он услышал, как проскрипели ворота, увидел идущую к колодцу Александру Васильевну.
«Ну, что?» — еще издали взглядом спрашивала она.
— Не нравится мне эта штука, — сказал Петр Иванович и приподнял в воздухе бутылку из-под кагора.
Александра Васильевна поняла, выражение ее лица мгновенно сменилось, как будто в руках у Петра Ивановича была не пустая бутылка, а граната, готовая разорваться, в любое время.
— Вот что, старуха, надо проверить, есть ли в магазине такое вино. Поняла?
Александра Васильевна молча кивнула головой.
Около черемухового куста, куда ночью бежал человек по картошке, у Мезенцевых была скамейка, на которой в тени любил отдыхать Петр Иванович. Здесь с утра до вечера жужжали пчелы, кружились стрекозы…
Петр Иванович обычно сидел на скамейке неподвижно, и воробьи очень скоро переставали обращать на него внимание, перепархивали с ветки на ветку над самой его головой.
Зря ночью Петр Иванович не подкрался к черемуховому кусту и не проверил… Он мог неслышно пройти по ограде, перелезть на загон и оттуда прислушаться: если бы у куста на скамейке сидели двое, — парень с девчонкой, — все равно они бы не выдержали и засмеялись или до Петра Ивановича донесся бы шепот — молодые люди, это точно, не удержались бы и стали смеяться или перешептываться…
Ничего этого с террасы Петр Иванович не мог услышать, да он и не слушал долго, и теперь нужно было разгадывать: кто и зачем уже во второй раз приходит ночью?
6
В воскресенье Мезенцевы топили баню. Петр Иванович с Володей были в школе, — расставляли высохшие, пахнущие свежей краской парты и скамейки, — когда Александра Васильевна занесла в баню дров, два чугуна и бересты.
Перед тем как затопить баню, вынула из двух оконцев легкие осиновые чурбаки. Третье оконце, маленькое и высокое, было заткнуто старой телогрейкой с оторванными рукавами, и Александра Васильевна открывала его осторожнее, чтобы не налетела в глаза сажа.
Взявшись за маленький колышек, служивший дверной ручкой, потянула осевшую дверь немного вверх и на себя. Порог переступила не сразу — сначала осмотрела правый, самый темный угол, в котором стояла бочка для горячей воды. Шагнув через порог, заглянула еще в один слабо освещенный угол — под полком. Привыкнув к полутьме, разглядела там старые веники. Петр Иванович не любил, когда накапливался хлам, и она убрала их.
Когда мелкие дрова разгорелись, бросила в каменку крупных поленьев, придвинула к дровам чугуны. Один чугун стоял плохо, Александра Васильевна стала поворачивать его, вода несколько раз плеснулась на огонь — облако белого пара скрыло дрова и чугуны. Задерживая дыхание, она установила чугун, согнувшись, вышла из бани.
Постояла на чистом воздухе, отдышалась от дыма. Узнала в маленьком мужичке с топориком за поясом Ивана Черного, шагавшего в лес. Не сбавляя шага, Иван Черный поприветствовал Александру Васильевну, взмахнув рукой, и скоро был уже на мосту. Посмотрел с перил на воду и так же скоро, как шел по задам, зашагал к лесу.
Александра Васильевна посмотрела вдоль огородов на всю деревню и заметила из бань только два дыма — у Нюры Зиновьевой и у Захарки. Еще рано, дымки появятся через два, три часа, а у некоторых и совсем к вечеру. Услышав за спиной шаги, она резко оглянулась.
— Надо ж так напугать! — сказала она Петру Ивановичу, быстро и неслышно спустившемуся по тропинке к колодцу. — Куда ты Володю дел?
— К Лоховым зашел, — ответил Петр Иванович. — Почему нарушаешь договор? — строго спросил он.
— Ничего я не нарушаю, — сказала она, довольная, что Петр Иванович беспокоится и, делая вид, что не понимает, о чем он спрашивает.
— Я же говорил тебе: без меня баню не затапливай, сделаю все в школе, приду, помогу. Ты не Володя, должна понимать. Забыла, как в Грязнухе?
— Еще что, — испуганно проговорила она, не желая и вспоминать, того, что было в Грязнухе. — Будешь топить баню, а я обед из печи достану?
— Доставай.
Сделав несколько шагов к дому, Александра Васильевна хотела вернуться, выбрать с гряды огурцов для обеда, но Петр Иванович сказал, что сам выберет. Она постояла немного, как бы размышляя: доверить Петру Ивановичу выбрать огурцов или вернуться и сделать самой? Медленно, как будто нехотя, она стала подниматься в гору. И, удивительное дело, без ведер с водой, без кошмы с листьями Александра Васильевна шла в гору как будто тяжелее…
Закрывая ворота, она увидела, как Иван Черный свернул за мостом влево и шагал, мелькая за деревьями, по дороге вдоль болота.
Перед баней к Мезенцевым заглянула Арина. Подождала Володю, несшего от бани пилу и оставшиеся дрова, на которых сверху лежал топор.
— Много воды нагрел? — спросила Арина.
— Много.
— Дементию останется?
— Останется. Пусть приходит.
— Куда ты дрова несешь?
— В поленницу.
— Лежали б около бани, чего их носить.
— Складу в поленницу.
— Все бы складывали! Шура дома?
— В магазине.
— Ну, ладно, — сказала Арина, будто простила Володе какую-то провинность. — И я в магазин схожу, у меня тоже есть деньги.
Арина любит кричать. За свой характер она часто получала от ворот поворот. Ладила она в этом краю только с Александрой Васильевной.
Рядом с домом Лоховых стоял еще один, крайний дом, в котором жили Дедуровы. Казалось бы, самые близкие соседи! Но Арина считала, что Дедуровы своим домом только свет загораживают да нарочно в Аринин огород свиней запускают.
По правде сказать, хулиганить в доме у Дедуровых некому — мужчин нет. Сама Дедуриха и четыре дочки, росшие одна за другой: старшей было двадцать два, младшей — двенадцать. Дочки рослые, белые, румяные, как пряники. Младшей ни за что не дашь двенадцать. Скажет, — в пятый класс ходит, — никто не верит.
Что они там такое особенное едят, удивлялась Арина, растут как на дрожжах! Она ожидала: не успев вырасти, Дедурихины дочки начнут выскакивать замуж одна за другой, как у Арины. Ожидания ее не оправдались: учатся Дедурихины дочки, а на женихов не смотрят. Оно, если разобраться, так и смотреть не на кого — кругом на двадцать километров нет ни одного жениха. Но ведь нашли себе женихов Аринины дочки! Не-ет, с Дедурихой ей говорить не о чем. Да с ней и не поговоришь: чуть что — побежала! То у нее не сделано, другое не сделано… А дочки рассядутся с книжками, шапки соломенные понадевают, и — ха-ха-ха-ха! Даже в лесу слышно, как они смеются. Городскими стали.
Две, которые младшие, попростей будут, из деревни никуда не выезжали, — губы не красят, хвостов на голове не носят… А старшим бы, точно, Арина подол заголила и показала, где город, а где деревня!
Первыми, как принято у Мезенцевых, пошли в баню мужики. Мыться, как только закрыли баню, хорошо тому, кто любит париться, а в остальном лучше, кто идет во вторую очередь: не так жарко, нет угара.
Баню закрывал Володя. Придраться не к чему: головешки залиты, крыльцо подметено, пол вымыт, блестит протертый шестик, новый веник лежит в горячей воде.
Петр Иванович попарился в третий раз.
— У-ах! — выдохнул он, соскальзывая с полка и отдавая Володе веник. Пригнувшись, он бежит по мокрому полу к выходу, очень похоже: Петр Иванович спасается от ос или пчел, жалящих его со всех сторон.
В маленькое оконце струится дневной свет. Горит лампа-коптилка, пламя колеблется, вот-вот погаснет, когда кто-нибудь парится или выходит из бани. Огонек коптилки потрескивает — долетают брызги. И оттого, что лампа горит днем, отодвигая ненастоящую темноту, не покидает ощущение таинственности, которая исходит из темных уголков бани, от ярко освещенных предметов, которые лежат рядом с лампой, из легких и странных шорохов на потолке и у крыльца.
— Кто-то прошел? — Петр Иванович перестал натираться мочалкой и прислушался.
— Птицы садятся! — сказал Володя.
— Молодец, — похвалил его Петр Иванович. — Надо прислушиваться.
— Зачем?
— Молодой человек должен быть наблюдательным. А как же!
— Я же не на границе.
— А где ты?
— В Белой пади.
— Граница везде, — сказал Петр Иванович, нисколько не сомневаясь в правильности своих слов. — Враг будет мыться с тобой из одного таза, и ты знать не будешь.
Последние слова показались Володе интересными, хотя и похожими на книжные, и он сказал:
— Ну вот сейчас, я что — враг?
— Ты — нет. А кое-кто может оказаться. По-твоему, кто ночью стоял на огороде, кто стучал в окно?
— Кому-то делать нечего.
— Делать нечего? Мы же с тобой говорили: что можно искать на огороде в три часа ночи? Огурцы мы перед тем выбрали… Не за капустой и не за картошкой он приходил, сейчас голода нет. Теперь давай предположим: в ту ночь, неделю назад, и позавчера ни один человек из нашей деревни ни в пьяном, ни в трезвом виде на чужом огороде не показывался. Кто же тогда стоял на огороде? Кто стучал ночью в окно, а потом бежал по картошке?
— Нарочно кто-нибудь…
— Нарочно? Для чего?
— Попугать захотелось.
— Кого? Я старый воробей, меня пугать нечего. Ты не смейся, — многозначительно произнес Петр Иванович, принимая у Володи таз с теплой водой. — Слушай, что я тебе говорю. Я завтра еду на учительскую конференцию, за хозяина ты остаешься. В амбаре я тебе ночевать запрещаю. Понятно? Что-нибудь заметишь, расскажешь, — я через три дня приеду.
Стемнело. После бани Мезенцевы во второй раз пили чай с брусничным вареньем, когда с бельем и со своим веником зашел к ним Дементий. Через минуту он взялся за ручку двери, отказавшись и от чая, и от разговора.
— Воды на троих хватит, — сказал Петр Иванович, отставляя стакан и поворачиваясь лицом к Дементию.
— Пар остался? Мне, главное погреться? Ноги на дню сколько раз намочишь! Около Третьего Индона пасем, коровы лезут в болото.
— И пару на троих хватит.
Дементий было пошел, но из коридора вернулся.
— Чуть не забыл? Петр Иванович, что это тебя за мужик спрашивал?
— Когда?
— Неделя будет, как я его видел. Что-то он мне не понравился. За мостом встретились под вечер. Гоним с Яшкой коров, подходит ко мне, заводит разговор.
«Где живет учитель Мезенцев?»
Я показал.
«Откуда будете?» — спрашиваю.
«С Исаковки».
«Я на Исаковке всех знаю».
Блеснул на меня глазами и говорит:
«Я там живу недавно».
«Эге, — думаю, — что-то тут неладно!» Не нравится ему, что я его пытаю. Я тут ему еще один вопрос: «А ты с Петром Ивановичем знаком или как?»
«Нет, — говорит, — не знаком. А что?»
«Так, — говорю, — ничего, интересуюсь». Посмотрел он на меня долго-долго и ничего, правда, не сказал.
Мезенцевы, все трое, внимательно слушали Дементия. Петр Иванович спросил:
— Точно не можешь сказать, когда ты его видел? Число?
— Чтобы не соврать… — подсчитывал Дементий. — Двадцать первого августа!
— Никого не было, — сказал Петр Иванович и постучал пальцами по столу, число совпадало.
7
Ярко пылают дрова в русской печи. Желто-красные языки пламени, изгибаясь над загнеткой, дотягиваются до трубы, и там, где языки пламени падают, отскакивают как живые, ярче видна густо-синяя плывущая лента дыма.
Александра Васильевна затопила печь лучшими дровами, взятыми из зимней поленницы. С веселым музыкальным шумом льется вода в чугуны, большую кастрюлю и чайник: ударяют об пол и стены ухваты: прозвенела сковорода… По избе пошел запах вареного мяса. Спрыгнула на пол молодая белая кошка с чистой, гладкой шерстью, с меланхолическими продолговатыми глазами, и очень похоже, будто глаза и ресницы обведены тушью. Кошка подбегает к ногам хозяйки не сразу: делает маленький круг, выгибая тонкую спину, смотрит Александре Васильевне в глаза, и ни звука, ни в коем случае она не станет просить и клянчить голосом. Белая кошка не ошибается: Александра Васильевна отрезает кусочек мяса и бросает в блюдце. Кошка садится перед блюдцем и ждет, когда остынет мясо. В блюдце она смотрит до того внимательно, как будто кусочек мяса сейчас превратится в живую мышь и исчезнет под полом.
Отъезд Петра Ивановича на конференцию всегда напоминает праздник. Из красного дубового ящика, пахнущего свежими яблоками, Петр Иванович достает костюм, в котором он ходит на уроки. Из кладовки приносит ботинки с калошами. Ботинки с калошами — любимая обувь Петра Ивановича, он никогда не перестает восхищаться, как поблескивает черная резина, как все еще остро пахнет каучуком!
Петр Иванович завтракает один. Александре Васильевне некогда — она складывает в потрепанный коричневый портфель Петра Ивановича еду на дорогу: отварного мяса и сала, с десяток вареных яиц, хлеба, огурцов, баночку свежего сливочного масла. Из швейной машинки достает пачечку красных бумажек, кладет на край стола.
Позавтракав, Петр Иванович пересчитывает деньги и половину протягивает Александре Васильевне. Она протестует:
— Мы же договорились: купи Володе костюмчик, портфель, ботинки.
— Есть у него и портфель, и костюмчик, и ботинки… У меня столько нет, сколько у него!
Вечером этот вопрос был обсужден, Петр Иванович был согласен, а сейчас он недоволен своим решением. Александра Васильевна как-то уж очень смешно подмигнула мужу, хитро сощурилась:
— Купи. Он, как все, новенькое наденет.
Петр Иванович сдался окончательно:
— Куплю, я же сказал. Думаешь, мне денег жалко? Не хочу в нем зазнайство воспитывать.
Он проверил, все ли уложено в портфель и белую полотняную сумку, завязанную тоненькой, крепко свитой веревочкой. Уложено было все.
— Ну что, надо идти к почтальону. А то уедет, придется тогда пять километров топать пешком.
Все так же спокойно и сосредоточенно Петр Иванович прошел в комнату сына. В учительском костюме и ботинках, чисто выбритый, помолодевший и какой-то добрый, остановился в дверях, готовый вот-вот улыбнуться. Володя не спал, просто так лежал в постели и, как показалось Петру Ивановичу, над чем-то думал. Он сел на кровати и хотел одеться, но Петр Иванович остановил его:
— Лежи-лежи, это ж мне ехать, а не тебе! А с завтрашнего дня знаешь, во сколько тебе подниматься?
— С шести часов.
— Правильно, вместе с матерью. Приеду с конференции, тогда выспишься. Ну, давай руку.
Почтальон, лет сорока мужчина, широкоплечий, с крупными чертами лица, вышел, прихрамывая, из ворот и первый издалека поздоровался с Петром Ивановичем, медленно и широко шагавшим к дому почтальона. Петр Иванович как будто не слышал приветствия и сказал свое короткое «здравствуй», когда подошел ближе. Не дожидаясь приглашения, он уложил в ходке портфель и сумку, сел с другой стороны ходка, спиной к почтальону. Ходок, грохоча на высохших комках грязи, покатил. Петр Иванович, тронув почтальона локтем, закуривая, сказал:
— Думал, опоздаю!
— Вы бы не опоздали, Петр Иванович! Я знал, что вам ехать надо!
— Откуда ж ты знал? — спросил Петр Иванович, довольный, что его ждали. — Это тебе Александра Васильевна сказала!
— Она!
— А что ж ты к дому не подъехал? Что ж ты старика заставил идти? — пошутил Петр Иванович.
— Так ведь подъехать к дому и стоять на глазах, это… все равно, что поторапливать! А я ради такого случая могу подождать. Думаю, управитесь, и поедем!
— Ну, спасибо, — поблагодарил Петр Иванович, пододвигая себе побольше соломы, так как сидеть было твердовато. — Что ж ты потник или старую телогрейку не подложишь, тебе каждый день ездить надо?
— Собираюсь, да все некогда! А вы, Петр Иванович, берите больше соломы. Берите! Мне не надо: я круглый, как мячик, сами видите!
— Что ты круглый, это я вижу, — добродушно рассмеялся Петр Иванович.
Почтальон громко несколько раз захохотал над собой. Петр Иванович тоже смеялся вместе с почтальоном, но только не громко, а так, за компанию.
Конек у почтальона резвый, без больших усилий взбежал на гору перед гаражом и фермой. Взяв подъем, Малыш продолжал весело бежать, кося по сторонам выпуклыми янтарными глазами. Длинная черная грива подпрыгивала в такт бегу, Малыш то высоко поднимал голову, то выгибал шею, успевал увидеть предметы, находившиеся по сторонам дороги, и которые он уже отлично знал. Слева от гаража и фермы проплыл конный двор, и Малыш задержал взгляд на нем подольше и даже приподнял уши, прислушиваясь. После длинных навозных куч начинался сосняк, и дорога километра полтора бежала у самых деревьев. Иногда Малышу казалось, что ось заденет концом о ствол сосны и больно дернет плечо, но дорога в самый нужный момент ускользала от дерева, и, как бы хорошо не правил почтальон, Малыш в таких местах предпочитал держаться самой крайней колеи и незаметно сбавлял бег. Это была новая дорога, а старая правее, по полю, во-о-он около того одинокого листвяка с двумя вершинами.
Когда кончился лес и исчез из виду листвяк, несколько минут ничего интересного не было, пока не началось огромное поле пшеницы и на самом краю поля завиднелся среди тонких высоких берез зерновой ток, состоящий из длинного-предлинного сарая и с двумя окнами избушки.
О зерновом токе у Малыша остались самые приятные воспоминания. Работы у него там никакой не было — стой себе на привязи и уплетай свежую отаву. Овса и пшеницы перед ним — целые горы, а работы только и было, что утром привезти людей на ток, а вечером увезти.
Были и другие приятные воспоминания, но сейчас Малыш, не забывая быстро бежать, прислушивался, двигая ушами, к новым ноткам в голосе почтальона, который о чем-то интересном говорил с очень высоким мужчиной с важным голосом. Этот мужчина Малышу понравился тем, что перед крутой горкой соскочил с ходка; и еще он понравился тем, что ни разу не понукал Малыша, а что-то сказал ему несколько раз подбадривающе и, может быть, смешное.
Лицо и фигура высокого мужчины знакомы Малышу, и он только не мог вспомнить, где и как они встречались, но это не так важно, главное, что сегодня почтальон более вежлив с Малышом — меньше покрикивает и не так сильно дергает удила. Хорошо сидят и разговаривают почтальон с высоким мужчиной, и хорошо бежать Малышу с гремящим ходком по знакомой дороге, где ему известны каждая извилина, каждый пенек и ямка!..
Почтальон совсем перестал дергать вожжами.
От острых ли запахов близкого жилья, от соломенной ли пыли, которой Малыш нанюхался за ночь на конном дворе, он с ожесточением фыркает, мотая головой, и убыстряет бег — дорога перед Муруем пошла под гору.
Петр Иванович садится глубже в ходок, крепче сжимает пальцы, до этого лишь слегка упиравшиеся в решетчатый верх ходка. Грохот и дрожь ходка не дают говорить, заглушают голоса, и Петр Иванович смолкает.
По бревенчатой стлани Малыш идет шагом. Стлань кончилась, и он берет подъем короткой рысью.
Почтальон натягивает вожжи перед домом с красным выцветшим флагом и с тополями под окнами. На углу дома висит огромный, во весь рост, портрет Мичурина. Великий ученый в длинном пальто и шляпе, с тростью в левой руке разглядывает новый сорт яблони: желто-красные, величиной с кулак яблоки усыпали ветви и сгибают их до самой земли. Преувеличение местного художника не огорчает Петра Ивановича: если еще и нет таких яблок, то скоро будут. Он просит почтальона взглянуть на Мичурина.
— Хороший портрет?
Почтальон смотрит на Мичурина ничего не выражающим взглядом. Каждый день он видит его, картина примелькалась, потускнела, и он не может воскресить первого впечатления, которое у него было в прошлом году, когда портрет, еще не тронутый дождями и снегом, впервые появился на углу колхозной конторы.
— Что, не нравится?
Петр Иванович не может представить, как это — Мичурин! — и вдруг не нравится.
— Хорошо нарисовано, — сдержанно произносит почтальон и чего-то недоговаривает: или не хочет сказать то, что он думает, или не хватает слов. Сосредоточенно взглянув еще раз на Мичурина в саду, наконец обиженно говорит: — Таких больших яблок не бывает. Фантазия.
Петр Иванович непременно бы поспорил с почтальоном, но сейчас нет времени, и они расходятся в разные стороны. Почтальон, привязав коня, зачем-то идет в сельсовет, а Петр Иванович — в контору. До автобуса сорок минут, казалось бы, уйма времени, но еще нужно увидеть участкового — младшего лейтенанта милиции Василия Емельяновича.
Василий Емельянович, в новенькой форме, без кителя и без фуражки, сидел у председателя колхоза. И тот и другой встретили Петра Ивановича радостными возгласами и первые — сначала председатель, а затем участковый — вышли из-за стола и поздоровались с Петром Ивановичем. Оставшись наедине с участковым, Петр Иванович рассказал, что две ночи кто-то ходит около его дома.
Василий Емельянович пообещал дежурить по ночам, пока Петр Иванович не вернется с конференции.
8
Коля и Володя поднялись до половины пологой горы, желтой от песка и глины, изрезанной после дождя частыми колеями.
Слева, из густого ельника, на таежный тракт выходила глубокая лесная дорога; ее последний изгиб перед трактом делился на несколько мелких тропинок и заканчивался длинной узкой канавой, заросшей сосняком и кустарником. При заходе в лес одна из тропинок огибала старую яму, в которой когда-то брали плитняк для каменок в банях. Яма с годами делалась мельче, но все еще была глубокой. На дне ямы даже в сильную жару вода не высыхала, и оттуда тянуло холодом и сыростью. Пологие края захватили кустарники, ближе к ржавой воде росла желтовато-красная реденькая трава.
В детстве ребята боялись глубокой и страшной ямы. Возвращаясь из леса с ягодами или грибами, они всегда около ямы прибавляли шагу… Теперь это были ушедшие навсегда страхи, и все же Володя и Коля незаметно следили друг за другом: каждый из них знал старую привычку подталкивать на краю ямы. Следя друг за другом, они не выдержали, рассмеялись и побежали от ямы, работая согнутыми локтями и оглядываясь, точь-в-точь как раньше, когда им было по пять, шесть, семь лет…
Дорога часто изгибалась, была засыпана сосновыми шишками. В лужах отражались трава, деревья и небо; по краям отпечатались следы тележных колес и резиновых сапог — кто-то до обеда побывал в лесу и вернулся в деревню. В глазах рябит от брусничника, прячущего под глянцевитыми панцирями листьев красные брусничины. Кусты голубики зовут к себе кой-где сохранившимися переспелыми холодно-синими ягодинами. Зайдешь — и ягод не наешься, и время потеряешь.
Справа, перед Шкуратовым покосом, стало светлеть небо за деревьями. Ребята свернули на едва приметную в густом ольшанике тропинку и скоро вышли на лесное болото, охраняемое лиственницами-великанами. Одна из лиственниц расколота грозой, издалека видна ее красная сердцевина. Тихо. Сумрачно. Прокричала желна. Молча перелетел на другую лиственницу, подальше от людей, ворон. До этого он внимательно прислушивался к лесным звукам и шорохам, доносившимся из глухой пади с мелким засохшим лесом, который был завален когда-то росшими здесь огромными деревьями. Только так кажется, что здесь тихо. Не мало драм разыгрывается на болоте и в его окрестностях: во многих местах лежат кучи перьев, большие и маленькие кости.
Эти двое не опасны для ворона, но… нельзя доверяться слишком, и ворон перелетел на лиственницу с более густой кроной. Засохшая толстая ветка была очень удобной: ворон, как только сел, сразу же укрепился на ней, пригнул голову и, невидимый, продолжал наблюдать за людьми.
Лесное болото сверкало маленькими чистыми озерками.
Ребята ходили по мягким, изумрудно-коричневым кочкам, насобирали в ведре на толстое дно красно-белой клюквы. Они бы еще собирали, но вдруг со стороны Шкуратова покоса в кустах затрещало, ребята увидели, как закачалась верхушка тонкой березки, и все стихло.
На болото несколько раз наведывался медведь. Правду говорили или кому-то ягод было жалко, но лучшее, о чем подумали и Володя и Коля, это дать стрекача на дорогу, добежать до Каменной ямки, а там никакой медведь не страшен — близко деревня. Показывать свою трусость никому из них не хотелось, и они, хорошо видные со всех сторон, стояли на болоте, ожидая, кто выйдет: человек или зверь? Они снова начали собирать клюкву, и в это время из кустов раздалось:
— Вы что здесь делаете?!
Опоясанный бичом, в самошитных ичигах на болото вышел пастух Яков Горшков. Ребята ждали, когда он подойдет к ним, и заранее побаивались: Яков — мужик строгий.
— Рано, однако, клюкву собирать, в сентябре надо, — сказал Яков, заглядывая в ведро.
— В сентябре от нее одни следы останутся! — ответил Коля.
— Это правда — одне следы, — согласился Яков. — Но ниче, я вам скажу, где много клюквы: на Третьем Индоне! А здесь пускай маленькие ребятишки с бабами собирают.
— Дядя Яша, коров потеряли?
— Потерял.
— Помочь вам?
— Если делать нечего, помогите. Только за мной не успеете, я быстро.
— Успеем!
Яков, мужик хоть и строгий, но веселый, даже в соседних деревнях известен своим замечательным качеством: его никогда не огорчала неудачная охота. На привале он готовил на вертеле подстреленную кем-нибудь из охотников ворону, дятла или сойку и под дружный хохот односельчан, похваливая, съедал жаркое. Об этом его умении поджарить и съесть самую погань, «лишь бы птица была», как любил говорить Яков, знали в деревне все до единого. Те, кто был с ним в близких отношениях, имели право шутить по этому поводу, и, что было не менее удивительно, Яков не только не обижался на шутника, а самым искренним образом смеялся вместе с ним. Закончив смеяться, он, например, вполне серьезно говорил:
— А ты хоть раз пробовал сорочье мясо? Под голодком будешь, от рябчика не отличишь! Я все это на практике знаю, а не с чужих слов!
Отбившихся от стада коров они нашли около Второго Индона. Коровы перешли сухое болото и паслись около узкой и глубокой речушки, сверкавшей у самого подножья Марьиных бугров, возвышающихся над болотом несколькими уступами. Вверху каждого уступа, прерываемая поваленными в несколько этажей деревьями, была тропинка, выходившая на главную тропинку, петляющую по краю леса вдоль болота. Такая же главная тропинка, только более проторенная, была и по другую сторону болота.
Втроем они легко перегнали коров через болото, и на Шкуратовом покосе, около дороги, сели отдохнуть.
— А правда, — спросил Коля, — что дед Аким из-за учебы хотел тебя застрелить?
— Меня-то? — Яков посмотрел на Колю и на Володю, как бы решая: имеют ли они право задавать ему такой вопрос? И, не без значительности, ответил: — Было дело. — После небольшого молчания Яков, оправдывая и себя и Акима сказал: — Вам-то что не учиться! Те годы с теперешними и сравнивать нельзя! Хотя нам-то, Горшковым, легче маленько было: отец старый был, в армию его не взяли.
Ребята уговорили Якова рассказать, так как знали эту историю смутно и не от самого Якова.
Все сыновья Акима Горшкова (дочерей у него не было) дальше четвертого класса учиться не хотели. Чего только в войну не делал старик Горшков: самому младшему, Яшке, купил велосипед, патефон. Попросил Яшка матросскую форму, — на тебе форму! В Черемхово на базаре достал. Бескозырка была самая настоящая, корабельная!
Надел Яшка матросскую форму, ходит по деревне матросом, а учиться не хочет. Тогда Горшков пошел на крайнюю меру. Очень уж ему хотелось, чтобы сын вырос грамотным. Сам Горшков, как он считал, всю жизнь в темноте прожил, даже читать путем не умел, так пусть хоть сын покажет, на что способна Горшкова родова.
Надо заметить, единственная книга, которую осилил Аким до конца, была повесть Гоголя «Тарас Бульба». И так как это была единственная книга, прочитанная до конца, то Аким Горшков и считал, что это самая лучшая книга. И что бы ему ни говорили, Аким, не колеблясь, отвечал:
— «Тараса Бульбу» знаешь? Нет? Прочитай, тогда говорить будешь! А сейчас тебе говорить со мной нечего!
Одним словом, старшие Яшкины братья сумели отговориться от учебы, а Яшке не повезло, да и время такое наступило — учиться все стали.
Дело было в сентябре. Несколько дней кряду дождик как раз сыпал, мелкий, с туманом, не поймешь — середина дня, утро или вечер. В общем, погода для Акима самая подходящая — ничего никому не видно, не слышно… Как потом говорил Аким, ненастье на него повлияло: маялся он, маялся от безделья, от дождя монотонного и надумал проучить стервеца Яшку как следует.
Пришлепал откуда-то Яшка мокрый, как лягушонок, раскисла на нем вся матросская форма. А надо было ходить ему в пятый класс.
— В школе был? — сурово спросил Аким, зная, что ни в какой школе Яшка не был.
— Какая школа, всю дорогу расквасило! — нудным голосом попытался оправдаться Яшка.
— Где был? — не отступался Аким.
— В зароде играли.
— Кто разрешил?
— Никто. Надо же где-то прятаться.
Яшка ничего не боялся и никогда не врал: глаза выпучит, рот откроет — и слова сыплются, как из пулемета. Уж на что Аким бывал скор на расправу, и то не удержится, разулыбается: сын-то, Яшка, за словом в карман не лезет! Это уж точно, старших братьев, туды их растуды, обскачет! Но оказывается, и самый младший дальше четвертого класса двигаться не хотел.
Аким снял со стены ружье, заложил в него патрон с картечью и говорит:
— Переоденься в сухое, и пойдем.
— Куда? — обрадовался Яшка. Он готов был идти в любой дождь в любую грязь куда угодно, только бы не учиться.
Аким рассердился:
— Чего обрадовался?
— Люблю ходить по дождику!
— По дождю любят ходить дураки.
— Ну и что, мне дураком хорошо.
— Этому тебя в школе учили?
— Нет.
— А чего болтаешь?
— Я не болтаю. Ну пошли, что ли. Чего стал? — сердился Яшка на мешкавшего отца.
Аким не замечал, как включался с Яшкой в словесное состязание, прибегая нередко к запрещенным приемам, — мог щелкнуть Яшку по затылку или рвануть за ухо. Этот прием отца Яшка знал в доскональности и, быстро отвечая, не менее быстро увертывался от щелчков и оплеух.
На этот раз словесный поединок никто не выиграл — ружье, которое Аким все время держал в руках, несколько отвлекало Яшку. Отец прикинул, как увеличатся его шансы на улице, и он бодро махнул прикладом ружья, указывая на дверь. Яшка, оттолкнув приклад, снисходительно глянул на отца и, не торопясь, вышел в сени. Отец, не опуская ружья, шагнул за ним следом.
— Подними ружье! — приказал Яшка. — Иль повесь на плечо, я не арестованный.
— Шагай-шагай.
— Подними ружье, кому сказано!
— Я тебе сейчас подниму. Кричишь, чтоб соседи услыхали? Где же твоя смелость?
— Куда идти? — пренебрежительно спросил Яшка.
— К зароду.
Яшка, не разбирая, сначала по самой глубокой луже, а потом по самой большой грязи направился к зароду.
Аким не выдержал:
— Дороги не видишь, лезешь то в грязь, то в воду?
— Хочу и лезу, — огрызнулся Яшка. Он развязал ворота, хмуро глянул на отца. — Вперед пойдешь, что ли?
— Драпануть хочешь?
Яшка, не удостоив отца ответом, пошел, слегка согнувшись, вперед. Но тут же он вспомнил, что красные идут на расстрел с гордо поднятой головой, и он пошел на расстрел в точности так же. Пройдя шагов двадцать и оглянувшись, точь-в-точь как оглядывались красные, он, не останавливаясь, предупредил отца:
— Будешь стрелять, скажешь, я не люблю, чтобы мне стреляли в спину.
— Ладно, — пообещал отец.
Яшка шел так, будто руки у него связаны за спиной. Ни то, как шел Яшка, ни то, как он держал руки, Акиму не понравилось, и он скомандовал:
— Поднять руки вверх!
Находясь в наивыгоднейшей позиции, Аким не ожидал от сына новой дерзости: Яшка, продолжая шагать к зароду, все так же, не оглядываясь, вытянул назад правую руку и показал отцу сложенную по всем правилам фигу. В другой бы раз Аким изловчился и треснул Яшку по пальцам, но сейчас надо было дойти до места без тычков.
— Стой! — скомандовал он Яшке.
— Не дошли еще, — ответил Яшка. Он нехотя остановился среди мокрого зеленого луга, медленно оглянулся и, сожалея, что все скоро кончится, сказал: — Около зарода интереснее.
Аким зашел вперед Яшки, отпнул подальше в сторону увесистый белый голыш и укоряюще произнес:
— За тобой если не смотреть, схватишь голыш и залепишь родному отцу в голову.
— А ты не лезь первый.
Не дожидаясь разрешения, он двинулся к зароду. Аким с ружьем наперевес поспешил за сыном, ругаясь, что тот пошел без команды. Яшка шел нарочно медленно и соображал, что лучше: быть до конца смелым или, пока не поздно, дать стрекача? И еще одно соображение удерживало его от позорного бегства: Яшка верил, что в последний момент, когда отец прицелится, запоет труба, налетят всадники, отец оглянется — и в эту секунду один из всадников на скаку выхватит у отца ружье…
Яшка подошел к зароду, выбрал травянистый бугор, встал повыше, вглядываясь, не покажутся ли с какой-нибудь стороны красные. Но ниоткуда не было слышно пения трубы, лошадиного топота, и он вздохнул. Отряд явно запаздывал.
— Руки вверх!
Щурясь, Яшка с ненавистью посмотрел на отца и хриплым, не своим голосом ответил:
— Красные не сдаются.
Аким опустил ружье.
— Это ты красный, полная тетрадь двоек?
— Стреляй-стреляй, — сказал Яшка, и в его голосе Аким почувствовал угрозу.
В это время старуха соседка, Кирпичениха, вышедшая по нужде на улицу, поднялась из крапивы и крикнула:
— Ты что делаешь?!
Аким чуть не выронил ружье. Он увидел старуху, перелезавшую через прясло, потерялся совсем и не знал, что делать. Старуха, воспользовавшись заминкой, подошла к Акиму и без особых усилий разоружила его.
— Старый ты треснутый горшок! — ругалась старуха, волоча за собой ружье. Другой рукой она удерживала Яшку, который не знал, как поступить: вырваться из цепких старухиных клешней и подойти к отцу или подчиниться старухе, которую такой смелой он еще ни разу не видел? Оглянувшись, Яшка замешкался, и старуха сильно дернула его в свою сторону так, что Яшка едва не растянулся на мокрой и скользкой траве.
Подведя Яшку к пряслу, старуха пихнула ногой ружье, оставив его на горшковом огороде, а Яшке скомандовала:
— Лезь через прясло! — и выпустила его руку. Яшка перелез и кинулся бежать и от отца, и от старухи.
Аким обошел вокруг зарод, подбил снизу клоки сена, растеребленного ребятишками, подобрал ружье, валявшееся под пряслом, и, провожаемый суровым старухиным взглядом, поплелся домой, ругая себя и старуху, которой приспичило выйти на улицу именно в это время.
Случай этот всеми троими — Акимом, Кирпиченихой и Яшкой — рассказывался по-разному. Как самый правдоподобный воспринимался старухин рассказ: Горшок, не зная, как заставить сына учиться, повел его на огород и хотел застрелить, а старуха оказалась рядом и спасла Яшку. Позднее в старухин рассказ Яшка внес некоторые изменения, и дальше эта история рассказывалась так, как требовал Яшка.
Он так и не пошел больше в школу. Вырос и безвыездно жил в своей Белой пади. Его дети, двое старших, закончили по восемь классов и уехали дальше учиться. Младшие, еще двое, звезд с неба не хватали, но и отца не подводили: учились себе потихоньку и учились, и Яков был спокоен за них так же, как за двух первых.
9
Жизнь в Белой пади без Петра Ивановича не была полной. И если находились в ней люди, которые с успехом могли что-то делать без Петра Ивановича, будто его не существовало на свете, то, по крайней мере, эти люди составляли меньшинство. За тридцать два года пребывания в Белой пади он настолько вошел в жизнь каждого дома, что даже короткое отсутствие Петра Ивановича чувствовалось.
Да и самого Петра Ивановича, — куда бы и насколько он не уезжал, очень скоро начинало тянуть домой.
На этот раз в особенности ему казалось, что даже за три дня в деревне может случиться что-нибудь, что без него никак нельзя будет, что ему непременно нужно быть дома, что все будет и произойдет без него не так, как должно произойти.
Конференция шла первый день. Было приятно, когда его узнавали учителя из других деревень, которых он, казалось, или не знал совсем, или забыл. Происходила сцена узнавания, припоминались подробности знакомства — и Петр Иванович снова и снова видел, что людям приятно, что они знакомы с ним, и острее чувствовал, что жизнь в главном шла у него верно. Конечно, если бы вернуть лет тридцать — сорок, то Петр Иванович кое-что улучшил, учел бы те моменты, где он промахнулся. Но и так все шло хорошо.
Огорчал его Володин поступок.
Первый раз он вспомнил о Володе, когда заведующий районо читал доклад о всеобуче. Петр Иванович ждал того места в докладе, где о нем должно упоминаться как об одном из опытнейших учителей района. Еще ни разу не было, чтобы имя Петра Ивановича не прозвучало из доклада, и, волнуясь и не показывая своего волнения, только слегка пересев, как будто ему неловко было сидеть, он и на этот раз услышал свое имя, и снова, как прежде, оглядывались в его сторону молодые и старые учителя, улыбаясь ему и молча поздравляя, — но впервые Петр Иванович не ощутил той радости, которая была раньше. Он провел ладонью по коротким синевато-серебряным волосам, обрамляющим широкую лысину с затылка, тяжело наклонился вперед, так, что стул не выдержал и скрипнул, а Петр Иванович продолжал сидеть в такой позе, будто что-то уронил и внимательно разыскивал на полу глазами. Не меняя позы, он исподлобья долго, не отрываясь, смотрел на заведующего, читавшего доклад страстно и непримиримо, и невольно сравнивал чтение доклада заведующим с обвинительной речью прокурора.
Петру Ивановичу казалось: хоть заведующий читает доклад и в зал взглядывает редко, но когда он взглядывает, то успевает увидеть лицо каждого и подумать о некоторых сидящих: а годятся ли они для работы, может быть, их надо заменить? И все сидели с хорошими праздничными лицами, и, глядя на эти лица, невозможно было определить — у кого из них какие-нибудь дела идут совсем плохо?
Петр Иванович глянул на себя со стороны, глазами заведующего, понял, что сидеть согнувшись, с кислым видом нельзя, — и он рывком сел прямо, и его серебряная голова с поблескивающей лысиной стала видна всему залу.
Второй раз он вспомнил о Володе, когда конференция кончилась. День был на редкость жаркий, не хотелось ни двигаться, ни о чем думать. Было желание сесть на первую попавшуюся в тени скамейку, расстегнуть воротник и сидеть, но он тут же победил в себе это желание — сделал движение локтями назад, как бы расправляя грудную клетку, побольше набрал в легкие воздуха, раздувая щеки, медленно выдохнул и прибавил шагу.
Во дворах на помойках гудела с тонкими перезвонами мухота, и от ее гудения, монотонного и липкого, казалось еще жарче и хотелось пить. Петр Иванович ступил с высокого тротуара на раскаленную землю, пересек Московский тракт, сделавшийся от частого подсыпания песка и гравия каменным, и вдоль заборов по пыльной траве с редкими кустами белены и крапивы двинулся было к себе на квартиру, чтобы в самую жару полежать в прохладных сенях на старой железной кровати с досками вместо пружин, а уж потом собираться домой.
Мимо Петра Ивановича, перескочив через забор, к киоску легкой и красивой походкой направлялся молодой человек в форме курсанта военно-морского училища. Петр Иванович, не скрывая восторга, посмотрел вслед курсанту. «Если он встанет в очередь, тогда и я подойду… Пить хочется!» Курсант встал в очередь. Петр Иванович подошел к киоску, занял очередь и сразу же отошел к углу киоска, облокотился о дощатый выступ и, отдыхая в таком положении, не отрывал глаз от курсанта и в особенности от его формы. Даже в тени стоять было жарко, и Петр Иванович снял кепку.
Никакого действия, казалось, жара не оказывала на двух человек — на молоденького блестящего курсанта, который стоял в очереди как будто для того, чтобы его хорошенько могли рассмотреть. Другим человеком, не обращавшим на жару никакого внимания, был старик татарин, живший неподалеку от киоска, рядом с фотографией.
Каждый раз, приезжая в райцентр, Петр Иванович видел его сидевшим на одной и той же скамейке около длинного, приплюснутого к земле дома, и всегда с одним и тем же выражением лица: а не случится ли сейчас что-нибудь интересное на улице! Старику ничего не делалось: голова его на толстой и крепкой шее время от времени запрокидывалась к небу, и было удивительно, как держалась на его стриженой голове разноцветная тюбетейка. Казалось, на нем была та же, что и все годы, темно-серая рубаха, застегнутая на все пуговицы, те же рабочие ботинки, та же тюбетейка… Красноватая щетина оставалась красноватой, глаза блестели так же зорко и весело, как будто он стоял не за квасом, а ради развлечения.
Напившись, курсант, к окончательному восторгу Петра Ивановича, достал из кармана сложенный вчетверо белоснежный платочек, вытер губы, положил платочек в тот же самый карман. Оглянувшись в обе стороны, он пересек тракт, по которому с шумом проносились машины, и зашагал по тротуару с той удивительной легкостью и значением, будто новый тротуар был сделан для того только, чтобы по нему, приезжая в отпуск, ходил розовощекий молоденький курсант. Петр Иванович смотрел ему вслед с видом человека, выпустившего нечаянно из рук жар-птицу.
Курсант и квас хорошо подействовали на Петра Ивановича: шагалось легче, голову держал он выше и вовсе не был похож на разморенного жарой человека, хотя только что, до встречи с курсантом, Петр Иванович едва передвигал ногами. Желание полежать в прохладных сенях, пока не спадет жара, исчезло.
Он вспомнил, что не купил Володе ни костюмчика, ни ботинок, ни портфеля, и еще более утвердился в мнении, что правильно сделал, что не купил.
«Пусть то износит… Сейчас идти на поводу, а что будет через два, три года?»
Окончательно оформлялась у Петра Ивановича и другая мысль, которая была у него, казалось, всегда: Володя непременно будет учиться в военном училище. В семье Мезенцевых это будет третий офицер. А всего в ближней и дальней родне Петра Ивановича одиннадцать военных. Вспомнив, сколько в его родне военных, Петр Иванович подумал:
«Если кто-то ходит вокруг дома с серьезным намерением, то все равно не тронет — побоится».
Держа туго набитый, почти круглый портфель под мышкой, Петр Иванович, длинно размахивая свободной левой рукой, вдохнул с огородов запах вянущих трав, приободрился еще более, и его неудержимо потянуло домой, в Белую падь, где все было лучше, — и трава, и вода, и хлеб, и воздух…
Пока он перекладывал на квартире из портфеля в сумку часть книг для себя и для Володи, кое-каких мелких покупок для хозяйства и гостинцев, из головы не выходило одно и то же: как там на Белой пади?
Пришел хозяин дома, Анисим. Когда-то работал он в районной милиции. Мог бы дослужиться до начальника милиции, исполнителен был и строг, но из-за болезни оставил службу. Жил на пенсию и подрабатывал в какой-то конторе переписыванием каких-то бумаг. Петр Иванович как-то спросил Анисима, что у него за работа, но тот тоскливо махнул рукой, и Петр Иванович больше не спрашивал.
Анисим был моложе Петра Ивановича лет на десять, а выглядел старше и был похож на сморщенный соленый огурец.
«Да-а, — подумал Петр Иванович, глядя на Анисима, — был красавец, а теперь одна кожура осталась…»
— Приезжай-ка ты в деревню, — прощаясь, говорил Петр Иванович. — Моя старуха тебя парным молоком отпоит. Воздух сосновый! Приезжай!
Анисим смотрел на Петра Ивановича с таким видом, будто не сегодня-завтра собирался на кладбище, и на приглашение старого приятеля едва-едва кисло улыбнулся.
— Лучше ты заезжай, когда будешь, — сказал Анисим. — Тебе по пути. — И он улыбнулся одними морщинами.
Петр Иванович шел «на угол», где останавливались машины, и никак нынешний Анисим в гражданской одежде не укладывался в его голове с Анисимом, который был раньше.
10
За три дня в Белой пади ничего существенного без Петра Ивановича не произошло, если не считать мелких событий: все три дня пил конюх Павел Аншуков; Сергей Лохов, старший сын Дементия, без согласования с бригадиром устроил себе выходной и целый день держал на приколе трактор ДТ-54. Первый факт, пьянство конюха, Петр Иванович выслушал от Александры Васильевны спокойно: Павел был неисправим, и единственное, что оставалось с ним делать, — отстранить от всякой ответственной работы. Второй факт огорчил Петра Ивановича самым серьезным образом. Сергей был одним из тех белопадцев, на кого Петр Иванович возлагал немалые надежды.
— Это он зря-я-я сделал, — нервно садясь на край постели, низким хрипловатым голосом сказал Петр Иванович. — Из него бы хороший руководитель получился.
— Ну, какой из него руководитель? Кем ты его поставишь?
— Бригадиром.
— Не будет из Сергея бригадира.
— Если не перестанет самовольничать, ты права, — не будет.
Александра Васильевна не хотела, чтобы муж расстраивал свои нервы, не успев приехать, и она, успокаивая его, сказала:
— Как хочет, так пусть и живет. Что он, маленький? У него уже четверо детей.
— Как хочет? Не-ет, так не пойдет.
— Ну, а как пойдет? — из-за здоровья же Петра Ивановича начинала сердиться Александра Васильевна. — Ты про весь лес, а про тебя ни один бес. Погоди, вот увидишь!
— А мне благодарности не надо. Я прежде всего коммунист.
— Это же все твои ученики — что Сергей, что Павел… Я ничего, люди говорят.
— А что говорят люди? — насторожился Петр Иванович.
— Пьяниц держите.
— Павла мы исключили.
— А Сергея?
— Ты Сергея с Павлом не равняй. Далеко не родня!
— Такой же. Напьется и поет на всю деревню: «Ой вы, кони, вы, кони, стальные…» Я б ему таких стальных коней показала и дня бы не держала в партии!
— Не спорю, есть у Сергея недостатки. Но если тебя послушать, то в первичной организации Белой пади из девяти человек останется трое, четверо.
— Зато люди не кивали бы головами.
— В партии такие же люди, — убеждал Петр Иванович жену, — их надо воспитывать. А как ты думала?
— Одного уже воспитали.
— Кого?
— Павла.
— Я же тебе сказал: это человек неисправимый. Ты же знаешь, я говорил с ним тысячу раз. Что это за чудо такое? — спрашивал Петр Иванович, начиная снова ходить по комнате. — Если водку, вино и самогонку, которую он выглушил, слить в цистерны, состав получится! Другой бы десять раз сгорел, а ему ничего не делается. Это ж надо быть такому пузырю!
— Детей жалко, — сказала Александра Васильевна, подойдя к окну.
— Что ты там увидела? — Петр Иванович вопросительно смотрел на жену, выражение лица которой с каждой секундой менялось.
— Иди-ка посмотри: Павел с Варкой ругаются. Это ж она похмелиться не дает!
Качая головой, она со вздохом отошла от окна и села около печи на стулике. Петр Иванович повернул голову к окну, в которое только что смотрела Александра Васильевна, и сказал:
— Третий день пьет?
Александра Васильевна кивнула.
Петр Иванович остановился около огромного фикуса, вытянул руку и стал загибать пальцы, начиная с мизинца:
— Кони не кормлены и не поены — беда! Детям — беда! Варке — беда!
— И сам же черный сделался, — посочувствовала Павлу Александра Васильевна.
— Пусть чернеет — не жалко!
Сказав эти слова, Петр Иванович сорвал пожелтевший фикусовый лист, который он заметил еще в самом начале разговора. С листом фикуса прошел, сел на стул и, срываясь на шепот, с какой-то безнадежностью сказал:
— Как жить с таким народом? Ну вот что делать с Павлом, какое ему нужно воспитание?
— Пропащая душа, — согласилась Александра Васильевна и зевнула, так как дальше говорить о недостатках в колхозе не хотела и пожалела, что сказала про Илью и Павла, потому что знала, что Петр Иванович легко не остановится.
— Пропащая душа, ты сказала? Правильно: пропащая! Илью выгоним — другого такого же Павла получим. Ты этого хочешь?
— А ну их! Что тебе Сергей, что тебе Павел?
— Из Сергея можно человека сделать.
— Делай, делай, только не шуми много.
— Я не шумлю.
— А что говорить по-пустому. Павел — Павел, Сергей — Сергей… Ни один из них не придет, не спросит: Петр Иванович, ну как здоровье?
— Здоровье? Последнее отнимут!
Он повертел в руках лист фикуса, как бы удивляясь, откуда он у него, хотел подняться и выбросить лист в ведро, на кухне, но, поднявшись и сделав один шаг, согнулся над кроватью и бросил лист на подоконник.
— К нам идет! — весело сообщила Александра Васильевна.
— Кто?
— Павел.
Минуты через две, самого Павла еще не видно, раздается его хриплый голос:
— С приездом, Петр Иванович!
И от порога с вытянутой рукой для приветствия, подошел к Петру Ивановичу, поднявшемуся со стула, пожал ему руку. Александра Васильевна хотела подать стул, но Павел замахал руками: не надо! Он сел на пороге, разделявшем кухню и большую комнату, на короткое время свесил голову, тяжело вздохнул и, ничего не говоря, уставился мутными глазами на Петра Ивановича.
Петр Иванович смотрел на Павла чуть-чуть с улыбкой и сострадающе.
— Тяжело, Павел Дмитриевич?
— Тяжело…
— Несчастный ты человек, Павел Дмитриевич!
— Да, Петр Иванович…
Павел медленно перевел взгляд на Александру Васильевну, собравшуюся оставить мужиков одних, и, несмотря на свои неимоверные страдания, хитро-хитро подмигнул ей. Перед обедом, до приезда Петра Ивановича, он уже приходил и просил у Александры Васильевны три рубля на похмелье, но Варка успела побывать у Мезенцевых раньше, и Павлу было отказано. Он не обиделся — знал, что это Варкина работа, и теперь надеялся получить три рубля у Петра Ивановича. Но как только Павел перестал смотреть на Александру Васильевну, она, уходя, неумело подмигнула Петру Ивановичу: не давай. Павел перехватил ее взгляд, и положение его теперь затруднительно: послушает Петр Иванович жену или не послушает.
Павел сидит на пороге, о деньгах не спрашивает, а все время смотрит в глаза Петру Ивановичу.
Не говоря ни слова, Петр Иванович идет к красному шкапику с голубыми створчатыми дверками, возвращается и энергичным жестом протягивает Павлу две хрустящие бумажки — шесть рублей.
Павел прячет деньги в карман не сразу, а некоторое время держит их перед собой, чтобы ощутить, прочувствовать, что они у него в руках. Только после этого он вытягивает на полу правую ногу в кирзовом сапоге, засовывает шесть рублей в карман новеньких, сильно измятых брюк. Щупает, на месте ли деньги, сгибает ногу, ставит коленом к колену, прицеливается в Петра Ивановича долгим взглядом, кажется: Павел сейчас заснет.
— Павел Дмитриевич! Когда пить бросишь?
— Сегодня, Петр Иванович. Три рубля пропью, а на три сахару возьму — ребятишкам.
— Попадет и мне, и тебе от Варки.
— Не-ет, она на вас не за это сердится.
— А за что?
— За дом.
— Это дом государственный.
— А был когда-то ее.
— Ее? Никогда не был.
— Как не был? Родилась-то она в этом доме! И жила, пока вы отца не раскулачили. Я маленький был, а помню.
— Так и скажи: это был дом ее отца.
— Ну, маленько не точно сказал.
— Надо точно говорить.
— Какая разница, — примирительно сказал Павел, медленно разгибая затекшую ногу.
— Разница больша-а-ая… Тебе известно, сколько коней было у твоего отца. Помнишь?
— Помню, а как же. Ни одного не было!
— А у Варкиного?
— Двенадцать.
— Это только коней!
— Знаю, как же! Я сколько раз замечал: Варка, когда мимо вашего дома идет, смотрит себе под ноги, будто сто рублей потеряла! Я сколько раз хохотал над ней!
— Зачем же хохотать? Лучше бы объяснил ей.
— Бесполезно.
— Почему?
— Баба есть баба, не поймет.
— Ты пробовал хоть раз объяснить?
— Объяснял.
— И что?
— Слушать не хочет.
— Плохо объяснял, — сделал заключение Петр Иванович.
Зашел Володя, вылил в бачок два ведра воды. Павел послушал, как Володя, позванивая ведрами, сбежал с крыльца, проскрипел воротами на огород.
— Он мне помогал мешки с пшеницей на плечо наваливать. Не поверите, вот таким был! — Павел показал от пола с полметра. Заметив, что Петр Иванович с интересом слушает, добавил: — Я, конечно, беру мешок порезче, а Володьке кажется, что это он так подбрасывает мешки! Вот такой был! — повторил Павел, снова показывая ладонью от пола. — Что говорить, ласковый парень.
Какую ласковость имеет в виду Павел? Что-то Петр Иванович не замечал за Володей такого качества. Он не стал ни о чем допытываться, сел на стуле, отвернувшись от Павла, задумался.
Павел, кряхтя как старик, встал с порога, посмотрел в окно и сел на прежнее место. Он несколько раз откашливался, царапая покорябанными ногтями стриженный наголо затылок, поправлял коротенькую, как у мальчишек, челку; прямые, черные волосы не слушались и ложились так же, как они лежали всегда, — чуть-чуть наискосок, направо.
Петр Иванович ни о чем больше не спрашивал Павла, не шутил и не смеялся, и Павел так объяснил молчание Петра Ивановича: сердится, что Павел опять загулял и забыл все на свете. Ничего нового тут для Павла не было. Сделать, как предлагал Петр Иванович, — бросить пить совсем или сократить хотя бы наполовину, — Павел не мог, но слушать Петра Ивановича, когда он говорил об этом, было приятно.
Звякнули дужки ведер, поставленных около ворот. Послышались бег, окрики, и Петр Иванович понял, что Володя гоняется за полугодовалым красным бычком, который не хотел пастись за мостом с другими телятами и мог часами мычать у крыльца, требуя капустных или свекольных листьев и мучного пойла. Бычка, наконец, удалось выгнать со двора, крики теперь слышались на улице, где Володя состязался с красным бычком в беге и хитрости.
Вошла Александра Васильевна, постояла на кухне, открыла шкафик, положила в горлач свежие куриные яйца, которые она достала из нового гнезда на стайке. Выдвинула из печи большой чугун с теплой водой, оставила его на загнетке, подошла к Павлу. — Чего сидишь?
— Не ругайте меня, тетя Шура.
— Как это не ругайте? Скажу Варке, пусть палку возьмет да палкой тебя! Какой у тебя праздник?
По улице, взглянув на дом Мезенцевых, прошла Варка. Походка бережная, голова с тоненькими завязанными косичками запрокинута, руки безвольно висят вдоль располневших бедер. Кажется: Варка идет так медленно, плавно и бережно потому, что спит, и боится себя разбудить. Под ногами у Варки путаются, ловят друг друга девочка лет четырех и крохотный, недавно научившийся ходить мальчик. Варка не замечает их.
Унылый Варкин вид придает Александре Васильевне смелости.
— Коням сегодня давал?
Павел крутнул головой.
— Поил?
Павел еще раз покрутил головой.
— Сейчас же чтоб напоил и накормил коней!
Поднимаясь с порога, Павел слабо засмеялся:
— А если я в колоду с водой завалюсь? Кто будет отвечать?
— С Володей пойдешь.
— А, с ним можно! Вас, тетя Шура, послушаюсь. А бригадира только что подальше послал. Надоел.
Павел с Володей ушли. Беспокойство Петра Ивановича усилилось. Ему начинало казаться, что окружающие знают Володю лучше, чем он, Петр Иванович, что они как будто состоят в заговоре с Володей и действуют против Петра Ивановича.
Стоя у окна и барабаня по нему пальцами, глядя на давным-давно знакомую картину, — широкое болото внизу, разрезанное посредине узкой извилистой речкой, два моста с перилами, дорогу и вдоль болота вогнутую стену леса, гудевшего и трещавшего в бурю, — Петр Иванович понял, что надо делать.
— Вот так фунт изюму! — сказал он вслух и перестал барабанить пальцами.
Внутреннее чутье подсказывало ему, что делать ничего не нужно, то есть все делать как можно точнее и спокойнее. Это на поверхностный взгляд и означало, что будто бы ничего делать не нужно. Володя должен видеть, что Петра Ивановича не задели слова насчет учебы, сказанные на днях Володей, что Петр Иванович забыл их, что ничего на самом деле не произошло. Наоборот, считал Петр Иванович, если начать говорить об э т о м, придать э т о м у значение, то все может оказаться хуже.
У Петра Ивановича заныло под ложечкой, когда он, только что успокоившись, подумал: а что, если это х у ж е окажется сильнее?..
В такую ситуацию, как с Володей, Петр Иванович попал впервые. Никогда еще не было, чтобы он боялся сказать своему ребенку то, что он считал нужным сказать. И вот получалось, что он должен поступать против своих правил, что не Володя, а Петр Иванович должен подстраиваться.
«Я ему хочу добра, и он же куражится!»
От этой мысли, оформившейся окончательно только, вот сейчас, когда Петр Иванович чистил картошку, его широкие кустистые брови поползли вверх, нож с большой деревянной ручкой перестал скользить по картофелине, и длинная зигзагообразная шкурка неподвижно повисла над ведром.
Петр Иванович, выпрямившись на стуле, с картофелиной в левой руке и с ножом в правой сидел, соображая, что же все-таки сделать: действовать, как начал, — притворяться, что ничего не замечаешь, нервничать, ждать, что получится… или самому ускорить события?
Надежда на то, что само собой все получится лучше, заставила его вспомнить одну любопытную мысль, которая до последнего времени работала безотказно. Мысль Петра Ивановича, изобретенная им, когда он стал учителем, заключалась в следующем: он разделил своих детей — пятерых сыновей и двух дочек — на похожих на себя сильно и похожих чуть-чуть. Физические признаки — нос, глаза, цвет, голос, походка — в счет не брались. Петр Иванович признавал больше всех похожим на себя того из детей, кто лучше учился. Хорошо учишься — похож! А то, что нос или глаза одинаковые, лоб высокий, это само по себе еще ни о чем не говорит.
К шестерым эта теорийка — «похож и не похож» — подходила как нельзя лучше. Ничего искусственного в ней не было, ничего никому не навязывалось: не хочешь быть похож, не надо, никто сильно просить не будет, но ты все равно будешь чувствовать себя как будто в тени. Купят тебе такие же валенки, такие же ботинки, мать сошьет такую же рубашку, как и остальным, кто лучше учится. Наденешь ты все это, а — не то! И валенки, и ботинки, и рубашка на том, кто лучше учится, покажутся тебе лучше твоих. Отец и мать скажут тебе что-нибудь так же, как и тем, кто похож, а тебе будет казаться, что им лучше сказали, лучше на них посмотрели…
Даже когда ты точно будешь видеть: вот в этом, этом и этом все одинаково, похож ты или не похож, но сразу же или немного погодя вдруг у тебя ни с того ни с сего возьмет и испортится настроение, и, скорее всего, окажется, если хорошенько посмотришь, что все это оттого, что — не похож. А потом и сам очень скоро разглядишь: тот, кто похож, реже сердится, все у него получается; а у тебя, смотришь, явный пустяк — и не вышло! Вот тут и решай, что лучше, — «похож» или «не похож»?
Конечно, первое лучше, даже несравнимо лучше! А потом и человек уж так устроен, что долго в тени ему сидеть не хочется, — непременно захочется на солнце, чтобы о нем, и чем скорее, тем лучше, сказали: «Похож!»
И вот эта теорийка играла свою положительную роль, пока все наконец выучились, разъехались кто куда и дома остался с родителями один Володя. Его не с кем стало сравнивать, — хороший пример на расстоянии, если это даже братья и сестры, как ни говори, а все ж таки не то! Эта или еще какая-то шестеренка сломалась, а только на Володю пример прилежной учебы старших братьев и сестер должного действия не оказывал.
Сколько раз Петр Иванович останавливался с Володей перед каждым из портретов братьев и сестер! Володя всматривался в лица и, казалось, совсем не воспринимал того, что говорил отец. С тех пор как он пошел в третий класс, братья и сестры домой приезжали редко, даже летом все вместе давно не собирались, и Володя стал отвыкать от них, все время путал, где живут теперь Ваня и Ольга.
Все шестеро то чаще, то реже писали домой, спрашивали, как учится Володя. Просили его учиться лучше, так как «в наше время без грамоты не проживешь». Каждое письмо Петр Иванович, надев очки, зачитывал вслух, некоторые места повторял по два раза и никогда не выбрасывал писем: сначала они хранились в столе, а затем целую пачку он уносил в амбар и прятал в красном дубовом ящике. Лежали там и тетради его детей по чистописанию. Иногда Петр Иванович доставал их и любил рассматривать.
Можно сказать, известность учителя Мезенцева началась с тетрадей его учеников. На районных и областных выставках учителя подолгу рассматривали тетради учеников с Белой пади, как завороженные перелистывали страницы, не в силах понять, как удавалось учителю привить такую любовь не просто к чистописанию, а именно к красивому почерку. Вроде бы не нарушались образцы письма, но что-то оригинальное и неуловимое присутствовало в почерке: страницы, строки, буквы, заглавные и прописные, словно были выплавлены и отлиты из голубоватого серебра; содержание написанного возникало как бы с помощью формы и блеска букв.
Ученика видишь во все времена года, — на тонком прозрачном льду, в котором хорошо видны вмерзшие болотные травинки и листья; в зимнем сверкающем лесу, где среди берез, густого осинника и сосен-великанов появилась широкая заячья тропа, ее только что пересек лыжный след охотника; в прошлом году этой тропы здесь не было… Первый весенний гром; первые душистые копны сена… и — лесное эхо работающего на краю поля комбайна. Озерко на болоте, обрамленное пылающими шарами кустарников и ярко-желтыми листьями тонкого березняка, стало виднее, в нем уже никто не купается… Звонче разносится по лесу за деревней лай собак…
Каждый год приезжали в Белую падь учителя из окрестных сел, инспектора из района и области. Сидели на уроках, смотрели, как преспокойно справляется Петр Иванович с двумя классами, не замечая ни учителей, ни инспекторов, изумлялись разросшимся кленам с широкими резными листьями, с крупными желто-красными цветами и гигантскими, под потолок, фикусами, посаженными в пирамидообразные голубые ящики. С какой робостью и восторгом заглядывали на перемене ученики в кабинет учителя, дверь которого, с длинной стеклянной ручкой, была слегка приоткрыта… Школьный двор, просторный, с тенями от берез и кустов черемухи, с высокими поленницами дров, приготовленными к зиме, оглашается голосами ребят, бегающих по зеленой траве…
11
Две ночи Володя и младший лейтенант милиции Василий Емельянович дежурили около дома, и никого не было. И все равно спокойствие в доме кончилось. Пока Петр Иванович не приехал с конференции, Александра Васильевна даже днем боялась ходить к колодцу.
С утра Володя проверял амбар, приамбарок, где был погреб, стайку и напоследок осматривал баню. Александра Васильевна обязательно сопровождала его.
Уходя даже на короткое время, она всякий раз теперь замыкала дом. Дальше своей усадьбы никуда не выходила.
Когда печь была истоплена и можно было на часок-другой прилечь, она продолжала ходить по ограде с озабоченным видом, как будто что-нибудь делала, или выносила стул на террасу, садилась и, отдыхая, поглядывала на соседний, Нюрин, огород. За Нюриным огородом, через дорогу в проулке, еще один огород — с разноцветными ульями, дом с такими же разноцветными ставнями, — там живут Петрачок с Петрачихой. Дальше, через падинку, гора, лес, песочные ямы. В сосняке, только поднимешься на гору, новый телятник. На его постройку ушло почти все здание бывшей колхозной электростанции. Свежеобтесанные бревна и драньевая крыша яркими пятнами желтеют из-за деревьев. На Песочной горе тихо, пусто — молодняк на отгонных пастбищах.
Нюра живет одна. В молодости выходила замуж, родила мальчика и оглохла. Мальчик, не прожив года, умер. Через год или два муж бросил Нюру.
Она ходила доить колхозных коров в другой конец деревни, и Александра Васильевна видела ее то рано утром, то в обед, то вечером, идущей на ферму или с фермы. Хозяйство у нее оставалось такое же, как при отце и матери. Нюра накапывала полное подполье картошки, солила бочку огурцов и бочку капусты, держала корову, свиней, кур. Как и раньше, росли на больших грядах горох, морковь, свекла, бобы… Столько же росло на огороде подсолнухов: ими были усеяны межи, вся картошка, и это не считая отдельной гряды подсолнухов!
По проулку, в сторону Саянских гор, шло и ехало много народу. Нюры почти весь день не было, и каждый, кому не лень, мог перелезть через старый покосившийся заплотник. Всего у Нюры насажено было много, и она как будто не замечала поредевших стручков гороха, исчезнувших огурцов, грубо открученных голов подсолнуха… Ей некогда было за всем смотреть, да она ничего и не жалела: когда начинались праздники, Нюра созывала всю родню и соседей, и в ее доме в это время было так же шумно и весело, как и в других домах.
За зиму гости опустошали Нюрины запасы. Весной опять она садила много картошки, делала гряды, поливала их, откармливала свиней, и так же, как у всех, в конце лета по ограде ходила квохтушка с желтыми цыплятами, и Нюра, счастливая, кормила их творогом и размоченным хлебом…
По правую руку от Мезенцевых жила Варка. Первое, что бросается в глаза на Варкином огороде, колодец: сруб хоть и старый, выщербленный, но высокий, чтобы никто не упал в него. В этом краю у Варки и Павла самый глубокий колодец, на дно страшно заглядывать. Зато близко: выйдешь в огород, — и колодец. Длинный журавец на могучем столбе виден из любого конца деревни, с любой дороги, когда подъезжаешь или подходишь к Белой пади. Считается: в Варкином колодце самая холодная и самая чистая вода.
Мост и дорога тоже были под наблюдением Александры Васильевны. Если кто-то шел из леса, она издалека пыталась узнать, кто идет — свой или чужой?
Кто-нибудь сворачивал с моста в поскотину, шел по тропинке мимо огородов. Все это были свои люди — Александра Васильевна узнавала каждого еще на мосту. Человек делал от моста шагов тридцать, перелезал плотную зигзагообразную изгородь, соскакивал вниз и на некоторое время исчезал из виду — шел по глубокой падинке, захваченной от реки камышом и осокой, и неожиданно выныривал напротив Варкиного огорода.
Приехал Петр Иванович — и как будто гора свалилась с плеч Александры Васильевны: пропали страхи, что-то темное и неизвестное отодвинулось от дома — пряталось где-нибудь далеко от Белой пади, а может, исчезало совсем, — ведь не было же никого три дня.
Перед тем как скрыться за лесом и предгорьями Саян, из-за туч выглянуло тяжелое солнце и высветило кухню дрожащими ярко-красными лучами. Мезенцевы по одному подходили к окну взглянуть на закат.
Вечером Петр Иванович рассказывал интересные случаи из своей жизни.
Дементий Лохов, сдав коня сторожу, задержался у старшего сына Сергея и домой шел в потемках. Еще издали он увидел ярко освещенные окна в учительском доме, услышал громкие голоса, смех и догадался, что приехал Петр Иванович.
Пройдя магазин, Дементий свернул на сторону Мезенцевых и теперь шел так близко к дому учителя, что мог коснуться рукой белевшего в темноте штакетника. Свет из окон, глядевших на дорогу, не пробивал густо разросшегося сада, задерживался в его глубине, и сад, освещенный изнутри, казался еще более огромным и таинственным.
Медленно подвигаясь вдоль штакетника, Дементий задел свисавшую над головой черемуховую ветку, обломанную на конце и острую; зацепившись за козырек, ветка, изогнувшись, потянулась за Дементием, сорвалась, резко ударила листьями по соседней ветке. Какая-то птица, собравшаяся заночевать в палисаднике, со страху затрепетала во сне крыльями, затаилась, а затем с шумом вылетела из палисадника.
Смех в доме прекратился, и Дементий услышал густой, легко проникающий на улицу голос Петра Ивановича, как будто говорившего в классе или на собрании.
Ноги сами собой обогнули палисадник и несли Дементия к высоко темневшим воротам с двускатной крышей. Не дойдя до калитки, Дементий взял левее, от угла палисадника до угла учительского амбара прошел по длинной вытянутой полуокружности. В другой бы раз он непременно зашел к учителю, но сегодня — разговор с Колей.
К этому разговору Дементий готовился весь день, пока был в лесу. Кое-какие советы дал Сергей. Пока Сергей говорил, а Дементий слушал, советы были толковые. А вот прошел Дементий по улице — и как будто Сергеевы слова растворились в вечерней темноте, в теплом августовском воздухе, и Дементию хоть садись где-нибудь на скамейке и опять думай.
Он не заметил, как прошел мимо длинной стены сарая, — как будто сделал один большой шаг, — и оказался рядом с Нюриной елкой, нижние ветви которой прикрывали высокий бревенчатый забор. Когда-то собирался здесь табор парней и девчат… Сейчас посидит около ели Арина с Нюрой, присоединится к ним Александра Васильевна, и на этом, кажется, все. Иногда сделают одолжение, придут на лавочку Дедурихины дочки. Бывает, даже запоют что-нибудь, но тут же оборвут песню.
Тихо под елью…
Ступая между высоких изогнутых корней, выходивших на самую дорогу, Дементий сел на лавочку и слился с темнотой, которая особенно была густа здесь, под елью.
Глянул через дорогу на окна своего дома, в одном из них увидел Колю, что-то делавшего за столом. Потом Арина задернула штору, и ничего не стало видно, но Дементию как раз и нужно было увидеть только то, что Коля был дома.
Он посмотрел вдоль деревни, в ту сторону, откуда он только что пришел, и его взгляд невольно задержался на учительском доме: кто-то не закрыл калитку, и окно из ограды желтой длинной полоской смотрело на улицу. И оттого, что калитка была не закрыта и в нее ярко светилось окно, дом Мезенцевых казался еще более праздничным. Ни у кого, считал Дементий, в Белой пади так ярко не горели окна. Казалось бы, ну что тут невозможного: купи две большие лампочки, включи разом — пусть горят! — будет так же светло, празднично… Так же, да — не так! Будет только светло, а остального ничего не будет, и получится, что зря будут гореть большие лампочки.
Опять — и это в который раз! — Дементий не был уверен, что сможет поговорить с Колей так, как нужно. Он знал, что сказанное, даже хорошо продуманное, все равно слабее после того, как скажешь, и сильно, пока не говоришь, а только думаешь об этом.
Кто-то шел по дороге. Дементий пересел на край лавочки, теперь он защищен от постороннего глаза не только темнотой, но и широким стволом ели. По походке, по тому, что в этом краю за Нюрой, через проулок к реке, оставался еще один дом, последний, в котором был мужчина, Дементий узнал в медленно шагавшем человеке Петрачка, своего соседа через дорогу. Несмотря на пожилой возраст, Петрачок был всегда румян, как девушка, доволен собой, сдержанно-весел, и, глядя на него, можно было подумать, что в Белой пади он самый счастливый человек. Видимо, и сам Петрачок так считал, потому что ходил по деревне с большой важностью, никогда и никуда не торопился, хотя и чину-то у него было — ветеринарный техник в бригаде. За много лет у Дементия сложилось впечатление, что главное в работе Петрачка, — бывать в каждом доме на жаренине. Вот и сейчас, конечно, ветеринарный специалист идет из гостей: сыт, пьян и нос в табаке. «Таким бы специалистом и я был», — подумал Дементий, поворачиваясь все более и более вправо по мере того, как Петрачок подходил к своему дому.
В последнее время поговаривали, что образования у Петрачка мало и что его скоро снимут. Такое обстоятельство Петрачка как будто не огорчало: или он привык к своему положению и не верил, что его можно сиять с работы, или, наоборот, считал, что его давно пора снимать, и поэтому держался и вел себя так же, как раньше. Петрачок, поговорив с собакой, встретившей его у дома, проскрипел воротами, и Дементий, как будто это было сигналом, поднялся с лавочки.
Заслышав шаги и покашливание Дементия в сенях, Арина стала налаживать на стол.
Дементий сказал, что ужинать не будет, только чаю попьет — что-то никак не может напиться, — и прошел сначала к столу, где Коля, оглянувшись на отца, снова занялся каким-то своим делом — что-то искал в столе.
Арина два раза допытывалась, точно ли Дементий не будет ужинать, сказала, что чай на плите, и пошла в гости к Мезенцевым, захватив сито, которое она брала четыре дня назад, как раз перед отъездом Петра Ивановича на конференцию.
— Куда это ты? — спросил Дементий, когда Коля начал старательно причесываться у зеркала.
— Пройдусь по деревне. Может, где увижу что-нибудь или услышу.
Садясь около стола на лавку, Дементий так тяжело вздохнул, что Коля, усовестившись, сразу же отошел от зеркала, спрятал в карман пиджака расческу и спросил:
— Уморился?
— Нет.
— А что вздыхаешь?
— Мучает меня один вопрос тридцать два года! И знаешь, кто на него может ответить и точку поставить?
— В школу я не пойду, — сказал Коля, чтобы опередить отца и не попасть на какой-нибудь ловко заброшенный крючок. — Хватит восьми классов. Мы договорились с Володей учиться на шоферов и до армии работать в колхозе.
Школу Дементий приберегал к концу разговора, когда Коля должен был понять «вопрос жизни», который не давал покоя Дементию и который мог разрешить один Коля, и больше никто. Два раза Дементий начинал со школы — и все без толку. И в третий раз приходилось начинать со школы, то есть вынуждал Коля. Снова упрется, как в первый раз и во второй, а потом и «вопрос жизни» не поможет… Будет отвечать, как отвечал раньше, Дементий начнет сердиться, не удержится, схватит что-нибудь, вот тебе и культурный разговор будет! Не-ет, не зря все эти дни размышлял Дементий и кое-что придумал!
То, что придумал Дементий, вроде как и придумывать не нужно было, — оно всегда жило в нем, только не было видно, пряталось где-то глубоко и лежало там, как на дне глубокого колодца, дожидаясь своего часа. Можно все сделать, только не надо бояться этого чувства, уговаривал себя Дементий, им только нужно воспользоваться, а не заглушать в себе, как это он чаще всего делал.
Коля не узнавал отца: если бы отец рассердился, закричал, дернул бы за вихор или крутанул за ухо, было бы понятно, и на этом бы все кончилось… Ну, пусть бы погонял еще немного… А то он как будто радовался чему-то…
Дементий наконец поверил, что справится, с чего бы не начался разговор, — со школы или с «вопроса жизни», потому что и то и другое было связано, одно вытекало из другого. Любой ценой Коля пойдет в школу, и возлагалось на него закончить не восемь, а десять классов, и учиться потом не на шофера, не в техникуме, а в институте.
Дементию нельзя было останавливаться, и он говорил, говорил и говорил, стараясь исчерпать «вопрос жизни».
Потом он спросил у Коли:
— Нравится тебе, когда дети Петра Ивановича приезжают домой из города?
— Нравится.
— А мы ниоткуда не приезжаем…
12
В первое утро после приезда с конференции Петр Иванович проснулся на целый час раньше. Наверное, проснулся он от того, что скорее хотелось начать ту жизнь, которую он вел всегда, в которой все было известно, и какие-нибудь новости или неожиданности, как правило, мелкие, незначительные, не могли изменить привычного, размеренного хода, с которого обычно начинался каждый день.
Неприятности никогда не выводили Петра Ивановича из равновесия, и если портили настроение, то ненадолго — Петр Иванович был не из тех, кто мог тратить по пустякам свою жизнь.
Из-за этой черты характера — не придавать значения пустякам, никогда не выходить из равновесия — многим, а может быть, всем, казалось, что Петр Иванович удачлив, все у него идет гладко, как по расписанию. И, может быть, кому-то не нравилась эта его удачливость…
По утрам становилось прохладно. Петр Иванович надел телогрейку и шапку, из кухни, одетым, прошел в большую комнату, взял с подоконника ключ (Мезенцевы теперь не забывали замыкать на ночь амбар), и его шаги раздались в коридоре и стихли, как только он ступил с крыльца на землю.
Он услышал громко распевавших в ограде кур, и ему стало весело, что куры своим пением напоминали о себе. Петр Иванович, несколько раз глубоко вдохнув прохладный воздух, остро пахнущий рекой, огородами и прибитой росой пылью, прошел к амбару, сыпанул зерна курам.
Около штабеля с драньем, лежавшим близко к приамбарку, Петр Иванович оперся руками о влажноватую верхнюю жердину изгороди, посмотрел на Саяны, — гор не видно. Лес за рекой чернел на буграх в просветах туманных облаков, поднимавшихся к невидимому солнцу.
Болото, молчаливое днем, сейчас издавало множество звуков, которые, соприкасаясь между собой, рождали новые звуки, и нельзя было понять, кому они принадлежат. Напротив бани в кочках вскрикивал кулик, будто его кто-то крепко держал и он не мог вырваться. Низко летали ястребы, молниеносно пикировали. Промахнувшись, нехотя взмывали вверх. Квохтанье в зарослях мгновенно прекращалось. Не желая прощаться с добычей, ястреб начинал медленно кружить над одним и тем же местом.
На Пастуховой горе к восходу солнца героические женщины (так Петр Иванович называл доярок) справились с утренней дойкой и, громко перекликаясь, расходились по домам, чтобы успеть до пастуха подоить своих коров. Из кузницы раздавались удары большого и маленького молотков. Петр Иванович, послушав, как безостановочно разговаривают молотки, не меньше восхитился и работой кузнецов, которые, казалось, так и не ложились спать. Присмотрелся к густой, темно-зеленой траве: подросла ли, будет ли что косить во второй раз, — и увидел напротив дранья свежие следы! Они чернели, как будто дымились на росистой траве… Никто никогда не ходил по огороду Мезенцевых к мосту или за реку! Проще было пройти по проулку, который начинался сразу за Нюриным домом.
— Кому-то не спится, — вслух сказал Петр Иванович, пройдя вдоль изгороди ближе к следам. — Кому-то что-то надо, — все так же медленно проговорил он и снова наклонился к забору шагах в четырех от того места, где он только что стоял. Казалось, Петр Иванович еще немного посмотрит следы и займется каким-нибудь своим делом. В конце концов, что такое следы: может, в самом деле кому-то понадобилось пройти к мосту или в лес? Конечно, неуважение ни с того ни с сего пройти по нескошенной траве в чужом огороде… Но ведь не ходил раньше никто! Другое дело, днем: зашел, поговорили, надо идти к мосту или за реку, — вот ворота, вот дорожка, — иди, не жалко. А чтобы ночью или чуть свет, без разрешения… Тут какая-то загадка!..
Петр Иванович хотел отвлечься на что-нибудь другое, но следы притягивали взгляд, заставляли думать: кто прошел, с какой целью?
Следы вели сначала от зарода к штабелю. Оставлены ночью: они не так заметны — трава кой-где успела распрямиться. Вторые следы вели от штабеля к зароду. Кто-то вел наблюдение за домом и ушел утром.
Травы между штабелем и пряслом не было, и Петр Иванович без труда разглядел, что за штабелем натоптано. Ходить сюда даже по малой нужде запрещалось, и это требование Петра Ивановича выполнялось Володей неукоснительно, а больше оставлять следы было некому.
Да, кто-то сидел за штабелем! Драница задвинута на место, кора содрана на жердинах…
Петр Иванович перелез через прясло и, теперь уж не жалея травы, медленно прошел около следов до зарода. От зарода следы вели к бане.
Чтобы не мять траву лишний раз, Петр Иванович поднялся до ворот по тропинке, а затем по меже вдоль прясла вернулся к штабелю. Он бы и по меже не пошел, чтобы не мочить сапоги, но не хотелось скрипеть воротами, чтобы не разбудить Александру Васильевну, — в ее распоряжении было еще полчаса.
Исследуя межу, Петр Иванович оглянулся на дом и увидел, как Александра Васильевна, уже одетая, а затем Володя, взлохмаченный, в майке, показались в окне.
Александра Васильевна подходила к штабелю, когда на террасе появился Володя. Петр Иванович, оставаясь за пряслом, показал на следы в огороде.
— Что это? — сказала Александра Васильевна.
— Вот и я думаю, что? По-моему, продолжение все той же истории. Надо принимать меры.
— Какие меры? — спросила Александра Васильевна, так как сомневалась, что можно принять какие-то меры по одним только следам.
Не отвечая Александре Васильевне, Петр Иванович сделал два-три предположения о том, сколько прошло времени, как был здесь человек.
— Может, сходить позвать кого? — не очень уверенно проговорила Александра Васильевна.
— Не надо никого звать, — сказал Петр Иванович. — Никому ни о чем ни слова, я сам все сделаю.
Володя продолжал смотреть через прясло на следы, и Петр Иванович обратился к нему отдельно:
— Ты слышал?
— Слышал, — ответил Володя.
— Никакой паники, — сказал Петр Иванович, — будем продолжать жить, как будто ничего не случилось. Похуже кое-что было, а с такой чепухой справлюсь! Правда, старуха?
Александра Васильевна кивнула, приободрилась, как будто встала в шеренгу с Петром Ивановичем, и ждала дальнейших приказаний.
Петр Иванович распорядился: Александре Васильевне заниматься хозяйством, Володе остаться на месте, около штабеля, и вести наблюдение. Самому ничего не предпринимать, а все, что заметит, сообщать Петру Ивановичу, а Петр Иванович везде пройдет и все посмотрит.
— И я пойду, — сказал Володя.
— А кто будет старуху караулить? Ты не смотри, что я шучу, дело может оказаться вполне серьезное.
Петр Иванович, ни разу не оглянувшись, скрылся за баней, скоро вышел с другой стороны бани, перегнулся через низкие тынины, посмотрел вправо-влево и вышел в поскотину.
Александра Васильевна сложила в плиту дрова, достала из-за печи осколок полена, чтобы нащипать лучины. Тут же передумала, положила на плиту нож и осколок, взяла подойник и пошла к корове. Издалека взглядом спросила у Володи, где отец?
— К бане пошел!
Александра Васильевна подоила корову, когда Петр Иванович вернулся к штабелю.
— Сыскную бы собаку, и сейчас бы привела по следам! — сказал Володя.
— Где ж ты ее возьмешь?
— В район позвонить. Через два часа приедут.
— Через два часа тут делать будет нечего.
— Почему?
— Прогонят стадо коров, и от следов ничего не останется. Держать до приезда милиции триста с лишним коров мы не имеем права. И что за следы, неизвестно. Мало ли кто прошел! Как докажешь, что наш дом в опасности? Был кто-то четыре раза? Ну и что! Ничего не тронуто, даже не сорвано ни одного огурца, ни одного подсолнуха… Чего, скажут, испугались?
— Но ведь ходит же кто-то?
— Ходит.
— Ну и как быть?
— А как хочешь! Сами будем выпутываться… Пока ничего страшного. На всякий случай нужна осторожность.
— Можно мы с Колей сегодня в засаде посидим?
— Не разрешу — вам завтра в школу.
— А завтра?
— Посмотрим, — уклончиво ответил Петр Иванович. — Может, никто больше не появится.
— А если придет?
— Пусть приходит. Попадется мне в руки, не вырвется.
Володя взглянул на высоченную фигуру отца, на его длинные, с мясистыми ладонями руки, на сапожищи сорок пятого размера и поверил: если кто-то попадется отцу, то действительно не вырвется.
— В погреб посадим, когда поймаем, — сказал Володя. — Воды за воротник нальем.
— В погреб, воды за воротник? Я тебя этому учил?
— И еще нос расквасить…
— Не имеем права.
— У него все права, а у нас никаких?
— Это у нас все права, а у того, кто ходит, нет никаких прав: попадется — там его права и кончатся! А пока некого наказывать и не за что.
— Ходит же.
— Мы не знаем, кто ходит и зачем? А вдруг это четыре разных случая?
Александра Васильевна шла с подойником и, пока не поднялась на террасу и не закрыла за собой двери, все оглядывалась на Петра Ивановича и Володю, о чем-то говоривших и только что замолчавших. Они стояли в разных позах, каждый в отдельности, каждый сам по себе: Володя стоял вплотную к пряслу и смотрел на огород, а Петр Иванович стоял боком к Володе и в упор смотрел на штабель, как будто хотел разобрать его и посмотреть, а что там — на дне.
Она затопила плиту, выглянула в окно, увидела мужиков все так же стоявших по одному — один у прясла, другой — у штабеля.
Когда вовсю повалил дым из трубы, Петр Иванович сказал Володе, что на сегодня разговор окончен. Он попросил Володю принести ключ от школы и вышел на улицу. Пастухи гнали коров за мост. Около школы он подождал, когда Дементий с Яковом прогонят коров в проулок.
— Дементий Корнилович, задержись-ка на минутку.
Дементий слез с коня, выжидательно посмотрел на учителя, зная, что просто так, по пустяку, учитель не остановит.
— Помнишь, Дементий Корнилович, ты рассказывал про какого-то мужика с Исаковки? Спрашивал, где я живу?
— Как не помнить, в двух шагах от себя видел. Так же, как тебя!
— Ты его больше не встречал?
— Нет.
— Не тот ли это мужик…
— Так, так? — заинтересовался Дементий и от любопытства и нетерпения переступил с ноги на ногу и застыл в позе, в которой он любил стоять, — одна нога чуть-чуть согнута, и от этого одно плечо ниже другого.
Петр Иванович медлил, будто решал, говорить или не говорить Дементию, и наконец сказал:
— Ночью кто-то около дома ходит: то сам покажется, то след оставит. Кто бы это мог быть, как ты думаешь?
— Какой он из себя, не видел?
— Ночью я и не рассмотрел. — Петр Иванович перевел взгляд с Дементия на школьные окна, вымытые вчера и начинавшие блестеть все сильнее, — всходило солнце.
— Что-нибудь взято? — спросил Дементий.
— В том-то и дело, что нет.
Дементий расхохотался:
— Чего же тогда ходить?!
Рыжий конь, до этого смирно стоявший за спиной Дементия, резко мотнул головой, но Дементий успел поймать выскользнувший из рук повод. То, как Дементий поймал ременный повод почти у самой земли, заставило Петра Ивановича бросить быстрый взгляд на соседа и подумать: хоть сосед и начинает иногда жаловаться на ломоту в ногах и пояснице, но пока что он и ловок и здоров, как бык.
— Я, Петр Иванович, так думаю: кому-то делать нечего, вот он и ходит!
— Отпадает.
— Почему?
— Ну, сам посуди, — рассуждал Петр Иванович, — кому охота неизвестно зачем ходить ночью около чужого дома? А потом… это небезопасно.
— Для кого?
— Для того, кто ходит. Я ведь долго не буду смотреть, — пригрозил Петр Иванович, как будто тот, кому он говорил, мог слышать его.
— А что ты сделаешь?
— Застрелю, как собаку! — сказал Петр Иванович, хотя на самом деле ни в кого стрелять не собирался.
— Сколько раз был? — мрачновато спросил Дементий.
— Пять или шесть раз, — ответил Петр Иванович.
Кто-то появлялся около дома не пять или шесть раз, а четыре, но Петру Ивановичу, казалось, что он не прибавляет, что наверняка кто-то был не четыре раза, а больше.
Дементий согнал с лица недоверчивое выражение и крепко задумался. Потом спросил:
— Что думаешь делать?
— Пока ничего.
— Зря ты так, Петр Иванович.
— А что ты предлагаешь?
— В милицию надо заявить. Чего ждать?
— Успею.
— Кто его знает, — озабоченно сказал Дементий. — Медлительность в таком деле ни к чему.
Учитель и пастух пересекли дорогу, скрылись от посторонних глаз в проулке и возобновили разговор, когда прошли Нюрину баню. Дементий вел коня в поводе, слушал Петра Ивановича, изредка взглядывая на него, будто делая одолжение, и не задавал никаких вопросов, Спустились с горы по проулку, взошли на мост. Когда они стояли и говорили на углу около школы, там Дементий был не совсем в своей тарелке — Петр Иванович около школы был важней Дементия. Но зато здесь, за мостом, чем ближе лес, тем вольней чувствует себя Дементий! Они идут по стлани, учитель рассказывает и не поймет, слушает его Дементия или не слушает, — как будто занят какими-то своими лесными мыслями.
— Это он! — не глядя на Петра Ивановича, говорит Дементий. — Больше некому.
— Кто?
— Тот мужик, которого я видел. Мы вон там встретились, — кивком указал Дементий, — за вторым мостом. Гоним коров, из Тонкой падушки, выходит из сосняка. Как раз оттуда, где Торох деготь гнал!
Петр Иванович смотрит за второй мост, где у самой дороги, только свернешь с моста влево и зайдешь в лес, на маленьком склончике все еще валялись обломки желоба, поржавевшие обручи от дегтярных бочек и куски черной, обугленной бересты.
— Что ты тогда заметил? — спросил Петр Иванович, когда они перешли второй мост и остановились на том месте, где Дементий разговаривал с мужиком.
— Вот, на этой лужайке! — Дементий сделал впереди себя полукруг руками, показывая, где стоял он, Дементий, а где — мужик, вышедший из леса.. — Только я тогда, не так стоял, как сейчас, а сидел на коне.
Петр Иванович отказался, когда Дементий хотел поставить его точь-в-точь, как стоял мужик. Тогда Дементий попросил учителя подержать коня, а сам перешел на другую сторону лужайки, огляделся вблизи себя вправо-влево, отступил еще немного от Петра Ивановича.
— Здесь стоял!
— Зачем такая: точность, — с безразличием проговорил Петр Иванович, ожидая, что Дементий расскажет о каких-нибудь более существенных подробностях. — Можешь рассказать, как одет был, какого роста?
— Не торопись, — попросил Дементий.
— А я не тороплюсь, — все с тем же безразличием сказал Петр Иванович. — Я за тебя беспокоюсь: Яков один коров погнал.
— Это маловажно, — ответил Дементий и посмотрел в ту сторону, куда Яков только что прогнал коров. За поворотом отчетливо были слышны мычание коров, удары бича, похожие на выстрелы, и крики Якова. Петр Иванович чувствовал себя неловко, что задержал второго пастуха, и не знал, как быть: довести начатый разговор до конца или сказать Дементию, пусть гонит коров, а вечером они встретятся.
— Дементий Корнилович, может, вечером поговорим?
— А почему не сейчас?
— Некогда тебе.
— Петр Иванович, — Дементий осуждающе покачал головой, — что уже у нас коровы стали важней человека?
Дементий привязал коня к ближайшей сосенке, вернулся.
— Помнишь, Петр Иванович, я приходил в баню мыться и рассказывал про этого мужика?
— Помню.
— Он мне сразу не понравился: чего ж ты, думаю, сукин сын, спрашиваешь, а в деревню не идешь?
— Рост, сколько лет, как одет был, не помнишь?
— Росту высокого. Что говорить, зда-а-ровый мужик! В сапогах.
— Черный, белый?
— Черноватый будет. Кепка на голове. А вот в пиджаке или в рубашке был, не помню. Кажется, в пиджаке…
— Яков Горшков тоже видел его?
— Нет, Яков не видал. Он был за Третьей дорогой. А я проехал вперед, смотрел, чтоб коровы перед мостом в лес не зашли. Солнце было перед закатом, домой гнали коров! Не понравилось мне еще вот что: мужик свернул в лес, туда же, откуда вышел. Прогнали мы коров за мост, оглядываюсь, — никого нет из леса. Перед деревней оглядываюсь, — нет человека из леса! В проулок поднялись, я последний раз оглянулся, — нет никого. Ну, не идет и не надо, я этому большого значения не придал. А вот теперь, как ты сказал, я и подумал: чего бы ему прятаться в лесу, с какой целью?
— Дементий Корнилович, не сможешь ли ты проскочить на Исаковку и узнать, кто там из новых появился?
— Почему не смогу? Сегодня спрошу. Мы от Исаковки пасем в трех километрах!
— Когда будешь спрашивать, не распространяйся, — попросил Петр Иванович. — Поинтересуйся так, между прочим.
— Это конечно.
Дементий, не торопясь доехал до поворота и только потом слегка пришпорил коня. Петр Иванович смотрел вслед, пока он не скрылся за деревьями.
13
Еще дней десять назад Петр Иванович собирался сходить на свой покос и посмотреть большую копну. Завалиться копна не должна бы, но ветер мог сбросить вершину, копна могла наклониться, и тогда ее надо было поправить. Для этого случая грабли Петр Иванович оставил под копной. Идти было недалеко, километра два.
Пока Петр Иванович шел по дороге вдоль болота, его не покидало ощущение, что кто-то смотрит за ним. Он прислушался — ни один сучок не треснул нигде. Ему начинало казаться, что кто-то, приотставая, идет за ним: дорога вдоль болота мягкая, заросла травой — ничего не услышишь. Петр Иванович несколько раз останавливался и ждал, тогда, может быть, тот, кто шел за ним, тоже останавливался и ждал, когда Петр Иванович пойдет дальше.
Чтобы убедиться, что на самом деле ничего нет, Петр Иванович один раз очень быстро обернулся и пошел назад. Никого не было. Он постоял на дороге, удивляясь, откуда у него такое ощущение: лес, который он хорошо знал, исходил за много лет вдоль и поперек, теперь был как будто враждебен ему. Вон те две старые березы, согнувшиеся над непролазным осинником, Петр Иванович видел, наверное, тысячу раз, укрывался под ними от дождя, лет пятнадцать назад под этими березами у Петра Ивановича стояло две поленницы дров, а сегодня березы казались незнакомыми, переставленными к Первой дороге из другого леса.
Подлесок или настолько густ, что ничего не видно в двух шагах, или в просветы между деревьями через болото виден сосновый лес на горе, в котором лает и лает собака, и ее голос многократным эхом разносится по лесу. Дорога опускается все ниже, путь преграждают упавшие деревья; объезд завален желтыми поломанными сучьями и торчащими как попало зелеными ветками.
В глубокой пади, выходящей на болото, покос Мезенцевых. В последнее время Петр Иванович накашивал здесь только одну копну. Но и это было хорошо: в колхозе много скота, и рассчитывать на сено из леса не приходилось. Вся надежда на зеленку со своего огорода да на молодую осоку с болота. Тут уж, правда, было раздолье: болото широкое — коси, сколько хочешь! Все-таки лучше, чем солома. И Петр Иванович накашивал напротив дома или на хуторе два воза осоки, а зимой перевозил ее к зароду и сбрасывал огромным ворохом рядом с плотно слежавшейся зеленкой. Потом всю зиму сколачивал-смешивал с зеленкой или сеном и давал корове.
Петру Ивановичу было приятно увидеть за деревьями, около густого березняка, свою копну. С подветренной стороны копну поддерживали жердинки потолще, связанные березовые прутья, заброшенные на вершину копны, лежали так же, как их забросил и прибил граблями Петр Иванович, и копна только чуть-чуть смотрела вправо. Петр Иванович поправил ее, обтеребил еще раз снизу, заново завершил.
Стоило ему прекратить работу и начать спускаться в конец пади, где было много смородины и тонких высоких кустов, названия которых он не знал, и снова вернулось то же самое ощущение, которое у него было, когда он шел к покосу. Речка была далеко, на середине болота, а тропинка через смородиновые заросли вела к холодному ключу, из которого Мезенцевы пили воду, когда косили и убирали сено.
Солнце едва-едва поднялось над лесом, и около болота было прохладно и сумрачно. Выйдя к зарослям с пожелтевшими листьями, Петр Иванович увидел наискосок через болото свою деревню, окутанную утренней дымкой, различил в ней фигурки людей. Листья и стебли среди маленьких ключиков и ямок с холодной водой пахли так дурманяще, что Петру Ивановичу казалось, будто он только что горстями ел смородину. Из-под самых ног взлетели два бекаса, вскрикивая, сделали круг над болотом и упали в кочках близко от старого места, будто хотели, чтобы Петр Иванович спугнул их еще раз.
Напившись из ключа, Петр Иванович огляделся в оба конца болота, вернулся к копне, сел на гладкую березовую колодину закурить перед дорогой. Комаров не было, если не считать тех, которые прилетели за ним с болота. Он отгонял их папиросным дымом. Сидеть было одно удовольствие: деревня близко — можно быстро прийти домой, — и место глухое. После райцентровской духоты, пыли и сутолоки не верилось, что снова он дома, дышит лесным воздухом, пьет воду из лесного ручья, слышит звенящий писк комаров, который ему тоже приятен, видит, как перепархивает с ветки на ветку маленькая синичка, похожая на разноцветный мыльный пузырь, как деловито снуют по колодине красные и черные муравьи.
Разговор с Дементием о незнакомом мужике, вышедшем из леса по Первой дороге, заставил Петра Ивановича вспомнить случай, который произошел с ним в двадцать девятом году. Тогда Петр Иванович еще не был учителем, а работал секретарем в сельсовете и жил не на Белой пади, а в Грязнухе, в пятнадцати километрах отсюда.
Председателем Грязнухинского сельсовета был мужик неграмотный, только умел расписываться, всю бухгалтерию вел Петр Иванович.
Косил он один раз сено для сельсоветского коня. Чтобы не было никаких разговоров, что вот, мол, власть забирает себе все лучшее, Петр Иванович выбрал самый дальний покос. Косил с ночевой. Место было глуше белопадского — смородины черным-черно, не срублено ни одного дерева…
Два дня Петр Иванович косил как ни в чем не бывало. Утром и вечером жег костер, спал около сосны под телегой. Лошадь ночью паслась, а днем больше стояла около дымокура.
На третий день Петр Иванович почувствовал что-то неладное. Кажется ему, что кто-то ходит вокруг покоса: то как будто ветка хлестанет, то сучок треснет… С ружьем за плечами косить не будешь, но кое-какие меры предосторожности Петр Иванович принял: зарядил ружье крупной картечью и положил на прокос, остальные патроны рассовал по карманам и принялся снова за работу. Машет косой Петр Иванович, поглядывает по сторонам, прокос у него широкий — вполкруга.
Во время отдыха делал вид, что чем-нибудь занят, а сам прислушивался и, поворачиваясь, успевал бросить быстрый взгляд то по сторонам покоса, окруженного таким густым лесом, что в нем никогда не было солнца. Ни одной птицы не было слышно в этом лесу.
В такой неприятной косьбе прошло полдня. Сначала Петр Иванович думал, что около покоса зверь ходит, и, скорее всего, медведь. Петр Иванович, хоть и рано еще было, отбил косу: все-таки металлические удары, испугается зверь. Только бросил он отбивать косу, затрещали сучья в другом месте. Петр Иванович взял сумку, висевшую в тени на березе, достал из-под свежескошенной травы бутылку с холодным чаем и стал обедать. Привалился к березе спиной, наворачивает ржаной хлеб с салом, запивает холодным чаем из бутылки и как будто нет ему никакого дела до того, что кто-то ходит около покоса.
Петр Иванович начал догадываться, что скрадывает его человек. Столько раз он точил бруском косу — звон слышно за километр, удары молотка, когда отбивал косу, еще сильнее, — зверь бы давно ушел.
Собрал Петр Иванович из рядка позавчерашней сухой травы, бросил под березу, лег на живот, и ружье рядом, только руку протянуть. Смотрит, из березняка выходит Алексей Зуйков, мужик с Грязнухи. За плечами — ружье. Лицо у Алексея красное, будто он только что из бани.
— Куда, Алексей Гаврилович, путь держишь? — поздоровавшись, спросил Петр Иванович.
Алексей молча снял ружье, поставил к березе. Движения медленные, как будто он обдумывает каждый свой шаг. Из кармана солдатских галифе, заправленных в дырявые сапоги, достал неполную бутылку самогона, сел, попросил у Петра Ивановича стакан или кружку. Петр Иванович подал кружку, разложил на газете хлеб, сало, огурцы и сел шагах в двух от Алексея. Алексей налил в кружку самогона, бутылку, чтобы не разлилась, долго вдавливал в траву.
— Далековато сел, Петр Иванович, — сказал он, установив бутылку. — Значит, не уважаешь меня!
— Я только что пообедал, — сказал Петр Иванович. Алексей подвинулся к нему вместе с закуской, бутылкой и кружкой. Долил кружку полнее и протянул Петру Ивановичу.
— Выпей.
— Я в жару не пью.
— Во всем, Петр Иванович, у тебя порядок. В выпивке — тоже.
— И тебя я сильно пьяным ни разу не видел.
— Это так, да что толку.
— А какой тебе толк нужен?
— Я вроде пьяным никогда не бываю и трезвым себя не помню. Так все, трали-вали.
Алексей некоторое время смотрел на самогон, похожий на мутноватую воду, осторожно переставил кружку поближе к Петру Ивановичу.
— К тебе иду, Петр Иванович.
— Ты уже пришел.
— Я еще утром пришел.
— Это ты ходил трещал валежником?
— Я.
— Заставил меня отбивать косу раньше времени! — Петр Иванович засмеялся.
— Как так?
— Я думал, медведь ходит.
— Медведь что, человека надо бояться.
— Я с тобой, Алексей, не согласен. Меня ты, конечно, не боишься, так же, как и я тебя.
— Как сказать… Я-то тебя не боюсь, а ты меня должен бояться.
— Ты не страшный, что тебя надо бояться. Бороду кудлатую постриги, надень новые сапоги, галифе можно эти оставить, и сойдешь за жениха первый сорт!
— Ты мне и невесту подыскал? — Алексей в упор смотрел на Петра Ивановича.
— Невесты сами прибегут, как увидят, что на тебе рубашка и сапоги новые!
— Все шутишь, Петр Иванович.
— Не все же время серьезным быть. Ты разве не знаешь, что смех — лекарство от всех болезней?!
— Правда, что ли? — не поверил Алексей. — А я думал, кто часто смеется, тот быстрее старится. Морщин-то прибавляется! Разве не так?
— Не-е-ет, наоборот!
— Живешь и не знаешь, что полезно, а что вредно, — мрачно произнес Алексей. — Выпил бы, Петр Иванович? Что ей стоять — выдыхается!
— Я люблю косить на свежую голову. В лесу человек должен быть трезвым.
— От стакана не опьянеешь.
— А во рту испортишь.
— Ну, тогда я выпью, Петр Иванович. Я, можно сказать, на твоем дне рождения присутствую.
— До моего дня рождения еще два месяца.
— А второй день рождения сегодня. Я тебя, Петр Иванович, должен был сегодня застрелить.
— За что? — Петр Иванович спросил так, будто его нисколько не задело то, что сказал Алексей. Не отвечая на вопрос, Алексей, отставив кружку с самогоном, продолжал:
— Два раза прицеливался… Похожу-похожу, прицелюсь — и не могу! Веселый ты мужик!
— А если б был не веселый?
— Наверно, застрелил бы.
— Не наговаривай на себя, никого бы ты не застрелил. Это тебя Чемизовы научили.
— Откуда ты знаешь?
— Догадываюсь. Сколько они тебе пообещали? — поинтересовался Петр Иванович.
— Пять тысяч и телку в придачу.
Не понять, отчего лицо у Алексея делается кислое, недовольное, — или оттого, что поддался на уговоры Чемизовых, или оттого, что они мало заплатили.
— Получил и то и другое? — спросил Петр Иванович, когда Алексей перестал хрустеть огурцом.
— Деньги получил, а телку, сказали, потом.
Петр Иванович презрительно хмыкнул, затем произнес звук, похожий на «пфи». Все с тем же выражением лица долго смотрел на Алексея, потом сказал:
— Я думал, что я дороже стою! Допустим, так меня оценили Чемизовы, а ты что же, не поторговался?
— Я не из-за денег, Петр Иванович…
— А из-за чего?
— Ты все пишешь и пишешь… От тебя ни поросенка, ни куренка не спрятать! Все ты найдешь, все ты выкопаешь. До тебя был секретарь сельсовета, мы горя не знали: держишь четырех свиней, а пишешь две, вместо двух коров — одну. Налог-то меньше! Сам посуди, есть разница?! Я за три года ни одной шкуры не сдал! Нету, говорю.
— Ни одной шкуры не сдал, а в рваных сапогах ходишь! — сделал замечание Петр Иванович.
— Веселый ты, — похвалил Алексей. Вылил в кружку остатки самогона и сразу же выпил.
— Я-то веселый и без вот этой штуки, — Петр Иванович кивком указал на пустую бутылку из-под самогона. — А зачем ты государство обманывал?
— Не говори, Петр Иванович, пропал я совсем. Что теперь будет?
— Я сейчас на коня и в милицию. А ты можешь отдыхать под телегой. Не вздумай деру дать, а то милиция приедет, а тебя нет. Тогда хуже будет.
— Убьют меня Чемизовы, — сказал Алексей.
— Не бойся, — успокоил его Петр Иванович, — не такие уж они храбрецы.
— Петр Иванович, как ты так делаешь: сел, поехал…
— А что?
— Я бы на твоем месте забрал у меня ружье, а уж потом — на коня.
— Зачем мне твое ружье?
— Вот ты отъедешь, а я возьму и полосну тебя жаканом! Я ведь не промахнусь.
— Не полоснешь.
Алексей взял ружье, вынул из ствола патрон, бросил на прокос, ружье поставил к березе.
— Езжай, Петр Иванович!
— А ты, Алексей, не такой уж тихоня, как я думал, и гораздо умнее.
Алексей как-то дико захохотал:
— Сейчас, Петр Иванович, дураков нет, революция всех выравняла!
— Может, и не всех, но ты прав.
— Победил ты меня, Петр Иванович. Что же я теперь буду делать?
— А что такое?
— Сейчас ты одно говоришь, а ну как потом скажешь другое?
— Я слов на ветер не бросаю.
Пока Петр Иванович, сидя на гладкой березовой колодине, курил и вспоминал, над лесом поднялось чистое розовое солнце и осветило глубокую падь, на дне которой стояла копна и от которой метрах в сорока на колодине сидел Петр Иванович. Правый рукав и пола телогрейки стали горячими, будто он сидел у костра.
С березы, кружась, падал осенний лист. Петр Иванович проводил его взглядом, пока он не коснулся земли.
Как будто проснувшись и опаздывая, на той стороне болота, около хутора, заработал мотор у комбайна: выхлопы резкие, от которых, кажется, вот-вот разлетится выхлопная труба. Затем мотор заработал спокойнее, а еще немного погодя рокот превратился в гул — комбайн двинулся по массиву. Петру Ивановичу казалось, что он видит, как сыплется в бункер первое утреннее зерно.
Странное ощущение было у Петра Ивановича, когда он шел домой: в его памяти всплывала фигура то Алексея Зуйкова — коренастого, чернобрового, с диковатым смехом, почти всегда с ружьем за плечами, то — Дементия Лохова, и как будто это было одно и то же лицо.
14
Дементий догнал Якова Горшкова перед Татарскими полями, когда тот загонял коров в лес. Половина стада свернула с дороги и трещала сучьями среди черных от прошлогоднего пожара сосен, другая половина, заметив, что нет второго пастуха, устремилась по дороге к Татарским полям. До этого смирные с виду коровы мчались, задрав хвосты и неуклюже выбрасывая задние ноги, как будто спасались от паутов и слепней. Яков стегал непослушных коров длинным бичом с короткой ручкой, заставлял их на бегу сворачивать в лес.
Минут через двадцать пастухи ехали рядом, изредка покрикивая на коров, высоко поднимавших голову и смотревших в сторону Татарских полей.
Стадо вышло из обгоревшего леса и спускалось в узкую лощину, тянувшуюся километра четыре и упиравшуюся в топкое болото с гнилым березовым лесом. До слуха стал доноситься глухой отдаленный шум. Скоро можно было увидеть: из-под каменных глыб косогора падал с высоты ключ, образуя на дне лощины два озерка, окаймленных желтым песком; и вода, и песок ослепительно сверкали на солнце.
Недалеко от ключа стоял балаган, в котором когда-то ночевали покосчики. Пастухи накрыли его новой берестой и спасались в нем от дождя. Около балагана Яков с Дементием соскочили с коней, расседлали их. Стреноженные кони неловко прыгали друг за другом, удаляясь от табора.
Пастухи разложили на траве потники и кожаные седла, занесли в балаган сумки с обедом. Теперь Дементий придремнул бы на солнце, а потом проехал бы в конец лощины посмотреть за коровами и заодно проскочил бы к Сергееву озеру и проверил, нет ли около перехода уток. Глядишь, вечером или утром была бы утиная похлебка. И то и другое отпадало: надо было рассказать, что кто-то ходит по ночам около учительского дома, договориться с Яковом сегодня же съездить на Исаковку и узнать, что там за новый житель появился.
Яков готов был ожидать каверзного случая где угодно и с кем угодно, но только не в Белой пади и не с Петром Ивановичем. Он потуже натянул кепку, так, что одного глаза не стало видно за козырьком, и спросил:
— Мужика, которого ты видел за мостом, хорошо запомнил?
— Сразу узнаю, — сказал Дементий, сворачивая самокрутку. Он сидел на траве, подогнув под себя ногу, и, казалось, весь был поглощен только тем, как потуже и покрасивее свернуть самокрутку. Яков, лежавший на разостланной телогрейке, тоже сел и закурил. Дым выдыхал вяло, губы его при этом кривились, будто курил по принуждению или не нравился табак. Медленно сдул пепел, приподнял изогнутый козырек кепки, из-под которого сверкнул второй глаз, и спросил:
— Как думаешь, из наших краев?
— Думаю, что нет.
— Если не из наших, то откуда? Издалека не станет ходить.
— Почему не станет, — возразил-Дементий. — Кому надо, придет за тысячу километров.
— Схватить бы его надо, связать, и в контору. Там бы разобрались.
— Как ты его схватишь, — сказал Дементий. — Мы едем, орем по лесу, он нас за километр обойдет. А захочет, спрячется рядом и будет слушать, о чем мы тут с тобой говорим. Вполне может быть.
Яков хмуро оглянулся по сторонам, будто хотел убедиться, — а не прячется ли кто-нибудь в ближних кустах или за деревом, и сказал:
— Нам тайга знакомая.
— Тайга-то знакомая, да в ней триста ворот, — сказал Дементий.
— Попадется.
— Может, и встретимся, каждый день в лесу.
— Куда он денется, — рассуждал Яков. — Здесь мы с тобой пасем, за Харгантуйским мостиком — тоже пастухи. На хуторе не спрятаться — лес редкий. Надежнее всего ему сидеть в Харгантуйском лесу, по той дороге мало кто ездит. Там хорошая ловушка на Ильиной заимке — амбар стоит и колодец. Да-а, утром бы или ночью проверить…
— И тут недалеко такая ловушка, — сказал Дементий. — Дом на Татарском, в котором Маша жила!
Дементий съездил на Исаковку. Никто из новых жителей за последнее время на Исаковке не появился.
Утром Яков Горшков рассказывал в бригадной конторе, что около Белой пади, а точнее, около дома Мезенцевых, появляется по ночам какой-то человек. Раз этого человека видел за мостом Дементий…
Мужики сидели на длинных скамейках вдоль стен, на подоконниках и даже на столе, за которым, низко склонившись, сидел бригадир с мальчишеским лицом, в берете, в нейлоновой куртке с застежкой молнией. Он недовольно смотрел на Якова, будто Яков вместо того, чтобы заниматься делом, отнимал время и у себя и у других. Бригадир бы давно попросил его «говорить короче и ближе к делу», но Яков говорил что-то не совсем обычное, и бригадир, оставаясь все так же недовольным, продолжал слушать его. Изредка поглядывая на пастуха, он чертил блестящим концом авторучки какую-то незамысловатую, фигуру на столе, кажется, у него выходила зигзагообразная непрерывающаяся линия. Он чертил все медленнее и, наконец, перестал — бросил авторучку на стол, будто она ему больше не понадобится, отклонился от стола, взгляд его тяжело уперся в Якова.
— Ты, Яков, всерьез все говоришь или вы с Дементием от скуки придумали?
Сразу же после этих слов бригадира исчезло напряжение, с которым сидели и слушали мужики, все зашевелились, заговорили, стали закуривать.
— Кто тебе сказал про этого мужика? — спросил бригадир у Якова, и сразу же стало тихо.
— Дементий.
— А ему кто?
— Петр Иванович.
— Ничего не слыхал, — сказал бригадир, оглядывая лица мужиков. — Везде езжу, всех вижу, ни от кого — ни слова. Петра Ивановича позавчера видел в конторе… Наверно бы, он сказал, если бы что-то плохо было. Сколько, ты говоришь, как этот человек у нас появился?
— Неделя будет.
— А точнее?
— Может, побольше недели…
— Дементия бы послушать. Где Дементий?
— Пошел за конем.
Колхозники, сидевшие на подоконнике, как по команде, повернулись к стеклу и посмотрели в сторону конного двора.
— Идет!!
— Коня сейчас привяжет, — сообщили два или три голоса с подоконника.
Через дверь слышно было, как Дементий поздоровался в сенях с шорником Буреломом, прозванным так за свой огромный рост и за огромную силу. Дементий говорил с шорником и не торопился заходить в контору. Бригадир посмотрел на свои часы в золотой оправе и на серебряном браслете, обтягивавшем крупную, мужицкую, но уже слегка холеную руку, и попросил кого-нибудь из близко сидевших к двери позвать Дементия. Дементий, по всей вероятности, выпрашивал у Бурелома узду или новое седло. Даже после того как его позвали, он долго не входил.
Пастухи в Белой пади находились в привилегированном положении, но у Бурелома выпросить даже пустяковый ремешок было не так-то просто: без распоряжения бригадира никому ничего он не давал. Бригадир улыбнулся, поняв по голосам, доносившимся из сеней, как твердо стоит Бурелом на страже колхозного имущества.
Не переставая улыбаться, бригадир вылез из-за стола, по-хозяйски прошел мимо скамеек с мужиками, выглянул в сени и крикнул:
— Дядя Афанас! Дай пастухам все, что просят!
— А он ничего не просит, — широко развел лапищами Бурелом, будто собирался отдать пастуху все, что было у него в хомутарке.
— Я же слышу — просит, — сказал бригадир и засмеялся. — Ну и Бурелом!
Бурелом как будто не слышал бригадировых слов, ушел в глубь хомутарки, освещенной яркой электрической лампочкой, и принялся что-то разыскивать, раздвигая хомуты на стене то вправо, то влево. Дементий стоял и ждал.
— Не дает? — спросил бригадир и с интересом смотрел за Буреломом, который, расставив руки, медленно поворачивался в маленькой хомутарке и был похож на медведя в берлоге.
— Я у него два веревочных пута попросил, — отвечал бригадиру Дементий. — А видишь, сколько разговору? Одно, говорит, дам, а два — нету. Легче самому сделать, чем у него просить! Честное слово!
Бригадир засмеялся, довольный, что Бурелом не балует даже пастухов.
— Дементий Корнилович, зайди-ка, тебя полбригады мужиков ждет.
— Некогда, Степанович, коров надо гнать.
— Зайди-зайди.
— Что за собрание с утра?
— А мы быстро проведем! — ответил бригадир. — Ты председателем будешь! Твой заместитель уже выступил, теперь очередь за тобой!
— Шутишь над стариком?
— Сейчас разберемся, кто над кем шутит. Заходи, не стесняйся!
— Яков в конторе?
— Здесь.
— Понятно, что за собрание, — сказал Дементий. — Насчет Петра Ивановича?
— Какой ты догадливый!
Бригадир с Дементием зашли в контору.
— Ты, Степанович, со мной разговариваешь, будто я провинился перед тобой.
— Передо мной — это полбеды! — Бригадир, шедший впереди Дементия, остановился посреди конторы, повернулся к Дементию. — Ты перед всеми провинился!
— Как это так? — готовый рассердиться, спросил Дементий. — В чем я перед всеми провинился?
— Сейчас сядем, скажу.
Бригадир предложил Дементию место за столом, но тот отказался, объяснив свой отказ тем, что на подоконнике сидеть удобнее, и втиснулся между мужиками. Бросив суровый взгляд на Дементия, бригадир сел, наклонился над столом, как прежде, и, обращаясь ко всем, сказал:
— Про такие дела надо немедленно сообщать! А то ведь получается…
— Яков, — перебил бригадира Дементий, — ты рассказал, как было?
За Якова ответил бригадир:
— Он-то рассказал, а почему ты молчал?
— Петр Иванович просил не распространяться.
— Это ты, Дементий, брось, — не поверил бригадир. — Вокруг моего дома кто-то ночью ходит, а я буду из этого делать тайну?
— Кричать же не будешь?
— Ты знаешь, о чем я говорю?
— Один день ничего не решает, — сказал Дементий, поглубже садясь на подоконнике.
— Что значит «один день ничего не решает»?
— А то и значит, что ничего не решает. Я только вчера узнал от Петра Ивановича, что кто-то ходит около его дома.
Взгляд Дементия, устремленный на бригадира, говорил: вот так вот, товарищ бригадир, нападаешь, а толком не разобрался. Лицо Дементия багровеет.
Не собираясь извиняться перед Дементием, бригадир все так же строго спросил:
— Всего сколько дней прошло, как ты не с Петром Ивановичем говорил, а видел этого мужика?
— Сейчас посчитаю, — сказал Дементий. — Сегодня — одиннадцатый день. Если это только тот мужик… День совпадает. Как раз в эту ночь кто-то появился на огороде у Мезенцевых.
— Что хоть за мужик? — спросил бригадир. — Может, там и бояться-то некого?!
Дементий рассказал.
— Как же вы теперь пасти будете? — с самым серьезным видом спросил бригадир, взглянув на Якова, потом — на Дементия. — Он же смотрит за вами из-за каждого дерева! Вам теперь с печи нельзя слезать!
Мужики захохотали.
— Пушшай ходит, он же никого не трогат, — сказал Егор Кофтоногов, работавший в кузнице молотобойцем. Шутит Егор или говорит серьезно — не разберешь.
— Он у тебя, Егор, ночью-от проверит амбар, будешь знать!
— А то в избу залезет и уволокет вместе с Ольгой!
— Пушшай попробоват. — Егор хохочет. — Я сам кого хошь уволоку! Ребра пошшитаю!
Скоро мужики, обсуждая новость, разошлись из конторы. Кто — завтракать, кто — на работу.
Бригадир замкнул на амбарный замок дверь высокой перегородки в углу, за которой стоял телефон, отдал ключ сторожу и уехал куда-то на мотоцикле.
Пастухи выгоняли коров на час позже.
От деревенских баб им бы точно досталось, но сегодня никто не сказал ни слова. Коровы, до пастуха выгнанные на улицу, тревожно мычали, не понимая, почему нет стада и куда теперь идти.
Кто-нибудь, заслонившись ладошкой от солнца, поднявшегося на целый метр над Школьным лесом, подолгу смотрел вслед Дементию и Якову, потом уходил в ограду с таким озабоченным видом, будто что-то вспоминал, и пастухи догадывались: жители Белой пади знают, что дому учителя угрожает какая-то опасность.
15
Из школы доносится разноголосый беспорядочный крик — закончились уроки у второго и четвертого класса. По мере того как ученики выбегают из школьной ограды, беспорядочный крик сменяется сплошным победным воплем, и тогда кажется, что это наши войска штурмом взяли крепость.
Александра Васильевна подходит к окну, взглядом провожает орущих и толкающихся учеников. Она всегда, хотя бы на короткое время, подходит к окну и взглядывает на учеников, — и всегда от их шума и крика ей делается тревожно, и она задает себе один и тот же вопрос: почему дети орут и толкаются, когда идут из школы? Каждый из учеников выглядит очень сильным, неуступчивым, и она не понимает, как ее муж справляется с такой оравой.
Затем Александра Васильевна переходит к другому окну, оно меньше закрыто разросшейся черемухой и яблоней, в просветы между ветвями видны школьные ворота, из которых вот-вот должен появиться Петр Иванович.
Петра Ивановича, выходящего из ворот, не видно. Значит, сейчас он замыкает школу, и Александра Васильевна не спеша отходит от окна. Подумав, возвращается, снова приникает к окну, — увидела Петра Ивановича, вышедшего из ворот, замедлившего шаг и остановившегося: он с кем-то говорит, ветки мешают рассмотреть — с кем.
Она переходит к третьему окну, из которого видно собеседника Петра Ивановича — конюха Павла. Александра Васильевна пристально всматривается, старается угадать, о чем Павел говорит с ее мужем.
Устав смотреть, она идет в коридор, с полпути возвращается, решив, что лучше сначала достать из печи чугун с борщом, чтоб остыл немного, а уж потом сходить за водой. Можно сказать Володе, он бы принес, но она освободила его от всех домашних дел: сиди, читай что-нибудь, пиши. И, когда Володя сидит за столом, читает и пишет, это счастливейшие минуты для Александры Васильевны.
Александра Васильевна с грохотом перебирает ухваты, безошибочно находит в темной печи один и другой чугуны и, слегка коснувшись дном тяжелого чугуна о кирпичный под, с молниеносной быстротой ставит его на загнетку; другой чугун, с драной картошкой, выхватывает еще быстрее и оставляет слегка выдвинутым из печи.
Петр Иванович, пройдя под окнами, скоро появляется на кухне. Спрашивает:
— Володи нет из школы?
— К колодцу пошел.
— А-а, хорошо! Сам пошел или посылала?
Александра Васильевна ответила, будто проглотила что-то кислое:
— Сам.
Володя вернулся от колодца, поставил ведро на кухне рядом с цинковым бачком. Мужики сели за стол друг напротив друга, ожидая каждый свою миску: Петр Иванович — большую, синюю, с облупившейся по краям эмалью; Володя — чуть поменьше, алюминиевую; Александра Васильевна поставила себе самую маленькую миску, тоже алюминиевую. Петр Иванович очистил две небольшие луковицы и покрошил их над мисками.
— Подай-ка еще луковицу! — сказал он Володе, успевшему поднести ко рту первую ложку с борщом, от которого шел горячий и вкусный пар. Очистил, положил рядом с деревянной большой солонкой, чтобы минут через пять — десять каждому покрошить еще луку.
Александра Васильевна посмотрела на свои руки, вымазанные в саже, хотела вымыть, но передумала: вытерла кое-как о передник и села за стол.
— Что тебе Павел сказал? — спросила она у Петра Ивановича, справлявшегося с борщом с такой быстротой, что было удивительно, как он не обжигался.
— Павел? — переспросил Петр Иванович, задерживая ложку в воздухе. Он дожевал кусочек мяса, раз и другой зачерпнул из миски жидкого, запил, как будто у него во рту был не кусочек мяса, а лекарство, и сказал, сначала глядя в свою миску, потом на Александру Васильевну.
— Павел просит принять Варку уборщицей в школу.
— Чего она сама не скажет?
— Сердится на меня.
— За что?
— Думаешь, на меня не за что сердиться?
Александра Васильевна перестает есть, хмурится. Варка — третья из белопадских женщин, кто просится уборщицей в школу.
— Что ты ответил ему? — спрашивает Александра Васильевна и медленно начинает есть борщ, подставляя под ложку широкий кусок хлеба.
— Пока ничего.
— Варку возьми, — советует Александра Васильевна. — Детей у нее много.
Лицо Петра Ивановича принимает кислое, затем мучительное выражение, будто у него вот сейчас, за столом, разболелся зуб, который он давно собирался выдернуть, да все как-то не находилось времени.
— Чем Варка не подходит? — спрашивает Александра Васильевна, добавляя Петру Ивановичу и Володе горячего, не остывшего в чугуне борща.
— Есть одна загвоздка, — отвечает Петр Иванович, принимая из рук Александры Васильевны свою миску. — Ты представляешь: такое здание доверить пьяному человеку?
— Варка будет уборщицей, не Павел, — заступается Александра Васильевна.
Петр Иванович объясняет:
— Он же будет помогать ей: дров принести, воды, трубу закрыть… Уронит уголь или окурок бросит, вот тебе и пожар. Что тогда будем делать?
— Поговори с Варкой, чтоб пьяного в школу не пускала.
— Как она его не пустит?
— Скажи Варке: увижу твоего мужика в школе пьяным, и тебя прогоню со школы.
— Я таких слов Варке не могу сказать. Она за Павла не ответчица.
— А кто за него ответчик?
— Я.
— Что ж это: один будешь за всех отвечать?
— Да, за всех. И за меня — все. Так и должно быть, а как ты думала?
— Что ты за всех, это я вижу. Только вот не все за тебя!
— За меня? Не было такой необходимости.
— Теперь-то есть.
— А что теперь?
— Ходит же кто-то…
— Пусть ходит на здоровье. Походит да перестанет.
— Когда это он перестанет? Я среди белого дня боюсь к колодцу сходить.
— По-моему, ничего опасного, — сказал Петр Иванович. — Это кто-то на нервы действует.
— Ты ж не знаешь, кто?
— Кто-то из белопадских, — сделал предположение Петр Иванович.
— Может, Павел ходит?
— Вот это уж ты подзагнула! Павел не пойдет.
— Почему не пойдет. Ты его из партии исключил?
— Из партии его исключили коммунисты. На это есть партийная организация. Рассказываю я тебе, рассказываю, а ты опять свое: ничего не понимаю. Исключили большинством голосов.
— Я не про то, — сказала Александра Васильевна. — По-моему, Павла исключил ты?
— Да, я поставил вопрос об исключении. Ну и что ты хочешь сказать?
— Вот он и ходит. Ты не смотри, что он вежливо с тобой разговаривает, что у него на уме, ты не знаешь. Он тебе будет говорить одно, а делать другое. А что ему: выспится за день — и ходит.
— Павел на меня не сердится. Если бы я не защищал, его бы еще раньше выгнали.
— Чужая душа потемки, — сказала Александра Васильевна. — Ни за кого не ручайся.
— Не такие уж и потемки, — сказал Петр Иванович. — Я знаю, кто чем дышит.
— Ну, скажи, кто ходит? — прищурив зеленоватые глаза, Александра Васильевна ждала ответа.
Петр Иванович бросил короткий взгляд на Володю, заканчивавшего обед и, кажется, не вникавшего в разговор отца с матерью. Боясь, что остынет борщ, Петр Иванович тоже взялся за ложку. Убедившись, что борщ не остыл, он отложил в сторону и ложку и кусок хлеба.
— Этого я пока сказать не могу, но кое-какие предположения имею. — Петр Иванович, спохватившись, взглянул на Володю и стал отправлять в рот ложку за ложкой.
— На кого ты думаешь? — Не дождавшись ответа, Александра Васильевна сказала: — По-моему, ходит с Ушканки.
Белая падь делится на три названия. Полдеревни, со школой, магазином, а до недавнего времени и с бригадной конторой, так и называется — Белая падь. От кузницы, расположенной в низине, близко к болоту, заулок, образовавшийся между двумя огородами. Пересекая Белую падь, заулок переходит в коротенькую, Боковскую улицу, на которой в самом большом доме были ясли; теперь в этом доме каждую осень живут рабочие, приезжающие из города на уборку.
Белая падь далее состоит из одной дороги, по левую руку от которой, через пригорок, недалеко от реки стоит новенький клуб с кинобудкой, а по правую руку возвышается Пастухова гора. На горе сначала бросается в глаза узкое деревянное строение, напоминающее башню, в котором расположен артезианский колодец; рядом с колодцем — типовое здание молочной фермы, гараж, конный двор. Здесь же, на Пастуховой горе, новая бригадная контора.
Если не подниматься на Пастухову гору и пройти у ее подножья, то метров через сто пятьдесят или двести начнется улица Советская. Как и на Боковской, на этой улице не больше двенадцати домов. За ее огородами сразу же начинается лес.
Дальше, через падинку с невысыхающей лужей, Ушканка. С Советской улицы ушканских домов не видно: они скрыты лесом. Любили останавливаться на Ушканке цыгане. До недавнего времени подолгу у Фени Петровой жил старик, какой-то святой, ходивший по деревням с корзиной из широких лучин и собиравший милостыню. Не исключена возможность, что человек, наведывающийся по ночам к дому учителя, скрывается на Ушканке.
Александра Васильевна вздохнула: если кто-то ходит из белопадских, тогда ничего страшного, — походит-походит да и перестанет. А если кто-то издалека? Она стала называть всех возможных врагов Петра Ивановича: перечислила семьи, которые помогал раскулачивать Петр Иванович, когда был секретарем сельсовета. Александра Васильевна сколько раз говорила: не вмешивайся, что колхоз хочет, то пусть и делает. Занимайся в школе с ребятами, а колхозники пусть хоть на головах ходят!
«Если делать так, как ты просишь, — говорил Петр Иванович, — то ничего не будет». — «Живи тишее, — отвечала Александра Васильевна. — Что тебе, больше всех надо?» Петр Иванович стоял на своем: «Спокойно не жил и жить не собираюсь. Спокойно жить не дает всякая нечисть, и я буду ее вытравлять огненным мечом!»
И вот этих-то, сосланных и осужденных, Александра Васильевна больше всего боялась.
— Давно кости изгнили, — отозвался о некоторых из них Петр Иванович.
— Изгнили, изгнили, — рассердилась Александра Васильевна. — Откуда ты знаешь?
Ей было неприятно и страшно, что Петр Иванович так резко отзывался о сосланных и заключенных. Для Александры Васильевны это были такие же люди, как все, только они что-то натворили и за это их строго наказали. Такое рассуждение Александры Васильевны Петру Ивановичу не понравилось, и он сказал:
— Думаешь, я не знаю, почему ты заступаешься за кулачье? Прекрасно знаю! Ты не обижайся, не складывай губы в трубочку, но я тебе еще раз скажу: ты выросла в кулацкой семье! Я помню, как твой отец косился на Советскую власть…
— Что вспоминать, что было за дедом-шведом, — обидевшись, сказала Александра Васильевна. Она не осталась в долгу и укорила Петра Ивановича за то, что он, когда ухаживал за ней, ходил в одних и тех же драных штанах.
Петр Иванович рассмеялся, и начавшийся острый разговор на этом прекратился. Он отклонился от стола и посмотрел на стенные часы в большой комнате.
— Слушай, старуха, я опоздал на урок!
— Не опоздал, — успокоила его Александра Васильевна. — Посмотри.
— Что смотреть, два часа!
— На минуту опоздаешь, кто тебе что скажет? Ты сам себе начальник.
— О, не-ет, — сказал Петр Иванович, наспех ополаскивая руки под умывальником, — прежде всего дисциплина. Без дисциплины с этими гавриками не справишься!
Александра Васильевна еще сидела за столом, когда Петр Иванович захлопнул за собой двери и застучал ботинками в коридоре и на лестнице.
16
За двадцать четыре года учительской работы ни разу не было, чтобы свои отношения со взрослыми Петр Иванович перенес на детей. Даже в крайних случаях он не делал этого, и вдруг — раньше такого с ним не случалось — он стал приглядываться к лицам учеников тех родителей или родственников, с которыми у него были когда-то плохие отношения.
Собственно, плохих отношений у Петра Ивановича никогда ни с кем не было. По крайней мере, так считал Петр Иванович. Выходит, он в чем-то ошибся?.. За этой мыслью появилась другая: не покачнулся ли его авторитет, когда вся деревня узнала, что кто-то ходит по ночам около дома Петра Ивановича? Ученики слышат разговоры об учителе, и не все — конечно же, не все! — так уж переживают за Петра Ивановича. И вот это, думал он, можно увидеть на лицах учеников: вольно или невольно отблеск разговора о Петре Ивановиче промелькнет на чьем-нибудь лице…
Петру Ивановичу удалось справиться с собой, и он остался с учениками в прежних отношениях, и свое желание подсматривать за ними объяснил тем, что он уже не тот, что был, и что пора ему на пенсию.
Потом он подумал, что дети могут попасть после него к плохому учителю, и он подумал, что рано уходить на пенсию, что он проучит еще и два, и три года…
После того как Яков Горшков рассказал в бригадной конторе, что кто-то ходит по ночам около дома Мезенцевых, Петра Ивановича останавливали, спрашивали, правда ли, и что он собирается делать.
Предложение бригадира — организовать около дома дежурство — Петр Иванович отклонил, сказав, что сам справится или, в крайнем случае, вызовет милицию.
— Ну, сам подумай, — говорил он бригадиру, — уборочная, люди работают, какое дежурство, — им спать надо!
— Петр Иванович, в Белой пади, считай, половина мужиков твои ученики! Неужели каждый из нас не сможет подежурить одну-две ночи?
— Во, слушай, что сделай! — предложил Петр Иванович. — Составляй наряд: ночь на огороде у Мезенцева отсидел — получай два трудодня! Правда, хорошо будет?!
Бригадир улыбнулся.
— Петр Иванович, вы в самом деле не боитесь?
— Нисколько.
— Все равно, сегодня вечером добровольцев приведу! — весело сказал бригадир.
— Были уже!
— Когда?
— Вчера вечером.
— Дежурили?
— Нет. Я их отправил домой.
— Кто был?
— Сергей с Павлом. И сегодня еще двое заходили — Гошка с Семеном.
— Павел приходил?! — Бригадир засмеялся. — Да его этот, который ходит, раз пуганет, и Павел неделю штаны стирать будет! Трезвый хоть был?
— Трезвый.
— Не стал бы он дежурить, — нисколько не сомневаясь, сказал бригадир.
— Почему?
— Да ему выпить надо было! Я, Петр Иванович, не знаю, что с ним делать. Он мне всех коней заморил! Ну вот кем его заменить? Придется кого-то просить из стариков. Если бы, Петр Иванович, не вы, я бы вынес предложение исключить Павла из колхоза.
— Исключить? — Петр Иванович помолчал, как бы обдумывая бригадирово предложение, и сказал: — Если подходить со всей строгостью, то его надо судить! Кони хорошие только у пастухов да почтальона.
— Потому что сами кормят! — сказал Михаил, оглядывая широкий и зеленый школьный двор, посреди которого они стояли.
— Я об этом и говорю. Остальные кони, это никому не секрет, едва передвигают ногами.
— Да еще без хвостов, — невесело сказал бригадир.
— Это же он поотрезал хвосты девкам на голову? — спросил Петр Иванович, хотя уже и слышал об этом.
— Ну.
— Вот что мода делает! — Петр Иванович никак не мог взять в толк, зачем нужен шиньон, когда нет ничего лучше своих волос: пусть они будут хоть рыжие или красные, но — свои! А то и себя уродуют, и кони без хвоста ходят.
— Хотел я его за эти хвосты оштрафовать трудодней на пятнадцать, чтоб знал! — одновременно и сердясь и улыбаясь, сказал Михаил. — Но на него это не действует! Хоть штрафуй, хоть не штрафуй…
— Действует, — сказал Петр Иванович. — На днях моей старухе жаловался.
— Тогда я его еще раз оштрафую! Глядишь, на пользу пойдет!
— Воздержись, — посоветовал Петр Иванович, воспринявший угрозу бригадира скорее как шутку. — Ты ж видишь, который день трезвый ходит. Попробуй-ка с ним как-нибудь еще поговорить? Он же мужик неплохой… И за дело вроде бы взялся: как-никак, дом себе выстроил! Дежурить пришел ко мне, — после небольшой паузы проговорил Петр Иванович, как бы вспоминая, что еще хорошего сделал Павел.
— Говорил я с ним и ругался без счету раз. Если уж вы, Петр Иванович, не сумеете переубедить, тогда ему никто не поможет! У меня один вопрос к вам, Петр Иванович, — не глядя на учителя, сказал Михаил. — А то, может, болтают?
— Говори, слушаю.
Петр Иванович расправил плечи, отступил на шаг в сторону, чтобы стоять свободнее, и от этого казался теперь неприступным. Прищурив темно-синие большие глаза, он смотрел на бригадира, как будто старался угадать, о чем тот попросит его, и как будто заранее решал, отказать или не отказать в бригадировой просьбе.
— Правда, что Варка просилась в школу уборщицей?
По лицу бригадира Петр Иванович видел, что тот очень хотел, чтобы это оказалось неправдой.
— Был разговор, — ответил Петр Иванович и уже знал, о чем будет просить Михаил, и знал, так же, что он ответит ему.
Снова — это с бригадиром и раньше случалось — он почувствовал себя учеником Петра Ивановича, и что ему, бригадиру, не двадцать восемь лет, а двенадцать, как было в четвертом классе. Так же, как и раньше, он почувствовал, что не может ничего требовать у своего бывшего учителя, а может только жаловаться ему, и он пожаловался.
— Если вы ее возьмете в школу уборщицей, тогда мне придется вместо Варки доить коров.
— Не придется, — подбадривающе сказал Петр Иванович, и пока что никак нельзя было понять, что у него на уме, — берет он Варку в уборщицы или не берет?
— Как не придется? — Михаил тоскливо и с надеждой взглянул на Петра Ивановича.
— А так, не придется! Я ей откажу. Хотя… — Петр Иванович поморщился, — из трех женщин, которые просятся в уборщицы, Варка подходит больше всех. Ее-то мне надо бы принять, ты понимаешь? Дети у нее маленькие, а яслей нет. И отдохнула бы… Поворочай-ка на ферме!
— Это-то конечно, — проговорил Михаил, довольный, что Петр Иванович так легко согласился. — Доярку бы я точно не нашел! Ну, кого?
— Знаю, некого, — сказал Петр Иванович, продолжая невесело о чем-то думать.
Перед тем как сесть и уехать на мотоцикле, бригадир вернулся к разговору, который он начинал с Петром Ивановичем, — о дежурстве около дома. Петр Иванович снова отказался.
И бригадир поверил разговору, который шел по Белой пади. Разговор шел о том, что в конце августа, когда Петр Иванович ездил на конференцию, ему не то в райкоме, не то в милиции выдали пистолет… Шел и другой разговор: ни в райкоме партии, ни в милиции Петр Иванович не брал пистолета, что у него свой пистолет, подаренный ему в двадцатых годах, когда он служил в частях особого назначения, — гонялся за остатками банд в Белоруссии.
— Дома и Варка и Павел! — сообщила Александра Васильевна часа через два после того, как Петр Иванович, встретившись с бригадиром, пришел из школы. Он бросил на жену быстрый и недовольный взгляд! «Ну и что из того, что дома?»
Пока он сидел на кухне за столом, подперев рукой подбородок, Александра Васильевна смотрела в окно, старалась угадать, открыт магазин или нет.
— Что ты все смотришь в окно? — спросил Петр Иванович.
— Недаром смотрю. Может, схожу куплю чего.
— Нам ничего покупать не надо, — сказал Петр Иванович, — у нас все есть.
— Сходил бы к Аншуковым. Люди ждут.
— Ты меня просишь сходить к Аншуковым? Я тебе сказал свое мнение.
— Сходи-сходи.
— Что-то ты очень добрая стала.
— Я всегда такая была.
— Всегда-то всегда, сегодня ты чересчур добрая, — тебе не кажется?
Александра Васильевна не считает, что так уж трудно устроить Варку уборщицей.
— Не нравится мне мой поход к Аншуковым, — отвечает Петр Иванович, начиная сердиться.
— Не нравится, не ходи, — с неожиданной решительностью сказала Александра Васильевна.
Дом Аншуковых рядом с домом Мезенцевых, почти напротив магазина. Петр Иванович пытается вспомнить, когда он последний раз был у Аншуковых? Оказывается, прошло лет пять. В ограде бывал, за водой ходил, когда чистил свой колодец, сидел на скамеечке с мужиками, а вот чтобы в дом зайти, этого давно не было.
Но тут надо разобраться: во-первых, свободного времени у Петра Ивановича нет; во-вторых, все, кому нужно, сами заходят к Петру Ивановичу.
Варка тоже не часто заглядывала к Мезенцевым. Была несколько раз, но дальше порога не проходила. Возьмет что-нибудь у Александры Васильевны, о чем-нибудь спросит и, не успеешь оглянуться, — нет Варки!
У Аншуковых два дома в ограде — старый и новый. Старый дом — низенький, из толстых бревен, с маленькими окнами — одним углом врос в землю, крыша зеленая, обомшелая. На окнах шторы, и кажется, что в доме живут. К новому Варкиному дому Петр Иванович еще не привык, дом по-настоящему и недостроен: прируб выведен наполовину, крыльцо — временное.
«Ни в чем нет порядка…» — оглядывая аншуковский двор, отмечает Петр Иванович. Все, что он видит перед собой, требует немедленного вмешательства. Новый дом с жиденьким, кое-как сколоченным крыльцом, Петр Иванович сравнивает с случайно забредшим на захламленный пустырь молодым человеком в новом костюме, в новой шляпе… «Вот только ботинок нет у молодого человека, пока что он в тапочках на босу ногу…»
Говорить с Павлом, чтобы привел двор в порядок, бесполезно, — так же, как говорить с ним о том, чтобы бросил пить. Павел из той породы людей, которых ничем не проймешь: ты ему говори, он будет слушать, а через пять минут забудет. Жители Белой пади год удивлялись, как это Павел умудрился себе дом поставить, и считали, что тут без влияния Петра Ивановича не обошлось. И сам Петр Иванович так считал, а иногда ему казалось: все, что он говорил Павлу, пролетает мимо его ушей. С таким размышлением Петр Иванович открывает дверь нового аншуковского дома.
Увидев огромного дяденьку, Варкины дети застеснялись, двое, самые младшие, юркнули поближе к матери и рассматривали Петра Ивановича из-за Варкиного подола.
— Что, не узнали, испугались! — сказала Варка как-то неестественно, через силу улыбаясь. — Подрастете, будете к нему в школу ходить. Он вам баловаться не даст, живо научит!
Ребята застеснялись еще больше. Петр Иванович смотрел на них, улыбаясь, зная, что этих-то двух ему уже не придется учить.
Из комнаты, прогрохотав стулом, в носках вышел Павел. Лицо заспанное, круглое как шар.
— Придремнул маленько, — сказал Павел, протягивая Петру Ивановичу руку с коротенькими толстыми пальцами.
— На закате спать вредно, — сказал Петр Иванович и стал осматривать новую печь с плитой.
— А почему говорят, — на закате спать вредно? — спросил Павел, рассматривая печь вместе с Петром Ивановичем.
— А ночь для чего?
Варка быстро заходит в комнату, смотрит на Павла, на Петра Ивановича, и снова — на Павла.
— Все ей мало, — жалуется Павел. — Дом выстроил. Конечно, не такой, как у вас, но в два раза больше старого. В чулане полкадушки сала… Хлеб есть, молоко есть, две свинюшки, кур полная ограда!
Варка стыдит Павла при чужом человеке:
— Половину сала ты за бутылку отдал!
Пошевеливая на коленях скрещенными пальцами, с черными от грязи ногтями, Павел улыбается:
— Так было.
Варка махнула рукой и ушла на кухню. Пристыдить Павла — дело безнадежное.
Петр Иванович оглядел стены, потолок, пол.
— Когда собираешься штукатурить и красить?
— Со временем хоть разорвись! — воскликнул Павел, изображая страшно занятого человека.
«Будешь так пить, и разорвешься!» — едва не сказал вслух Петр Иванович. Так думать Петр Иванович имел все основания: больше одной недели, чтобы не напиться, Павел не выдерживал. Его бы давно прогнали с конюхов, но кого поставишь? Прогонишь, а потом к нему же идти и кланяться?
Петр Иванович не верил, что водка сильнее человека. Пил же и он когда-то за компанию, а потом бросил. Он смотрел на Павла как на больного человека, но жалости к нему не было.
Идя к Аншуковым, Петр Иванович ожидал увидеть худшую картину. Недовольный и даже несчастный Варкин вид не соответствовал тому, что увидел Петр Иванович в доме Аншуковых. Видно, совсем недавно Варка купила огромный радиоприемник, он занимал чуть не половину стола, у Петра Ивановича, например, не было никакого радиоприемника — хватало репродуктора. Картина в рамке, тоже огромная и тоже новая, висела над кроватью. Чья была картина и что было на ней нарисовано, Петр Иванович не знал, — что-то лесное; если смотреть дольше, что Петр Иванович и сделал, то картина начинает нравиться… Хорошие шторы на дверях и на окнах, диван-кровать, на которой валялась одежда детей и взрослых. Около диван-кровати стояла стиральная машина, как будто Павел или Варка нарочно поставили ее на самой дороге, чтобы все видели, что у Аншуковых есть стиральная машина. Петр Иванович мысленно сдвинул ее правее, в угол, там ее будет не видно… И картину бы повесил на другом месте, а то очень уж она низко висит над кроватью… Или от того, что дом новый, или Варка не умела, или ей некогда было, все эти и другие предметы не нашли еще своего места и крикливо бросались в глаза.
Пришла Варка, села с мужиками.
Сразу же, как только она села, ребятишки выбежали на улицу. Варка постучала в окно, чтобы они далеко не бегали.
Старших детей дома не было. Дочь и сын уехали в конце августа в город учиться, а еще одна дочь вместо матери ушла на ферму доить коров. Как двенадцатилетняя девочка, придя за пять километров из школы, справляется с такой тяжелой работой, Петру Ивановичу непонятно. Ну, было бы ей четырнадцать, пятнадцать лет…
— Пускай привыкает, — сказала Варка.
— Плохая привычка, — сказал Петр Иванович, взглядывая на Павла и давая этим понять, что здесь больше виноват Павел, а не Варка.
Павел даже глазом не моргнул: он ничего не видел предосудительного в том, что здоровая девчонка поможет матери. Меньше бегать будет!
— Нас никто не жалел, — сказала Варка, и лицо ее покрылось белыми пятнами. Чего-то она недоговаривала, и эту недоговоренность Петр Иванович отнес на свой счет. Варка причесала перед зеркалом волосы, и все равно сидела какая-то взъерошенная, жиденькие косички, с лентами как у школьницы, едва скрывались за плечами. Несмотря на округлость форм, лицо у Варки сухое, жестковатое, взгляд недоверчивый, будто она ждет какого-то подвоха.
— Варвара Федоровна, Павел говорил, что ты хочешь работать уборщицей в школе.
— Правильно, — Павел кивает. — Правильно.
— А коров кто будет доить? Он? — Варка взглядом указывает на Павла.
— А что, думаешь, не подоил бы?! Забыла: ты как-то напилась, а я нашу Пеструху доил!
— Молчал бы, ботало колхозное!
Петру Ивановичу не нравится, что Варка повышает голос на Павла. Как-то так получается, что она одновременно повышает голос и на Петра Ивановича. И Павел хорош: зачем при постороннем человеке компрометировать жену?
Если спросить, сердится ли Варка на Петра Ивановича, она скажет — нет, потому что и в самом деле как будто давно не сердится, — просто появляется в ней что-то такое, с чем она сладить не может, и тогда она сердится на себя и на других…
Варке жалко бросать денежную работу на ферме, и ребятишек одних страшно оставлять дома. Знает она и другое: бригадир ни за что не отпустит ее с фермы. Конечно, Петр Иванович все может: захочет — примет Варку, не захочет — не примет. Работать в школе уборщицей ей кажется каким-то праздником, вроде как получать деньги ни за что.
— Я его не просила говорить, — сказала Варка. Лицо ее опять покрылось белыми пятнами, сделалось жестким. — Культурным сделался! Пахнешь, говорит, кукурузным силосом, спасу нет! Переходи, говорит, работать в школу. Мне разве шестьдесят рублей хватит? Я каждый месяц двести зарабатываю, и то не знаю, куда деваются. Был бы мужик, как у других, а то он на одни штрафы работает, не домой, а из дому тянет. Убила бы!
Павел, задрав голову, слушает Варку, похохатывает.
Петр Иванович чувствует себя неловко, как будто его только что разыграли. Или это была затея одного Павла — устроить Варку уборщицей, или Варка пошла на попятную, чтобы показать, что она не нуждается в помощи Петра Ивановича или понимает, что ее некем заменить, и поэтому отказывается от легкой работы. Если верно последнее, то Варка вырастает в глазах Петра Ивановича, а Павел… Павел каким был, таким, видно, и остался…
Варка вышла на улицу посмотреть за ребятишками. Скоро с улицы раздается плач кого-то из детей и быстрый сердитый голос Варки.
— Не слушаются, — сказал Павел.
Петр Иванович хотел сказать, что детей надо воспитывать, и он хотел сказать, как надо воспитывать, но вспомнил, что сам едва справился с Володей.
Раньше Петр Иванович говорил ему все напрямую. Теперь Павел был вроде как неподотчетен: захочет — будет слушать, не захочет — не будет. Но дело было не только в этом: Петр Иванович чувствовал, что примешивалось еще что-то, Павел и Варка стали как будто небрежнее к Петру Ивановичу… Варка так и не появлялась с улицы, и Павел сидел, зевая, как будто ждал, когда кончится этот ненужный разговор.
— Павел Дмитриевич, ты что, нарочно спрашивал насчет работы для Варки?
Павел как-то странно засмеялся, согнулся на стуле и начал разглядывать начищенные до блеска ботинки учителя.
— Шутил? — нисколько не сердясь, переспросил Петр Иванович и смотрел на Павла как на школьника, который не очень сильно напроказничал.
— Как вам сказать, Петр Иванович… Можно и так считать, и по-другому.
— Ну, а как все-таки?
— Интересно было: примете или нет?
— Не принял бы.
— Почему?
— По двум причинам: вперед Варки просились две женщины, а вторую причину ты знаешь, она будет поважнее первой: некому коров доить.
— Мы все-таки соседи, — сказал Павел.
— Расстояние тут ни при чем, — сказал Петр Иванович.
— Ну что? — спросила Александра Васильевна, когда Петр Иванович пришел домой. — Отдал ключ от школы?
— А я его и не брал.
— Хорошо поговорил?
— Хорошо.
— Теперь, знаешь, к кому надо сходить?
— К кому? — устало садясь на кровать, будто он перед этим дрова пилил, а не ходил говорить, спросил Петр Иванович. — Что ты еще придумала? Никуда я больше идти не собираюсь.
— Я ж не говорю, что сегодня.
— И завтра никуда не пойду.
— Сходи к Лоховым.
— Зачем?
— Дементий расскажет что-нибудь. Может, что-нибудь знает?
— Сам придет.
— Это ж не ему, а нам надо.
— Мне это не надо, — сказал Петр Иванович. — Пусть этот человек или нечистая сила стоит на огороде день и ночь!
— Ишь ты, храбрый какой. Что толку от твоей храбрости.
— А какой тебе толк нужен?
— Надо же что-то делать.
— Я же сказал: ничего делать не надо. Меня никто не тронет.
— И ты такой же, как все, не надо хвалиться.
— Такой да не такой. Меня, как пескаря, на удочку не поймаешь!
— Ну, ладно, не такой, — согласилась Александра Васильевна, зная, что Петра Ивановича ей не переспорить.
17
Весь следующий день Петр Иванович думал: надо ли было ходить к Аншуковым?
Ему казалось, что он свалился с какой-то высоты, вроде бы опять стоит на месте, но что-то не так, что-то нарушено, и ничего нельзя исправить, и нет виновного. Александра Васильевна? Если бы сам Петр Иванович не захотел и не пошел, то его бы никто не заставил. Получилось, что он чего-то дрогнул, испугался, — и сделал доброе дело, то есть хотел сделать доброе дело.
Все выглядело по-другому, если бы не было этого чертового случая с чьим-то ночным хождением… Но разве мало добрых дел было за Петром Ивановичем до этого случая? Разве его жизнь не состояла из непрерывающейся цепи добрых дел?
Петр Иванович никак не мог согласиться, что он где-то ошибся, потому что в первую очередь о себе никогда не думал. Он мог ошибиться для себя, то есть сделать плохо себе, но не другому. И тогда он подумал: если сделал плохо себе, то каким-нибудь образом не делаешь ли плохо и другому? Но уж настолько плохо Петр Иванович и себе ничего особенного не делал!
В основном довольный своей жизнью, он собирался пойти на пенсию и пожить чуть-чуть спокойнее, даже попробовать при более спокойной жизни еще раз проанализировать пройденный путь, найти в нем немало интереснейших дней, которые складываются в целые годы, и, так сказать, пожить приятными воспоминаниями, рассказывая о них молодым людям.
Ни в какую спокойную жизнь даже на пенсии Петр Иванович не верил — не тот он был человек! — но почему было не помечтать о спокойной жизни. Всегда, как бы ты ни устал, найдется какая-нибудь работа, и никогда у Петра Ивановича не портилось от работы настроение, потому что жизнь для него составлялась из работы — и больше не из чего.
Петр Иванович ожидал под старость еще большего уважения к себе не только со стороны окружающих, но и со стороны себя, — потому что если не уважать себя, то как же ты сможешь уважать других?
И вот кто-то делал так, чтобы Петра Ивановича меньше уважали и окружающие, и сам Петр Иванович!
Правда, тут могло быть и обратное: все это могло сыграть и на пользу Петру Ивановичу в смысле его авторитета — что вот ему угрожают, а не кому-нибудь. Но лучше бы Петр Иванович обошелся без шумихи, без такого заострения внимания на своей персоне.
Он и в самом деле не верил, что с ним может что-то случиться. Всей своей жизнью, казалось ему, он доказал, что теперь он неприкосновенен. Если коснуться Петра Ивановича, поднять на него руку, то это означало поднять руку на нечто более крупное, чем Петр Иванович, на нечто гораздо большее, и что сразу же после этого наступит возмездие. И если Петру Ивановичу засуетиться, выказать волнение и прочее-прочее, то это значит подвергнуть сомнению всю внушительность фигуры и Петра Ивановича и того, что стоит за ним.
Так чувствовал и понимал Петр Иванович создавшуюся ситуацию. Он был уверен, что так же или почти так понимают это и все жители Белой пади, и никто сильно не волнуется, не переживает за Петра Ивановича, потому что знают, что тронуть его не так-то просто.
Петру Ивановичу достаточно снять телефонную трубку, позвонить, и приедут из района. Но Петр Иванович против этого, он уверен, что не нужно никакой помощи, потому что справляться не с чем, ловить как будто некого и как будто нет никакого человека, а есть лишь привидение, жалкий отзвук, а может, и совсем пустяк, — чья-нибудь шутка.
Вечером, припозднившись, Володя Мезенцев и Коля Лохов возвращались с Ушканки.
Вечерки (если это можно назвать вечерками, когда собирается мало-мальски взрослых парней человек пять, чуть побольше девчонок и в основном малышня, которая путается под ногами и только мешает) за последние годы переместились на Боковскую улицу, на Советскую и даже на Ушканку. Причин для этого несколько: бригадная контора со всеми хозяйственными постройками была теперь на Пастуховой горе, между Боковской и Советской улицами; новый клуб, ему лет семь, расположен в бывшей поскотине около реки напротив Пастуховой горы, с той же Ушканки до него ближе, чем с Белой пади; и как-то так получилось, что учеников теперь на Бо́кове и на Ушканке больше, чем в Белой пади, поэтому, хочешь не хочешь, а приходится признавать, что на Бокове и на Ушканке теперь веселее.
Дойдя до Боковы, Володя с Колей свернули по проулку к кузнице, перелезли через изгородь и пошли по задам домой. С утра пролил дождь, идти по деревне и месить грязь им не хотелось, а потом, пока идешь по мокрой траве и лужам, заодно и сапоги вымоешь.
Как только ребята перелезли изгородь у кузницы, сразу же перестали разговаривать и всю дорогу до самого огорода Мезенцевых шли молча. Как-то особенно на них действовала темнота у реки и огородов, более острые запахи, близкие, где-то совсем рядом, голоса птиц, и вздохи леса, плотной стеной стоявшего за болотом. Вскрикивала какая-то птица на той стороне реки, а может, этот крик доносился из леса… Ночью голоса звучали не так, как днем, было в них что-то спокойно-дремотно-затаенное… Угрожающе стрекотал барашек, вскрикивая длинно и разряжающе, когда терял высоту и набирал ее снова.
Перед тем как перелезть около бани через разбирающиеся воротца, Володя шепотом попросил Колю не разговаривать. Они бесшумно перелезли воротца, две верхние доски которых были кем-то опущены. Кто это мог сделать? Мезенцевы никогда так не оставляли на ночь воротца. Ребята старались идти только по тропинке, чтобы не хрустела старая скошенная трава. Поднявшись от колодца на гору, они увидели стоявшего на тропинке человека. Ребята упали на землю и несколько секунд смотрели на человека, стоявшего очень близко к воротам и смотревшего на дом. В доме света не было, и человек показался страшным.
Это он! — догадались Володя и Коля. Надо было что-то делать…
Если бы человек вдруг повернулся и пошел в сторону ребят, они бы на него напали. Пока боролись, успели бы крикнуть Петра Ивановича — близко, Петр Иванович обязательно бы услышал и прибежал.
Человек продолжал стоять.
Ребята отползли назад. Когда человека не стало видно за пригорком, они поднялись, и от колодца низко пригнувшись, отступили к бане и в ее тени разогнулись. Надо было срочно вооружиться. Володя шепотом попросил Колю подождать, а сам, неслышно открыв двери в баню, осторожно нашарил в углу за бочкой железины, которые, раскалив докрасна в каменке, Мезенцевы бросали в бочку, чтобы сделать горячее воду. «Если такой железиной стукнуть человека по голове, должен свалиться», — подумал Володя.
— Держи, — шепотом сказал он Коле, найдя его на том же месте. Коля ощупал железину.
— Длинная — хорошо!
Он двинулся вверх по тропинке, лег и пополз. Володя — за ним. Ползли с остановками, прислушиваясь, вглядываясь в темноту. Тропинка была грязная и скользкая. Малейший шорох — и ребята замирали. Им казалось: или человек неожиданно вынырнет из темноты и они столкнутся, или его и след давно простыл.
— Стоит, гад, — повернувшись, шепнул Коля. — На том же месте, видишь?
— Прирос, что ли, — еще тише прошептал Володя. — Может, это так что-нибудь?
— Долбанет из ружья, будет тебе так, — ответил Коля, не спуская глаз с человека, который с каждой секундой делался для них страшнее.
Около бани они договорились: подползти как можно ближе и нападать разом — железинами по голове, чтоб свалился. Кроме ружья, у него может оказаться нож, чуть прошляпишь, не справишься.
«Давай», — жестом сказал Коля, и они продвинулись по-пластунски еще метров пять.
Володя помнил, как отец строго-настрого приказал не предпринимать без него никаких решительных действий. Он тронул Колю за рукав.
— А если за ружьем сбегать?
— Уйдет.
— Сбегай, а я посмотрю за ним.
— Ты что, одному оставаться… Посмотри, какой высоченный.
— Ничего, — подбадривал себя Володя.
Они доползли до картошки. Теперь подкрадываться было труднее; ботва начала засыхать, ее чуть заденешь — и выдашь себя! Здесь лучше всего подняться, не задевая картофельных кустов, подойти и ударить…
Коля расправил руку с железиной и начал подниматься, готовый в любое мгновение бесшумно упасть на землю. Володя заставил его лечь.
«Чего ты?» — сделал недовольное движение Коля. Володя коротким взмахом руки показал: назад!
Через минуту они были внизу. Так же бесшумно перелезли через воротца в поскотину, прошли немного шагом и, считая, что теперь будет неслышно, побежали вдоль Нюриного огорода к мосту. С разбегу перескочили толстую сосновую изгородь, зигзагом идущую от Нюриного огорода к самой воде. Чуть-чуть отдышавшись, ребята снова бросились бежать по проулку в гору.
Дом Лоховых через дорогу смотрит в проулок. Володя с Колей хотели проскочить в калитку, которая всегда была открыта, но на этот раз оказалась запертой. Калитка закрывалась на веревочную петлю, которая два-три раза наматывалась на толстый гвоздь. Коля сильно толкнул калитку, петля натянулась, и он никак не мог сразу сбросить ее с гвоздя. Тогда он подтянулся на руках и перескочил через калитку. Володя сделал то же самое. Гуран у Лоховых поднял страшный лай, ему отозвались собаки в соседних дворах. Прыгая через калитку, Коля с Володей чуть не сбили с ног Дементия.
— Чего тебя нечистая сила носит! — рассерженно крикнул Дементий. — Вам что, ворот нету?
Гуран узнал ребят, виновато крутнул хвостом и ушел на свое место. Соседские собаки никак не могли успокоиться, и ребята пожалели, что прыгали через калитку. Своим лаем собаки могли спугнуть человека.
— Батя, дай скорее ружье, — сказал Коля. Он хотел проскочить в избу и взять ружье, но отец остановил его.
— Зачем тебе ружье в такое время?
— Мы видели этого!
— Кого?
— Который ходит у Мезенцевых! Он еще не ушел! На огороде стоит!
— Скорее, — попросил Володя.
— Чего же ты стоишь? — накинулся на Колю Дементий. — Он ждать не будет!
Коля вмиг очутился на крыльце и почти сразу же открыл двери в избу.
— И ты видел? — спросил у Володи Дементий. — Или вам показалось?
— Видел. Мы к нему близко подползли.
— Какой он был, не разглядели? — спросил Дементий. — С ружьем, без ружья?
— Только видно, что человек стоит.
— То-то и оно, что ночь темная, — сказал Дементий. — Добегаетесь!
Выскочил из сеней Коля, шумно спрыгнул с крыльца.
Почуяв запах ружей, появился Гуран. По разговору и поведению хозяев Гуран понял, что хотят обойтись без него, и снова ушел на свое место.
Поднялась с постели и, как была в ночной рубашке, вышла на крыльцо Арина.
— Куда это вы?
Услышала, как говорил Дементий:
— Идите в ограду, только чтоб он вас не услыхал и не увидел. А я побегу снизу, от моста. Кричите, если что. Я крикну — бегите ко мне.
И Дементий с ребятами растворились в темноте.
Гуран пробежался по ограде, тоскливо взлаял — обиделся, что его не взяли с собой. Больше не слышала Арина ни одного звука, как будто все это приснилось ей. Но не было дома ни Дементия, ни Коли, не было на стене ружей, значит, случилось что-то у Мезенцевых. Ей сделалось страшно, и она зажгла свет.
Ребята в ограду не пошли, как просил Дементий, а перелезли через тын около амбара. Если человек, как в тот раз, вздумает спрятаться за штабелем, то он никуда не уйдет: вдоль амбара и прясла хорошо подкрадываться к штабелю. Лучшего наблюдательного пункта не придумаешь: от угла амбара просматривается дом, вся ограда и огород около дома. А через калитку идти — скрипнул, чуть-чуть звякнул, и все пропало — уйдет!
Через тын, между Нюриным сараем и амбаром Мезенцевых, ребята лазили часто, помнили, как расположена каждая тынина, и перелезли в темноте так же бесшумно и ловко, как бы они сделали это днем.
Между стеной сарая и амбаром темень, хоть глаз коли, идти даже с ружьем со взведенными курками не очень-то приятно. Ружье у Коли, у Володи — половинка кирпича, которую он подобрал около рассадника.
За воротами, на том месте, где стоял человек, никого не было.
Может, он стоит на террасе и ждет, когда кто-нибудь из Мезенцевых пойдет на улицу? Или он слышал, когда они бежали по проулку? Скорее всего, он испугался лая собак… Зря они поторопились и стали прыгать через калитку! Не залаял бы Гуран, и все было бы тихо, все бы шло по-другому… Они пожалели, что бегали за ружьем. Виноват будет Володя, что они, можно сказать, из рук, выпустили того, кто стоял на тропинке. Сейчас бы связанный, с окровавленной головой…
— Слышишь? — прошептал Коля. — Кто-то крадется около Нюриного тына.
— И я слышу, — шепнул Володя. — Не стреляй, пока вплотную не подойдет.
Кто-то шел и остановился. Коля забыл, в котором стволе жакан, а в котором — картечь. Картечью можно и дальше стрелять в потемках, хоть одна да попадет, а пулей запросто промахнуться. И он решил ждать, когда человек подойдет ближе, хотя и так было близко.
Человек постоял, послушал, не обнаружил ничего опасного и стал приближаться к ребятам.
Он!
Теперь главное не упустить его!
У Коли занемела рука, и он дал ей отдохнуть.
— К нам идет! — не то со страхом, не то с радостью прошептал он, беря ружье на изготовку.
— Вверх стреляй, — попросил Володя.
По отдаче ружья и по страшному гулу Коля понял, что в правом стволе был жакан. Кто-то упал. Из темноты от Нюриного тына раздался голос:
— Я тебе постреляю!
— Батя, ты?!
— Я.
— Что-то голос не похож, — сказал Коля, продолжая держать палец на взведенном курке.
— Как это непохож! — рассердился Дементий, шагая по покосу. — Что за стрельба, что вы себе думаете?!
— Правда, отец, — сказал Коля и ждал, что теперь будет. Курок так и оставался взведенный. Во втором стволе была картечь. Тяжело дыша, Дементий вынырнул из темноты. Коля невольно сжался, ожидая оплеуху от отца.
— Придем домой, я тебе покажу голос, — пообещал Дементий. — Ты у меня дома попляшешь!
— Откуда я мог знать, что ты так быстро прибежишь? Ты, как молодой, быстрее нас!
— Будет тебе и молодой и старый!
Коля почувствовал, как по всему телу поползли холодные мурашки: если бы не Володя, то он, точно бы, не обвысил, а стрелял бы в отца.
— Ты как успел? — не понимал Коля, — По Нюриному огороду срезал?
— Что ж я буду идти кругом и ждать, когда он тут вас обоих положит? Конечно, мне надо было идти понизу. Я сразу не подумал, что от вас всего можно ждать. Если кто был, его теперь с собаками не найдешь. Вверх стрелял? — спросил Дементий, все еще не веря, что так легко отделался. — Скажи, не бойся?
— Вверх.
— Дурак! — снова закипел Дементий.
— Я же не знал, что ты не пойдешь понизу. Надо предупреждать.
— Все равно дурак. Чего вас на огород понесло?
— Думаешь, из ограды было бы неслышно, как ты идешь, шераборишься.
Ребята от неожиданности вздрогнули, когда рядом, из-за штабеля, раздался голос:
— Что за люди?
— Свои, Петр Иванович! — отозвался Дементий.
— По какому случаю пальбу открыли? Перепугали мою старуху. Володя здесь?
— Здесь, — отозвался Володя.
— Иди домой.
Володя, не говоря ни слова, перелез через прясло в ограду.
Через несколько секунд ярко вспыхнули окна в доме. И как только загорелся свет в окнах, в одном из них упала приподнятая штора и в исчезающем просвете мелькнули лицо и рука Александры Васильевны.
— Петр Иванович, дело серьезное, — начал рассказывать Дементий, перелезая через прясло в ограду. — Ребята только что видели этого человека! На тропинке стоял, напротив дома. Это ж они по мне стреляли, сукины дети!
— Что-то я ничего не пойму, — сказал Петр Иванович. — Вы в кого-то стреляли или в вас кто-то?
— Все было! — сказал Дементий с такой значительностью, будто около дома Мезенцевых произошло целое сражение, которым командовал Дементий и которое он только что проиграл. — Не видел снайпера, посмотри! — Он указал на Колю, стоявшего в двух шагах с ружьем за плечами. — Это ж надо додуматься — в отца палить!
— Я же не нарочно, — ответил Коля. — Мы хотела лучше сделать, я не думал, что это ты крадешься.
— Без нас лучше не сделаете, — сказал Петр Иванович, пока еще не понявший толком, что произошло, но догадывавшийся: видимо, едва не случилось то, чего он боялся и о чем все время предупреждал Володю. — Где вы столько были? — спросил Петр Иванович у Коли.
— Гонялись за этим.
— Это потом расскажете. Я спрашиваю, где вы были столько времени?
— На вечерку ходили.
— Я вам дам вечерку… Я говорил, без моего разрешения ничего не предпринимать?
— Говорили.
— Сколько сейчас времени?
Коля посмотрел на новенькие часы с фосфоресцирующим циферблатом.
— Двадцать минут первого. Ой, вру, Петр Иванович! Без двадцати минут час.
— А дома вы должны быть во сколько?
— В десять.
— Так-так, Петр Иванович, — одобрил его разговор с Колей Дементий. — А я, как придем домой, ремня дам. У меня давно руки чешутся.
— Дементий Корнилович, насчет ремня ты оставь. Как же ты будешь лупцевать такого жениха? У него уже, наверно, невеста есть! Правда, Коля?
— Это маловажно, — сказал Дементий, оглядываясь в сторону приамбарка. Петр Иванович и Коля тоже оглянулись: только что оттуда послышался какой-то шорох.
— Надо проверить, — сказал Дементий, на всякий случай снимая с плеча ружье.
Коля тоже снял с плеча ружье, хотел взвести курок и обнаружил, что курок взведен. Ему снова сделалось неприятно: ружье могло нечаянно выстрелить, когда он перелезал через прясло, и сейчас, когда он снимал его с плеча. Коля опустил курок, не желая больше стрелять, если даже кто-то есть в приамбарке и выскочит прямо на него.
Тем временем Петр Иванович быстро прошел впереди Дементия, шагнул в дверной проем, зиявший чернотой, посветил фонариком вдоль стен и по всему приамбарку.
— Нюрин кот! — сообщил он Дементию и Коле, остановившимся у входа в приамбарок.
— Может, и вы на огороде кота видели? — пошутил Дементий, обращаясь к Коле.
— Ничего себе кота — два метра ростом! Мы как глянули, поджилки затряслись!
Петр Иванович пригласил в дом Дементия и Колю, чтобы выслушать троих, — что и как они видели.
18
Яков Горшков не сомневался, что около дома Петра Ивановича ходит кто-то из своих.
Он взял Белую падь и попытался пересчитать, кто был за Петра Ивановича, и кто — против. Подсчеты его сначала свелись к тому, что все за Петра Ивановича. Тогда он заострил внимание на тех жителях Белой пади, которые, по его мнению, были способны на пакость.
Не могло ли случиться, что в это число попали те из белопадцев, кто просто не нравился Якову? Бывает же так: не нравится человек, хоть ты что делай! Или, допустим, Яков с кем-то когда-то поругался, не поделил чего-то, и так далее и так далее, и не могло ли это повлиять на его выбор? Нет! Он искал недоброжелателей Петра Ивановича…
Яков добровольно решил вести следствие и никому ничего не говорить.
За Ильинкой и Длинным мостиком Яков с Дементием редко пасли коров, чаще всего они пасли за мостом, и начинали выгонять коров с Ушканской улицы. Отсюда Яков и начал вести следствие.
Ушканка, скрытая лесом, для Белой пади всегда была немного таинственной и загадочной.
Когда ни посмотришь, на Ушканской улице нет ни одного человека. Ну, ладно, взрослые — на работе, а остальные где? Есть же на Ушканке старики и старухи, ребятишки, — они-то где? И вот если начнешь приглядываться, то очень скоро обнаружишь, что тебя кто-нибудь рассматривает в щель забора, из окна, из-за дерева… Старуха, копавшаяся в огороде, заметив, что кто-то пришел, спрячется в подсолнухах или уйдет за баню, и, хоть сколько ее кричи, не докричишься.
На Ушканке было пять домов, теперь — двенадцать. Раньше для Якова, как, впрочем, и для других, сомнительным был один дом — Фени Котовой.
Жила Феня с мужиком, которого как-то и не видно было, и с дочкой тонкой-претонкой и бледной, будто росла она не в просторной избе, не на хороших хлебах и не на чистом воздухе, а в подполье, никто толком не знал, как ее зовут, сколько ей лет. Шли слухи, что в войну она была напугана в доме чем-то ужасным и с тех пор перестала говорить, и на незнакомых людей (в Белой пади для нее все были незнакомы) боялась смотреть. Дальше ограды, по рассказам, никуда не выходила.
Якову и еще двум или трем жителям Белой пади удалось видеть ее несколько раз в лесу, собирающей то грибы, то ягоды или просто идущей по лесу. Рассказы совпадали в одном: как бы осторожно кто-то не пытался наблюдать за нею, через несколько секунд она исчезала.
Лет десять назад, когда бригадир ездил верхом на коне и загадывал на работу, было известно, что и как в доме у Фени. Но с тех пор как бригадир перестал загадывать и колхозники сами приходят утром в бригадную контору и узнают, кому куда, о Фенином доме мало что известно.
При желании лучше всех осмотреть Фенину ограду и в дом заглянуть могли пастухи. Яков решил воспользоваться такой возможностью. На всякий случай, он решил присмотреться и к остальным домам на Ушканке, потом — на Советской, на Бокове и, если потребуется, взять под наблюдение главную улицу Белой пади, на которой жил Петр Иванович.
Феня еще не начинала доить корову, и Яков, медленным шагом проехавший верхом на коне мимо ее дома, видел, как она побежала к сараю с маленьким белым подойником. Яков слышал, как в углу под сараем резко звякнула дужка ведра, послышался окрик на корову: «Стой, что тебя… Стой…»
«Ишь, сердится, что рано выгоняю!» — подумал Яков, довольный началом своей необычной деятельности — следствием. Ничего плохого он не делал: выгонял коров на полчаса раньше — так это хорошо, позже — было бы плохо.
В другой раз, если бы Феня не успела подоить корову, он бы крикнул: «Выгоняй!» и не стал бы ждать. Фене пришлось бы наспех доить корову, а потом — догонять пастуха. Яков прокричал около домов и, возвращаясь, остановился на краю дороги в соснах — напротив Фениного дома — и терпеливо ждал, когда она подоит корову. Ожидая, он изучал Фенин двор и уже не в первый раз отметил: самый густой лес от Ильиной заимки подходит к Фениному дому.
Дом стоял в глубине ограды, окна отсвечивали, с улицы в них ничего не видно… Дом, лес, баня, и все, что было в Фениной усадьбе, показалось ему враждебным.
Яков нагнулся с седла, открыл калитку — Феня выгнала корову на улицу. За все годы, сколько он пастухом, Яков впервые открыл калитку, впервые ждал, пока Феня подоит корову.
Исподлобья, держась за кончик по-старушечьи завязанного у шеи ситцевого платочка, Феня долго и недоверчиво смотрела в глаза Якову. Тот не выдержал взгляда и спросил первое, что пришло в голову.
— Ягод нынче много насобирала?
— Много, — сказала Феня, закрывая калитку, но оставаясь на улице.
— Где собирала?
— За Средним хребтом.
— Далеко…
— Близко нету. Померзли ягоды, и коровы пооббивали! Скота много.
— Места надо знать, — нахмурившись и как будто о чем-то соображая, сказал Яков. Собираясь ехать, он тронул поводья и остановился, чтобы выслушать Феню.
— Я места знаю, все обегала. За Вторым Средним была — нету ягод.
Яков оглянулся, всех ли коров выпустили ушканцы, остался доволен, что еще не выгнала корову Максимениха, и решил еще немного поговорить с Феней.
— Далеко бегала, а ягоды у тебя под боком. Зимнюю дорогу через болото видишь? — сказал Яков, подъезжая к забору с другой стороны ворот, откуда открывался вид и на болото, и на другую половину ограды.
Феня повернулась спиной к дороге, открыла калитку и сразу же увидела среди зеленых камышей дорогу.
— Ну, вижу.
— Около леса Королькова копна…
— Ну?
— По левую сторону от дороги, не доходя копны. Повыше от болота.
— Какие ягоды — там черт ногу сломит! — сказала Феня, перестав смотреть на болото.
— Чащу пройдешь, заросшая тропинка будет. По ней как раз на полянку выйдешь!
— Завел бы, одна не найду. Мимо этой полянки пять раз буду ходить и не увижу.
— То-то и оно, — согласился Яков. — Близко, а сразу не найдешь.
— Когда видел? Может, выбрали давно?
— Вчера под вечер: Хотел ребятишек послать, да некогда им — в школу пошли. А брусника, я скажу, ажно черная, крупная, как клюква! За час ведро наберешь! Видишь, две сосны особняком стоят? Где все желто от березняка? — Яков попросил смотреть по вытянутому в руке кнутовищу. — Недалеко от этих сосен, ближе к Татарским полям.
— Надо сходить. Не поймали еще? — спросила Феня и пристально взглянула на Якова.
— Кого?
— Ну, этого, который Мезенцевых стращает?
— Да нет вроде, — сказал Яков, как будто этот вопрос мало его интересовал.
— Что-то долго не ловят, — сказала Феня. — Ни милиции нет, никого.
— Может, ловят, только мы ничего не знаем, — ответил Яков, заглядывая во двор к Фене и пытаясь отыскать там какие-нибудь следы, оставленные чужим человеком. Он жалел, что сразу не зашел в ограду и не рассмотрел все получше, и решил, что сделает это вечером или завтра утром.
— Место у вас красивое — живете в лесу! — сказал он, оглядываясь в конец Ушканки, за воротами которой зеленела широкая поляна, окруженная молодым сосняком. Таких полян за Ушканкой много, до самого Харгантуйского мостика. Клубнику и маслята ушканцы собирают прямо за воротами.
— Сколько ходил, ездил — и не видел! — сказала Феня, довольная, что Яков похвалил Ушканку.
— Однако мы с тобой заговорились! — оказал Яков. — Не к дождю ли?
— А ну его, дождь вчера был!
— Чего, чего, а дождя нынче хватает. Ни одно лето мы с Дементием столько не мокли.
По той же стороне, где стояли Феня с Яковом, прошли два ушканских мужика — Иван Черный и хромой с войны Игнат Максименко. Они поздоровались с Яковом, потом — с Феней. Пройдя немного, оглянулись, видимо, заинтересовавшись, о чем пастух говорит с Феней. Игнат возобновил какой-то рассказ — что-то чертил рукой в воздухе, Иван Черный внимательно слушал, и, хоть был и не хромой, а едва поспевал мелкими шажками за Игнатом, теперь уже что-то показывавшим в воздухе двумя руками.
— Рано гонишь, — сказала Феня, проводив взглядом мужиков, идущих в бригадную контору. Ивана Черного не стало видно, а голова Игната в зеленом картузе еще несколько раз показалась из-под горы.
— Гоню-то рано, да вот с тобой простоял!
— И постоять надо, и поговорить, — сказала Феня. — На то и люди.
Яков дернул поводьями, гнедой конь с длинным завязанным хвостом, выгнув шею, стал удаляться от ворот медленной рысью.
Яшкин конь не выглядел бы красавцем, если бы у него не было длинного хвоста. Летом Павел Аншуков поотрезал всем коням хвосты. Белопадские модницы, приезжающие из города, приобрели у него конские хвосты на шиньоны бесплатно или по дешевой цене — за бутылку. И только у Яшкиного коня Павел не решался отрезать хвост.
19
В лесу у Якова было достаточно времени поразмышлять над своим разговором с Феней.
За ее словами Яков увидел что-то такое, чего он не мог объяснить сразу. Он снова хотел представить ее враждебной, — но виделась Феня в каком-то другом, невраждебном свете…
— Смурной ты сегодня, — сказал ему Дементий, когда они сидели и обедали на колодине.
— Что-то нездоровится, — соврал на этот раз Яков, хотя у него на самом деле частенько побаливал желудок.
— Ешь больше, и все пройдет! — посоветовал Дементий.
— Пробовал, — с неохотой проговорил Яков.
— Ну и как?
— Не помогает. С этой пастьбой гастрит или язву заработал, это точно.
— Не обращай внимания, — дал еще один совет Дементий, — и все пройдет.
Сам он никогда ничем не болел и людским жалобам на болезни не верил. Все болезни, считал он, идут от простуды и от мнительности, и он, вымокнув или намерзнувшись, парился в бане до потери сознания и — точно! — ни разу не болел. Выглядел он хоть и не моложе своих пятидесяти пяти лет, но зато крепок был, как листвяк, возле которого они сидели.
— Вот кому дал бог здоровья — Петру Ивановичу! — сказал Дементий.
— Дело не в здоровье, — ответил Яков, разрезая сало на мелкие пластики и забрасывая в рот быстрым, едва заметным движением.
— А в чем?
— В настойчивости.
— И ведь грамота небольшая, — заводил разговор Дементий в нужном для себя направлении. Малое образование Петра Ивановича и его авторитет никак не совмещались, когда Дементий начинал сравнивать одно с другим.
— Голову надо иметь, — сказал Яков, складывая в сумку остатки еды. — Другой всю жизнь учится, а толку никакого.
— Это правильно, — согласился Дементий.
Якову разговор показался незавершенным, и он, чтобы полнее сказать свое мнение об учителе и чтобы отбить у Дементия поползновение на личность учителя, сказал то, что не однажды говорил раньше и над чем опять думал в последнее время, — в связи с тем, что кто-то ходит около дома Мезенцевых.
— Таких, как Петр Иванович, мало: на десять деревень, как наша, один или того меньше. Для меня он особенный человек, мы ему и в подметки не годимся.
— Это почему? — не согласился Дементий.
— Разглагольствовать любим, — ответил Яков. — А как до дела дойдет, нас в кустах искать надо.
— Ты про меня? — сказал Дементий и, не мигая, уставился на Якова.
— Про всех.
— О себе ты так не скажешь.
— И я не лучше.
Дементий захохотал так громко, что, наверно, распугал всех диких коз на Марьиных буграх.
— Зря ты, Яков, и меня и себя ругаешь. Мы ни в чем не провинились: пасем хорошо, на чужое не завидуем, попадет человек в беду — выручим.
— Пасем хорошо, а все остальное — болтовня.
— Я с тобой не согласен, — сказал Дементий, взглядывая на небо и как будто отыскивая там какой-то ответ. Посмотрев еще раз на небо, на деревья, за которыми медленно передвигались коровы, отыскивая лучшую траву, он еще некоторое время молча сидел на колодине и сказал: — Что-то ты не в духе сегодня, Яков, чем-то ты недоволен.
— У тебя был с Петром Ивановичем разговор, чтобы ты поглядывал, может, этот человек в лесу встретится?
— Был.
— И что ты сделал?
— Я-то сделал, — Дементий пересел на новое место на колодине. — А вот что ты сделал? Скажи?
— Ответь сначала на мой вопрос. — Яков смотрел на Дементия так, будто держал его на привязи.
— Отвечу, — хвастливо сказал Дементий. — С того самого дня, как Петр Иванович рассказал, что кто-то ходит около его дома, я сплю и вижу этого человека! Пока мы с тобой пасем коров, я не упускаю из вида ни одного дерева, ни одного кустика! Сколько раз я уезжал и на два и на три часа? Думаешь, я столько времени за коровами ездил? Я этого человека искал! Я четыре раза проверил Марьину избу на Татарской заимке и на Ильинке успел побывать!
Яков слушал Дементия и вспоминал, что Дементий и в самом деле иногда что-то уж очень надолго отлучался. Вроде бы правду говорил Дементий…
— Что-нибудь заметил? — спросил Яков.
— Никаких следов, — сказал Дементий. — Как стояла изба пустая, так и стоит. И на Ильиной, и на Татарском!
Яков не ожидал от Дементия такой прыти, ему казалось: все это Дементий выдумал, чтобы оправдать свое бездействие.
Перегоняя коров из Третьей пади ближе к дому, около Сергеева озера пастухи наткнулись на погасший костер. Вчера проезжали, костра не было…
Дементий слез с коня и, не выпуская из рук повода, присел на корточки и стал осматривать угли и головешки, залитые водой и слегка дымившиеся. Рядом, в кустах, Яков нашел старый поржавевший котелок. Кто-то недавно черпал им воду.
— Кого-то мы спугнули, — копаясь в углях, сказал Дементий. — Только что ушел! Тут был взрослый, ребятишки сюда не зайдут, место глухое. Видишь ты, где костер разложен: ни с какой стороны дыма не видно! Лес густой, в самое небо упирается, пока дым поднимется, его уже вверху не видно… И около озера своя дымка… Как будто так и надо!
Почему ушел человек: или время было идти, или он не хотел, чтобы его видели пастухи?
Надеясь отыскать какой-нибудь предмет, потерянный или брошенный человеком, Яков обошел вокруг того места, где был костер, но ничего не нашел. Дементий сделал два больших круга и тоже ничего не нашел. Поржавевший и погнутый котелок мало о чем говорил: его могли подобрать на берегу и взрослые, и ребятишки…
Поломав голову над тем, кто из жителей Белой пади или Исаковки мог жечь костер, пастухи сели на коней и разъехались в разные стороны.
Минут через пятнадцать они почти одновременно — сначала Яков, а потом Дементий — выехали и остановились над озером на высоком косогоре, с которого озеро видно как на ладони, и хорошо виден за одинокими деревьями крутой спуск к озеру и противоположный берег.
Постояв на косогоре, похожие на пограничников, чутко вслушивающихся в каждый звук и шорох тайги и озера, они шагом поехали навстречу друг другу.
Наткнуться, скорее всего, они могли на человека, который не прятался от них и спокойно шел по лесу. Если кто-то ушел только что, то Дементий и Яков были уверены, что это был один человек, потому что двое или трое шли бы и разговаривали, их голоса было бы слышно.
Встретившись, Дементий и Яков рассказали друг другу, кто из них в каком направлении прочесал лес. Дементий по тропе, которая вела от озера на Исаковку, Яков — по лесной дороге, ведущей к Татарскому тракту. Ни тот, ни другой никого не догнали, никаких следов человека, который прошел сегодня или только что, не обнаружили.
Постояв над озером, пастухи пришпорили коней и минут через десять были во Второй пади около Индона, где, разбившись на несколько групп, паслось стадо.
Вечером Дементий попросил Колю отогнать Рыжку на конный двор, а сам в пастушеской одежде, пропахший травами, зашел к Мезенцевым.
Под сараем учитель что-то тесал топором на широкой чурке. Взмахи были экономные, точные, даже в таком пустяке — учитель обтесывал березовый колышек — видна была аккуратность. Дементий не стал бы тратить время: тесанул раз-другой, отрубил наискось, — и готово!
Заострив и бросив колышек на полку под сараем, Петр Иванович поздоровался с Дементием за руку, до этого он лишь кивнул ему.
— Петр Иванович, мне нужно с тобой поговорить, — хмурясь, негромко сказал Дементий.
— Это хорошо, что нужно, — бодро сказал учитель, довольный какими-то своими делами и не заметивший, как мрачновато оглянулся Дементий. — Это хорошо, что нужно, — еще раз сказал Петр Иванович, продолжая весело о чем-то думать. — Может, ко мне зайдем, если не торопишься?
— Лучше здесь, на воздухе, — сказал Дементий и через огород Мезенцевых посмотрел на болото.
— Тебе в лесу мало воздуха? — удивился Петр Иванович, садясь на чурку, на которой он только что тесал и в которую сбоку был зарублен топор. Дементий сел на другую чурку и, нахмурясь, молчал. Петр Иванович не торопил его.
Силен учитель, думал Дементий, или только притворяется, что силен. Что Петр Иванович был не тот, что раньше, в этом Дементий не сомневался. Должен бояться, думал Дементий, не может такого быть, чтоб не боялся…
Дементий знал, что Петр Иванович запретил Володе и Коле применять физическую силу, — того, кто ходит по ночам около дома Мезенцевых, можно задержать, не нанося ему никаких повреждений… Тот, кто угрожал дому Петра Ивановича, оказывался под защитой самого же Петра Ивановича!
Помолчав, Дементий начал издалека:
— Петр Иванович, как ты просил, я так и делаю: много не разговариваю, а смотреть смотрю. Видел сегодня костер!
— Что за костер?
— Около Сергеева озера. Котелок в кустах обнаружили! Хотел я его взять с собой, а потом думаю: пусть лежит на месте. Яков его так и положил, как он лежал, — будто мы у костра не были и ничего не видели.
— Это правильно, — одобрил учитель действия пастухов. — А почему вы решили, что костер жег тот человек?
— Хитрое место выбрано: будет гореть костер, и ни с какой, стороны дыма не увидишь! Это я тебе точно говорю!
— По этим признакам, Дементий Корнилович, нельзя утверждать, что был тот человек. Мало ли кому вздумалось разжечь костер! А то, что в хитром месте, как ты говоришь, так это так совпало! Вот и считай, что не было никакого костра! Костер был, но не тот, о котором ты думаешь.
— Костер кто-то залил водой как раз перед нами. Кто это мог сделать?
— Какой-нибудь охотник, рыбак, ягодник… — сделал предположение Петр Иванович…
— Не подходит, — сказал Дементий. — Рыбы на этом озере нет. Ягод там, кроме смородины и кислицы, тоже нет, а в сентябре, сам знаешь, какая смородина и кислица! Охотиться мог кто-нибудь только на уток. Ни одного выстрела за день мы с Яшкой не слыхали. Вот и думай, кто был у костра?
— Сомневаюсь, — сказал Дементий. — Ребятишки не станут заливать костер.
— Смотря какие ребятишки, — уточнял Петр Иванович. — Есть и такие, которые будут поаккуратней взрослых.
— Мало таких.
— Больше, чем ты думаешь, — отстаивал свою точку зрения Петр Иванович.
— Из тех, которых ты учишь, найдутся, а что на Исаковке, в Артухе — там же все молодые девки учат! Никто их не слушает! Отзвонит она свои часы, деньги получит, и хоть ты ей потом трава не расти! У тебя был порядок, тут ничего не скажешь, что был, то был.
Петру Ивановичу не понравилось, что Дементий заслуги Петра Ивановича назвал в прошлом времени. Всегда так у Дементия — вроде бы хвалит и одновременно ругает…
— Из твоего рассказа, Дементий Корнилович, я не могу утверждать, что это тот самый человек.
— И я не утверждаю, что обязательно тот, я только предположение строю.
— Вы не пробовали взять под наблюдение Марьину избу на Татарской заимке? — спросил Петр Иванович.
— Наблюдали.
— Что-нибудь заметили?
— Был кто-то, а не понять — свой или чужой.
— Тут надо внимательно смотреть, — сказал Петр Иванович. — За балаганом в Третьей пади понаблюдать не мешало бы. Вы ж там часто бываете?
— Чуть не каждый день!
— Вот два места и возьмите на прицел. Как будете гонять за Харгантуйский мостик, проверьте на Ильиной заимке, там тоже пустая изба стоит.
— Петр Иванович, я еще одно место на прицеле держу — Федькин мойган. Там тоже балаган остался… И ключ рядом!
— В четыре места, Дементий Корнилович, не успеешь, вам надо с Яковом.
— Мы договорились. Что ж мы, Петр Иванович, не понимаем, что ли? Тут до любого — каждого доведись… А мы, как ни говори, соседи.
— Спасибо, что зашел, — поблагодарил Петр Иванович.
На террасу вышла Александра Васильевна, позвала мужиков в дом. Дементий сослался на то, что некогда, что устал за день, и, попрощавшись, ушел.
20
Только он поднялся на крыльцо своего дома, от реки, из проулка, вынырнул председательский «газик» и остановился около Мезенцевых.
В четырех домах, расположенных по соседству, к окнам прильнули любознательные белопадцы. Они видели, как из машины ловко выскочили трое: председатель колхоза Благодеров — длинный, как жердь, неожиданно для своего роста подвижный и стремительный, младший лейтенант милиции Василий Емельянович — с неторопливыми движениями, всегда с прищуренными глазами, и шофер Миронов — маленький, улыбающийся, имени его большинство белопадцев не знали, потому что в Муруе и в окрестных деревнях Мироновых много, почти все они — шофера, как две капли воды похожи друг на друга, и который из них возил председателя, белопадцы все время путали.
Через час с небольшим председатель уехал в Муруй, то есть к себе домой, а Василий Емельянович через полчаса в полной своей форме от Мезенцевых пошел к Лоховым. Идти близко, наискосок через дорогу, и Василий Емельянович как будто нарочно шел медленно, чтобы его видели.
Никто не удивился, что Василий Емельянович от учителя идет к Лоховым. К учителю и раньше Василий Емельянович частенько наведывался — как-никак учился когда-то у Петра Ивановича. К Лоховым зайти у Василия Емельяновича тоже немало оснований: когда-то и Лоховы и Василий Емельянович жили на Татарской заимке.
Участковый, еще раз оглянувшись по сторонам, скрылся в воротах лоховского дома, а белопадцы еще некоторое время из окон и откуда кому придется смотрели, чтобы потом не понаслышке, а самим знать, — сразу участковый вышел от Лоховых или пробыл у них долго.
Василий Емельянович все эти полмесяца хоть и не показывал виду, а все время думал: что же все-таки происходит на Белой пади, кто этот человек, который ходит по ночам около дома учителя, опасен он или нет? Может, Петр Иванович преувеличил что-нибудь? Но это не похоже на Петра Ивановича…
Участковый тайком выставлял посты из самых, как ему казалось, близких и надежных людей, и никто не попался. Но стоит прекратить дежурство — и кто-то появляется…
Василий Емельянович стал думать: не ходит ли кто-то из своих? От такой мысли Василия Емельяновича сразу же охватила тоска, все тогда усложнялось: чужого поймать легче, а своего… своего можно год ловить и не поймать!
То, что Дементий оказывался слишком близко ко всему происходившему, наводило участкового на странную мысль: может, Дементий как-нибудь замешан в этом деле? И тут же участковый разбивал свою мысль: кому, как не Дементию, и посочувствовать, и помочь Петру Ивановичу — живут рядом, делить им нечего… Дементий, можно сказать, находка и для участкового и для Петра Ивановича: с утра до вечера в лесу, уж если кто-нибудь что-то заметит, так это Дементий да еще Яков. Ну и, конечно, колхозные пастухи: они далеко коров не гоняют, но тоже могут что-нибудь увидеть.
Василий Емельянович выслушал рассказ учителя о том, что Дементий видел костер около Сергеева озера, и теперь хотел послушать об этом же самого Дементия, а потом сравнить оба рассказа.
Василий Емельянович был почетным гостем в каждом доме Белой пади, а в домах бывших жителей с Татарского — в особенности. Старики Василия Емельяновича покинули заимку одними из последних. Василий Емельянович часто бывал на заимке, окрестности Татарского знал не только по детским воспоминаниям. Ввести в заблуждение участкового не так-то просто, уж он разберется, что за костер видел Дементий.
«А зачем меня вводить в заблуждение? — подумал Василий Емельянович. — Для чего?»
Эта мысль опять ему пришла, когда он сидел с Дементием на скамейке, напротив зеркала, висевшего на стене, и вел разговор о том времени, когда они жили на Татарском.
Дементий был рад гостю, Арина — тоже. Она накрывала на стол, хотя Василий Емельянович только что отказался от угощения, — поужинали у Петра Ивановича.
— У Петра Ивановича одно, у нас — другое, — сказала Арина и продолжала носить на стол, как будто гостей было самое малое человек пять, а не один Василий Емельянович. — Хоть выпить было? — спросила Арина.
— Выпили по рюмочке, — сказал участковый.
— Что это, таким мужикам — по рюмке, — и Арина поставила на стол нераспечатанную бутылку водки.
— Мне нельзя, — сказал Василий Емельянович, отставляя стакан.
— Почему это тебе нельзя? — обиделась Арина. — Вспомни, когда последний раз был?
— На днях с Дементием встречались! — сказал Василий Емельянович, загадочно улыбаясь.
— Ты даже в избу не зашел, — продолжала обижаться Арина. — Я выйду на крыльцо, все сидите и разговариваете. Ну как, думаю, перебивать?
Арина могла перебить кого хочешь, не постеснялась бы, но сейчас она говорила правду: она не понимала, чего было больше — уважения к Василию Емельяновичу, который, как ей казалось, ни с того ни с сего сделался младшим лейтенантом милиции, или — страха перед милицейской формой.
За столом Василий Емельянович завел разговор о Мезенцевых — о том, что опять кто-то появился около дома, спросил, что думает об этом Дементий.
— Ничего серьезного, — сказал Дементий, выпив маленькими глотками стакан водки и закусив соленым груздем и толстым кружочком засохшей, но очень вкусной домашней колбасы, остро пахнущей чесноком. — Кто-то балуется, я так думаю, — заключил он, поддевая тупой алюминиевой вилкой следующий кружочек колбасы, и взглядом пригласил участкового последовать его примеру.
— Плохое баловство, — сказала Арина, вспомнив, как испугалась она вчера ночью, когда Дементий, Коля и Володя побежали куда-то с ружьями.
Василий Емельянович спросил, где был Дементий, когда ребята прибежали к Лоховым.
— В своей ограде был, — ответил Дементий, — Я только зашел и закрыл калитку, и ребята бегут!
— Откуда шел? — спросил Василий Емельянович.
— Я в этот вечер везде был, — объяснял Дементий. — Не пришла домой Исаенкина корова.
— Нашлась?
— А куда она денется! — хвастливо сказал Дементий.
Хвастаться у него были основания: за шесть лет, пока он пас с Яковом, не потерялось ни одной коровы и не было ни одной потравы.
— По задам, вдоль реки, не проходил? — спросил Василий Емельянович. Ему казалось, что на этот вопрос Дементий ответит отрицательно.
— А что там делать, на задах? — Дементий засмеялся. — Там же все вытоптано! Корову, сам знаешь, надо искать на колхозном огороде, около силосной ямы или на хуторе, там еще турнепса не убрана.
— Где нашел? — спросила Арина.
— Около силосной ямы. Два раза проходил мимо, не видал! С хутора иду, корова — около ямы! Пообломать бы руки тому, кто ворота не закрывает!
— Емельянович, — старалась включиться в разговор Арина, — что нынче за год такой: что ни день, льет и льет, как из ведра! Когда хлеб убирать будем?
— Это надо у агронома спросить, — ответил Василий Емельянович. Он не хотел отклоняться от разговора, который начал с Дементием.
— Я его ни разу не видела, — сказала Арина. — Что он все, в конторе сидит?
— На полях агроном, тетка Арина! — громко сказал Василий Емельянович, как будто Арина была глухая.
— Новый агроном? — спросила Арина, не очень-то смущенная громким ответом Василия Емельяновича. «Выпил, вот и заговорил громчее», — подумала она.
— Новый, — более мягко ответил Василий Емельянович, так как не хотел обидеть Арину.
Прошло около часа, а. Дементий ничего не сказал про костер, о котором все это время думал Василий Емельянович, и он спросил, что за костер видел Дементий.
— А кто ж его знает, — сказал Дементий, пожав плечами. — По тайге костров не пересчитаешь!
— Ты мне расскажи про тот, который видел сегодня, — попросил Василий Емельянович.
Про костер Арина слышала от Дементия, второй раз ей было неинтересно, и она собиралась идти к продавщице домой, выпрашивать бутылку.
Не даст Аня никакой бутылки, знала Арина, но Дементий посоветовал:
— Скажи, что в гостях Емельянович.
Василий Емельянович будто не слышал, что Дементий предлагает Арине спекульнуть его именем, и даже делал вид, что не против выпить еще.
Арина ушла. Василий Емельянович попросил Дементия рассказать про костер подробнее.
Дементий с такой задачей справился и смотрел на участкового, как бы говоря: стоит ли на какой-то костер обращать внимание!
Василий Емельянович задумался: об одном и том же у него было два разных рассказа. Костер у Сергеева озера расположен в хитром месте, котелок, которым был залит костер, все это совпадало, — разница была в другом: если слушать Дементия, то костер у Сергеева озера ничего особенного не представлял, его мог разложить кто угодно, и, скорее всего, это сделали ребятишки. Костер, если слушать Дементия, и проверять нечего, Дементий и так все рассказал. Об этом точно так же может рассказать и Яков Горшков…
У Петра Ивановича выходило совсем другое: кто-то спешно залил костер, спрятал котелок и исчез, не оставив больше никаких следов. Дементий и Яков догнали бы, если кто-то шел от костра по дороге к Татарскому тракту или по тропе на Исаковку или в Артуху. Кто-то не захотел встречаться с пастухами и ушел по лесу, а не по тропе и не по дороге или спрятался поблизости и ждал, когда Яков с Дементием уедут. По тому, что рассказывал Петр Иванович, костер и место вокруг костра необходимо было проверить. Завтра Василий Емельянович попросит у бригадира коня и вместе с пастухами найдет этот костер…
Пришла Арина, принесла бутылку, и Дементий с удовольствием разлил водку в стаканы. Арина вернулась не такая радушная, как была до этого, и Василий Емельянович спросил, что случилось.
— Насилу выпросила, — сказала Арина, снимая платок и телогрейку.
— Она не верит, что у нас в гостях Василий Емельянович? — сказал Дементий, явно не одобряя такое поведение продавщицы. — Она что?
— Кто ж ее знает, — ответила Арина и, чтобы не мешать мужикам, полезла на печь. Оттуда, сдвинув к стене длинную голубенькую занавеску, смотрела на мужиков и слушала.
Василий Емельянович по два и по три раза спрашивал у Дементия об одном и том же, и Арине казалось, что младший лейтенант милиции совсем запутался и ничего не понимает.
Василий же Емельянович минут через десять после того, как о нем вот так подумала Арина, был уверен или, точнее сказать, был почти уверен, что навел полную ясность: Петру Ивановичу пастух рассказывал одно, а участковому — другое. Дементий разрисовал костер и то, как они с Яковом ловили кого-то, чтобы нагнать страху на учителя…
Поверить, что Петр Иванович испугался, участковый не мог, потому что Петр Иванович как-то уж очень спокойно относится к тому, что кто-то ходит около его дома. Такое спокойствие Петра Ивановича и нравилось участковому и не нравилось. Нравилось, что Петр Иванович не боялся, не бил тревоги и тем самым не отнимал лишний раз время — дел у Василия Емельяновича и так хватало. В то же время спокойствие Петра Ивановича ему не нравилось: а ну как что-нибудь серьезное?
Василий Емельянович сидел за столом раскрасневшийся, в полурасстегнутом кителе и с каждой минутой все более серьезнел лицом. Со стороны не понять: или участковый пьянеет, или чем-то недоволен?
— Что с тобой, Емельянович? — с тревогой спросил Дементий, когда участковый вроде бы ни с того ни с сего начал упорно смотреть на захмелевшего Дементия и едва заметно хитро улыбаться.
— Со мной ничего, — на что-то намекая, сказал участковый и стал улыбаться хитрее и увереннее, что должно было означать: я все знаю, так что, Дементий Корнилович, давай-ка лучше рассказывай все начистоту. Эта улыбочка стоила Василию Емельяновичу больших трудов: хотелось не улыбаться, а закричать на Дементия, спросить, почему он учителю рассказывает одно, а участковому — другое? Но спрашивать было рано: надо было снова просить Петра Ивановича в точности передать рассказ Дементия о костре, еще раз об этом послушать Дементия, съездить к Сергееву озеру, все это сопоставить, то есть все затягивалось, и это начинало выводить участкового из равновесия; а тут еще выпил…
Дементий — мужик умный, и только любит, когда ему нужно, прикидываться простачком. Участковому казалось, что он напал на след, потому что больше верил Петру Ивановичу, а не Дементию. Еще как жили на Татарском, маленький Василий Емельянович удивлялся: вот только что видел Дементия, идущего по дороге, по переходу через Индон или около озера, и — нет его, исчез на глазах, как будто превратился в пенек или дерево около дороги, сделался рыбой и нырнул в Индон или озеро…
Арина слезла с печи и пошла зачем-то на кухню. В это время случилось неожиданное: Василий Емельянович поднялся из-за стола, расстегивая кобуру, вышел на середину избы и, повернувшись к Дементию, выстрелил в пол.
Арина выскочила из кухни и увидела Василия Емельяновича, сидевшего на стуле с пистолетом. По комнате прошел кисловатый запах сгоревшего пороха, и Арина мгновенно побледнела. Сказать, что она до смерти испугалась выстрела, было бы неверно. За свою жизнь она столько их наслушалась, что в первый миг даже не поняла, что случилось, потому что по громкости пистолетные выстрелы никак нельзя было сравнить с ружейными. Мало того, что, подрастая, дети часто стреляли в ограде в пятно, трижды она слышала ружейный грохот в своей избе: два раза пьяный бушевал Дементий, и один раз маленький Коля, ему было всего три года, нечаянно выстрелил из ружья в потолок, в котором и сейчас еще оставался глубокий след от картечи. Арину напугал не столько сам выстрел из пистолета, сколько то, что стрелял Василий Емельянович.
Дементий, не поднимаясь из-за стола, приказал Василию Емельяновичу:
— Спрячь свой ТТ и не хвастайся. Твоим пистолетом только баб пугать. Я на фронте из ППШ стрелял! Знаешь, сколько я фашистов убил?
— Знаю, — устало сказал участковый, руками причесывая длинные и потные волосы. — Сорок.
— Да, сорок. Это только тех, которых я видел, что убил. А ты сколько?
— Ни одного. Я с Японией воевал.
— Сколько ты японцев убил?
— Брось, Дементий Корнилович, не о том разговор, — сминая папиросу, а затем ожесточенно чиркая спичкой и прикуривая, сказал участковый. Дементий как будто и не слышал последних слов Василия Емельяновича и продолжал:
— Ты только успел посмотреть, как убегают японцы. А я четыре года воевал, у меня вся грудь была в орденах и медалях! Вот теперь ты мне и скажи: кто — ты и кто — я? А за стрельбу в доме ты будешь ответ держать. Будешь, — повторил Дементий, увидев, как Василий Емельянович криво усмехнулся.
— Ты мне, Дементий Корнилович, не грози, я не из трусливых. Если надо, отвечу. Но и ты кое за что ответишь. Не думай, что никто ничего не видит.
Василий Емельянович поправил кобуру, застегнул китель, оставил незастегнутой верхнюю пуговицу и, согнувшись, продолжал сидеть на стуле, разглядывая Дементия. Участковый совсем не замечал Арины, маленькой, потемневшей с лица, стоявшей прямо, как оловянный солдатик, около угла печи и воинственно глядевшей на участкового. Казалось: еще секунда — и Арина кинется на Василия Емельяновича и начнет его колотить маленькими кулачками или каким-нибудь предметом, который попадет ей под руку. Вместо этого Арина начала корить Василия Емельяновича каким-то жалким, просящим голосом:
— Емельянович, чем я тебе не угодила? Угощения полный стол, выпить дала, к Ане за бутылкой сходила… Скажи, что тебе надо?
— Тетка Арина, ты меня бутылкой не кори, я тебя не просил ходить.
От Арининого испуга и следа не осталось, она крикнула на участкового:
— Что ты в избе стреляешь, паразит ты такой? А то схвачу полено и так тресну, что твоя голова разлетится!
— Для чего я стреляю, про то знаю я один. И еще он знает, — Василий Емельянович указал на Дементия, сидевшего за столом с недоумевающим лицом и не знавшего, на кого наброситься — на Арину или на участкового.
21
О том, что Василий Емельянович стрелял у Дементия Лохова в избе, стало известно всей Белой пади. По-разному оценивали белопадцы это событие. После недолгих пересудов определилось два главных мнения. Жители Ушканки, Советской и половина Боковы считали, что участковый напился и устроил пальбу в доме. За такие дела, говорили они, с участкового надо бы спросить построже, и, если бы это был не Василий Емельянович, свой человек (на Белой пади он кое-кому приходился родственником), то неизвестно, чем бы кончилась для него стрельба.
Вторая половина Боковы, начиная от дома Жегловых, и главная улица Белой пади считали по-другому: Василий Емельянович выпил мало, был почти трезвый и стал стрелять, потому что Дементий доведет до белого каления кого хочешь. Василий Емельянович, конечно, допустил ошибку, — нельзя же стрелять в избе, если на тебя никто не нападает. Но раз уж стрелял участковый, то, значит, была причина, значит, есть грешок за Дементием…
Еще не остыли разговоры о том, что участковый стрелял в доме у Лоховых, еще строили предположения белопадцы о том, что не работать больше участковым Василию Емельяновичу, как был отмечен соседями Мезенцевых еще один вроде бы мелкий, но интересный факт: семнадцатого сентября, только закатилось солнце, к Мезенцевым по огороду зашел пастух Яков Горшков.
Мезенцевы привыкли к тому, что в последнее время часто заходил Дементий и что-нибудь рассказывал. Заходили и другие белопадцы, которые давно не были у Мезенцевых, и, посочувствовав, уходили. Иногда в этом было что-то неприятное — лишнее напоминание, что вот, мол, у вас что-то случилось…
По Белой пади разнесся слух, что рано утром доярки видели за фермой какого-то мужика. Как он одет, какого роста, не разглядели — был туман. Доярки сказали сторожу. Тот с ружьем поплутал по краю леса — боялся заходить вглубь или не хотел мочить по росе сапоги — и вернулся, сказав, что не только человека, а даже следов никаких не видел. Доярки тут же просмеяли сторожа, так как видели, что он ходил вдоль дороги, не углубляясь в лес. Сторож на хохот доярок не обратил никакого внимания. Но чтобы к нему не было претензий, он задержался на ферме дольше обычного, дважды прогуливался с ружьем около красного уголка, давая этим понять, что он не дремлет, а сторожит ферму, и ушел домой, когда кончилась дойка.
…Мезенцевы в сумерках ужинали, когда Яков, неслышно поднявшись в ичигах по крыльцу и так же неслышно пройдя по коридору, открыл двери и появился на пороге.
Александра Васильевна, а затем Петр Иванович пригласили его поужинать с ними, он отказался. Даже голодный Яков никогда не садился за стол у чужих. Он мог не есть целый день, и только дома — завтракал, обедал или ужинал. Может, поэтому его никогда не видели на гулянках. Яков не мог прийти по пустяку, скорее всего, было что-то серьезное, и Петр Иванович, кладя ложку, прищелкнул ею об стол, как бы говоря: все, ужин окончен. Они прошли в самую дальнюю, Володину, комнату, сели — Петр Иванович на кровати, Яков — на стуле, — поговорили о житье-бытье, но обоим не терпелось начать разговор о главном.
— Есть что-нибудь новое? — спросил Петр Иванович, перекладывая Володины книги с середины кровати к подушке и боком взглядывая на Якова. — Что-нибудь серьезное?
Разговор предстоял длинный: Якову нужно было рассказать о том, что они видели с Дементием на Ильинке, недалеко от которой пасли сегодня коров, как он вел следствие на Ушканке и попал в историю, из которой не знал, как выпутаться. Хотелось расспросить Петра Ивановича, зачем участковый приходил к Дементию, и правда ли, что он стрелял у него в доме. Немного помолчав, Яков решил все-таки начать с того, как он попал в историю.
Не найдя ничего подозрительного на Ушканке, Яков стал присматриваться на Советском, затем — на Бокове, на которой он жил сам. Его дом от главной улицы Белой пади отделял только проулок, ведущий к кузнице, стоявшей, как и клуб, недалеко от реки.
Пока Яков вел следствие на Ушканке, случилось непредвиденное: он, можно сказать, подружился с Феней, которую не любил с войны. Случилось что-то такое, что заставило его по-другому, как бы со стороны, взглянуть на себя, на Феню, на Фениного мужа и на всех, кто жил на Ушканке.
Феня, с которой он около двадцати лет не разговаривал, — перебросился с нею за все эти годы несколькими словами, — и которая ему и всем жителям Белой пади платила тем же, та самая Феня, которая и платок как будто нарочно повязывала на самые глаза (а чуть пригнет голову — и глаз не видно), вдруг стала разговаривать, и ушканские видели, как Яков на своем Гнедке простаивал у ворот или привязывал коня и заходил к Фене в ограду и они о чем-то говорили.
Вначале Яков думал, что Феня притворяется, скрывая кого-то у себя в доме, — а притворялся, выходит, он, Яков, когда заговаривал с нею, следил за каждым ее взглядом, словом, движением, пытался угадать, о чем она думала на самом деле, когда говорила с ним, и каждый раз старался заглянуть в самые потайные уголки Фениной усадьбы, и это ему удавалось, потому что Фене и ее мужу в голову не приходило, что Яков все рассматривает с другой целью, а не просто так, из любопытства.
Он побывал в сенях, в избе, в летней кухне, в сеннике, в бане. Не было только возможности заглянуть в кладовку и на чердак, в особенности — на чердак, где, скорее всего, мог скрываться чужой человек.
Два раза Яков прошел по огороду и рассматривал не сколько чего посажено, что и как растет в огороде, а зорко оглядывал каждую сосну и березу, каждый куст за Фениной усадьбой, за которыми, как ему казалось, кто-то спрятался, наблюдает за каждым шагом Якова и ждет только одного — когда пастух поскорее уберется отсюда.
Один раз, отъехав немного от Фениного дома, Яков промчался вдоль прясла, заросшего тонким сосняком и березником, потом проскакал чуть дальше от прясла по лесу, но, кроме телят, пасшихся на лужайке, и вороны, не то что-то разыскивающей на этой лужайке, не то наблюдавшей за телятами, никого не увидел. Телята испугались, убежали и смотрели из леса за человеком на лошади, а ворона лениво отлетела на край лужайки и ждала, когда за усадьбой станет тихо, чтобы снова заняться своим вороньим делом.
Петр Иванович сидел на Володиной кровати, опершись одной рукой о стопку книг, лежавших около подушки, и, слушал Якова, все больше удивляясь тому, что тот рассказывал. Петр Иванович и сам, грешным делом, подумывал, а не прячется ли кто-нибудь на Ушканке… Яков спросил, куда девался дед Павел, и Феня, пожав, плечами, ответила:
— Я ему все выстирала, взял он свою корзину, палочку и куда-то пошел. Сколько раз просила: «Дед Павел, куда пойдешь, оставался бы, жил у меня?» А он отвечает: «Нельзя мне на одном месте, надо ходить по земле — грех замаливать…» — «В каких деревнях будешь?» — «Пойду, — говорит, — по дороге…» Может, помер где-нибудь.
— Что у него за грех был? — спросил Яков, хоть и слышал от кого-то, что будто бы в молодости дед Павел убил из-за женщины родного брата, дал обет никогда не жениться и, говорят, сдержал свое слово. Про деда Павла, ходившего по деревням и собиравшего милостыню, толком никто ничего не знал. Феня, чтобы, к ней сильно не привязывались, выдавала деда за свежего дальнего родственника.
— Святой он, — сказала Феня, — вот и ходит по земле. — Кто хлеба даст, кто — яичко…
— Где он спал? — спросил Яков.
— И зимой, и летом — на печи. Он нам не мешал.
Яков перестал притворяться, ему расхотелось заглядывать на чердак и в кладовку.
— И вот тут, Петр Иванович, я прошляпил!
— Был кто-нибудь? — не поверил Петр Иванович.
Полмесяца Дементий с Яковом пасли коров около Татарских полей, а последние два дня гоняли за Длинный мостик — на Ильинку и к Среднему хребту. Вчера утром, только стали подниматься с Боковы на Ушканскую горку, Исаенкина корова, а за ней Варкина и Максименихина свернули в лес около Фениного дома, в километре от которого начинались Харгантуйские поля. Яков кинулся заворачивать коров, и из леса увидел, как кто-то белой молнией заскочил в баню на Фенином огороде.
«Теперь, ты от меня, паря, не уйдешь! — с диким восторгом подумал Яков, придерживая коня. — Теперь, я тебя, паря, возьму голыми руками!»
Он пожалел, что оказался без ружья, но и тот, кто заскочил в баню, тоже без ружья, иначе бы он так ловко не промелькнул, ружье бы помешало. Дверями, которые остались открытыми, и маленьким незастекленным оконцем баня смотрела на лес, который скрывал болото и речку внизу. Тот, кто в бане, хорошо видит Якова: стоит Якову сделать один неверный шаг, как человек выскочит из бани и раньше добежит до прясла, за которым сразу же начинается густой сосняк.
Яков проехал вдоль прясла, крикнул на коров, которые были совсем в другой стороне, а не рядом, как это крикнул Яков, и, только когда оказался рядом с баней, даже чуть-чуть проехал ее, молча натянул поводья, соскочил с коня, неслышно коснувшись ичигами земли. Чтобы не спугнуть того, кто в бане, лениво перелез через прясло, вразвалку дошел до бани. Остановился около двери и первое, что сделал, подпер дверь толстым суковатым поленом, которое кто-то пытался расколоть, да так и не расколол. Обошел кругом баню, убедился, что в бане одно оконце. Вернулся к двери, на ходу соображая: крикнуть Дементия или кого-нибудь, кто окажется поблизости, или самому справиться — взять того, кто в бане, на испуг, если он даже с ружьем и здоровее Якова? «Пока буду кого-то звать, убежит!» — подумал Яков, зная, что тот, кто ходит около дома Мезенцевых, очень ловок, хитер, неуловим.
Яков был не из трусливых, колебался лишь несколько секунд, а потом откинул ногой полено, которым была подперта дверь, влетел в баню и крикнул:
— Кто здесь?!
Следом, звонко отразившись от стен и от пустой бочки, раздалось отборное ругательство Якова. Яков стоял, пригнувшись, готовый к отпору, в любую секунду ожидая выстрела. Теперь ему казалось, что кто-то именно с ружьем заскочил в баню, только он не разглядел, или ружье было спрятано в бане.
— Не вздумай стрелять, тогда тебе не уйти отсюда живым, — на всякий случай пригрозил Яков. Он не решался сделать шаг вперед или вправо от каменки, потому что не пригляделся к темноте в углах и вдоль стен, и был уверен: только он шагнет, тот, кто прячется в бане, сразу же выстрелит или сумеет проскочить мимо Якова на улицу.
Дверь медленно со скрипом закрылась, в бане стало еще темнее, свет проникал только в маленькое незастекленное оконце. Яков хотел повернуться, сделать всего один-два шага назад и снова открыть дверь, как вдруг на полке прохрустели сухие листья, послышалось чье-то дыхание.
Яков шагнул в темноту, и в это время кто-то прыгнул с полка к выходу. Яков поймал кого-то, и они прокатились по полу. Удерживая молча вырывавшегося человека, Яков почувствовал что-то неладное. Он не видел лица того, кого он крепко держал за тонкую поясницу, а увидел перед собой только согнутые дрыгающие ноги в кирзовых сапогах и с задранными штанинами — голова и грудь человека оказались за спиной у Якова. Человек яростно и все так же молча колотил Якова кулаками по затылку, и ему почему-то было не больно. В следующее мгновение он понял, что в руках у него женщина.
Воспользовавшись тем, что Яков растерялся, женщина стала кусаться, а затем, из-под низу, принялась колотить и царапать Якова по лицу.
В это время в баню зашла Феня.
— Яков, злодей, чтоб тебя громом убило! — раздался в дверях Фенин голос. — Я думала, ты человек! Что ты делаешь с моей дочкой?!
Фенина дочь, толкнув Якова, выскочила из бани. Мать бросилась вслед за дочерью, услышала, как та захлопнула за собой двери в избу.
Яков вышел из бани вконец расстроенный: вздумал следить за Фениным домом и совсем забыл о ее ненормальной дочери, которую или Феня никому не показывала, или та сама не хотела показываться — боялась людей.
Он начал объяснять Фене, что ничего плохого не было, что вышла ошибка, сейчас он расскажет, и Феня все поймет, но та слушать не хотела Якова, и перед тем как уйти с огорода, пообещала подать на него в суд.
Яков двинулся вслед за Феней, хотел объяснить, что же все-таки получилось, тогда Феня схватила стоявшую около ворот острую лопату, сделала несколько шагов навстречу Якову и, обжигая ненавидящим взглядом огромных темно-коричневых глаз, пригрозила: если он вздумает подойти, она расколет ему череп.
Видя, что говорить бесполезно, Яков сел на коня и уехал.
Петр Иванович, невесело посмеявшись вместе с Яковом над его неудачным следствием, пообещал поговорить с Феней и уладить скандал. Яков не знал ни имени Фениной дочки, ни сколько ей лет и спросил об этом Петра Ивановича.
— Кажется, Клара, — сказал Петр Иванович. — Да, Клара, — повторил он, припоминая, когда же видел ее последний раз. Оказывается, очень давно… — Перед войной она закончила у меня первый класс… Ну, а дальше ты сам знаешь, какая история приключилась в войну: увидела ночью, проснувшись, чужих и страшных людей. Тут взрослый испугается, не только ребенок…
— А я слыхал по-другому, — сказал Яков.
— А как ты слыхал? — спросил Петр Иванович, считая, что он знает самый достоверный рассказ о своей бывшей ученице.
— Здоровущий мужик, весь лохматый, заросший, хотел перенести ее сонную с лавки на постель, а она проснулась у него в руках…
Яков посмотрел в темневшее окно, в котором, как в зеркале, отражались комнатные предметы. Ему как будто было тесно или не хватало воздуха в маленькой Володиной комнате, или еще можно было подумать: Якову нестерпимо захотелось домой, а уйти нельзя, — разговор еще не окончен. Петр Иванович понял Якова и мгновенно выключился из разговора.
— Что, поздно уже? — заметив перемену в учителе и истолковав ее по-своему, спросил Яков.
— Нет-нет, рассказывай.
Яков сначала о чем-то рассудил молча, а потом сказал:
— Петр Иванович, по-моему, все люди как-то хуже стали?
— С чего ты взял?
— А что, лучше, что ли?
— Лучше.
— Где лучше? Я давно как-то не обращал внимания, жил себе и жил… Думаю, все хорошо, все ладно. А сейчас как присмотрелся… Кого ни возьму, что-нибудь да не так, что-нибудь да неладно…
— Таких, наверное, берешь, — шутливо оказал Петр Иванович, чтобы сделать разговор повеселее.
— На Белой пади перебрал всех до одного! Даже прихватил три соседних деревни!
Петр Иванович перестал улыбаться и спросил на полном серьезе:
— Себя, меня — брал?
— Брал.
— И что?
— Да вроде как что-то не то.
— Это последний случай на тебя действует, — сказал Петр Иванович.
— Какой случай?
— Ходит же кто-то…
— Вот-вот, Петр Иванович, я думал об этом! Ходит около вас, а мне другой раз кажется, как будто все это возле моего дома…
22
После разговора об Ушканке был обсужден поступок младшего лейтенанта милиции Василия Емельяновича — что заставило его стрелять в доме у Лоховых?
Петр Иванович считал, что не было в этом никакой необходимости, участковый только себя скомпрометировал. Если Дементий простит, тогда другое дело, а если рассердится и сообщит куда следует, то для Василия Емельяновича это может плохо кончиться. Участковый дал возможность говорить о себе кому как вздумается! Получалось, что он только тем и занимался, что стрелял из пистолета в чужих избах…. Петр Иванович жалел участкового, но в то же время не мог простить его за необдуманный поступок: подозревать в чем-то подозревай, а стрелять — не имеешь права.
— В таком деле, — говорил он, — ошибок не должно быть, народ таких ошибок не прощает.
Участковый, как только набедокурил, зашел к Петру Ивановичу и рассказал, как было дело. Он сразу же согласился с Петром Ивановичем, что стрелять не надо было, но что-то такое, настаивал участковый, сделать надо было. И он для устрашения сделал…
Похоже было на то, что Василий Емельянович, имея пистолет, куражился, тем более заложил у Дементия за галстук… Дементий тоже хорош: обязательно надо оглушить человека водкой! Земляки-то земляки, соседями были на Татарской заимке, — но нельзя же забывать, что человек находится при исполнении служебных обязанностей… И участковый виноват: мало ли сколько и чего не подадут, а ты — не пей! Так что, если разобраться, Дементий тут ни при чем: его дело угощать, а участкового — отказываться.
Было за полночь, когда Яков рассказал о том, что они видели с Дементием на Ильиной заимке, недалеко от которой пасли сегодня коров.
Дементий на днях проскакивал на Ильинку, но никаких следов чужого человека не обнаружил: в пустой избе с широкими нарами давным-давно никто ни к чему не притрагивался; воду из колодца как будто тоже никто не доставал…
Яков был удивлен тем, что увидел на Ильиной заимке сегодня. Еще издали он почувствовал какую-то перемену на заимке: чем-то непохожей показалась ему изба с односкатной крышей, что-то было не так, и только Яков не мог понять — что именно? Вблизи он сразу все понял: кто-то выставил в избе рамы; они хоть и без стекол, но придавали более уютный вид, а сейчас изба казалась ограбленной.
Яков зашел в избу. На него пахнуло затхлым, нежилым духом, глиной и кирпичом — от размокшей и полуразвалившейся плиты…
Он вышел из избы, не найдя там никаких особенных следов, не считая того, что на оконных переплетах увидел свежие коричневато-белые царапины: кто-то вынул рамы недавно.
Таких маленьких рам в домах на Белой пади теперь не было, и Яков подумал: кто-то взял рамы для стайки или бани. Он прикинул, кто из белопадцев мог взять рамы, и, точно не зная кто, ругнул сразу всех.
Потом на Ильинке побывал Дементий. Он разглядел: нары не так чтобы грязные, даже, можно сказать, чистые; на полу, напротив изголовья, если хорошо приглядеться, папиросный пепел, а в ногах на нарах кусочки грязи — кто-то лежал и курил! И нигде ни одного окурка не брошено, вот что интересно! Куда, спрашивается, девались окурки? Не в карман же тот, кто курил, складывал? А если в карман, то зачем? Кому понадобилось отдыхать, а может, и спать ночью на заимке?
Перед тем как зайти к учителю, Яков встретился на Ушканке с бригадиром, возвращавшимся на своем Воронке с Харгантуйских полей. Дороги за Длинным мостиком плохие, и бригадир ездил по корням и ямкам, а кое-где и по болоту не на мотоцикле, а на ходке или верхом. Сегодня он ехал с полей на ходке, и Яков, пока они стояли на Харгантуйской дороге, любовался сбруей на Воронке, которую бригадир выменял в прошлом году у цыган.
Не замечая нетерпения Воронка, не желавшего стоять на месте, бригадир говорил с Яковом, время от времени молча натягивая новенькие ременные вожжи. Каждая медная бляшка на Воронке — крестики, кружочки, звездочки — были натерты до блеска, от многочисленных солнц на шлее и уздечке рябило в глазах.
Похвалив Воронка и в особенности цыганскую сбрую, Яков спросил у бригадира (в это время бригадир старательно счищал грязь с копыт Воронка), не давал ли он кому-нибудь из колхозников задание сменить в избе на Ильинке старые рамы.
— Зачем их менять, — ответил бригадир после того, как закончил счищать грязь с переднего копыта Воронка. — Пускай Игнат застеклит, и они еще пять лет простоят!
— Рамы утащил кто-то, — сказал Яков.
— Как утащил? — не понял Михаил. — Вчера рамы были, своими глазами видел.
— Значит, кто-то утащил после того, как ты уехал. Сегодня с утра их уже не было.
Оглядывая молчаливый лес, в котором не слышно было ни одной птицы, Яков сделал решительное и глубокомысленное лицо, как будто речь шла не о трех рамах, а о трех тысячах, которые они только что потеряли с бригадиром в лесу, и он не знал, в какой стороне их искать.
— Совсем нет рам? — переспросил Михаил.
— Я на сарай заглянул, по кустам проехал посмотрел, по лесу около дороги — нигде не видно. Куда они девались…
— Кому они нужны, — не дослушав Якова, сказал бригадир. — Это, точно, баловался кто-нибудь. Ну, возьмусь я за этих ушканских! — начал сердиться бригадир, но тут же раздумался. — А может, Игнат без моей команды решил новые рамы вставить? Так нет, когда ему: с утра до вечера на овощехранилище, там работы еще на неделю хватит. Я ему про избу ничего не говорил…
— Вот и я думаю, — сказал Яков.
— Ну, дела! — Бригадир неожиданно засмеялся. — Что ни день, то новость! Вчера Ковалев поймал меня на раскомандировке и давай жаловаться:
«Ищи, — говорит, — другого сторожа».
«В чем дело?» — спрашиваю.
«Заболел».
«Что-то, — говорю, — не видно, что-то не похоже, чтобы ты заболел».
«Что я, — говорит, — должен лежать перед тобой? У меня в груди что-то ломит».
Я ему отвечаю:
«Это у тебя, дед, от страху».
«От какого, — говорит, — такого страху? Я сроду никого не боялся!»
Смотрю, куда у деда болезнь девалась: раскричался, раздухарился… Я на попятную пошел, дед — на меня:
«Отвечай, — говорит, — где и кого я боялся? Я месяц выходил из окружения! Имею благодарность от самого маршала Малиновского!»
Ну, я и сказал:
«Позавчера доярки никак не могли до тебя достучаться — закрылся в красном уголке! В окно заглянули, а ты спишь с ружьем в обнимку!»
«Задремал перед утром. Посиди-ка да походи вокруг фермы ночь не спавши!»
«А я, дед, слышал, что ты не вокруг фермы ходишь, а возле красного уголка!»
Дед насторожился:
«А кого мне бояться?»
«Ну, этого, — говорю, — который ходит».
«А ты, — говорит, — его хоть раз видел? Нет? И я не видел».
Я деду вопросик:
«Чего же ты закрываться стал?»
Дед отвечает:
«Надо часок утром придремнуть. Дома спать некогда, да и ребятишки не дадут».
«Неужели ты, дед, за ночь на ферме не высыпаешься? Неужели тебе ночи не хватает?»
«Раньше хватало. Два-три раза прогуляюсь по ферме, сделаю проверку, чтоб корова какая не залезла куда и не задушилась, — и на боковую!»
«А сейчас?»
Тут дед и признался начистоту:
«А кто его, думаю, знает: вдруг зайдет ко мне? Вот и сижу ночь, и хожу — и по ферме, и за фермой. А ну, как возьмет да подожгет! Что тогда?»
«Будешь, — говорю, — спать, дед, он тебе, этот мужик, ночью твои гвардейские усы опалит!» Все хохочут, а деду понравилось, что я его усы гвардейскими называю. Я помню, он после войны долго гвардейский значок носил! Ну, дед уже не одному мне, а всем отвечает:
«Вот и не сплю, а иначе какой же я гвардеец!»
«Будешь сторожить?» — спрашиваю.
«Буду, — говорит, — а куда денисся!» Беда мне с этими стариками! И смех, и грех! А Дементий, что толкует про избу на заимке? — спросил бригадир у Якова. — Он старый охотник, от него ничто не ускользнет.
— Дементий мало говорит, он сейчас молчком смотрит, — ответил Яков.
Бригадир понял, что имел в виду Яков, и засмеялся совсем по-мальчишески и беззлобно.
— Ну да, его участковый погонял, он теперь долго будет оглядываться! Как думаешь, — спросил Михаил, — зачем он стрелял у Лоховых?
— Это надо с Василием Емельяновичем поговорить, — уклончиво ответил Яков. — На то у него были какие-то свои причины, я откуда могу знать.
— Я смотрю, все такие дипломаты стали! — громко сказал бригадир, взглядывая на Якова. — Кого ни спросишь, никто ничего не знает!
Яков, стоявший на дороге, как будто ждал этих слов, как будто они были сигналом для чего-то: сел в ходок рядом с бригадиром и, удерживая своего Гнедка, в поводе, сказал:
— Если на Ильинке ночевал тот мужик, то, как думаешь, мог он выставить рамы?
Бригадир посмотрел на Якова неузнавающим взглядом.
— А зачем ему выставлять рамы?
Яков объяснил:
— Чуть что, можно выскочить! Люди в избу, а он — в окно и в лес!
— Ты, Яков, как профессор рассуждаешь! На кой леший ему выставлять рамы? Можешь ты мне толком объяснить?
— Я сказал: чтобы легче убежать было!
— Вы с Дементием как сговорились! За рекой кто-то ходит, за Длинным мостиком и в Листвяках — ходит! За фермой — ходит! За Песочной горой кого-то видели. На Ильинке… Вас послушать, вечером по нужде на улицу побоишься выйти!
— Один и тот же воду мутит, — нисколько не сомневаясь, сказал Яков. — Мы ему спокойно не даем сидеть ни в балагане, ни на заимке. Пасем коров то в одном, то в другом месте, — вот он и бегает взад-вперед!
Бригадир сердито вскрикивает на Воронка и резко дергает вожжи, сильно натягивает их — так, что Воронок круто выгибает шею. От того места, где бригадир с Яковом начали разговор, Воронок отошел метров на двадцать и остановился как раз у самой лужи — с травой по краям, чистой и от этого казавшейся глубокой.
Бригадир, пока они сидели в ходке с Яковом, никак не мог выбросить из головы странную мысль: может, Яков ходит около дома учителя?
Бригадир понимал, что эта мысль вздорная, но она лезла и лезла в голову, и он ничего не мог поделать с этим. Стараясь избавиться от этой мысли, он отодвинулся от Якова, как будто давал ему побольше места.
Яков сел свободнее, вобрал голову в плечи и медленно, по-ястребиному, оглянулся. Упрек бригадира, что Яков как будто в чем-то виноват, казался ему незаслуженным. Яков даже в анекдот попал из-за этого мужика! Жена, как узнала про случай в бане, на весь дом скандал закатила! Яков два часа объяснял, что не было у него никакого греха с Фениной дочкой. Жители Белой пади, особенно родственники Котовых, стали коситься на Якова… Хоть выступай на бригадном собрании и объясняй всем сразу!
От Мезенцевых Яков вышел в первом часу ночи.
Как только Петр Иванович простился с ним на террасе и исчез за дверью, Якову стало неприятно, что он допоздна засиделся в доме учителя. С крыльца он спускался медленно, как будто заносил ногу не над ступенькой, а над пропастью. И дело было не в том, что он плохо видел или совсем не видел ступенек, — на террасе горел свет, — Яков вдруг подумал, не притаился ли тот, о ком они говорили весь вечер, за террасой у камня или где-нибудь в ограде, или на огороде, и он, пока спускался по освещенным ступенькам, изо всех сил смотрел в темноту за крыльцом.
Яков знал, что об камень — валун, лежащий за террасой, убился Лаврен Чучулин, когда его пришли раскулачивать, и Якову казалось: как только он спустится с крыльца, кто-то зловещий выскочит из-за камня и нападет на него. На всякий случай он был наготове.
Петр Иванович гулко прошел по коридору, открыл и закрыл за собой двери и с кем-то заговорил — не то с Володей, не то с Александрой Васильевной.
Спустившись с крыльца, Яков остановился шагах в четырех от камня. Постоял, послушал. Усмехнувшись, что он вроде как чего-то боится, заглянул за камень — там было пусто.
В темноте он чуть не сбил со стены умывальник. Под ноги несколько раз плеснулась вода. Яков поправил умывальник, свернул за угол террасы, прошел вдоль стены дома, где из коридора чернели окна, — в них только что погас свет, — и остановился: перед ним, в полуметре, был уличный забор, слева — изгородь для загона, справа — стена дома. Пока он стоял, не зная, что сделать, — выйти на улицу по ограде или перелезть через забор, — услышал, как шелестят над ним листья высоченной черемухи, как постукивают об забор и угол дома черемуховые ветки…
Яков встал на завалинку, протянул руку вправо, влево, еще левее — везде черемуха!
Он заглянул в сад, — может, кто-то стоит под окнами! — но, кроме черных стволов и теней, ничего не увидел. В саду шуршало, вздрагивало, и как будто шептались несколько человек, поджидая, когда Яков перелезет через забор… Он смотрел в сад, пока не привык к шорохам, вздрагиваниям, и пока не отделался от ощущения, что в саду шепчутся какие-то люди.
Вернулся к крыльцу. Света на террасе уже не было.
Ограда у Мезенцевых чуть-чуть поменьше школьной, и так же, как в школе, заросла травой… Яков остановился, слушал, — ему казалось: именно в такую ночь, как сегодня, кто-то должен появиться около дома учителя.
Выйдя на улицу, он почувствовал себя свободнее и спокойнее. Нигде ни в одном доме не было света, только около магазина и еще на одном столбе горели две маленькие лампочки. В темноте дом Мезенцевых казался настолько огромным, что Якову было непонятно, как в нем живут всего три человека.
Послушав, как зашумел от ветра учительский сад, как ожили и закачались деревья, он, о чем-то сожалея, медленно пошел по улице, держась левой стороны, на которой жил Петр Иванович. Неясное сожаление Якова оформилось в четкую мысль: почему он все-таки пошел домой по деревне? Ведь он, пока сидели у Петра Ивановича, несколько раз думал, что пойдет по огороду Мезенцевых? Глядишь, встретился бы с ночным гостем… Может, он в эту минуту как раз на огороде! А если никого нет, спокойно бы пришел по задам домой.
Дорога от магазина свернула влево, к реке, и стало видно Боковскую улицу, на которой горел свет в одном-единственном доме — у Володи Петренко. «Скорее всего, кому-то мастерит новые оконные рамы к зиме», — подумал Яков. Есть еще один дом, в котором всегда поздно горит свет, — у Пашки Герасимовой. Сейчас ей за семьдесят, все давно разъехались, казалось бы, зачем ей сидеть допоздна?
Перед тем как спуститься в падинку и перейти проулок, ведущий к кузнице, Яков заподозрил что-то неладное: только что он слышал шаги в проулке, чей-то разговор, — и вдруг все смолкло! В кузнице в это время никто не работал; за кузницей — поскотина, болото… Человеку здесь ночью делать нечего… Снова послышались шаги в проулке, и Яков на слух определил — около его прясла! Кто-то засек, что Яков пошел к учителю, передал тому, кто ходит, и тот решил проучить Якова, чтобы не лез не в свое дело… А может, затеял похуже что-нибудь? Петра Ивановича боится тронуть, а Якова — можно… «Я покажу сейчас, кого можно трогать, а кого — нельзя! — обозлившись, едва не вслух сказал Яков. — Я не Петр Иванович, я сразу зашибу!» В ичигах Яков неслышно и быстро двигался вдоль своего прясла, чувствуя, как бешеной силой наливаются мускулы… С кем-то столкнулся…
— Ой, не надо, не надо, — пробормотал пьяный голос, и Яков узнал ветеринарного фельдшера.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Яков, едва удерживаясь, чтобы не отколотить фельдшера.
— Домой иду, — совсем мирно ответил фельдшер, все еще не узнавая Якова. — Только навалился на прясло — хотел отдышаться, тут меня и схватил кто-то…
— Наваливайся на свое прясло и дыши сколько хочешь, — сказал Яков.
— До своего прясла надо дойти, — ответил фельдшер, — а я дорогу потерял… Это ты, Яков? Это же я в проулке около кузницы?! Ну, спасибо. А то я чуть в болото не зашел…
— Откуда идешь? — спросил Яков.
— С Ушканки.
— У Игната на жаренине гужевался?
— Было маленько, — ответил фельдшер, все еще побаиваясь, как бы Яков за что-нибудь не отколотил его.
Фельдшер и раньше с опаской проходил мимо Якова, а сейчас, когда стали поговаривать, что его скоро снимут с работы, он ожидал, что кто-нибудь из мужиков обязательно его отлупит, и, скорее всего, это сделает Яков.
Мужиков, в особенности Якова, фельдшер боялся больше, чем бригадира или председателя. Главного ветеринарного врача он совсем не боялся — тот со дня на день должен был уехать из колхоза. А пока что они пили и гуляли вместе, и фельдшер гордился этой дружбой больше всего на свете. Что будет потом, он не думал.
— Скоро тебе лафа отойдет, — говорил Яков, выводя фельдшера из проулка.
— Отойдет, — согласился фельдшер.
— Да ты вроде не пьяный, — сказал Яков фельдшеру. — Чего же ты шатаешься?
— Пьяный… Никак не могу выйти…
У Якова стало спокойнее на сердце, что это всего-навсего заблудившийся Петрачок. Он вывел его на дорогу, подтолкнул в спину, и Петрачок, пытаясь затянуть песню, пошатываясь, двинулся по улице. На его пьяный и хрипловатый голос изредка лениво взлаивали собаки.
Придя домой, Яков поужинал молоком с хлебом и, только лег, сразу же уснул. Всю ночь снилось ему, что кто-то огромный, низко наклонившись, заглядывает в окно, убегает, снова пытается сорвать дверь с петель — дергает ее часто, — так, что весь дом дрожит…
23
20 сентября ударил заморозок, и погода установилась. С утра разъяснило, угнало последние маленькие тучки, все лето стоявшие на страже в «гнилом углу» над Харгантуйским болотом. Из-за Школьного леса выкатилось солнце — чистое, свежее. Кочаны капусты, умытые росой, вот-вот лопнут — такие они крепкие, ядреные… Земля мокрая…
Не дожидаясь, когда поднимется солнце, Александра Васильевна взяла ведро, большую корзину из приамбарка и пошла к колодцу. Она издали присматривалась к гряде: так ли уж сильно досталось огурцам, как это сказал Петр Иванович, когда пришел утром с огорода? Пока не поравнялась с баней, ей казалось, что гряда такая же, как вчера. Только вблизи она поняла: огурцов на земляной гряде больше не будет, — сегодня она соберет последние, которые уцелели. То там, то здесь она видела почерневшие, словно сварившиеся листья и стебли.
Смелее, чем обычно, она перешагивала рядки, ставила корзину, не боясь, что сломает лист или стебель, и выбирала огурцы: хорошие летели в корзину, а пожелтевшие или подмерзшие — на дорожку.
Огурцов набралось много: полная корзина! Александра Васильевна за два раза перенесла их к колодцу. Она бы унесла корзину за один раз, но боялась Петра Ивановича: увидит — будет ругаться. Вот-вот он должен подойти из школы и помочь открыть две большие кучи с картошкой.
Она высыпала огурцы в бачок, залила водой. В это время проскрипели ворота на огород, к колодцу быстро спустился Петр Иванович. Он с удовлетворением посмотрел на поблескивающие огурцы в бачке, выбрал самый лучший, ополоснул его из бадьи и с хрустом стал есть. Потом взял вилы с коротеньким чернем, подошел к самой большой куче картошки и начал стаскивать с нее тяжелую, слежавшуюся ботву.
Развешивая около бани кошму и клеенку, которыми была накрыта картошка, Петр Иванович увидел выехавшего из леса всадника и стал присматриваться, стараясь издалека угадать, кто едет. Он разглядел коня ярко-рыжей масти, а потом, когда всадник шагом проехал по мосту, узнал в нем Дементия. Петра Ивановича удивило немного, почему Дементий едет со стороны Татарских полей, — ведь коров сегодня угнали за Ушканку. Подумав, он тут же забыл об этом и пошел открывать вторую кучу картошки. Сбросив ботву, Петр Иванович остановился передохнуть и увидел: Дементий к кому-то шел по задам вдоль реки. Конь стоял привязанный около Нюриного тына.
Опуская бадью в колодец, Александра Васильевна с тревогой смотрела, к кому свернет Дементий.
— К нам идет, — сказала она. Словно чего-то испугавшись, Александра Васильевна вылила в огурцы не полбадьи, как хотела, а всю бадью. Она была уверена, что Дементий приехал из леса с какой-нибудь дурной вестью.
Александра Васильевна угостила его огурцами и пошла смотреть картошку, а Петр Иванович с Дементием сели под баней на старых плахах. Отсюда открывался вид на реку с широким болотом, за которым стеной стоял лес, на два моста с перилами — один около деревни и другой — у леса, соединенных высокой стланью; ее чуть не каждый год весной затапливало, и тогда колеса телег и фургонов скрывало по самые ступицы. Делая за мостом большой полукруг, дорога уходила в тайгу, к Саянам. От бани видно Школьный лес и Песочную гору, — туда на большой перемене любят бегать ученики. Для Петра Ивановича нет ничего радостнее, когда он слышит, как оглашается лес их звонкими голосами.
— Петр Иванович, — без всяких предисловий начал Дементий. — Я его убил.
— Что-что? — переспросил Петр Иванович, считая, что он ослышался.
— Застрелил, как собаку! — с мрачным восторгом сказал Дементий… — И мозги вылетели!
Петр Иванович уставился на Дементия:
— Кого застрелил?
— Того мужика.
— Где ты с ним встретился?
— Около Сергеева озера.
Дементий замолчал, опустив голову, как будто раскаиваясь в том, что он сделал. Петр Иванович сказал, взглянув на Дементия, как на привидение:
— У меня шевельнулось в мозгу, что неспроста ты едешь в деревню среди белого дня.
Дементий встал, убедился, что по низу никто не идет, и снова сел. Александра Васильевна тоже была далеко — что-то разглядывала на черемуховом кусте: или птицу увидела, или хотела достать переспевшие ягодины на высокой ветке и не знала, как подступиться.
— Я этих полмесяца, Петр Иванович, не столько коров пас, сколько все время шел по следам этого человека. Думаю, ты хитрый, а я еще хитрее! Я вижу, — Дементий ударил себя кулаком по колену, — кому-то понравилось около Сергеева озера! Там же и балаган, и ключ… Чувствую, ходит кто-то около нас с Яковом, видит нас, а мы его не видим! Не поверишь, Петр Иванович, другой раз что-то зайдет в голову, едешь по лесу и ждешь пули из-за каждого дерева. А что? Думаешь, он не видит, как мы проверяем за ним? Пасешь коров в одной стороне, а ездишь в другой! Но, Петр Иванович, ты ему нужен был, — нас он не тронул.
— Как ты его убил, расскажи? — Петр Иванович и верил и не верил тому, что говорил Дементий. — Яков знает об этом?
— Нет, ни одна душа на свете не знает. Я его так запрятал, что и с собаками не найдешь. Теперь, Петр Иванович, живи спокойно. Случилось, как я ожидал. Мы как стали пасти за Ильинкой, я не трогал ни Татарск, ни Сергеево озеро; дай-ка, думаю, погляжу, что будет? Если ты, думаю, прятался в последнее время на Ильиной заимке, то теперь побежишь на Татарскую! И еще я один момент учел: раз ты ночью ходишь, значит, будешь спать, пока солнце не припечет. Договорился я с Яковом и поехал с утра. Не будет, думаю, никого, уток на Сергеевом озере постреляю.
Петр Иванович сидел, отодвинувшись от Дементия, и бросал короткие, изучающие взгляды на его одежду, Дементий продолжал рассказывать:
— Не стал я заезжать на Татарскую заимку. Думаю: что он, дурак сидеть в Марьиной избе! Там же дорога рядом проходит. Чудное дело, Петр Иванович, когда от такой деревни один дом останется! Внизу Индон синеется; мостик, на котором бабы белье полоскали, цел и невредим, только наполовину под воду ушел. Соскочил я с коня, сам напился, коня напоил. За Широким болотом на Марьиных буграх лес в самое небо упирается… Около леса темно, воронье каркает. Гора, на которой был Татарск, вся белая — заросла ромашкой. Сел я на коня, скачу по нижней дороге вдоль болота, где раньше трактора лес возили, а сам думаю: ты меня ждешь с Белой пади, или с Исаковки, а я проверю тебя с тыла! Или, думаю, завязну с конем или подкрадусь, откуда, не ожидаешь!
Петру Ивановичу казалось, что Дементий все это сочиняет, — бывает же, хвастануть хочется, — но сапоги у Дементия мокрые, он их только что около моста вымыл, и штаны в грязи чуть не до пояса. Петр Иванович даже уловил запах болотной гнили, и это подтверждало правдоподобность рассказа Дементия.
Глаза его с короткими ресницами, с припухлыми красноватыми, веками, сверкнули живее, в лице появилось хищное выражение:
— Смотрю, дымок около балагана, и никого нет. Я из кустов не вылезаю, — что дальше будет. Костер вовсю разгорается, недавно кто-то разложил. Если, думаю, сейчас никто не появится, то и ждать нечего. Только я так подумал, из-за ключа по белопадской дороге человек с дровами идет. Я его узнал. Подошел он к ключу, воды набрал в котелок, идет к балагану. В одной руке дрова, в другой — котелок. Я к нему наперерез. Увидел меня. Бросил дрова, котелок на траву поставил, вроде как отдыхает. Кричу:
— Большой тебе привет от Петра Ивановича!
Двустволка у меня в руках и курки взведены. Он не боится, подходит ближе. Котелок держит аккуратно, чтоб вода не разливалась.
— Не знаю, — говорит, — никакого Петра Ивановича.
— Как же ты будешь знать, если ночью ходишь? Что ж ты, как человек, днем не зайдешь?
Усмехается:
— Ты меня с кем-то спутал.
Я ему новый вопрос:
— И меня не знаешь?
Отвечает:
— Первый раз вижу.
— Что-то, — говорю, — память у тебя короткая. Забыл, как за мостом около Первой дороги встретились? Ты про Петра Ивановича спрашивал.
Кинулся он в балаган, котелок по земле покатился. Выскакивает с ружьем.
— Теперь поговорим на равных.
— Нет, — говорю, — на равных не придется говорить: может, ты и хорошо стреляешь, а я — лучше. Собирайся, — говорю, — пойдем в контору. Там разберемся, кто ты такой и зачем ходишь?
Он мне дерзить начинает:
— Катись, дед, пока цел!
— Ах ты, — говорю, — выродок белогвардейский, я тебе покачусь и такого деда покажу…
Петр Иванович поморщился:
— При чем тут белогвардейский?
— . Враг он и есть враг, — ответил Дементий. — Он думал, что я промахнусь… А Дементий, ты сам знаешь, не промахивается, у Дементия еще рука твердая! Четыре месяца в войну снайпером был, — это что-нибудь да значит! Чего ты насупился? — спросил он, горделиво взглядывая на Петра Ивановича. — Чем ты недоволен? Может, я тебе опять не угодил?
— Не угодил — это не то слово…
Петр Иванович сидел, подперев рукой подбородок, и смотрел на дорожку около бани. Трава на дорожке красновато-бурая, с уродливо изогнутыми стебельками; листочки маленькие, круглые или продолговатые… Цвет травы впервые показался ему неприятным — напомнил цвет крови.
— Ты понимаешь, что ты натворил?
Взгляд учителя был холодным, неумолимым, как выстрел из пистолета. Дементий опешил.
— Что ты говоришь, Петр Иванович. — В голосе Дементия испуг и недоумение.
— А ты что говоришь?
— Мне больше сказать нечего. Ты лучше меня знаешь, для кого я старался.
— Для кого?
— Брось, Петр Иванович, мозги мне пудрить! Я из-за тебя рисковал жизнью.
— Я тебя не просил рисковать.
Дементий обиженно заморгал глазами:
— Вот-вот, за добро злым плата. Зря я, дурень, старался.
— Ты не для меня, ты для себя старался!
— Как так?
— Хотел показать, какой ты добрый за чужой счет! Какое ты имел право стрелять в человека?
— А он имел право ходить и угрожать тебе? Что ж мы в своем лесу не можем разобраться?
— На это есть люди, они и разберутся.
— Где они, эти твои люди? Василий Емельянович? Что он один сделает?
— Василий Емельянович не один.
— Ас кем он? Скажешь, есть еще районная милиция? Где она, твоя милиция?
— Василий Емельянович не один, — упорно повторил Петр Иванович.
— А с кем он?
— С народом.
— С каким народом? Кто за тебя заступился, скажи? Дементий! А никакого народа нет! Нечего разбираться, — переходя на мирный тон, сказал Дементий. — Я тебя выручил, и пусть это останется между нами. Пусть думают, что этого человека забрала милиция, Что тебе хуже будет?
— Надо выяснить, кого ты убил.
— Можешь не сомневаться: убил, кого надо.
— Сердись не сердись, Дементий Корнилович, а я вынужден заявить на тебя в милицию.
— За свою жизнь, Петр Иванович, врагов ты себе нажил много.
— Ошибаешься: никаких особенных врагов у меня нет, и ты это прекрасно знаешь. Раньше, не спорю, были.
— И теперь будут.
— Кто это, интересно? Уж не ты ли?
— А хоть бы и я!
— Какой же ты враг? Ты мой сосед!
— Жестковато берешь, Петр Иванович. Не забывай, ты уже старый…
— От старого бывает больше толку, чем от молодого!
— Бывает, но реже.
— А я и не говорю, что чаще.
— Из твоих слов, Петр Иванович, выходит, что на Белой пади ты лучше всех!
— Я так не считаю, и это не мне решать.
— А кто должен решать?
— Люди.
— Что люди, каждый за свою шкуру трясется!
— Я, как ты видишь, не трясусь. И ты, я тебя знаю больше тридцати лет, о себе не заботишься. Я не помню, чтоб у тебя хоть один год была легкая работа.
— Не было, — подтвердил Дементий и доверчиво взглянул на учителя. — Нам с тобой, Петр Иванович, не из-за чего ругаться. Столько лет мирно жили…
— А я с тобой не ругаюсь.
— Ты сказал, что заявишь в милицию.
— Заявлю.
— Спасибо, Петр Иванович. Теперь буду знать, что ты за человек.
— А ты что, не знал?
24
Утром Белая падь только начала просыпаться, по старой дороге из-за магазина выскочил председательский «газик» и остановился возле Лоховых. Ушканские из-за своего леса, а те, кто жил на Советском, из-за Пастуховой горы не могли видеть, а только слышали, как проурчала чья-то машина. Боковские тоже не успели рассмотреть, кто проехал по дороге между полями и огородами: напротив их улицы глубокая падинка, «газик» только загудел, сразу же скрылся в ней, а когда поднялся на гору, то уже был далеко.
Из «газика» вышел младший лейтенант милиции Василий Емельянович. Александра Васильевна скорее позвала к окну Петра Ивановича, и он успел заметить, как участковый промелькнул в ограду к Лоховым. «Газик» сразу же развернулся и ушел.
Александра Васильевна посмотрела на пустую дорогу, отошла от окна и тяжело вздохнула. Она знала о вчерашнем разговоре около бани и не одобряла поступок Петра Ивановича, зачем было заявлять на Дементия в милицию? Как теперь смотреть в глаза Арине и всем соседям? Она ничего не сказала Петру Ивановичу, но ходила еще более подавленная, чем раньше.
Петр Иванович что-то разыскивал в шкафу и на полках.
Когда Александра Васильевна спросила, он так и не ответил, что искал, — сделал вид или в самом деле не слышал ее вопроса, — и говорил с ней, будто ничего не случилось.
Она увидела, как Петр Иванович украдкой положил что-то во внутренний карман пиджака, и не на шутку встревожилась: ей казалось, что Петр Иванович затевает что-то более страшное, чем вчера, когда он ходил звонить в милицию. Не решаясь еще раз спрашивать, она все время поглядывала на карман, в который — она точно видела — Петр Иванович положил что-то.
Он заметил ее взгляды и придирчиво осмотрел себя сверху донизу.
— Что ты увидела? — спросил он.
— Я видела, как ты положил что-то в карман. Скажи, что ты положил?
Петр Иванович достал из кармана круглые палочки — две длинные и две короткие.
— Забыла? Черемуховые палочки! Помнишь, я замерял чьи-то следы на картошке?
— Выкинь их в печь, — посоветовала Александра Васильевна.
— Ни в коем случае.
— Охота тебе связываться с Дементием.
— Тут дело не в одном Дементии.
— Что ты еще выдумал?
Не в силах продолжать разговор, Александра Васильевна опустилась на стул.
— Чудачка ты, — сказал Петр Иванович. — Я плохого ничего не делаю.
— И хорошего мало, — сказала Александра Васильевна.
Из палисадника кто-то громко постучал в окно. Александра Васильевна подошла к окну, возле которого стоял огромный фикус, и долго, не отрываясь, смотрела. Выражение ее лица то и дело менялось.
— Кто там? — спросил Петр Иванович.
— Коля Лохов в школу пошел. Рано сегодня. Это дома что-нибудь. — Она покачала головой.
— Что он не зайдет, — сказал Петр Иванович, хотя отлично понимал, почему не зашел Коля.
— Я ж говорила тебе…
— Я Колю не трогаю, — вроде как оправдываясь, сказал Петр Иванович.
— Отца трогаешь и Колю трогаешь, — сказала Александра Васильевна.
Володя, застегивая портфель, выскочил из своей комнаты и чуть не бегом направился к выходу.
— А завтракать? — остановил его Петр Иванович.
— Ладно, — сказал Володя и двинулся к двери, но теперь его остановила Александра Васильевна.
— Подожди.
Она быстро прошла в Володину комнату, распахнула настежь окно и попросила Колю зайти к ним в дом.
— Некогда, — сказал Коля, стараясь не смотреть на Александру Васильевну. Она позвала его еще раз, но Коля, ничего не ответив, пошел от дома Мезенцевых. Володя догнал его перед магазином.
Александра Васильевна вернулась к Петру Ивановичу, сделала выразительный жест в его сторону, как бы говоря: вот видишь, что ты наделал?
Из дому Петр Иванович вышел на час раньше — надо было проверить тетради. Перед школьными воротами встретил Василия Емельяновича, куда-то спешившего от Лоховых.
Минут через двадцать Петр Иванович увидел из кабинета, как участковый прошел с двумя колхозниками. Он бросил проверять тетради, пересек класс и остановился у окна с распахнутой форточкой. Слышно было, как Арина ругалась с Дементием, а точнее сказать, ругала Дементия, потому что до Петра Ивановича доносился только голос Арины. Вполне возможно, что Арина ругалась в ограде одна, а Дементий был в это время в избе или на огороде. Участковый с колхозниками зашли к Лоховым, и голоса Арины не стало слышно.
— Началось, — вслух сказал Петр Иванович. Мимо огромных кленов он прошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь, как будто хотел защититься от новых Арининых криков.
В доме Лоховых под диктовку участкового Дементий, все более темнея лицом, писал:
Начальнику РОВД подполковнику милиции тов. Карагодину от гражданина Лохова Дементия Корниловича, 1895 года рождения, проживающего в деревне Белая падь, Муруйского сельсовета, Пихтинского района
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ…
Участковый перестал диктовать, и Дементий положил ручку на стол.
— Что писать?
— Пиши, где и кого убил. Когда. При каких обстоятельствах.
— А тут и писать нечего: я никого не убивал.
— Пиши, как было.
Дементий кое-как заставил себя взять ручку, покосился на участкового:
— Вы с Петром Ивановичем одинаковы. Только и разницы, что один молодой, а другой — старый!
— Что ты имеешь в виду? — спросил участковый.
— А то, что цепляетесь за каждое слово!
— Прежде чем сказать, надо подумать, — наставительно произнес участковый.
— Что ж мне, ходить завязавши рот?
— Ты, Дементий Корнилович, не мути воду в чистом озере! От меня так не отделаешься: я с тобой разберусь, мажешь не сомневаться.
— Разбирайся, если делать нечего. Прошло то время, чтоб безвинного садить. Эта писанина ничего не даст — я честный человек.
— Вот мы твою честность и проверим.
— Как это ты, интересно, проверишь? У тебя нет никаких фактов!
— Найдутся.
— Что, заявление Петра Ивановича?
— Не только.
— А что еще? Любишь ты, Емельянович, покуражиться. Я ведь если захочу, сниму тебя с работы. Ты что, забыл, как стрелял в избе?
Участковый долго вприщур смотрел на Дементия. Тот выдержал взгляд. Щеки младшего лейтенанта милиции разрумянились от сдерживаемого негодования, и он выглядел сейчас намного моложе своих лет.
— Ты меня, Дементий Корнилович, снимешь с работы завтра, а я с тобой разберусь сегодня.
— У тебя есть такое право, — согласился Дементий, но по тому, как он сказал и как посмотрел на участкового, было видно, что он не согласен ни с одним его словом.
Василий Емельянович понял, что Дементий спекулирует еще и тем, что они когда-то были соседями на Татарском. Дементий помнит, когда Василий Емельянович под стол без штанов бегал. Не по этой ли причине он капризничает, называет участкового молодым — а какой же он молодой, когда ему скоро исполнится тридцать восемь лет?!
Лезла еще одна мысль в голову, и почему-то именно сейчас, что Арина приходится Василию Емельяновичу родственницей. Участковый затруднился бы сказать, по чьей линии — отцовой или материной — и в каком колене она была ему родственницей, но это, видимо, играло какую-то роль при столкновении с Дементием, потому что Арина что-то такое крикнула, уходя из дому и оставляя Дементия и участкового одних.
Дементий так, как Арина, не нажимал на родство, но все время смотрел на участкового и говорил с ним так, будто во всей этой истории, заварившейся на Белой пади, был виноват участковый, у которого дела идут из рук вон плохо. Василию Емельяновичу казалось, что с кем угодно он бы разобрался скорее, а с Дементием все было сложнее: участковый оказывался вроде как опутанным водорослями, которые захватили сейчас половину Сергеева озера.
Объяснительная, наконец, была написана. Василий Емельянович взял из рук Дементия листок, прочитал, не выказывая при чтении никаких чувств, и положил к себе в планшетку. Два ружья участковым были осмотрены час тому назад и составлены к кровати. Копию протокола, после того как была написана объяснительная, Дементий положил далеко за зеркало, висевшее на стене, — там хранились самые важные документы и письма.
— Тозовка где? — спросил Василий Емельянович.
После этого вопроса Дементий понял, что от участкового никакой поблажки не будет.
— Захарке отдал.
— Когда?
— Месяц будет.
— Отдал или продал?
— Понравится — деньги отдаст, а не понравится — вернет тозовку.
Дементий посмурнел окончательно и старался не смотреть в глаза участковому.
— Может, позавтракаешь? — Дементий спросил с той интонацией, чтобы участковый понял, что никто не собирается его задабривать: то, что у них происходит, — одно, а завтрак — это совсем другое.
Участковый отказался.
Сохраняя спокойствие, Дементий подумал: «Добра не жди, раз не хочет завтракать!»
— Куда ты меня собираешься вести? — спросил он Василия Емельяновича, когда тот, забрав ружья, приказал Дементию следовать за ним.
— Пойдем в бригадную контору.
— Зачем?
— Ружья там оставлю.
— А потом?
— Потом возьмем коней и поедем к Сергееву озеру.
— Что я там не видел?
— Вопросы буду задавать я!
— Я уже что, арестованный? — осторожно поинтересовался Дементий, когда они выходили из ограды.
— Считай, что так.
— Значит, еще не арестованный, — утешил себя Дементий. — Легче разговаривать, когда участковый земляк. Правильно говорю, Емельянович?
— Будет тебе земляк, когда за решеткой окажешься!
Дементий, пропустив последние слова участкового мимо ушей, озабоченно сказал:
— Меня сейчас Яков на пять рядов материт: коров надо пасти, а я с тобой прохлаждаюсь. Кончится трава, вот тогда и занимайся расследованием хоть всю зиму… По-моему, Емельянович, начальство тебя по головке не погладит, что человека от дела отрываешь?
Может, нарочно, а может, так выходило, Дементий, если смотреть со стороны, говорил и держался, как будто они вели с Василием Емельяновичем очередную беседу, которые бывали у них раньше, хоть и не так часто, но бывали. Вот только участковый идет и совсем не смотрит на своего собеседника, и два ружья на плече — отобраны у Дементия.
Мимо школы он хотел пройти быстрее, но Василий Емельянович, как нарочно, пошел медленнее, чтобы ученики и Петр Иванович могли дольше видеть, что ли, как участковый ведет куда-то Дементия. Василий же Емельянович медленно шел под школьными окнами совсем по другой причине: ему было интересно видеть учеников, сидевших за партами и, как по команде, повернувших стриженые головы на дорогу.
Дементий вдруг подумал, что Петр Иванович рассказывает сейчас ребятишкам именно про него, Дементия. И сразу же, следом, он подумал, что Петру Ивановичу не надо ничего рассказывать, — Белая падь уже знает обо всем от Михаила Овсянникова и от Коли-Вани: утром они приходили к Лоховым и расписывались в протоколе. С Дементием держались суше, чем обычно, и ушли сразу же, как только участковый отпустил их.
«Тоже мне, начальство! — усмехнулся Дементий. — Пришли, сели, как два генерала…»
Дементий бросал острые взгляды направо и налево — ему казалось, что вся Белая падь смотрит на него.
В бригадной конторе, кроме Бурелома, исполнявшего обязанности и шорника и сторожа, никого не было. Знает или нет Бурелом, что Дементий, можно сказать, арестованный? По лицу Бурелома не поймешь, о чем он думает. Взял ружья и, не говоря ни слова, унес в хомутарку.
Конюх Павел Аншуков отдал участковому самого лучшего коня — бригадирова Воронка. Дементий что-то замешкался, Павел и ему поймал Рыжка, мотавшего белой челкой и недовольного тем, что его обманули — он уже настроился провести день в пригоне с другими лошадьми.
По деревне участковый хотел проехать шагом, но Воронок, настоявшийся в полутемном стойле, начал вставать на дыбы, и пришлось отпустить поводья.
Через десять минут они уже были за вторым мостом. От Третьей дороги начался длинный и не очень крутой подъем. Василий Емельянович ехал впереди, Дементий чуть-чуть приотстал. Перед тем как скрыться за поворотом, по старой привычке — сначала Дементий, потом Василий Емельянович — оглянулись на деревню: под яркими лучами солнца, поднявшегося над Песочной горой, перед их глазами промелькнула одна и та же, вечная и никогда не скучная картина: два моста с перилами, поблескивающая лента реки с широким болотом, заулок, по которому они только что проехали. Хорошо видно Нюрину елку и самый высокий дом в этом краю — школу. По низу и только изредка у кого на горе виднеются зароды с сеном, колхозные журавцы. Желтые или светлые пятна — новые дома. Жить бы в таком месте и не печалиться! А летом, когда трава еще не вся скошена и стоят веселые, как в хороводе, копны сена, а на реке визг, смех, крики — купаются ребятишки! Кто-нибудь из косарей остановится и сразу не поймешь, или он отдыхает, или смотрит, как купаются ребятишки, или пытается угадать, кто это вышел косить сено — что-то не узнать… Может, кто-то приехал из города?
Впереди стало светлеть, еще два поворота — и Татарские поля! Где-то совсем рядом, по левой стороне от тракта, должна быть дорога к Сергееву озеру… Может, проехал? Василий Емельянович остановил Воронка, и сразу же с ним поравнялся Дементий, как будто ждал, когда Василий Емельянович спросит что-нибудь.
— Дорогу на озеро не проехали?
— Нет еще, — серьезно ответил Дементий. — На Татарск заехать не хочешь — родину посмотреть?
— Я вижу, на озеро тебя не тянет, — проговорил Василий Емельянович и свернул на заросшую лесную дорогу, по которой давно никто не ездил.
На поляне, черневшей пнями и колодинами и кое-где усеянной переспелой брусникой, Василий Емельянович соскочил на землю и то же самое приказал сделать Дементию. Дементий нехотя слез с коня, не понимая, для чего это нужно участковому. Василий Емельянович огляделся, как бы решая, подходящее ли место, и привязал Воронка. Дементий держал своего Рыжку в поводе и не торопился привязывать.
— Что, перекур? — спросил Дементий.
— Некогда курить, — сказал участковый, сел на колодину, которая ему понравилась, и в самом деле закуривать не стал, а зачем-то снял планшетку и положил ее рядом с собой на колодину.
— Снимай сапоги, — попросил участковый. Эта спокойная просьба прозвучала сильнее самого строгого приказа. Дементий подумал, что не расслышал слов, и попросил Василия Емельяновича повторить, что он сказал.
— Снимай сапоги, Дементий Корнилович. С каких это пор ты перестал слышать?
Дементий долго привязывал коня, пытаясь сообразить, что затеял участковый. Привязал коня и с тревогой смотрел, как Василий Емельянович достал из планшетки вчетверо сложенный тетрадный листок, прочитал его, спрятал в планшетку и поторопил Дементия:
— Давай-давай, Дементий Корнилович.
— Не дури, Емельянович. Думаешь, если мы в лесу, то можно делать все, что тебе взбредет в голову.
— Хватит, Дементий Корнилович, снимай сапоги. Или ты хочешь, чтобы я тебе помог?
— Емельянович, я на тебя пожалуюсь.
— Потом пожалуешься, а сейчас разувайся.
Дементий сел на колодину метрах в пяти от участкового, снял кирзовые сапоги. Портянки бросил на светло-зеленые, едва отросшие от земли елочки.
— Дальше что? — спросил он, взглянув сначала на свои незагорелые, в узловатых венах ноги, потом на участкового, который в лесу выглядел куда грознее, чем в деревне.
— Дай-ка сапоги, — попросил участковый и неторопливо поднялся с колодины, чтобы подойти к Дементию. Дементий даже не пошевелился.
— Невелик барин, сам возьмешь.
Василий Емельянович взял поставленные рядышком новые сапоги, осмотрел их, чем-то недовольный, вернулся на прежнее место. Достал из планшетки черемуховые палочки, которые ему отдал утром Петр Иванович, и стал измерять подошвы Дементьевых сапог. Не обращая внимания на то, что колко ногам, Дементий подошел к участковому и метров с двух наблюдал за его действиями.
— Что, не подходит? — Дементий захохотал.
— Подойдет, если надо будет, — пообещал участковый, возвращая Дементию сапоги.
— Не-ет, Емельянович, ничего у тебя не сходится! — сказал Дементий и, как у себя дома, прошелся по поляне, нисколько не боясь, что наступит на что-нибудь острое.
— Обувайся, — сказал участковый. — А то скажешь потом, что я гонял тебя босиком по лесу.
— Любишь ты, Емельянович, из мухи слона делать!
Они сели на коней.
— Поедешь первым, — сказал участковый.
Дементий знал, куда ехать, и выбрал самый короткий путь к балагану около Сергеева озера.
25
Скоро они спустились в узкую лощину, на дне которой было прохладно и пахло смородиной. До слуха стал доноситься глухой шум падающего с высоты ключа. Выехали на Белопадскую дорогу. Василий Емельянович стал придерживать Воронка и часто оглядываться. По рассказу Петра Ивановича, где-то здесь Дементий увидел мужика, который шел к балагану с дровами. Примерно посредине между балаганом и ключом мужик бросил дрова… За стволами берез сверкнули на солнце ключ на камнях и два озерка, и невдалеке зачернел входом балаган. Метров сто не доезжая до ключа, Василий Емельянович остановил Дементия.
— Здесь ты увидел мужика?
— Кому ты больше веришь, мне или Петру Ивановичу? — спросил Дементий.
— Петру Ивановичу, — не задумываясь, ответил участковый.
— Вот он пусть и показывает тебе.
— Значит, никакого мужика около балагана ты не видел?
— Нет.
— А за мостом?
— Видел.
— Он про Петра Ивановича спрашивал?
— Да.
— Не верю я тебе. Ты раньше был темнила добрый и такой же и остался. Где дрова, которые бросил тот мужик, когда ты побежал к нему наперерез?
— Скрозь землю провалились, — ответил Дементий. — Я их опять в лес занес!
Участковый облазил все вокруг балагана и ключа на двести метров и не нашел никаких следов преступления. Может, Дементий действительно кого-то убил и на всякий случай, чтобы не подводить себя, указал другое место?
Об этом Василий Емельянович спросил Дементия, когда они сидели и курили на берегу Сергеева озера.
— Емельянович, как это можно убить человека в мирное время? За кого ты меня считаешь?
— Вот и я думаю: не мог ты убить…
— А чего ж ты меня волочишь по тайге? У меня от напрасных хождений голова болит.
— У тебя голова не от этого болит.
— А от чего?
— Тебе как-то выкрутиться надо…
— Обижаешь, Емельянович.
— Молчал бы.
— Буду молчать. Так, наверно, лучше. Меня мой язык всегда подводит.
Участковый искоса взглянул на Дементия и усмехнулся: пой, пой!
— Куда сейчас? — спросил Дементий, когда Василий Емельянович бросил окурок в озеро и пошел к коню.
— Проверим еще одно место.
Осматривая крону поваленных деревьев, заглядывая под кучи хвороста и за колодины, участковый незаметно или в открытую следил за выражением лица Дементия, но, хоть убей, ничего не мог прочитать: Дементий не был похож на человека в чем-нибудь провинившегося.
Лес расступился, открылось болотце, залитое светлой водой, с высокими кочками, напоминающими гладко расчесанные головы монахов. При заходе в болотце нетронутые с засохшими синими стрелками заросли дикого лука, на которые за лето так никто и не наткнулся. Между кочками плавали разноцветные листья; на дне, где самое глубокое место, вытянувшись по течению, подрагивала белая трава…
Василий Емельянович проехал напрямки по болоту — оно не было топким, — остановился на чистой поляне и стал ждать Дементия. Тому, видно, надоели даже такие болотца, как это, — он по ним и походил и поездил! — и он двинулся на своем Рыжке в объезд поверху.
Пока Дементий даст круг, пройдет минут пять. Василий Емельянович привязал Воронка, сел на маленьком твердом бугорке — здесь когда-то росло дерево — и закурил. Насладившись первой затяжкой, особенно приятной в лесу, и проводив взглядом ярко-синий дым, поплывший над поляной, он оглянулся на удалявшегося по краю леса Дементия. Но вот болотце кончилось, и тот свернул и поехал к участковому. Желтые разлапистые сосны на взгорке и полузасохшие от старости березы то скрывали Дементия за своими стволами, то снова показывали.
Дементий, наверно, захочет покурить на поляне, и Василий Емельянович не торопился вставать с бугорка, на котором было очень удобно сидеть, и хороший вид открывался — на поблескивающее водой болото, укутанное по краям коричневатым мохом, а вокруг — тени от подступившего леса, а над болотом и над поляной — светло. У берега, где выбивается из-под земли ручей, рябит от зеленых листьев карликовых кувшинок…
Пять минут прошло. Должен бы подъехать Дементий, а его что-то не слышно…
— Дементий! — крикнул Василий Емельянович, недовольный, что тот очень уж медленно едет, как будто и в самом деле не на расследовании, а на прогулке, о которой сказал Дементий, когда они выходили от Лоховых.
Участковому отозвалось только эхо.
Он пригнулся над поляной, отклонился вправо, влево, нигде за стволами деревьев не видно ни Рыжка, ни Дементия. «Спрятался… Смотрит, что я буду делать…»
— Дементий Корнилович, не валяй дурака, выходи из леса! Себе хуже делаешь!
Василий Емельянович был уверен, что с какой-нибудь стороны из-за деревьев сразу или немного погодя раздастся хохот Дементия, или, по крайней мере, он откуда-нибудь появится.
Ни хохота, ни самого Дементия.
Участковый прошел в конец поляны, постоял около сосен, возле которых он только что видел Дементия. В глубь леса не пошел, ему казалось: стоит еще немного отойти от поляны, вернуться — и Воронка не будет, тоже куда-нибудь исчезнет. Василий Емельянович пробежал по поляне, как будто хотел обогнать кого-то, кто бежал к Воронку с другой стороны или подкрадывался к нему.
Воронок как стоял, так и стоял, он только насторожился, увидев бегущего к нему человека. Чтобы не испугать Воронка, последние шаги участковый сделал спокойно, но отвязал жеребца и вскочил в седло с такой быстротой и ловкостью, как будто всю жизнь служил в кавалерии.
— Ты думаешь, я буду кричать тебя по лесу? — сказал участковый, обращаясь к невидимому Дементию. — Обмани кого-нибудь другого!
Кратчайшим путем участковый гнал Воронка к белопадской дороге. Никогда не была для Василия Емельяновича такой опасной и враждебной тайга около Татарской заимки, которую он исходил вдоль и поперек еще в детстве! Каждое дерево, каждый торчащий сук над головой или сбоку целились, чтобы ударить, пронзить, сбросить с лошади. Мелькнула тонкая, длинная и быстрая лесная рука — кривая ветка — и сорвала фуражку. Не оглядываясь, Василий Емельянович промчался дальше. Оглянешься — и голову потеряешь. То правой, то левой ногой на скаку заденет о дерево, кажется, сейчас разобьет колено или локоть, и Воронок уносит его от опасного места. Оказывается, Воронок умел бегать по лесу: между деревьями проскакивал точно посередине. Участковый похвалил Павла, что он дал ему быстрого и умного коня.
Впереди, в мелком березовом лесу, показалась белопадская дорога, которую Василий Емельянович сразу не узнал и проехал по ней шагом. Первой мыслью было вернуться и найти фуражку, но, подумав так, участковый заломил две березовые ветки в том месте, где выехал из леса, и теперь на бешеной скорости мчался к Татарскому тракту. Так отчаянно Василий Емельянович не ездил уже лет пять.
Нигде он не потерял ни одной минуты, разве что около болотца в Алексеевом загоне, когда сидел и курил на поляне… Да и то, как сказать, не помчался же Дементий во весь галоп от поляны, было бы слышно.
Дементий не знал, гонится ли за ним участковый. Чтобы не вышло ошибки, считал, что так оно и есть, и подгонял Рыжку изо всех сил. Если участковый сразу сообразит и бросится в погоню, на Рыжке от бригадирова коня не удрать, и Дементий на чем свет стоит ругал себя за оплошность. Сколько раз хотел закопать старые сапоги на огороде, бросить в плиту, утопить в Индоне или в озере и — не сделал этого!
Старые сапоги еще можно было носить, но Дементий, как чувствовал, купил новые, на размер больше. Время подвигалось к холодам, и в том, что Дементий купил себе новые сапоги и на размер больше, не было ничего удивительного. Он бы, конечно, купил сапоги позднее, а тут поторопился и правильно сделал, все было бы — не подкопаешься! — и надо же такую дурочку спороть, оставил в доме старые сапоги, в которых ходил пугать Петра Ивановича… Вроде как пожалел барахло, и теперь на такой чепухе попадаться!
Около Третьей дороги, на последнем свороте к Белой пади, Дементий на полном скаку оглянулся, как будто хотел выстрелить, и увидел, как из леса вылетел на Воронке участковый. Их разделяло каких-то двести метров. «Перед мостом, сукин сын, догонит! Ну, что дальше будет! Может, обойдется…»
Белая падь показалась, в проулке на горе видно крышу лоховского дома. Близко локоть, а не укусишь! Скрывшись за поворотом, Дементий соскочил с коня, сел недалеко от дороги и закурил. Участковый проскакал мимо — Дементия спрятали сосны и кустарник.
— Я здесь, Емельянович!
Участковый осадил коня, шагом подъехал к Дементию, спокойно дымившему папиросой.
— Куда это так торопишься? — спросил Дементий, как будто они не виделись сегодня. — Может, покурим посидим?
Василий Емельянович сел на траву рядом. Жарко. Как будто гнался за Дементием не на Воронке, а бежал пешком. Посмотрел на Дементия, тот как будто и не убегал от участкового, как будто он тут сидит если не с самого утра, то, по крайней мере, не меньше часа. Вроде как стадо караулит, которое пасется напротив кузницы.
— Ты, Дементий Корнилович, как оборотень: только что видел тебя и — нету!
Дементий захохотал.
— Какой может быть смех при таком деле? — возмутился участковый.
— Дела никакого нет, — ответил Дементий и пыхнул, как из трубы, огромной затяжкой.
— Почему без разрешения уехал?
— Что ж мне, до вечера с тобой волочиться по лесу неизвестно для чего? Мне в прятки играть некогда! А тебе, Емельянович, за оскорбление личности придется бутылку брать.
— Хватит рассусоливать, Дементий Корнилович, поехали.
— Куда?
— К тебе.
— Давно бы так. Пообедаем. И бутылка с тебя!
Оставив коней привязанными около ворот на улице, Дементий и участковый вошли в ограду. Дома у Лоховых никого не было. Дементий достал откуда-то сверху ключ и отомкнул двери. Как только они вошли в сени, участковый осмотрел все углы, пригнувшись, заглянул под кровать, но никаких сапог — ему нужны были старые сапоги Дементия — не увидел. Дементий все понял и остановился перед дверями в избу, не зная, что делать.
— Будешь искать старые сапоги? — спросил Дементий уступая дорогу участковому и входя за ним в избу.
— Буду. Ты их никуда не выбросил?
— Вон же они стоят!
— Вижу. В этих сапогах ходил?
— Других у меня не было.
Василий Емельянович взял сапоги, стоявшие около печи, и сразу же взглянул на подошву правого сапога: с внутренней стороны, ближе к носку, полуовальный вырез — разрублено топором. Участковый сел на лавку, достал из планшетки черемуховые палочки. Размер сошелся — сорок пятый! Вырез тот же!
— Кто меня выследил, ты или Петр Иванович? — спросил Дементий и сам себе ответил: — Петр Иванович меня выследил. Вас бы я дурачил целый год!
— Зачем ходил? — спросил участковый. Он не знал, как теперь поступать с Дементием, и все равно вздохнул облегченно: никто не убит, все живы-здоровы, все кончилось, можно сказать, пустяком. Участковый был доволен. — Зачем ходил? — спросил он молчавшего Дементия.
— Что тебе до этого? Твое дело сделано, — мрачно ответил Дементий.
— Позови-ка двух колхозников, — попросил участковый.
— Каких колхозников? — подпрыгнул Дементий.
— Да хоть Дедуриху с Нюрой — твоих соседок.
— Зачем?
— Сапоги заберу.
— Емельянович, что ты, как клещ, в меня вцепился?! Зачем тебе сапоги?
— Давай-давай.
Сразу же сделавшись похожим на старика, Дементий с каким-то болезненным выражением на лице посунулся к двери, перешагивая порог, оглянулся:
— Емельянович, может, пожалеешь, людей стыдно. Мне скоро, как и Петру Ивановичу, шестьдесят лет будет. Ему и сейчас, и как пойдет на пенсию почет и уважение, а мне — вечный позор. Это несправедливо.
— Ты сам захотел.
— Видит бог, не сам.
— А кто тебя заставил?
— Бес попутал.
— Ты, Дементий, лучше всякого беса: чуть бы я сегодня моргнул, ты бы у меня опять из рук выскользнул.
— То-то и оно, не рассчитал маленько, — с досадой сказал Дементий, продолжая стоять одной ногой в сенях, а другой — в избе. На что-то надеясь, он медленно перешагнул порог и теперь обеими ногами стоял в избе и не сводил глаз с участкового. — Не пожалеешь?
— Нет.
— И не надо, больше просить не буду.
Дементий ушел и скоро вернулся с Дедурихой и Нюрой.
Василий Емельянович попросил их расписаться в протоколе, показал сапоги и не стал объяснять, когда они спросили, для чего это нужно. Дедуриха расписалась сразу, а Нюра спорила с участковым — она была недовольна тем, что не знала, за что расписывалась, и к тому же не хотела ругаться с соседом, к которому ни за что пристает участковый. Василий Емельянович дал слово, что они расписались только за сапоги, которые видели, и женщины как будто успокоились. Участковый взял сапоги и через огородик Лоховых пошел в школу.
У второй смены только начался урок, когда младший лейтенант милиции заглянул в класс и сразу же закрыл дверь. Петр Иванович вышел в коридор.
— Ну что?
— Гора с плеч, Петр Иванович, никакого убийства нет.
— Я так и думал. А кто ходит?
— Дементий.
Петр Иванович не поверил.
— Вон доказательство, — кивнул участковый. В ближнем конце коридора под окном, смотревшим в школьную ограду, стояли сапоги. — Поговорить бы надо, Петр Иванович, мне с этим делом не все ясно. Вы же были… ну, если не друзьями, то… хорошими соседями?
— Это за пять минут не объяснишь, — все более хмурясь и глядя себе под ноги, ответил Петр Иванович. — Сейчас отпущу учеников домой и поговорим…
Жители Белой пади знали, что сегодня, в девять вечера, бригадное собрание, — на конторе с утра висело, объявление. Знали они, по какому поводу собрание, — будут обсуждать Дементия Лохова.
Одни говорили, что Дементия посадят: месяц держал трех человек под страхом — днем ходи по своей ограде и оглядывайся! А вечером или ночью?
Другие, и таких было большинство, говорили, что Дементию ничего не будет.
Третьи готовы были спорить, что здесь какая-то ошибка, участковый за что-то сердится на Дементия, хочет свести с ним счеты: посадит ни за что — и ничего не сделаешь.
Нашлись и такие, кто решил на собрание не ходить; правда, таких было мало.
Когда в восьмом часу, останавливаясь возле каждого дома с криком: «На собрание!» — по Белой пади промчался на коне учетчик Семен Обухов, многие еще раз обсудили новость, и тех, кто считал, что Дементию ничего не будет, стало раза в два меньше, а тех, кто решил не ходить на собрание, осталось всего трое.
Почему так изменилось мнение белопадцев, когда проехал учетчик?
В Белой пади лет десять на коне не загадывали: кому куда на работу — белопадцы узнавали утром в конторе, на собрания ходили по объявлениям. И вдруг через столько лет около домов проехал и прокричал учетчик… В криках Семена Обухова было какое-то напоминание о прошлом, и каждый или почти каждый вспомнил, что было с ним или с кем-то десять лет назад, двадцать, тридцать…
Петр Иванович отдал бригадиру две большие электрические лампочки — надо, чтоб в клубе было светло, чтоб каждый хорошо видел друг друга, и если кто-то придет заросший, оденется как попало, то пусть ему будет стыдно. Бригадир сам ввернул лампочки, попросил уборщицу вымыть полы и окна. В другой бы раз уборщица рассердилась, что бригадир придирается, — в клубе и так было чисто, но сегодня она и слова не сказала: ей помогали девочки из четвертого класса, их послал Петр Иванович.
Из Муруя пришел «газик» и уже давно стоял возле клуба. Председатель колхоза и участковый находились в это время неподалеку от клуба на Пастуховой горе — осматривали молочную ферму, гараж, артезианский колодец, а потом зашли в красный уголок поговорить с доярками и скотниками. Обо всем этом в деревне было известно. Белопадцы доставали из шкафов и гардеробов свои лучшие костюмы, рубашки, платья…
Василий Емельянович боялся, как бы Дементий опять не отмочил номер, — перед собранием возьмет да уйдет куда-нибудь. В половине девятого он сидел на крыльце у Лоховых и ждал, когда соберется Дементий. Арина с Дементием молча ужинали, участкового не приглашали к столу.
Не успели Арина с Дементием поужинать, под окнами остановился председательский «газик».
— За мной? — поинтересовался Дементий. — Спасибо. Хоть раз прокачусь на председателевой машине!
— Сразу два удовольствия, — сказал участковый.
— А какое еще? — спросил Дементий.
— И прокатишься, и никто не будет видеть, как ты по деревне идешь.
— Это пустяки, — сказал Дементий.
Арина смотрела на участкового как на врага — не хотела ни спрашивать у него о чем-нибудь, ни отвечать. С этого дня она его за родню не считала.
Собрание началось ровно в девять. В клубе ярко горел свет, и многим вспомнилось: в Белую падь привозили из Муруя или из Артухи звуковое кино, и было что-то необычное в том, когда гулко и радостно начинал тарахтеть движок, — кино показывали в школе, клуба тогда не было, — и в зале делалось так же ярко и празднично, как сегодня. Сколько было частей — и столько же раз вспыхивал во время кино ослепительно яркий свет, и он еще недолго горел, пока белопадцы в двенадцатом, а то и в первом часу ночи выходили из школы и спускались с высокого, в одиннадцать ступенек крыльца.
Послушать, что будут говорить про Дементия, пришли самые древние старики и старухи. Даже сторожа — все трое — были здесь. Они ждали: как только Дементий начнет отпираться, тут они ему и всыплют! До этого у них как было: и выспишься на ферме, и трудодни идут, и все тихо, спокойно, а Дементий все карты перепутал — ночь не спишь, и еще выговор получишь!
За столом, застланном красной материей, сидели бригадир, председатель, участковый и самые уважаемые колхозники четвертой бригады колхоза «Голос тайги». Петр Иванович сидел на первой скамейке со стариками и отвечал им на какие-то вопросы.
Дементию было предложено сесть сбоку от стола, чуть в сторонке, но он как будто не слышал об этом — подвинулся к столу, облокотился и сидел почти рядом с бригадиром. Тот недовольно взглянул на него:
— Дементий Корнилович, отодвигайся на старое место, тебя в президиум не выбирали!
В зале несколько человек засмеялись.
— Мы отодвинем тебя еще дальше, — мгновенно рассердившись, пообещал председатель и коротким взмахом ладони показал: отодвигайся! Дементий, грохоча стулом, отодвинулся с таким видом, как будто ему было все равно.
Бригадир поднялся из-за стола как-то тяжело, неловко — или из-за тесноты за столом, или из-за того, что все, о чем придется говорить сегодня вечером, почему-то случилось в Белой пади, — вроде как часть вины за это ложилась на бригадира.
— Слово, товарищи, имеет участковый Василий Емельянович Бондаренко!
Бригадир как будто нехотя сел. В следующее мгновение, как и большинство собравшихся, он с интересом стал смотреть на участкового, ожидая чего-то сверх того, что уже все знали. Видимо, и участковый понимал, что от него чего-то ждут большего, чем то, что он может сказать, и он, может быть, из-за этого не торопился говорить. Когда стало совсем тихо и дальше молчать нельзя было, он сказал:
— Товарищи колхозники, вы знаете, что творилось около дома Мезенцевых и в Белой пади… На кого мы только не думали, кого только не подозревали! Один человек сумел бросить тень на всю деревню! Дементий угрожал дому Петра Ивановича! Он ходил по ночам! Вот в этих сапогах!
Василий Емельянович вылез из-за стола, взял с подоконника сапоги, прикрытые зеленой шторой, и поставил их на краю сцены рядом с Дементием.
— Узнаешь сапоги, Дементий Корнилович?
— Мои, — нисколько не отпираясь, сказал Дементий и сам смотрел на сапоги как на чудо. Потянулся было к ним рукой — коричневато-желтой от загара, с огромными венами, — но тут же рука остановилась в воздухе и снова легла ладонью на колено, полностью закрыв его.
— Пусть скажет, зачем ходил! Что ему надо было от Мезенцевых?!
Дементий, гладко выбритый, в темно-синем диагоналевом костюме и в начищенных ботинках сидел, слегка пригнувшись, положив ногу на ногу, и с полуулыбкой щурился в зал. Иногда он, как будто подражая Петру Ивановичу, надевал ботинки и чистил их до такого же блеска, как учитель. Раньше ему никто ничего не говорил, а сегодня колхозникам это не понравилось — никакого сходства между Дементием и Петром Ивановичем все равно не было. Как позднее смеялись белопадцы, сапоги подвели, а ботинки — не помогли!
— Ишь расселся! Вырядился как на праздник! Давай рассказывай!
— Ты встань, — показывая от стола рукой вверх и едва сдерживаясь, попросил Благодеров. Дементий не хотел, чтобы на него при всех кричал председатель колхоза, но все равно поднялся не сразу. Как будто кого-то разыскивая, оглядел притихший зал, с трудом погасил улыбку.
— Все собрались, это ж надо! Меня судить пришли! Петр Иванович, может, я украл у тебя что-нибудь?
— Ближе к делу, Лохов! — потребовал бригадир, стараясь не смотреть в ту сторону, где сидели на одной скамейке пятеро Лоховых — Арина с сыновьями и дочками. Старший сын Сергей сидел на другой скамейке. Он не сводил острого взгляда с бригадира, как будто предупреждая его: «Полегче, Михаил Иннокентьевич, а то будешь иметь дело со мной!» Лоховских зятевей и невесток бригадир не считал. Если всех считать, то получится, что в клубе не меньше половины родня Лоховых.
— Что мне, стоять или сидеть? — повернувшись к столу, спросил Дементий.
— Ноги не отвалятся, постоишь, — сказал бригадир. — По часу или больше стоял у Мезенцевых на огороде! — Бригадир не выдержал и засмеялся. Вроде грубо сказал бригадир, но Дементий не мог на него обидеться — засмеялся бригадир, и Дементию стало легче. Он отодвинул от себя стул, чтобы, чуть чего, не сесть снова: его так и подмывало делать все наперекор.
— Это ж теперь сентябрь, а то в августе было, — начал рассказывать Дементий. — Потерялась Нюрина корова. Ходил я ходил, и Колю своего отправлял, — нет коровы, хоть плачь. Иду по задам домой, настроение паршивое. Дай, думаю, зайду к Петру Ивановичу. Правда, и поздновато было. Если, думаю, не спит, поговорим, и домой. Перелез я через воротца, как сейчас помню, снял две верхние доски, перелез, — а доски закладывать не стал: если, думаю, света нет в доме, то вернусь, потом закладу. Прошел по дорожке мимо бани, поднялся на горку — горит свет! Я остановился: что делать? Я уже решил, что не пойду, не буду человека тревожить, а сам стою и смотрю. Луна светит, копны стоят, да много! Я зеленку только косить собирался, а у Петра Ивановича уже в копнах. Дорожка ровная, как на лугу, чистая, иголку урони — и найдешь! Посмотришь на свой дом, огород, покос и думаешь: мое это или чужое? Глаза бы не глядели! А у Петра Ивановича стою в темноте и как будто днем вижу: тарелки подсолнухов в два раза больше моих, сено душистое, картошка и огурцы крупнее… Еще как-то раз зашел снизу и посмотрел на дом. Правда, поздней тогда было — у Сергея засиделся.
— Че смотрел-то? — спросил Егор Кофтоногов.
— Я ж рассказываю: стою и смотрю, интересно мне.
— Че ночью смотреть, каво увидишь?
— А мне никого и не надо было.
— Тебя, дядя Дементий, не поймаешь: то, говоришь, Петра Ивановича надо было, то никаво не надо… Че путашь, говори начистоту!
— А ты не вмешивайся, — сказал Дементий. — Твое дело в кузне по наковальне стучать.
— Че ко мне не ходил, — издевается Егор. — У меня тоже дом большой, и в огороде хорошо растет!
Все хохочут, представляя, как Егор поймал на огороде Дементия и мнет ему бока, а скорее всего, влепил ему заряд соли или бекасиной дроби.
Дементий продолжал рассказывать:
— Через день или два слышу разговор Коли с Володей: кто-то ходит ночью около дома Мезенцевых. Хотел я сказать, что это я ходил, а потом думаю: зачем про себя рассказывать? А вдруг еще кто-нибудь пройдет по огороду учителя, я что, буду за всех отвечать? Вскорости встречает меня Петр Иванович: так и так, кто-то ходит! А перед этим мужик какой-то про Петра Ивановича спрашивал… Почему он не зашел к Мезенцевым, не знаю.
— Был мужик-то или не было? — спросил бригадир.
— Был, чтоб мне не сойти с этого места! Я Петру Ивановичу рассказывал про этого мужика…
— Дальше.
— Дальше сам Петр Иванович виноват: он мне мысль подсказал! Дай-ка, думаю, проверю, такой ли ты смелый, как был раньше…
— Интересно ты объяснил, Дементий Корнилович! Только, однако, не так было дело, — сказал Иван Черный. Он редко когда говорил, и все повернулись в его сторону. — Ты по другой причине ходил около дома Мезенцевых. Помнишь, как жили на Татарском, ты мне чуть голову литовкой не срубил за то, что я стал косить недалеко от тебя? Покос-то был ничей!
— Что ворошить старое, — Дементий сел на свое место, и у него засосало под ложечкой: Иван Черный говорил правду.
— Глаза у тебя завидущие, волчьи.
Дементий вскочил:
— Не имеешь права оскорблять!
Спорить Иван Черный не любил и теперь сидел и ждал, что скажут другие.
— Что-то я никак не пойму сегодняшнее собрание, — сказал Бурелом, обращаясь ко всем и в особенности к участковому. — Я так понимаю: Дементий кого-то застрелил, а нам голову морочит.
Дементий оглянулся на участкового, ища у него поддержки:
— Емельянович, что ж это…
— Никого он не убивал, — сказал участковый. Бурелом будто не слышал и продолжал гнуть свое:
— Тебе, Емельянович, надо было хорошенько поискать убитого, а потом собрание проводить.
Сделалось необычайно тихо, как будто Бурелом угадал, о чем все думали, но не решались сказать вслух. Дементий метнулся по сцене, как затравленный зверь, и не нашел ничего лучшего, как сесть на стул, на котором ему полагалось сидеть, — чуть-чуть в стороне от стола, застланного красной материей. Василий Емельянович хотел показать черемуховые палочки — Петр Иванович дважды замерял чьи-то следы, — хотел прочитать описание следов, сделанное Петром Ивановичем, рассказать, как Дементий попался, можно сказать, на пустяке — не выбросил старые сапоги, но решил, что ничего этого не нужно, и сказал только, что есть все доказательства и что Дементий не отпирается. Все поверили участковому, да и так было видно, что Дементий виноват, и только Бурелом смотрел на участкового глазами ребенка, которого только что обманули — показали что-то интересное и сразу же спрятали. Пока Бурелом над чем-то раздумывал, вроде как подвергал сомнению слова и Дементия и участкового, Дементий врасплох напал на Бурелома.
— Пусть он ответит, для чего строил себе ходок на рессорах и сани?
Дементий ожидал, что сейчас же все засмеются над Буреломом, но никто не смеялся, и это молчание Дементий так истолковал: сегодня все объединились против него, поддержки ждать неоткуда. Чувствуя свою неуязвимость, Бурелом сначала оглянулся на всех невинными глазами, затем произнес, как будто жалея Дементия:
— Во, видите, что делает зависть с человеком… Куда это годится!
От такой несправедливости Дементий готов был вцепиться в Буреломовы космы, потому что кто-кто, а Бурелом бы лучше сидел и молчал в тряпочку. Так нет, и он туда же! Дементий понимал, что злостью ничего не возьмешь, надо попытать Бурелома, и он сам себя посадит в калошу.
— Пусть он ответит на мой вопрос, — потребовал Дементий, обращаясь к сидевшим за столом.
— Дядя Афанас, ответь ему, — попросил бригадир. Тон, которым сказал бригадир, не понравился Дементию — видно было, что бригадир на стороне Бурелома, а не Дементия.
Бурелом, не вставая с места, сказал:
— А что тут отвечать? На этом ходке бригадир ездит, а на санях вся Белая падь. И сани и ходок колхозные.
— Ты лучше скажи, сколько времени бригадир упрашивал тебя отдать колхозу ходок?
— Два года, — ответил Бурелом, не видя в этом ничего такого, что могло бы бросить на него тень.
— А во что ты хотел запрягать?
— Коня бы купил.
— Коня бы купил… — качая головой и кривя рот, произнес Дементий. — Колхознику коня не положено.
— За ходок и за сани не цепляйся, — ответил Бурелом. — Я себе еще сани и ходок сделаю. И коня куплю. Как пойду на пенсию, так и куплю. Пенсионеру разрешается!
— Почему это никто на Белой пади коня не собирается покупать, а только ты один?
— Коней люблю.
— Ты не коней любишь, ты по старой жизни скучаешь!
И опять никто не поддержал Дементия. Правда было и то, что Бурелом любил коней. Как-то приключилась с ним горячка, так он в Муруйской больнице из матраса клочьями выдергивал вату, разбрасывал ее как будто сено и кричал: «Ешьте, кони! Ешьте!»
— Я вижу, у тебя заступников много, — сказал Дементий, — сидят — воды в рот набрали. Тогда, может, скажешь, для чего на стайке плуг двухлемешный держишь?
— Хватит перепираться, — сказал бригадир. — Так мы до утра будем сидеть.
— Пусть говорит, — разрешил председатель. О Буреломе он слышал только как о хорошем шорнике и бригадном стороже, у которого ничего на один грамм не пропадет, а то, что говорил про него Дементий, для председателя было новостью. Он что-то записал себе в блокнотик и, ожидая, что скажет Бурелом, смотрел на него с таким же интересом, как до этого смотрел на Дементия. Бурелом, конечно, видел этот взгляд, но нисколько не смутился, потому что смущаться было не от чего: во-первых, председатель вроде как весело смотрел на Бурелома; во-вторых, ответ Бурелому не надо выдумывать — Бурелом с самого начала знает, для чего он держит на стайке конный плуг; в третьих, плуг у него лежит не с двадцать девятого года, когда началась коллективизация, а с пятидесятого. Давненько, правда, хранит он плуг — двенадцать лет, и просмеять могут. Сначала Бурелом хранил плуг в амбаре и строго-настрого наказал жене и детям не рассказывать об этом в деревне. Но когда стало известно, что Бурелом прячет в амбаре плуг, то он, чтобы над ним не смеялись лишнего, перенес плуг на стайку. Состарится Бурелом, снимет плужок со стайки, будет пахать в огороде — не надо ему никакого трактора. Трактор чем плох: пашет где надо и где не надо. Вдоль прясла была у Бурелома широкая межа, по сторонам дорожки, как и у Петра Ивановича, лужайка, хоть с ведрами, хоть так идти по дорожке приятно, а трактористы, как-то недоглядел Бурелом, вспахали и межу, и дорожку! Бурелом все лето ругал трактористов: по вспаханному потом какая дорожка! Один раз прясло задели, другой раз вспахали близко к колодцу. На одном месте развернется — яма! Чужое, оно и есть чужое…
Бурелому вопрос задали:
— Как же ты на двухлемешном плуге одним конем пахать будешь?
— Другого коня в бригаде возьму.
— Скоро коней не останется!
— На мой век хватит.
Бурелом ни за что не согласен, что когда-то коней не будет. Он готов расстаться с тракторами и машинами, а кони — чтоб были.
— Вот он такой и есть, — сказал бригадир и кивнул на Дементия, — мы говорим про него, а он про кого-нибудь другого. Я, честное слово, удивляюсь, как удалось Василию Емельяновичу поймать Лохова. Ведь он из любых сетей выскочит!
Старший сын Дементия снова стал свирепо смотреть на бригадира.
— Ты, Сергей, так не смотри на меня, — сказал бригадир. — Я твоих взглядов не боюсь.
— Побоишься чего-нибудь другого, — пригрозил Сергей.
— Тоже мне, защитник нашелся! Сиди и слушай, а то мы и за тебя возьмемся.
— Нашел кого защищать. Скажи спасибо, что еще мягко обходимся.
— Ты знаешь, на кого он руку поднял?!
— Он ни на кого руку не поднимал. Они с Петром Ивановичем всю жизнь были друзьями.
— Мы разберемся, какими они были друзьями…
— Нашел врагов. Мой отец не виноват, что Петр Иванович испугался.
— Сиди, без тебя разберутся, — несчастным голосом сказала Сергею Арина и обожгла взглядом Петра Ивановича: он во всем виноват!
Бурелом, сидевший в первых рядах недалеко от Петра Ивановича, чему-то все удивлялся, пожимая плечами, и, не поднимаясь с места, обратился к столу, за которым сидело все начальство.
— Вы мне ответьте на такой вопрос: когда было время у Дементия ночью ходить к Мезенцевым и стоять на огороде? И для чего это ему надо было? Ты меня золотом осыпь, и я не пойду. За день наработаешься, не то что стоять, а не знаешь на котором боку лежать…
— Тебе говорят, пугать ходил.
— Кого?
— Петра Ивановича. Ты, дядя Афанас, как будто с неба свалился, говорим-говорим, а ты — кого?
— Вот я и говорю, кого бы другого пугать, а Петра Ивановича…
— Дядя Афанас, — спросил бригадир, — у тебя есть что-нибудь сказать или ты просто так — поговорить захотел?
— Да нет, не просто. Человека судим, а я никак разобраться не могу — за что? Ты, Дементий, я так понимаю, завидуешь Петру Ивановичу или как?
— Я тебе, Бурелом, отвечу! — неизвестно отчего приобщившись, пообещал Дементий. — Можно, я ему отвечу?
— Давай, — разрешил бригадир. — Только без грубостей.
Дементия перекорежило от этих слов, но он пересилил себя, считая, что все это мелочь, надо объяснить главное, а то и в самом деле припишут такое, до чего сразу и не додумаешься… И так уже вон куда заехали! Дементий не хотел подниматься со стула, но сидя как-то не говорилось, и он встал и тем самым как будто подвинулся ко всем.
— По правде сказать, я не ожидал, что дело дойдет до собрания. Ну, поймал меня Емельянович, правда, ему Петр Иванович помог… Ну, думал я, сядем мы втроем, поговорим, и на том дело кончится. А оно вон как повернулось! От кого-кого, а от Петра Ивановича я не ожидал этого.
Вмешался участковый.
— А это и не Петра Ивановича затея про собрание, это я предложил.
— Хорош родственник, ничего не скажешь, — похвалил Дементий. Держался он так, будто судили сегодня кого-то другого, а не Дементия.
— Ну, ты и гусь, — сказал участковый. — Напакостил и еще хочешь героем быть.
— А я герой и есть, — нисколько не сомневаясь, сказал Дементий. — Давай посчитаем. Только попрошу меня не перебивать.
— Не слишком ли ты много хочешь, — съязвил ему участковый и отвернулся, чтобы хоть какое-то время не видеть Дементия, — настолько он ему надоел.
— Так вы меня, конечно, засудите, — покорно сказал Дементий. Он потряс головой, сожмурил веки, как бы повторяя: да, засудите.
— Пусть говорит, не перебивайте, — попросил Благодеров. Председателем в Муруе он работал второй год, людей знал еще плохо, и ему было интересно, что скажет Дементий дальше.
Улыбка тронула губы Дементия — или оттого, что за него вроде как заступился председатель, или оттого, что Дементий опять какую-нибудь каверзу придумал, или оттого, что Петр Иванович все время молчал, — наверное, чувствовал себя в чем-то виноватым… Но еще не было случая, чтобы Петр Иванович поддался Дементию или кому-то другому, и ни разу не было, чтобы Петр Иванович пришел на собрание и просидел молчком. Значит, все еще впереди!
То, что Петр Иванович молчал, для Дементия было и хорошо и плохо: учитель, наверное, сидит и копит силы, обдумывает, как получше накинуться, чтобы покончить с Дементием одним разом. Выступит учитель, все разойдутся из клуба, и Дементий опять останется в дураках!
Надо нападать первому, догадался Дементий, изо всех сил… чтобы Петр Иванович не смог подняться… А если и поднимется, то не с таким гонором, как это бывало раньше… А может, не нападать? И Петр Иванович, глядишь, просидит, бросая на Дементия острые и опасные взгляды… Хорошо, не трону, а он возьмет да тронет? Тогда мне еще хуже… Тогда получится, что я вроде как оправдываться буду…
Он перепирался до этого, готов был скандалить с каждым, а тут заговорил тихо, как будто прислушивался к своим словам, будто не нападал на Петра Ивановича, не мстил ему, а пытался объяснить что-то непонятное себе и другим.
— Тридцать два года я только и слышу в Белой пади: Петр Иванович, Петр Иванович… Не спорю, было когда-то. Но нет давно того Петра Ивановича, разве только в две смены учит по привычке…
— Ну, а ты чем за эти годы отличился? — спросил председатель. Дементий похвалился:
— Если я стану перечислять, пальцев на руках и на ногах не хватит!
— А ты перечисли, — вроде как подбодрил его председатель.
Дементий посмотрел на потолок, как будто там было записано все, что он сделал для Белой пади, потом наткнулся в зале на холодный, презрительный взгляд Петра Ивановича, который, казалось, говорил: тронешь — пощады не будет! Да и как Петр Иванович должен смотреть теперь на своего соседа, — конечно же, только плохо, а стало быть, и Дементий будет смотреть на Петра Ивановича так же. Теперь они — враги.
А может, все это померещилось Дементию — и взгляд Петра Ивановича, и то, что Петр Иванович так думал о Дементий, и то, что они стали врагами? И ему вдруг захотелось, чтобы ничего этого не было, — ни ночных хождений около дома Мезенцевых, ни этого собрания, и чтобы его отношения с Петром Ивановичем и со всей деревней оставались прежними. Вот же Петр Иванович сидит, как всегда, чуть-чуть улыбается, будто они и не ругались… А ведь правда не ругались, можно сказать, из ничего сыр-бор загорелся!
Когда собрание только началось, Дементий видел: победить Петра Ивановича — это победить всех, кто сидел в клубе. И не потому, что так уж все до одного были за Петра Ивановича, — такого не должно быть, считал Дементий, но так уж получилось, что сначала все были против Дементия, а сейчас, он считал, кое-кто и на его стороне. Председатель, казалось Дементию, уже не смотрел так любезно на Петра Ивановича… И потом… кто такой Петр Иванович для председателя колхоза? Чужой человек. А Дементий — свой, Дементий в колхозе работает. Действуй, сказал себе Дементий, только помягче, а то опять накинутся все разом и заклюют как паршивого цыпленка.
— Я буду разом говорить — и про себя, и про Петра Ивановича.
— Можно разом, можно отдельно, лишь бы правда была!
— Правда будет, — пообещал Дементий.
Интерес к Дементию усилился, все стали ждать, что он расскажет, как чудил по ночам около дома Мезенцевых. И все недоуменно стали смотреть на Дементия, когда он начал очень уж откуда-то издалека.
— Все вы знаете, как в тридцатых годах Петр Иванович был секретарем сельсовета. Такого смелого человека я в то время больше не видел… И тут бы, конечно, кому-то не плохо спросить: «А ты, Дементий Корнилович, ты что в это время делал?» Я бы ответил: «Работал в колхозе и день и ночь». Сделали Петра Ивановича учителем. Ничего не скажу, учит он в две смены, вечером ликбез ведет, в конторе и в школе лекции читает-рассказывает, что делается на земном шаре… Летом Петр Иванович с мужиками и бабами в лесу, как будто он не учитель, — сено косит для колхоза! А я что, сижу сложа руки? Нет, я работаю в колхозе день и ночь. Не то, что некоторые… А до войны и первые годы после войны, помните, как было на Седьмое ноября, на день Красной Армии? И ученики, и взрослые ходили колоннами с флагами и лозунгами! Кто это все делал? Петр Иванович. А после каждой демонстрации — обед в бригаде! И для детей, и для взрослых! А кто для обеда коз в тайге стрелял? Дементий Лохов.
— Не ты же один стрелял?!
— А я и не говорю, что один.
Чтобы не сбиться, Дементий даже не посмотрел в ту сторону, откуда раздался выкрик, и продолжал:
— Пока Петр Иванович был секретарем в сельсовете, на него было два покушения… А разве я не рисковал, когда в Саяны по графит ездил?! За зиму два-три раза с конем и с санями под лед провалишься! А потом едешь по морозу… На лес на всю зиму кого посылали? Меня. Кто был, знает: сколько раз за день лесиной может прихлопнуть?
— Лохов, — обратился к нему председатель, — ты же знаешь: колхозники давным-давно в Саяны за графитом не ездят, лесозаготовками не занимаются…
Дементий только этого и ждал.
— И Петр Иванович то же самое: ликбез не ведет, лекций не читает, на покос с нами не ездит, отпустит учеников — и лето сидит дома.
— На мой вопрос, Лохов, ты не ответил.
— Какой вопрос?
— Чем ты отличился за последние годы?
— А что тут отвечать: работал в колхозе и день, и ночь.
— А точнее.
— Строил.
— Что именно?
— А хоть бы этот клуб, гараж! Артезианский колодец! Дома колхозникам строил…
Дементий и половины не назвал того, что он сделал для Белой пади, но его перебил бригадир:
— Ты бы лучше себе дом построил, а то живешь, как до революции!
Благодерову было непонятно: Лохов — крепкий, умный, старательный мужик, а дом и все, что к нему прилегало, — стайки, баня, ворота, заборы на глазах заваливались, и он палец о палец не хотел ударить, как будто все это было, по словам же Дементия, не свое, а чужое.
— Ленился или некогда было? — спросил он у Дементия.
Тот бросил острый взгляд на председателя:
— Лени у меня никогда не было, это все знают. А время, если бы захотел, нашел бы.
— В чем же тогда дело?
— Интересу не было.
— Нет, Дементий Корнилович, ты ответь: почему не хотел построить себе дом?
— Некогда было.
— Но ведь строили же другие?
— За счет колхозного времени.
— И ты бы за счет колхозного времени…
— Совесть не позволяла.
— Хочешь сказать, что ты был самым сознательным на Белой пади?
— Я этого не говорил.
— Так выходит.
— Я не знаю, как выходит.
— Садись, — сказал председатель. В голосе Благодерова не было ни жалости, ни жесткости, просто он предложил сесть и Дементий сел, довольный, что чаша весов вроде как опять стала клониться в его сторону. Председатель долго смотрел на Дементия: зачем ему понадобилось пугать Петра Ивановича? Объяснение Дементия, что учитель сам дал для этого повод, Благодеров отбросил, — и теперь снова все становилось непонятным. Уверенность, с которой Дементий смотрел на сидевших перед ним колхозников, еще раз подтвердила, что он даже на грош не чувствует себя виноватым.
Когда, казалось, все было сказано, все было переговорено, а Дементий так и не был положен на лопатки и даже, более того, пытался стать вровень с Петром Ивановичем, именно в этот самый нужный момент всех выручил Петр Иванович. Он еще ничего не сказал, а только молча поднялся, он еще только подходил к столу, застланному красной материей, повернулся лицом к залу и еще ничего не сказал, а все вздохнули легко, и у каждого на это была своя причина. Почти все вздохнули сначала потому, что знали, что после выступления Петра Ивановича собрание долго идти не будет, потому что Петр Иванович всегда умел все объяснить и еще ни разу не ошибся. Выступит Петр Иванович, поговорят еще немного и разойдутся по домам. И еще большинство вздохнули вот по какой причине: уже одно то, что Петр Иванович будет говорить, сбрасывало какой-то тяжелый, неприятный груз с каждого, потому что каждый чувствовал себя будто в чем-то немного виноватым не только во всей этой истории, но в чем-нибудь еще, и теперь если не каждый, то многие, может быть сами того не замечая, делались или хотели сделаться лучше, и получалось что-то уж совсем странное: вроде как этот случай помог в чем-то…
Дом на поляне
Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек…
Н. Рубцов1
В конце зимы на Татарской заимке заболел Иван Федосов. Смерть не однажды подкарауливала его, но Иван Захарович показывал ей кукиш.
— На, подавись, — говорил он. — И деньгами моими подавись, дай только подняться.
Иван Захарович просил жену Марью привезти врача, но Марья слушала плохо. До деревни четыре километра — за час дойти можно. Конюх, он же и сторож, сидит сейчас в бригадной конторе, дрова в плиту подбрасывает. Попросить его — даст коня. До больницы оттуда еще пять километров. Навряд ли врач окажется ночью в больнице, домой надо идти будить. Поедет на заимку или не поедет, неизвестно. Скорее всего, пошлет кого-нибудь из помощников. Или скажет: вези Ивана сюда! Можно бы с конного двора вернуться на заимку, а потом уж с Иваном — в больницу, но и это лишнее: таблетки, уколы… ничему этому Марья не верила и сама за шестьдесят два года в больнице не была ни разу. Придет смерть — никто не поможет.
Об этом она и сказала Ивану.
Иван медленно повернулся на другой бок, вытер рукавом лоб и стал смотреть в окно, выходившее на Широкое болото, занесенное снегом. Под лучами мартовского солнца снег на болоте блестел и даже из окна смотреть на него больно. Сразу за болотом почти отвесно возвышается Белопадский бугор, деревья полегли на нем, не выдержав крутизны.
Дважды прогремел выстрел: кто-то охотился по насту на диких коз. После выстрелов Иван заметил: ходики тикают медленно, вот-вот остановятся.
В облаке пара вошла в избу Марья, прогрохотала около печи поленьями.
— Марья, подтяни гирю.
Не взглянув на Ивана, она пошла к часам. Долго разглядывала стрелки, оглянулась и спросила:
— Которую куда?
Иван скомандовал:
— Маленькая пусть так будет, большую на тройку ставь.
Марья подтянула гирю, толкнула маятник. «Ну вот вроде бы легче стало», — подумал Иван, слушая, как бодро зашагали ходики. Он снова посмотрел в окно, представил, как солнце растопит снег, как заревет вода, обрушиваясь с бугров на болото, как Марья вынимает в избе зимние рамы, обливает их кипятком и соскабливает ножом тесто с присохшими лентами газетной бумаги, как белит печь и моет в избе к Маю, и как потом, будто за день, появится зеленая трава, покроются листьями деревья, засинеет речка Индон, — и впервые стало страшно, что не доживет до полного тепла.
Сам бы Иван ничего не знал, он и раньше, последние два года, подолгу болел зимой, но верил, что болезни у него никакой нет.
Напугали Ивана иркутские врачи. Постукали его по всему телу, повертели, как пушинку, и столько дали предписаний, что выполнить их все невозможно. А если выполнишь, то вроде бы жить не для чего… Какая болезнь — толком не сказали, но Иван видел, как один врач, который постарше, заметно нахмурился, дескать, дело дрянь, и смотрел так, будто Ивана в живых уже не было.
Иван вышел из кабинета и снова занял очередь в этот же кабинет. Он еще первый раз, как зашел в кабинет, понял, что нужно, но не знал, как об этом сказать, и теперь, в очереди, у него было время все обмозговать.
Врач не понял, что Иван зашел к нему второй раз, а когда узнал его, то сделал очень внимательное лицо. Но Иван не хотел говорить при другом, молодом враче, и тогда тот, молодой, ушел. Сбиваясь, Иван начал говорить. Врач слушал Иванову путаницу, напрягаясь до предела, и наконец понял, что Иван предлагает взятку, чтобы его лечили не как всех — «р а з о м», а отдельно.
Врач сначала подумал, что ослышался: во-первых, взяток он не брал, во-вторых, никак не мог предположить, что у бедно одетого, сработавшегося человека могут быть лишние деньги.
Иван повторил свои слова, но уже короче, и тут же увеличил сумму до двухсот рублей, прикидывая, что на старые это все-таки не двести рублей, а две тысячи.
— Это все бесплатно, — сказал врач.
Иван положил на стол две пачечки красных бумажек — двести рублей. Врач взял со стола деньги, подержал их в задумчивости. И пока он так держал деньги, у Ивана стрелой пронеслось: «Не возьмет, — значит, мне скоро труба…» Рука врача медленно, как неживая, разогнулась. Иван обиженно поджал губы: «Бери, не даром даю, здоровье себе покупаю…» Иван смотрел за выражением лица врача, а больше всего за его лбом: лоб у врача был прорезан глубокими морщинами, сделавшими несколько выпуклых складок, и Ивану казалось: лоб у врача, должно быть, мягкий, как будто без костей.
— Возьми деньги, — сказал врач. — Они тебе пригодятся.
— Это, доктор, не деньги, — отвечал Иван, долго пристраивая во внутреннем кармане трикового пиджака двести рублей.
Врач не очень вежливо посмотрел на Ивана и, меняя тему разговора, спросил:
— Далеко ехать?
— Триста километров будет. Двести двадцать в поезде, оно ничего, а семьдесят — на холодном автобусе.
— Как же ты доедешь?
— У меня, доктор, в районном центре у брата медвежья доха лежит…
Ивану хотелось развеять мысли врача насчет своей невеселой жизни, он бы сказал, что в райцентре у него не только одна доха — в райцентре и еще по двум городам лежит в сберкассе двадцать тысяч новыми деньгами.
«Почему я не похвалился, — вспоминал Иван свой разговор с врачом. — Он бы тогда на меня по-другому взглянул: и двести бы рублей взял, и лечить бы взялся не так. А то что за лечение — одни разговоры: не пей, брось курить, не простывай… Рецептов дал для виду. Что это за рецепты и что за лекарства в городской аптеке — таких лекарств бери сколько хочешь и у себя дома в участковой больнице! Приеду — напьюсь, — думал тогда Иван. — И курить буду. И насчет простуды посмотрим — это тоже наше дело…»
Шел Иван по Иркутску, смотрел на спешащих, толкающихся людей, удивлялся, как это смело городские люди переходят улицы. «Куда же ты лезешь! — хотел он крикнуть женщине, нагруженной сумками. — Раздавит!..» Но шофер затормозил легковую машину и только фарой слегка, будто шутливо, подтолкнул у женщины сумку.
И воробьи были в городе смелее, чем деревенские: люди идут и тут же, под ногами, воробьи прыгают. Иван не мог понять только, почему городской воробей чернее деревенского. А когда понял, засмеялся: да ведь они прокоптились, сажа с крыльев летит! Ну и жизнь!
На вокзал Иван пришел часа за три до поезда. В городе нечего было делать, а на вокзале сидишь, поезд ждешь, не прокараулишь, и поговорить есть с кем — или из своего района кого встретишь, или из соседнего.
За полчаса до отхода поезда Иван занял в жестком вагоне место получше — дальше от окна. Когда ехал сюда, сдуру уселся у окна, чтоб лучше видеть, где какие города, деревни. Ничего интересного не увидел, а спину застудил. Ивану хотелось курить, но он боялся потерять место: люди бесцеремонно садились, кто где хочет.
— Занятая, — отвечал Иван, когда входившие хотели сесть с ним рядом.
— Вся полка?
— Вся.
— Лез бы ты, батя, на вторую полку, если хочешь спать.
— Мне хорошо на первой. Понял?
— Ты не один в вагоне.
— Я не привык тесниться, — отвечал Иван, на всякий случай расстилая на полке новенькое пальто-москвичку с широким, чуть не в полметра цигейковым воротником.
Когда пассажиры наконец устроились и поезд начал набирать ход, Иван, не торопясь, прошел в тамбур и, вроде бы наперекор доктору, закурил, пристально разглядывая, как январский мороз разрисовал окна в тамбуре.
2
К середине апреля Иван уже был на ногах. В полдень, когда солнце пригревало сильнее, выносил из избы маленькую скамейку, ставил ее под избой и сидел час или два, пока Марья не начинала стучать в окно.
Надышавшись запахами лесного ветра, подтаявшего снега, Иван поднимался, чтобы пойти в избу, но тут же забывал, что барабанила в стекло Марья, и сидел еще минут десять — пятнадцать. Лицо его, освещенное теплыми лучами солнца, обглаженное ветерком, делалось свежее, мягче. Сидя на скамейке, согнувшись или привалившись спиной к избе, Иван ловил себя на том, что задумывается, и опять ему было не ясно — от болезни это или от чего-то другого. Но болезнь, кажется, прошла, а ощущение неясности, зыбкости осталось.
Марья стояла на крыльце, молча разглядывала Ивана.
— Чего ты сидишь? Иди обедай!
— Что мне твой обед, — глядя себе под ноги, отвечал Иван.
Он прихватывал с собой скамейку и нехотя поднимался на крыльцо. На столе стоял чугунок с толченой картошкой, заправленной поджаренным салом, сверху картошка взялась красноватой огненной коркой. В алюминиевую миску налита молодая простокваша. Осталось только нарезать хлеб и — садись, ешь. Иван поковырялся ложкой в чугунке, хлебнул раз-другой из миски и вылез из-за стола.
— Не будешь есть, сдохнешь, — сказала Марья.
Иван сел около плиты, хотел закурить крепкого «Севера», но пачки оказались пустыми. Оторвал клочок газеты и закурил дешевой махорки. Не справившись с длинной самокруткой, загасил еще довольно большой окурок, хотел положить в ящик, где хранилась махорка, но передумал и с силой кинул окурок в плиту. Снял висевшее над кроватью новое полупальто-москвичку, новую цигейковую шапку и стал одеваться настолько нерешительно, что, казалось, вот-вот повесит пальто и шапку на старое место.
— Куда ты? — нелюбезно спросила Марья.
— В деревню.
— Кто там тебя не видел? Кому ты нужен? Не ходи, не надоедай людям!
Иван взялся за дверную ручку, привычным движением толкнул плечом дверь и плотно закрыл ее за собою.
Твердо Иван не знал, зачем он идет в деревню. Ему казалось: пройдет он заброшенный кирпичный сарай, поднимется на бугор, за кладбище, и, как пойдет справа от дороги поле, — вот где-то там или чуть подальше ему станет ясно, что его погнало в деревню.
Поднялся в гору вдоль сгоревшего кладбища, и дорога стала сворачивать вправо, к Татарским полям. Чувство, охватившее Ивана, было не похоже на предыдущие, когда он каждый год в такое же время шел себе да шел по знакомой дороге, и не было ему ни тоскливо, ни весело — тосковать особенно не над чем было и особенно веселого ничего не ожидалось, — все обычно, все как всегда. А сейчас похоже, будто Иван нырнул под воду и не может вынырнуть. Не глубоко нырнул — ярко светит над водой солнце, протяни руку — и она окажется наверху!
Недалеко от дороги, вдоль заячьей тропы, застыли и сделались ледяными глубокие следы охотника. Снег затвердел, и белому не надо бегать по тропе в сильный мороз и греться — грозные петли, оставленные неопытным охотником, висят над тропой и покачиваются от ветра впустую. Иван подумал: «И я, как заяц, по одной и той же дороге бегаю. Летом заяц много дорог переменит, а у меня зимой и летом одна — от заимки к деревне…»
Кончилось поле, до последнего поворота недалеко осталось. Мост близко, за мостом — деревня. Вот они — дома, люди ходят. Он остановился и поглубже медленно втянул в себя воздух. Прошел еще немного и, зорко вглядываясь, как будто через заборы, стены и сараи хотел увидеть все, что там делается, медленно, но не очень глубоко, так же, через ноздри, втянул в себя воздух — запахи стали отделяться один от другого, Иван сначала различил, как пахнет свежеиспеченным хлебом, дымком из кузницы и сеном, нападавшим с саней по обеим сторонам дороги. Пахло подтаявшим снегом и лесом; таких запахов и на заимке сколько хочешь, но около деревни они были сильнее.
Даже после болезни Иван нисколько не устал — привык бегать, но по проулку в деревню поднимался медленно. Огороды начались, сейчас из проулка покажется сестрин дом. Мимо окон вряд ли пройдешь незамеченным: если не сама Наталья, то ребятишки обязательно увидят. Прильнут к окнам, будут смотреть, пока Иван не скроется. Знают, что родня.
Сегодня бы Иван, точно зашел к Наталье, и конфет с пряниками купил бы ребятишкам, — племянникам, стало быть, — но как раз возле Натальиного дома Ивану пришла в голову мысль, которая ему понравилась, хоть и не была новой: ни к кому в дом он не пойдет, а лучше посидит в бригадной конторе, послушает, что говорят люди, сам что-нибудь расскажет, может быть, в карты сыграет с мужиками, и — опять на заимку!
«Большое дело, — думал Иван, — когда у тебя на книжке двадцать тысяч. Сидишь с мужиками, говоришь о том, о сем, с собой у тебя какая-нибудь измятая трешка, а всем кажется, что твои карманы набиты деньгами, и, смотришь, то один, то другой зовет тебя пообедать или поужинать, да еще бутылку поставит. Интересно иметь много денег: тебя же и угощают! А ты вроде как потом, может быть, втройне рассчитаешься!..»
За таким размышлением Иван не заметил, как прошел мимо Натальиного дома и очутился в бригадной конторе. Мужики встретили Ивана хорошо, будто соскучились по нему. Два лучших места предложили: садись у плиты, где теплее, или за столом, где вроде как почетнее. Иван посидел у плиты, а потом перебрался за стол. Пальто, шапка, сапоги — новенькие, Иван с собой вроде как праздник принес. Мужики одеты по-будничному, заросли щетиной, дымят самокрутками и городскими папиросами, как будто думают над чем-то важным и пока что неразрешимым.
Натальин муж, Трофим, здесь же, как назло Ивану, чисто одет, побрит. Из всех он один кое-как поздоровался с Иваном и тут же отвернулся, будто они не дольше, как вчера, виделись. Но Ивану это маловажно, он давно решил: чем дальше от родни, тем лучше.
Веселее, чем с другими, Иван здоровался с шоферами и трактористами — это народ молодой, с ними скорее кашу сваришь: за бутылку, а то и бесплатно и дров тебе подвезут, и соломы, и сена…
Иван сидел около стола и молчал — что в этом особенного? — а некоторым казалось, что Иван не просто молчит, а знает что-то такое, чего другие не знают.
Мужики не помнят, кто из них и когда последний раз был в Иркутске, а Иван оттуда недавно. То, что он ездил в больницу, никому неинтересно, — шангинцам кажется, что Иван был в городе по какой-то другой причине.
— Правда, Иван, что когда ты был в Иркутске, целый вечер в ресторане «Байкал» пили за твой счет? — не удержался, все-таки подковырнул Ивана Натальин муж.
— Кто тебе сказал?
— Земля слухом пользуется! Говорят, пили одно шампанское вместе с официантками!
— Было дело, — подтвердил Иван. — И тебе стаканчик бы поднес! Или ты отказался бы?
Ничего смешного Иван не сказал, а мужики захохотали чуть не все разом. Сразу не понять, над кем смеются, — над Трофимом или над Иваном? Смеются, конечно, над тем и над другим, но больше всего — над Трофимом. Доказать, что Иван не был в ресторане, не докажешь. В самом деле, почему бы Ивану не бросить на пропой сотню-другую? От двадцати тысяч не убавится! Но не поэтому смеялись над Трофимом. Натальин муж долго надоедал Ивану — выпрашивал деньги…
У Ивана с Марьей детей не было, и Трофим считал, что Иван должен помочь своей многодетной сестре. Сама Наталья ни за что бы не отважилась просить денег у Ивана — знала, что не даст, — но с ее молчаливого согласия потрясти Ивана с Марьей взялся Трофим.
Марья сразу же разгадала далеко идущие планы Иванова родственника и встречала его хмуро: угощала как полагается, но говорить с ним не хотела — уходила на огород или в лес и не возвращалась, пока Трофим не уйдет в Шангину.
Ни в каком ресторане Иван не был, никого не поил, но мужики поверили Ивану, и ему начинало казаться, что так оно и было.
3
Дорога на Татарск настолько знакома Ивану, что он не заметил, как прошел Татарские поля и очнулся перед заимкой, где лес по обеим сторонам дороги стоял так плотно, что, казалось, вот-вот старые сосны через дорогу коснутся длинными лапами друг друга. Среди густого леса кусочек полуизгнившей изгороди, которой не дают падать молоденькие сосенки и березки. Несколько жердей, свисающих как попало между кольями, напоминают, что когда-то была здесь поскотина. Были и ворота на Татарск. Иван только что прошел в том месте, где они стояли.
Давно на Татарске нет домов, только один — Иванов, а ему часто виделось: цел Татарск, стоит как прежде со всеми домами и постройками, с колодцами, и у каждого дома — с черемухой; так же, как в Шангине, бегают по Татарску ребятишки, лают собаки, кто-то с самого утра хлопает и хлопает вальком на реке…
Кажется, это было вчера. Четыре или пять телег, фургон впереди, в цветных платочках и кофтах бабы, мужики, — их поменьше, — и все они, как нарочно, разместились у самых колес, подростки и огольцы. На фургоне самый смелый народ, и хоть кто правит — Гавриленок или Пашка, Васька Кряк или Карась — знает: на фургоне тихо не ездят. Дорога все с горы и с горы, переворачивается вправо, влево, обрывается вниз, колея размытая, глубокая, не то что вовсю — рысью нельзя, так и свалишься. Фургон далеко, но хорошо слышно, как там вскрикивают, поют, хохочут.
Сбегая вниз, лес расступился, пошел густой березняк и ельник и неожиданно показался Марьин дом, огороженный тыном вперемежку с пряслом; лиственничные тынины выгорели на солнце и стали оранжевыми. Лес уступами подходит к Марьиному дому, за лесом, через Индон, синеет Широкое болото.
Фургон ждет всех на Татарске. Яшка или Панас крикнет под окно: «Иван, а Иван, собирайсь!» Иванова жена, молодая, красивая, в надвинутом на лоб платке, выйдет, скажет: «Он вперед ушел». И тут уж все равно: раз к нему завернули, то делали остановку. Пили у Марьи холодную, только что из колодца воду и квас. Бежали к Индону. Речка широкая, до середины не доплывешь — и назад. Успеешь еще раз или два намочить голову или в долбленой лодке круг дашь.
Выходил ли дядька Иван из дому с корзиной из широких лучинок или неожиданно, словно колдун, показывался на дороге из лесу, нравилось смотреть на него. Среднего роста, с лохматыми бровями, сухощавый, он все время смеялся, слушал внимательно и приговаривал: «Так, так, так…»
Теперь уж не вспомнить: в Василевом или Федькином мойгане гребли сено, и там лежала вывороченная с корнями вековая лиственница, и из-под нее бил холодный, обжигающий ключ. В обед наливали в бутылки и чайники воды, ставили в холодок, а потом обливались. Вода радугами вспыхивала на солнце, остывшим серебром падала на траву. Взвизги девчат и молодиц, охи мужчин раздавались по лесу, и в эту неразбериху вплетался звонкий голос дядьки Ивана: «Ай, ну еще! От полезно! Убегай — догонит! О-ха-ха-ха-ха! От народ веселый!..»
Ночевали в длинном балагане, накрытом драньем и берестой. Перед рассветом, когда табор замолкал, Иван все сидел у огня. Костер гас, но Иван не притрагивался к валежнику и смолью, набросанному к огню со всех сторон. Он сидел, задумчиво обхватив колени, и смотрел в обступившую его ночь. Какая-то птица все время спрашивала: «Где-е? Где-е?» Иван поднимался и сам себе говорил: «Пойду коней посмотрю. Тут ходили, а теперь не слыхать».
Возвращался он по той же дороге. «Ходют. В падину спустились». Костер гас, и в темноте Ивановы сапоги, будто начищенные, блестели от росы.
Не ложился Иван. Смотрел на черневший среди покоса зарод. Радостью наливалось сердце Ивана: «Сколько сена стоит, моему бы скоту на две зимы хватило! Да трава какая — ни одной осочины, ни разу под дождь не попало… Ветерок с утра, росу сдуло… Да разве такое богатство в два часа грести?!»
Но вот что удивляло Ивана: и поздно грести начали, и работу бросили засветло, а два таких зарода поставили! Как будто кто-то, старательный, помогал им, пока долго обедали, обливались водой, делали набеги на морошку и голубику, рассматривали древнего ворона на вершине лиственницы, гонялись за ошалелым зайцем, которому никак не удавалось заскочить в лес. Только раз зародчики подгоняли криками девчат, парней и мальчишек-волоковозов, когда солнце ненадолго спряталось за тучи и где-то над Саянами громыхнул гром.
Ни одной капли дождя не упало, сделалось еще жарче. Логун с ключевой водой, спрятанный в тени берез недалеко от зарода, нагрелся, вода в нем была немного холоднее болотной, в которой парни, — особенно те, что учились в городе, — то и дело ополаскивались до пояса или смывали пот с лица. Те, что из деревни никуда не уезжали, и к логуну ходили реже, и до пояса не умывались, и лицо не ополаскивали… Зато парни, прожившие в городе не одну зиму, как-то иначе смотрели на Ивана… Видел он какую-то связь между собой и теми, кто уехал в город, — как будто он в чем-то был ближе к тем, уехавшим. Иной раз он готов был побежать за молодыми людьми и что-то такое спросить у них…
На первый взгляд, шангинцам лучше: у них электричество, радио, много наберется, чего нет на заимке. А зачем все это Ивану? При лампе ему даже лучше — и видно все, и глаза не портишь! Кино посмотреть Иван может в той же Шангине… Да и что он в этом кино увидит?! То ли дело смотреть на Индон, лес, горы — сразу за домом! И дорога на Татарске без пыли. А в Шангине машина проедет — пыль столбом! Не зря горожане едут летом в лес. А Ивану никуда не надо ехать, он — в лесу!
Иван с Марьей остались верными Татарску! Всю тоску об исчезнувшей деревне Федосовы взвалили на свои плечи… Деревенским легче было тосковать о Татарске всем вместе. А вот попробовали бы каждый в отдельности, как Иван с Марьей!
4
С попутной машиной Иван доехал до Бабагая. Сидел рядом с шофером, а не в кузове, где еще два пассажира, которых бросает по кузову как пустые ящики. Пока машина пробирается по длинной и неровной стлани, по левую сторону от которой в холодной воде плавают утки и гуси, Иван смотрит, куда ему лучше пойти — в контору или в магазин? Контора сразу направо, как проедешь стлань, магазин — налево и дальше. Около магазина толпится народ. Привезли чего-нибудь или у мужиков какой-то праздник. Вот жизнь пошла: что ни день, то праздник! Хорошо бы, шофер поехал в ту сторону, Иван бы сошел возле магазина, посмотрел бы, чего привезли, или узнал, что за праздник.
Шофер свернул налево от стлани, с ветерком домчал Ивана до магазина и остановился, как будто прочитал Ивановы мысли. Главное, еще спросил, когда подъехал к магазину:
— Сюда тебе?
Иван кивнул, довольный, что все так идет хорошо.
— Миронов будешь или Колесников? — спросил Иван у шофера, так как всех бабагайских запомнить не мог. Другое дело — шангинские!
Шофер, кучерявый, лобастый, веселый парень, ответил Ивану, что он — Миронов.
Иван не стал уточнять, как зовут парня и которого он Миронова. Миронов, и ладно. Иван так и думал: по кудрям видно!
На глазах у публики Иван с важностью вылезает из кабины. Захлопнуть шоферу дверцу он ни в коем случае не позволяет — будь ты хоть Миронов, хоть Колесников! Он ее распахнул широко, когда вылез, а потом сам захлопнул, до одного раза. Когда шофер за тобой дверцу закрывает — не то навроде как он тебя выгоняет или выталкивает. А ты сам захлопни!
Иван поднимается по ступенькам высоченного магазинского крыльца, оглядывает публику, здоровается: с кем просто так — кивком или словом, с кем — за руку, и — в магазин. Кто-то из бабагайских, а может, из марининских (их села разделяются только мостом) не знает Ивана и спрашивает:
— Кто это?
Чей-то знакомый голос отвечает:
— Это Иван Федосов.
Дверь за собой Иван закрывает медленно — боится с кем-то столкнуться или ждет, что за хорошими словами кто-то бросит вслед что-нибудь нелестное, может быть, даже оскорбительное. Иван не связывается с такими — пусть завидуют! В Шангине никогда не слышал неприятных слов, разве только от родни… А в Бабагае и на Марининске народ жестче. Чем дальше от своей деревни, тем хуже…
Продавали стиральные машины. Колхозники покупали их в Ангарске или в Черемхове, а тут — в Бабагае! Вот и толпится народ. Ивану стиральная машина не нужна — Марья полощет белье в Индоне и летом, и зимой. То ли дело в свежей воде — стирай, сколько хочешь! — а не в какой-то машине, которая, того и гляди, сломается. Шуму не хватало в доме! Иван как-то сказал Марье, что купит стиральную машину, так Марья на него целый день сердилась.
Постояв около прилавка, Иван маленькими шажками (в магазине тесно было) пошел к двери с таким видом, как будто у него дело, не терпящее отлагательства.
Скоро он очутился возле двухэтажного здания колхозной конторы, в котором размещались клуб и библиотека. В этом доме, наверно, еще что-нибудь размещалось, только Иван не знал. Зато он хорошо знал: двухэтажное шлаколитное здание, осевшее и давшее трещину посередине, строилось лет пять, и называлось, пока строилось, Домом культуры. И вывеска такая была: «Дом культуры колхоза «Большой Шаг». Теперь вывески нет, но по разноцветным цифрам на деревянных подставках и по тому, что нарисовано рядом с цифрами, еще издалека видно, что здесь — правление колхоза.
Нынешний председатель Георгий Алексеевич Сухарев, если случалось из ряда вон выходящее, ни на кого не кричал, не выгонял из кабинета, держался так, будто ничего не случилось, и даже посмеивался в том месте, где другие наверняка бы начали кричать и топать ногами.
«Смеется-смеется, а потом и до меня доберется», — сочинил Иван невеселую шутку.
Бригадиром только Илью Андреева оставил, из Шангины, остальных — всех заменил. Тут, правда, Ивану повезло: с Ильей они вроде бы давно столковались! Илья сколько раз говорил Ивану:
«Зря ты, Иван Захарович, боишься Сухарева, — хороший мужик!»
«Для тебя-то он, может быть, и хороший, — отвечал Иван, — а мне с какой стороны к нему подступиться? А ну как не в добрый час попадешь, — всему конец!»
Как бы так угадать, думал Иван, чтобы Сухарев был в хорошем расположении духа. Несколько раз он пытался разведать, какое в данный момент настроение у председателя, и от разных людей слышал один и тот же ответ: «У него всегда хорошее настроение. Иди, не бойся!»
Иван делал вид, что идет к председателю, а сам сматывал удочки на заимку.
В последнее время появилось новое, обнадеживающее чувство, подсказывающее Ивану, что все лучше, чем ему кажется. Иван и сам знал, что выход есть из любого положения, главное, не унывать. «С веселым человеком трудней справиться!» — неожиданно для себя заключил Иван, пытаясь сообразить, так ли это, потому что по себе знал: не всегда ему нравились веселые люди, и даже чаще — не нравились!
Прошел по высохшему тротуару, удобному тем, что в грязь об него можно обчищать сапоги, что Иван тут же тщательно проделал, и скрылся в дверях колхозной конторы. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Иван уже меньше боялся председателя и выбросил из головы мысль, которая сопровождала его каждый раз, когда он поднимался по лестнице, — чтобы председателя на месте не оказалось.
— Председателя нету? — спросил он у главного бухгалтера Михаила Александровича Кирпиченко, который жил раньше в Шангине и в Бабагай перебрался только в прошлом году, а то все ездил на работу из Шангины.
— У себя, — ответил Михаил Александрович грустным и усталым голосом, и перед тем как снова застучать костяшками, так скорбно поглядел на Ивана, что Иван сразу же пожалел колхозного бухгалтера и за этот усталый взгляд, и за страдальческие морщины в углах рта и около носа, и за то, что он всю жизнь считает чужие деньги.
Главный бухгалтер слышал, что Иван не ушел, и с каким-то упоением считал деньги, — вроде как Иван Федосов как-то подействовал на него — не плохо, как некоторые привыкли говорить, а наоборот, хорошо.
Что-то сосчитав, Михаил Александрович отложил счеты в сторону, отрывисто бросил:
— Чего хотел?
— Председателя мне надо, — ответил Иван.
— Председатель — там, — Михаил Александрович кивком указал, где председатель, то есть в противоположной стороне коридора. Он провел по лицу ладонью, прогоняя усталость и как бы заодно удостоверясь: может, никакого Ивана Федосова нет, может, он ушел и тогда не надо с ним ни о чем говорить? Но Иван Федосов стоял в бухгалтерии, даже дверь за собой прикрыл, и смотрел только на главного бухгалтера…
Тот не каждому предлагал сесть возле своего стола, а Ивану — предложил.
Иван сел не напротив — этот стул был для просителей, — а чуть в сторонке, как будто рядом с Михаилом Александровичем. К тому же он видел, что главный бухгалтер устал и наверняка найдет время поговорить с ним. И в самом деле, Михаил Александрович с удовольствием отодвинулся от стола и оказался совсем рядом с Иваном, как бы подтверждая этим, что раньше, когда он еще не был бухгалтером и жил в Шангине, у них отношения были простыми и такими же они остались. Иван может говорить с ним как свой со своим, хотя Михаил Александрович отлично понимал, что Иван свой, да не совсем. По собственному желанию или, как там говорят, помимо воли он все больше и больше отдалялся от колхоза. Но никуда Ивана не денешь, приходится принимать таким, какой есть: не исправишь его сейчас, не переделаешь!
Как бы там ни было, а встретил его Михаил Александрович по-приятельски — так, как и хотелось Ивану.
Такой прием, оказанный Ивану главным бухгалтером, привел в некоторое замешательство всю бухгалтерию.
Тихон Бадейников, не удивленный, а скорее возмущенный поведением Ивана и не одобрявший поведения Михаила Александровича, бросил работу, а точнее сказать, выронил из рук счеты (у него тоже, как у Михаила Александровича, были счеты, только поменьше) и смотрел на Ивана, как бы говоря: «Кто тебя звал? Кому ты здесь нужен?»
Своего презрения к Ивану Тихон не скрывал и, снова начав работать, чутко прислушивался, о чем будет говорить с ним главный бухгалтер.
— Не надумал переезжать?
Иван чуть не подпрыгнул на стуле от этого вопроса: удружил Михаил Александрович, как холодной водой окатил! Справившись с собой, Иван ответил:
— Буду доживать свой век на заимке. Я там никому не мешаю. Ты бы, Михаил Александрович, запланировал на заимке летний лагерь для скота. Сарай не надо строить — готовый стоит. Колодец рядом. Мы бы с Марьей скот сторожили. И колхозу хорошо, и нам.
Летом колхоз держал на Татарске то овец, то свиней, то коров. Иван с Марьей слушали блеянье овец, рев свиней, мычание коров со счастливыми лицами, как будто это были свои овцы, свои свиньи, свои коровы…
Сейчас бы Иван не согласился держать столько свиней, коров, быков, кур, огорода — силы не те, а смотреть, когда много живности, приятно.
— Лагерь откроем на заимке на будущее лето, — сказал Михаил Александрович.
Его слова прозвучали отрешенно, вроде как летний лагерь — одно, а заимка, то есть Иван с Марьей, — другое.
Иван сделал вид, что не уловил этой интонации, и веселеющим голосом сказал:
— Это хорошо.
Бухгалтер, казалось Ивану, чего-то недоговаривал, скрывал, что ли. Спрашивать, не подкапывается ли председатель колхоза к заимке, Иван считал, не стоит. Промолчит, оно, глядишь, и лучше… И в то же время Иван прикидывал, что прятаться не надо, — пусть знают: здесь Иван, никуда он не потерялся.
Сделав жест рукой, Иван нечаянно коснулся локтем Михаила Александровича, вроде как по-дружески его подтолкнул, и, может быть, от этого прикосновения, а главное, конечно, оттого, что сидел рядом, вдруг расхрабрился — стал поглядывать на бухгалтера так, будто тот был у него в руках, будто не Иван в ложном положении, а бухгалтер.
— Что Марья делает?
— Копается, — небрежно и как будто с неохотой ответил Иван. — Что ей еще делать.
Иван ждал, что Михаил Александрович спросит о чем-нибудь другом, более интересном. А про Марью что спрашивать?
— Зря так о Марье говоришь, — укорил Ивана Михаил Александрович.
— А что такое?
— Марья — великая труженица.
«Что он с ним антимонию разводит, — выходил из себя Бадейников. — Нашел кого хвалить — Марью!»
Иван как-то вдруг разом потускнел: какой может быть разговор, когда столько свидетелей? Но, подумав, он и этим остался доволен: как-никак Михаил Александрович бросил работу, сел рядом, о чем-то спрашивает… Зря, что ли, Бадейников сидит бесится… Да-а, попадись-ка ему в лапы — мигом голову скрутит!
Михаил Александрович что-то хотел спросить, но передумал или некогда было, и так стукнул разом костяшками счетов, что даже испугал Ивана, потому что Иван не видел никакого движения рукой, а его сразу оглушил удар костяшек. Он понял, что Михаил Александрович не намерен больше разговаривать да вроде и не о чем — у Михаила Александровича одни заботы, у Ивана — другие. Но что-то с той самой минуты, как Иван заглянул в бухгалтерию, объединяло его с Михаилом Александровичем…
Перед тем как уйти, Иван весело оглянулся, и в это время его настиг голос Михаила Александровича.
— Иван Захарович, может, ты дашь мне взаймы десять тысяч?
Иван вздрогнул, хотя просьба бухгалтера прозвучала, как ему показалось, шутливо. Просьба бухгалтера, пусть даже несерьезная, прозвучала не столь уж и неожиданно: Иван все эти дни мучился над чем-то над этим, а бухгалтер как будто угадал и посмеялся над Иваном: мол, не мучайся, я у тебя спрошу, ты мне ответишь, и ответ мне твой заранее известен, и все останется на своих местах, — Михаил Александрович ни о чем не просил, а Иван — ничего не слышал.
В первый миг, когда бухгалтер попросил у Ивана денег, Иван так и хотел сделать — переступить порог, закрыть за собой двери, как будто ничего не слышал. Не в первый же раз приходилось притворяться, что не слышал или не видел, и без объяснения потом как-то легче всем было, вроде как ничего ни плохого, ни хорошего не было, и снова все шло своим чередом, пока что-нибудь не случится. И вот, кажется, случилось!
Иван сам был виноват, и даже не виноват, а как будто все эти дни упорно шел навстречу чему-то такому, о чем вот сейчас сказал главный бухгалтер.
— Куда тебе столько денег? Это, сам знаешь, не сто рублей и не полтораста!
— На Дом культуры не хватает.
— А ты сказал — тебе.
— Это одно и то же.
Иван не поверил:
— Разве колхоз и ты — одно и то же?
— Я себя от колхоза не отделяю, — ответил Михаил Александрович.
— Большая разница, — сказал Иван, не зная, что ему сделать: разговаривать с Михаилом Александровичем, стоя у дверей, или вернуться и сесть.
— Никакой разницы, — Михаил Александрович проговорил эти слова как что-то давным-давно решенное. — Я вот здесь сижу с утра до вечера и не помню, бываю дома или нет.
— Точь-в-точь как у меня! — сказал Иван. — Вчера я в Шангине ночевал и сегодня не знаю, доберусь домой или заночую где-нибудь.
Все засмеялись, Иван — тоже, как будто нашли что-то общее, одинаково для всех интересное и очень важное, и это «общее, интересное и важное» было вовсе не деньги, а что-то другое.
Иван вышел из бухгалтерии и, даже не взглянув на кабинет председателя, выбрался из душного помещения на улицу, пытаясь сообразить, что же произошло с ним и как ему быть дальше. Бухгалтеру Иван не очень-то поверил: сначала взаймы, а потом не отдадут, и закон будет на их стороне. Нет, «взаймы» Ивана не устраивало… Так надо отдать! Подарить! Он хотел вернуться и сказать Михаилу Александровичу, что согласен, но тут же подумал:
«Не успели попросить, Иван — готово: на, возьми! Надо, самое малое, неделю подождать, чтоб не наспех, не как попало… А то ведь что получается: десять тысяч отдаешь как десятку! Им такой и счет будет!»
5
Получалось только, что будто бы эту мысль подсказал бухгалтер колхоза. Но ведь хоть и подскажет кто-то, и ничего не будет, если сам не захочешь, если сам не додумаешься! Это Иван подсказал бухгалтеру! А что еще Михаилу Александровичу оставалось делать, если Иван маячил у него перед глазами? Это бухгалтер воспользовался Ивановой мыслью, которая у Ивана была недалеко спрятана. Бухгалтер пошутил, а Иван все воспринял на серьезе, потому что это нужно было Ивану, а не бухгалтеру…
Все, что видел Иван перед собой, — бабагаевские дома, просыхающая на взгорках дорога, черно-зеленые ели за мелким и грязным прудом, в котором среди льдин и белого снега плавали озябшие утки и гуси, забуксовавшая машина на Полыновке, под колеса которой ученики начальной школы готовы были, кажется, бросать шапки и портфели, только бы машина выбралась на дорогу, прошедший навстречу румянощекий старик Овсянников, никак не бросавший работу на мельнице, хотя ему было давно за восемьдесят, — все это и все, что видел он вокруг, осветилось вдруг по-новому, сделалось праздничным. В необычном Ивановом настроении было, конечно, виновато и апрельское солнце, набравшее под вечер силу и старавшееся растопить последние льдины в деревне и снег, лежавший огромными клоками на полях и в лесу.
На Татарске Иван только сегодня услышал, как позванивали под снегом ручейки, пробивая себе дорогу в темноте, чтобы потом, набрав силу, удивить мир, вырвавшись наверх неожиданно, как будто за день или за час. Иван около Татарских полей одно такое место раскапывал сапогом до тех пор, пока не увидел, как темная вода хлюпнула под сапогом, как будто довольная, что Иван облегчает ей работу.
Откуда столько солнца в Бабагае: хоть расстегивайся и снимай шапку! Чем больше деревня, тем в ней теплей, что ли?.. Тихий, ласковый ветерок съедает снег, заставляет ручьи бежать скорее, делать причудливые петли, переговариваться десятками и сотнями радостных голосов.
Еще таких день-два, и весна ударит на Татарске во всю силу. По вечерам и ночью, выходя на крыльцо, Иван будет слушать, как ревет на всю тайгу весенняя вода.
Шагалось легко, как будто Иван сделался лет на десять или на двадцать моложе. Что-то похожее бывало с ним, когда он был совсем молод, когда ему казалось, что никуда не надо торопиться, что вся жизнь впереди и что конца ей не будет. И сейчас было такое чувство, будто Иванова жизнь только начинается, — как будто каждая тысяча, которую он собрался подарить колхозу, на глазах превращалась в год или в два, самое малое. Такая мысль Ивану понравилась, и он удивился, что ни разу не думал об этом раньше. А если все деньги, лежавшие у Ивана на книжке, перевести на годы, то получалось, что в запасе у Ивана целая жизнь и что ему сейчас не шестьдесят четыре, а лет восемнадцать или того меньше.
Перед Шангиной догнала Ивана машина. Пока он садился в кабину, ему тоже хорошо думалось. Шофер проверил дверцу, и машина пошла скорее, оставляя позади березовый лесок с двумя огромными соснами, чудом уцелевшими на краю поля. Сосны стояли, наклонившись в одну сторону, как будто разглядывали внизу хоровод березок, особенно веселый летом, когда березки оденутся и зашумят листьями. Иван сколько раз отдыхал под этими соснами! Ему стало жалко, что жить березовому лесу и двум соснам осталось мало. Покажется кому-нибудь, что поле в этом месте неровное, и — прощайте, молоденькие березки и старые сосны!
Шофер терпеливо дождался, когда Иван выберется из кабинки, развернулся перед мостом и чуть-чуть не задел Ивана кузовом. Около самого лица промелькнул обшарпанный борт, дохнувший стылой краской и железом. Иван едва успел отскочить в снег.
На шофера Иван не обиделся — стоял на обочине и думал совсем о другом: от моста начиналась дорога, которую он знал в мельчайших подробностях и так привык к ней, что видел ее даже во сне, и не мог иногда понять — спит он или наяву идет по дороге…
Иван не стал оглядываться на машину, с яростным завыванием взбиравшуюся по проулку в деревню, так же, как не стал оглядываться на Шангину, потому что знал: стоит пооглядываться, что-нибудь или кого-нибудь вспомнить, как покажется, что надо вернуться. Долго смотреть на Шангину, — значит, остаться в ней ночевать!
Пройдешь первый поворот дороги и не захочешь возвращаться, и только с необъяснимым чувством тревоги и радости будешь слышать, как отдаляется лай собак, без которого деревню невозможно представить. Как бы громко ни гудели трактора, будешь все время прислушиваться, не донесется ли еще лай собак, и покажется он в это время лучшей музыкой, которую ты когда-нибудь слышал.
Прозвенела среди ветвей тонкая сосулька. Дрогнувшая ветка уронила ком снега — мелкая искрящаяся изморозь сыплется и сыплется с дерева… Возле Татарска самая настоящая зима! Еще день-другой вечером или рано утром легкий морозец скует тонким ледком растаявшие лужи, ущипнет, развеселившись, за щеку или за нос, а потом и на это не хватит силы — он только разрумянит их, чтобы ты не сердился на мороз, помнил о нем и ждал его в жаркий летний день так же, как ждешь зимой лета!
Солнце спряталось за Белопадский бугор, и сразу же стало холоднее, длинные голубоватые тени от деревьев легли на снегу. Кажется, что скоро стемнеет, но солнце еще выберется из-за бугра и начнет светить прямо в глаза, когда Иван будет подходить к своему дому. На Татарской поляне и на Широком болоте, все еще укутанном глубоким снегом, на короткое время снова сделается теплее. Потом, как будто обессилев, солнце упадет в дремучий лес, перекрасит Саяны, скатится по ним в бездну и появится утром со стороны Шангины.
Иван остановился на Татарском бугре, в лучах солнца, и залюбовался своим домом. Поскорее отогнал мысль, которая в последнее время все чаще закрадывалась в сердце: не вечной же будет заимка? Увидел, как Марья носит вязанками сено от зарода к сараю. Согнувшись в три погибели, донесла вязанку до места, бросила, увидела Ивана, стоит, ждет. Иван бы сам перенес сено к сараю, сделал бы это не сегодня, а завтра, куда торопиться. Конечно, воды, дров наносила, картошку варить поставила… Дымок из трубы идет, значит, все сделано, и Марья принялась за Иванову работу. Ему только отдыхать осталось, дожидаться, когда картошка сварится.
Сегодня он все время будет чувствовать на себе ее укоряющий взгляд. Больше всего он считает себя виноватым, когда уходит к людям. Марья тогда долго не хочет с ним разговаривать.
Она и не помнит, когда последний раз была в Шангине. Лет двенадцать прошло, не меньше, когда бабы силой забрали ее с заимки в родительский день или в троицу, а Ивана заставили сидеть дома. Марья кое-как вырвалась от людей и прибежала вечером на заимку. Чудно ей тогда показалось, и она была рада не рада, что не слышит больше ни песен, ни шума, ни крика…
Ей хорошо, когда она говорит с коровой, с поросенком, с курами, с собакой, у которой нет имени, Марья его так и зовет: «Собака, Собака!» Разговаривала с плитой или с печью, когда в ней горят, потрескивают дрова, когда закипит кастрюля или чайник и просит отодвинуть скорее от сухих и жарких дров…
В непогоду Иван чувствует себя плохо: все болит, портится настроение, белый свет становится не мил. Он смотрит в окна с надеждой, что, может, скоро разъяснит, уляжется, а Марья как ни в чем не бывало хлопает и хлопает дверями — несет то дрова, то воду, кормит свиней, коров, кур… Но это еще полбеды, что без конца хлопают двери, что-то падает, грохочет, скрипит, льется, в это время Иван не узнает Марью — она становится румяной, как в молодости, глаза наполняются прежней чернотой, блеском, — и кажется, что она смеется над ним.
Поправив шапку, то есть надвинув ее немного на глаза, Иван зашагал с бугра к дому, заранее представляя, как он зайдет в избу, снимет пальто-москвичку, надавившее за день плечи, забросит под кровать сапоги, наденет валенки, сядет у плиты и, может быть, расскажет что-нибудь Марье — не все, что случилось с ним за эти два дня, а что-нибудь из шангинских разговоров… Только сейчас, перед домом, он почувствовал, как стянуло лицо от холода, щеки набрякли, сделались большими и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видит их. Дотронулся до щек, потер их, и ощущение, что он видит их, исчезло.
Во дворе каждый предмет говорил Ивану: сюда подойти, теперь — сюда. Все встречало Ивана хорошо, как будто соскучилось по нему, как будто его не было дома не два дня, а больше.
Он сказал Марье, что не надо было переносить сено, что завтра сам все сделает, и Марья что-то проговорила, соглашаясь. Что она проговорила, Иван не разобрал, потому что Марья скомкала слова, сказала не для Ивана, а себе одной, — ей понятно было, и ладно.
Вспомнив что-то, она сразу же пошла в избу.
Иван походил по двору, как будто хотел убедиться, все ли на месте, все ли так же, как было два дня назад. Все было так же, а ему казалось, что произошли изменения, которых он не замечает, и они, как сорина в глазу, беспокоят, и он все видит изменившимся, а в чем эти изменения, понять не может. Наверное, в нем говорила привычка что-нибудь делать, а не терять время попусту, и он забыл о том, что с дороги все-таки, и не меньше часу, до самой темноты, занимался в ограде по хозяйству. После этого будто тяжелый груз свалился с него, и он пошел в дом, удивляясь, почему Марья сидит в темноте, не зажигает лампу.
Каждому, кто через заимку возвращался откуда-нибудь домой, радостно было видеть огонек в окне Иванова дома. Кругом пустынно и глухо, невесело ехать ночью по таким местам, и вдруг — огонек! Сначала не можешь понять, что за огонек, откуда, потом вспомнишь: да ведь это Татарская заимка! И сразу же пропадают невеселые мысли, навеянные одиночеством, глушью и темнотой, и дорога от Татарской заимки до твоей деревни не кажется такой длинной: коль живет здесь кто-то, значит, не такая это глушь, и тебе перестают мерещиться за каждым кустом волчьи глаза, и ты заранее знаешь, что на дороге стоит, подняв лапы, не медведь, а дерево, которое ты, конечно же, видел, когда ехал сюда, но забыл или не узнал в темноте. И ты оглядываешься на огонек возле Широкого болота еще и еще раз. Он уже скроется за поворотом, деревья обступят тебя, сомкнутся над тобой, даже неба не видно, а тебе все кажется, что ты видишь огонек в Ивановой избе, как будто он не позади остался, а впереди, еще только встретится, — и стук колес на корнях и ямках, шумное хлестанье веток, цепляющихся за ступицы колес, бодрый шаг лошади, знающей, что после заимки не так уж и далеко до деревни, все это и еще многое, о чем ты успел подумать за дорогу, покажется самым близким, ни с чем не сравнимым, и ты будешь думать о том, что никуда не уедешь отсюда, хоть иногда и похвастаешься: что вот, мол, все брошу и уеду если не в город, то хотя бы в райцентр. Ведь уехали большинство твоих сверстников!
В одну из таких темных, беззвездных ночей, возвращаясь по этой же дороге, ты сделаешь открытие, не такое уж и неожиданное для тебя: разве может быть лучше где-то далеко, а не там, где ты родился, где прошло твое детство?
6
Для нас, шангинских ребятишек, Иван был тем самым лешим, о котором мы много слышали от бабушек и дедушек, а еще больше — от старших братьев и сестренок. Обыкновенный человек не станет жить в лесу, а Иван — живет, знается с лесной силой. Мы жадно прислушивались к разговорам взрослых, старались понять: кто такие Иван с Марьей, зачем они живут на Татарске?
Никто из нас ни разу не был в избе у Ивана. Даже близко к дому подходить боялись и рассматривали Иванов дом издалека — с мостика на берегу Индона, откуда до Иванова дома чуть не полкилометра, — сильно-то не разглядишь, что там делается, — или из леса, который подходит к заимке со стороны Шангины. Лес около заимки — молодой сосняк — так густ и непролазен, что в нем спрячется вся Шангина, и Иван не увидит, но пока через этот лес продерешься к поляне, на которой стоит Иванов дом, весь исколешься иголками, вымажешься в смоле, а после дождя вымокнешь в этом лесу до нитки, да и идти по нему как-то страшновато — лес этот совсем не такой, как около Шангины. И вечно в этом лесу хлопает крыльями, вскрикивает, потрескивает… Оглянешься, а никого нет. И воронье около поляны злее каркает, и ястребов здесь много, и кричат они не так, как над шангинским болотом, а громче и тоскливее… Нет ветра, а лес около Татарска шумит, и от этого шума и от тоскливого крика ястреба делается не по себе. Бывает, так и не удастся посмотреть Иванов дом.
Интересно было и возле Татарска: пади там глубже, трава в них высокая, чуть не всего тебя скроет, полно смородины, на буграх дорожки кто-то понаделал. Пройдешь по такой дорожке или пробежишь, — и покажется в этот миг, что нет счастливее тебя человека, и ничего тебе, кроме этой дорожки и этого леса, не надо, только бы еще раз пройти или пробежать по ней…
Мы дожидались того дня, когда вырастем и сможем побывать в гостях у Ивана с Марьей. Взрослым мы не доверяли, хотелось самим обо всем расспросить…
А пока мы проводили лучшее свое время в лесу около Татарских полей. Это еще сколько оттуда до заимки, а мы переговаривались чуть не шепотом, под нашей ногой ни один сучок не треснет, ни с одной колодины кора не обвалится. Ходили мы все босиком: пройдем — нас и не услышишь. Собираешь ягоды или только нагнешься гриб сорвать, а в это время как кинется что-то рядом из кустов от тебя в сторону со стоном и ревом. Ты и про гриб забудешь, уже далеко от того места окажешься, и только тогда догадаешься, что это Иванова свинья от тебя шарахнулась, тоже испугалась. Надо бы вернуться — большой и рясный куст ягод или грибов много, а уже что-то не хочется возвращаться. Уговариваешь себя, как будто не ты испугался, а кто-то другой, и уже сделаешь несколько шагов в ту сторону, откуда только что убежал, и, скорее всего, не пойдешь. А если вернешься, то собираешь ягоды с оглядкой, даже если ты не один, а втроем или впятером, потому что надеяться не на кого — те, кто с тобой, еще больше испугались. А кто испугался больше, с того уже толку мало: делает вид, что собирает ягоды, а в ведре у него, сколько ни заглядывай, все время пусто — как будто дно дырявое!
Когда ты самый старший в лесу с мелюзгой, которая и в школу-то еще не ходит, то стараешься показать, что нисколько не испугался, а просто побежал вместе со всеми. Кто-нибудь визг поднимет от страху, пока бежим спасаемся, расплачется, домой станет проситься, начнет пинать грибы или рвать ягоды с корнями. Отдадим ему остатки хлеба, посадим около ведра, — сиди, ешь с ягодами, домой еще рано. Как пойдешь, когда до самого широкого не добрал, когда у тебя только полведра? Скажут, зачем ходили в лес? Снова собираешь ягоды, ждешь и опять слышишь, только уже где-то в стороне, как треск и шум идет по лесу…
А если Марья покажется?
Но ее ни разу мы в лесу не видели. Промелькнет в ограде или по огороду что-то черное, высокое и вроде в избу не зайдет, а исчезнет, как сквозь землю провалится! Стоишь в сосняке, смотришь на дом, ломаешь голову: куда девалась Марья? Или это пугало птичье покачалось, покачалось от ветра и упало?
Около Татарска бывает все, что хочешь! Попадется брусника — за час можно ведро набрать! И обязательно что-нибудь да помешает: крик раздастся, и ни за что не поймешь — чей он? Послушаешь-послушаешь, и деру домой. А если никто не кричит, дождь проливной или гроза начнется! Если дождь без грозы, стоишь под сосной, ждешь, когда он кончится, проливной дождь недолгий. А если гроза, то лучше всего спрятаться под березой. Гроза подолгу не бывает на одном месте: прогрохочет над тобой — и уйдет в сторону.
На Татарской поляне и в дождь светло, а за Татарском, за Широким болотом, лес уступами поднимается в самое небо, и внизу, под уступами, темно, — как будто там все время ночь. Деревья на уступах стоят как попало и лежат на земле в несколько этажей. Это место называют Марьиными буграми. Внизу — пропасть смородины, но ходить туда надо со взрослыми.
Марьины бугры с Широким болотом и светлую поляну любят и птицы, и звери. Иван или Марья может сидеть на берегу Индона, недалеко от своего дома, и смотреть, как дикие козы купаются. Но стоит кому-то из шангинских появиться из лесу на поляне, козы перестанут купаться, повернут головы в ту сторону, постоят, не двигаясь, и, стараясь не поднимать больших брызг, выскакивают на берег, скрываясь по кустам и в тонком березнике. Иван ругнет шангинца, не вовремя появившегося на заимке, поздоровается с ним, если тот подойдет к берегу, и на вопрос: «Что это за брызги летели, вроде как кто-то купался в Индоне?» — ответит: «Собака мой!»
Индон около Татарска разливается в два больших озера. У круглого мостика всегда стояло две долбленые лодки. Теперь — одна. Другая лодка прогнила и давно лежит на дне, обитая длинными полосками жести и оттого похожая на маленькое военное судно, погибшее в жестоком бою. Жалко лодку! Отцы и матери, которые живут теперь в Шангине, и те, которых давно нет, когда-то плавали на этой лодке.
Бывает, два лета пройдет, и ни разу не удастся сплавать к Марьиным буграм — не берут, и все. Мал, говорят, когда подрастешь, возьмем. И нет ничего хуже, когда тебя сначала возьмут, а потом чуть не с полдороги отправят домой. Вот уж наплачешься!
От спрятанной лодки, когда переплывешь озеро, идти по длинному переходу. Если бревна, жерди и доски, обросшие мохом или травой, по ним приятно идти, радостно, а когда они в воде да еще прыгать надо с бревна на бревно или идти по жердочкам, которые и не видно под водой, то, бывает, и ухнешь в воду или в болото по колено, а то и по пояс. В воде отполощешь штаны от болотной тины — и догонять. Редко ждут: не подскальзывайся, не падай! Младшие, конечно, подождали бы, ты же всегда ждешь, но взрослые не хотят останавливаться: мол, не надо было проситься, не брали, а ты пошел. Догоняешь молчком.
Тропинки нет, кругом, куда ни глянешь, кочки чуть не с тебя ростом, трясина, засохший кустарник с дикой крапивой и шиповником встают на твоем пути непроходимой стеной, не пускают дальше, как будто там чье-то царство, в которое не каждому дано ступить ногой. Продираешься через колючую преграду, осыпающую тебя мелкими сухими листьями и желто-коричневой пылью, удерживающую то за штаны, то за рубашку, пытающуюся отнять чайник, с которым ты идешь за смородиной. Душно, жарко. Не видно ни солнца, ни Марьиных бугров, — и хоть бы кто-нибудь окликнул тебя! Что они все — провалились в болото? Но нет, слышно, как идут. Догонишь последнего и идешь, как будто не отставал. На ремешке висит у тебя за спиной полуведерный темно-синий чайник.
Ждешь не дождешься, когда покажутся Марьины бугры! Тогда мы будем идти по заросшей тропинке вдоль маленькой и быстрой речки, которую можно переходить, где захочешь, и смотреть, как уходят в небо вершины лиственниц и сосен, встречающих нас сумрачной тишиной и прохладой, приглашающих отдохнуть на своих причудливо изогнутых корнях, напоминающих кресла и стулья. Теперь не прогонят домой — смородина рядом! Правда, это только хочется думать, что она — рядом, а до нее еще идешь-идешь… Кажется, что медленно спускаемся под землю, — дорога все ниже и ниже, солнце за Марьиными буграми, делается темнее и прохладнее, как будто сейчас не утро, а вечер.
Как манила, притягивала к себе дорога на Татарск, как, казалось, далеко до него было! А ведь всего каких-то четыре километра! Потом — на лодке, по переходу, вдоль Марьиных бугров, — и ты окажешься в таком непролазном лесу и так далеко, что сам же с собой соглашаешься: сегодня не удастся вернуться. Говорят, что к вечеру будем дома, но не веришь. Ты как будто на дне глубокого зеленого колодца, из которого еще выбраться надо. Но это потом, а сейчас ты даже куст со смородиной бросишь — только бы не отстать, только бы не затеряться… и опять бултыхнешься в ручей или в ямку с водой такую холодную и неожиданно глубокую, что дыхание пресекается. Обожжет тебя водой, как огнем! И после этого ничего не страшно — и у ямки с водой есть дно! А если нет, то всегда можно схватиться за траву, какую-нибудь валежину или корень. И вот когда во второй или в третий раз выжмешь штаны и рубаху, согреешься, такая радость охватит, как будто ты в целебном источнике искупался! И ты нисколько не завидуешь тому, кто осторожно прошел мимо ямок с водой и ни в одну из них не бултыхнулся по-настоящему — штаны замочил не выше колен, и только. И если кто-нибудь над тобой засмеется, что ты уже два или три раза искупался, а он ни разу, то это за смех не считается, ты-то знаешь, что это за ямки с ледяной водой, скрытые зелеными и желтыми листьями. Тому, кто смеялся, еще придется бултыхнуться в такую ямку! А тебе ничего, если ты еще раз искупаешься, — мокрому не страшно.
Свернули с тропинки, зашли в лес, и никого не надо догонять, как это было вначале. Застрянешь где-нибудь в кустах и доволен, что никого нет рядом, что ягоды тебе одному достанутся. Только что крупные ягодины ударялись о широкое дно чайника, заставляя его позванивать коротко и удивленно, и вот уже ягоды сыплются в чайник бесшумно. Тебя кричат, а ты откликнешься не сразу: мол, не кричите, никуда не денусь, здесь я! А когда долго никто не зовет, то надо самому крикнуть. Ожидаешь открика далекого, едва слышного, и вдруг кто-нибудь отзовется рядом с тобой. А когда ты к нему подойдешь, он упадет на куст, бьет ногами, давится от смеха… Тут уж ничего не поделаешь, бывает, что со страху крикнешь раньше, чем нужно, а потом молчишь до тех пор, пока не начнут тебя кричать, и ты с удовольствием отзовешься.
Вот так с криками, с купаниями в ледяной воде, доводящими до озноба, продираешься от одного куста к другому, идешь по упавшим деревьям высоко над водой, боишься рассыпать ягоды, и вдруг покажется, что ты заблудился, что тебе отвечают чужие голоса, что ты никогда не выберешься из этого темного кустарника и леса, затопленного водой. Идешь быстро, где и пробежишь, и всегда в это время, как нарочно, один куст ряснее другого вырастает перед тобой, протягивает ветки с черной смородиной прямо в руки, прямо в чайник!
Бывает, отобьешься от старших и заблудишься. И сразу же вспомнишь Ивана с Марьей, и начнешь звать не шангинских — их уже все равно не слыхать, — а Ивана. Чудится тебе, что он где-то здесь, рядом, надо только подольше покричать. Кого еще встретишь в лесу возле Татарска к вечеру, когда солнце скрылось за тучами и вот-вот начнется дождь и гроза?
Было несколько случаев: найдет Иван заблудившегося человека, выведет на дорогу, покажет, в какую сторону идти домой.
7
Ни через день, ни через два Иван не зашел в контору и не сказал главному бухгалтеру, что согласен дать взаймы или подарить десять тысяч.
Он старался во всех подробностях вспомнить разговор в бухгалтерии. Его интересовали не только слова Михаила Александровича, но и то, как он сидел, как смотрел на Ивана и на своих помощников, какое у него при этом было выражение лица — серьезное или нет? И дело вовсе не в том, что Ивану нужно, чтобы весь тот разговор оказался несерьезным. Он только старался выяснить — пошутил Михаил Александрович или нет. Если пошутил, то даже лучше: главный бухгалтер не ждет, а Иван заявится и отдаст деньги!
Казалось бы, чего проще, чтобы ни над чем не мучиться и себя не обманывать, — пойти, отдать деньги, и делу конец! Но как это сразу сделать? Сразу не получится…
Отдать деньги Иван вроде бы готов, — но что такое Дом культуры?
Как-то он хотел выйти из конторы, — засиделся у Михаила Александровича, — и не то что не мог пройти, а испугался содома, который увидел на первом этаже.
Он шел через фойе, в котором опять начались танцы, и хотел только одного — благополучно дойти до дверей, которые то и дело оглушительно хлопали, и было непонятно, как на первом этаже не вылетали стекла. Пока за Иваном не захлопнулись двери, ему все время казалось: в него обязательно швырнут чем-нибудь, ударят, в лучшем случае, так подтолкнут, что он не выйдет, а кубарем выкатится на улицу.
Опомнился он за бабагайской стланью, когда в сумерках промелькнули последние дома Полыновской улицы. Перед Шангиной он как будто успокоился. Этому помог свежий пшеничный воздух полей и придорожных трав и дорога, которая всегда его успокаивала, обещала впереди что-то радостное, и он, оглянувшись на Бабагай, пробормотал:
— Это ж надо — танцев испугался! Народ веселится, а мне страшно!
Почему-то именно из-за танцев, можно сказать, из-за одного этого случая, Ивану не хотелось отдавать деньги на Дом культуры. Ему казалось: тогда его сбили с ног, пели, танцевали на нем, и у него до сих пор болят руки, ноги, бока…
Михаил Александрович, ладно, он всяко может сказать, на то и главный бухгалтер, но у Ивана-то выходило что-то совсем непонятное: вы мне так, а я вам — по-другому! Вы на меня ноль внимания, а я вам — полное внимание! Вы надо мной смеетесь, а я иду к вам навстречу и как будто не вижу и не слышу вашего смеха!
Пока главный бухгалтер жил в Шангине, Иван заходил к нему запросто. Михаил Александрович был не очень разговорчивым, но держался так, будто не Иван у него в гостях, а он у Ивана. Может, по этой причине заходить к нему было намного приятней, чем к другим.
Около Михаила Александровича Иван мог сидеть молча хоть час, хоть два. Изредка тот или другой спросит что-нибудь, и опять они молчат, вроде как стараются понять, что было сказано. Надо Михаилу Александровичу что-то по хозяйству сделать, — воды принести или сена корове дать, — то в это время все жена делает. Она редко когда вмешается в разговор, а если вмешается, то скажет что-нибудь веселое и сама же смеется. Ребятишек у них пятеро. Они что-то делают, уходят и приходят, и ни одним словом не обмолвятся при чужом человеке, все взглядом, — как отец.
У Ивана детей нет, и он тайком старался понаблюдать за которым-нибудь.
Только теперь, в конце жизни, Иван пожалел, что не взял никого в дети. Чужих он не хотел брать, а свои никто не отдавали. Крепко подвела Наталья: обещала отдать пятого ребенка, потом — шестого, потом — седьмого… Из одиннадцати Иван так ни одного и не выпросил. Теперь-то он понял, что и чужого хорошо было бы, но — поздно. Куда им теперь? Чужого даже лучше было: он бы по-настоящему стал своим, а Натальин убежал бы или в гости бы ходил домой…
Что ни новый председатель, Ивану печаль: так и чешутся у них руки, хочется им прогнать Ивана с заимки!
«Чего ты переживаешь? — скажет ему Михаил Александрович. — Ну, распашут Татарскую поляну, посеют там зеленку или клевер — дом твой никто не тронет!»
Иван сразу же сникнет.
«Нельзя распахивать поляну».
«Почему?»
«А ты съезди, посмотри. Только обязательно летом».
«Я был на заимке…»
«Когда был?»
Прошло четыре года, как Михаил Александрович приезжал на заимку еще со старым председателем колхоза. Иван им тогда карасей наловил. Уху сварили на берегу Индона. Уж на что председатель крикливый был, а на заимке притих: сидит, карасей лопает, по сторонам оглядывается, красотой не может налюбоваться. Черемуха, правда, к тому времени давно отцвела, но зато столько цветов, а больше всего — ромашка, вся поляна и весь бугор — белые. Тут же тебе река, озеро, Марьины бугры с поваленным лесом в небо упираются, под уступами, хоть и солнце ярко светит, темно, и кажется, что там, в бездонной пропасти, живет Кащей Бессмертный, с которым один на один борется Иван Федосов и никак не может победить.
Михаил Александрович не первый раз на заимке, его не удивишь, а тоже сменился с лица — сидит с Иваном на поваленной березе, смотрит на другой берег и как будто чего-то ждет оттуда.
Председатель долго ходил по поляне, сорвал большую ромашку, сел рядом и говорит:
«Живи, Иван, не трону я тебя!»
Так с ромашкой в руке и к машине пошел. Ивану повезло тогда — хороший был день!
В апреле исполнился год, а новый председатель еще ни разу не был у Федосовых, и в этом Иван видел дурной знак. Вся надежда на Михаила Александровича… Но вот беда: переехал Михаил Александрович в Бабагай — и как отрезало: Иван перестал к нему заходить. Михаил Александрович отодвинулся от Ивана не только по расстоянию (теперь до него не четыре, а девять километров), он сделался важнее и как будто недоступнее с тех пор, как его дом стоит недалеко от председательского дома. А может, дело не в километрах и не в соседстве с председателем, а в том, что в колхозе «Большой шаг» теперь не четыре, а семь бригад: стал крупнее колхоз — и сразу же сделался крупнее Михаил Александрович!
Иван сначала сильно огорчился этому, а потом вслух сказал себе:
— Правильно, что не надоедал Михаилу Александровичу… Сейчас друг тот, кто редко заходит!
Иван представлял, как заговорит родня, как на него рассердятся, когда он отдаст деньги колхозу!
8
— Марья, оденься как невеста! Поедем в сельсовет регистрироваться!
Каждый раз, когда она первая заговаривала об этом, Иван начинал сердиться. Как-то так совпадало, что Марья звала в сельсовет зимой, после тех дней, когда он сильно болел, и она торопилась расписаться с Иваном, чтобы не переживать за деньги.
Марья рада не рада, что Иван позвал в сельсовет. Суховатые черты ее лица сделались мягче — Марья пыталась улыбнуться, и эта улыбка никак не могла вырваться наружу.
Иван взял ведра и пошел к колодцу. День теплый, солнечный, с пяти часов утра можно ходить в одной рубахе, и он, встречая первый такой теплый день, снял пиджак и бросил на лужайку. Возле широкого колодезного сруба, с той стороны, куда выливали из бадьи лишнюю воду, трава вырастала сочная, высокая, с цветами одуванчика, клевера и медуницы, горевших среди метелок пырея ярко-желтыми, розовыми и синими огоньками, целое лето не отпускавших от себя шмелей и пчел. Ивана оглушил птичий гам, он долго стоял и слушал, удерживая бадью с водой на краю сруба, ему казалось: на заимку прилетели все птицы от самой Шангины, Исаковки и Артухи, чтобы сообщить Ивану, что сегодня началось лето.
Поднялось солнце, птичий базар примолк, и теперь можно было различить отдельные тихие и радостные голоса птиц, продолжавшие славить приход лета. Тепло волнами разливалось по широкой поляне, заставляя кусты черемух еще больше дурманить воздух. Вчера не было, а сегодня летали разморенные жарой и уже чем-то недовольные мухи.
Иван, как будто опять было Первое мая, надел все самое лучшее: новый шерстяной костюм — синий, в полоску, хромовые сапоги, зеленую рубашку. Прошел по ограде, увидел, что не все сделано, чтобы идти в Шангину: не налита вода в желоб, не спрятаны топоры… Таких мелких дел набралось много, и он, нисколько не осторожничая, — как будто не был одет по-праздничному, — налил воды в желоб, все, что нужно, убрал, занес в сени и под сарай.
Марья вышла на крыльцо в старом простеньком платье, только что не разорванном, в красной кофте, которая тоже была не новая, но которую Марья любила, и в ботинках с высокими голяшками. Ботинки были что надо — старинные и модные, — и гарусный, с красными цветами и зелеными листьями черный платок на плечах…
Марье казалось, что она нарядилась как принцесса. Она ждала, что Иван похвалит ее, а он и платье и кофту сразу же забраковал.
Марья оглядела себя в зеркале и сказала:
— Люди будут смеяться, если все новое надену!
Иван согласился.
— Все сделал? — вежливо спросила Марья, считавшая, что теперь ей, так красиво одетой, ни к чему прикасаться не надо.
— Как будто все, — ответил Иван, оглядываясь и припоминая, не забыл ли чего, чтоб потом не пришлось возвращаться с полдороги.
Марья замкнула двери, ключ отдала Ивану.
— Ну, пошли? — сказала Марья, а сама не двигалась с места: она не понимала, как можно бросить все без присмотра?
Иван кое-как дождался Марью, закрыл ворота, и они, как будто под музыку, медленно пошли по дороге, по очереди оглядываясь на свой дом. Только Иван оглядывался не потому, что до вечера дом оставался без хозяина и ему что-то угрожало, — он всегда так делал, когда уходил куда-нибудь, как будто обещал: я скоро вернусь!
Дом оживлял поляну. И речка, и озеро, и мостик из круглых бревен, уходящих в воду, на котором теперь полощет белье одна Марья, березы, разбросанные по берегу Индона, воронье и ястребы, маленькие птицы, летавшие над поляной, небо и предгорья Саян были для дома! В этот яркий летний день дом казался особенно приветливым, сказочным, как будто он стоял на поляне с незапамятных времен. Убери дом — и не будет так светить солнце над поляной, не будут такими синими река и озеро, меньше останется птиц…
— Дорогу в Шангину не забыла?
Марья не ответила. Она старалась идти: впервые за много лет она шла без ведра или корзины, без косы, без граблей и вил, без веревки, чтобы принести сена, не катила пустую или груженую тележку или санки… Ничего не надо было делать! Она шла, стараясь подражать Ивану, — идти и не замечать за собой, что идет, — но у нее ничего не выходило. Сама не зная зачем, она остановилась и, пока Иван не оглянулся, смотрела в его удаляющуюся спину. Ей казалось: зря она идет, зря послушалась Ивана!
Марья спрашивала у шангинских, когда они заезжали на заимку, сколько ей причитается денег, и поняла, что все деньги записаны на Ивана. Она знала, что в сельсовете надо расписаться, потом бумагу дадут, в которой будет сказано, что Иван с Марьей — муж и жена. Тогда половина денег — Марьины. А она не умела расписываться, и опять ей казалось: обманут, что-нибудь не так сделают!
— Куда ты идешь?
— В Шангину, — спокойно ответил Иван, так как ждал этого вопроса.
— Зачем?
— Поедем в Бабагай.
— Что я там не видала?
— Распишемся, ты же просила.
— Чего раньше не хотел?
— То раньше, а то теперь, — уклончиво ответил Иван, стараясь ни словом, ни жестом не обидеть Марью.
Последние годы Иван скандалит с Марьей из-за одного и того же — зачем он идет в деревню, когда дома есть все?
Марья хороший совет давала Ивану: надо тебе разговор послушать или песни, купи радио, сиди слушай! А в Шангине чего ты не видел?
Есть у Ивана старенькое радио, но его никто не берется отремонтировать, а новое он не решается купить: денег, что ли, на радио жалко или чего-то другого боится, не поймет. Марья от занавесок отказалась, Иван — от радио, и все у них осталось так же, как было и двадцать лет назад, и тридцать!
Марья довольна, что ничего не изменилось в избе.
А Иван?
Жадным он себя не считал, даже слышать об этом не хотел, и в последнее время доискивался причины, старался понять: почему это в избе у него все самодельное — кровать, табуретки, ложки, чашки… Даже гвозди, на которые Иван вешает одежду, — деревянные! В том, что Иван ни себе, ни Марье ничего интересного за всю жизнь не купил, он искал какой-то тайный, скрытый от него смысл, который он должен был разгадать хотя бы сейчас, под старость. Кажется, Иван начал догадываться, в чем тут дело… Не зря он ничего не покупал, не разбазаривал деньги по пустякам! Что из того, что над ним смеялись? Хотели, чтобы Иван был жадным, — а не потому, что он на самом деле был таким. Выходит, люди смеялись не столько над Иваном и Марьей, сколько над собой!
Он похвалил себя, что догадался сделать так, как он собирался сделать, — расписаться с Марьей в сельсовете. Подарит Иван колхозу деньги, узнает Марья и, это уже точно, скажет: «Свои десять тысяч ты бросил коту под хвост! Там и возьмешь! А это — мои!» Иван не станет спорить: пусть Марья поцарствует! Столько лет Иван, можно сказать, один был хозяином двадцати тысяч! Дошло до Ивана и то, что люди хоть и смеялись над Марьей, а все-таки жалели ее. Над Иваном так не смеются, но и не пожалеют, и потому Иван отдаст деньги не частному лицу, а колхозу.
Около моста Марья хотела перелезть через бревенчатую изгородь, зашагнувшую далеко в воду, и идти по задам, вдоль реки, но Иван сказал, что он до этого ходил по деревне, ни от кого не прятался, и сегодня они тоже пойдут по деревне.
Она поднималась за Иваном по проулку, видела много домов и построек, слышала голоса людей, рокот тракторов, лай собак, мычанье коров на колхозной ферме, но сердце ее билось учащенно не оттого, что она столько всего видела и слышала, просто ей тяжело было подниматься в гору в праздничных ботинках, и она не знала, будет ли все так, как говорил Иван.
Иван был уверен: как только Марья ступит ногой в деревню, сразу же что-нибудь не так сделает! Сам это придумал или ему внушили люди, что она обязательно насмешит всех? Но пока ничего такого не случилось. Иван через дорогу поздоровался с мужиками, потом с какой-то женщиной, а Марья даже бровью не повела в ту сторону, как будто не видела и не слышала, что Иван здоровается!
«Молодец Марья, — ничего не замечает! Не то что я: «Здравствуйте!», «Добрый день!» Разве обязательно с каждым здороваться? Надо еще посмотреть, кто идет, может, он недостоин моего приветствия!»
Вслух Иван сказал:
— Ты хоть отвечай, когда с нами здороваются.
— А ты для чего? — сказала Марья, продолжая идти впереди Ивана. Она как свернула от проулка, так и шла по той стороне улицы, которая была ближе к реке, а стало быть, к лесу и к Татарску.
И хорошего коня, и легкий ходок, и сбрую Иван получил без бригадира — тот минут десять или пятнадцать назад уехал куда-то на мотоцикле.
— Оно мне, однако, попадет маленько! — весело говорил Захарка, отдавая Ивану бригадирова Гнедка, ходок и сбрую. — Сам бы он также сделал, — успокаивал себя Захарка. Несмотря на шестьдесят лет, волосы у Захарки черные, как конская грива, не собирались седеть и оставались такими же непокорными, как в детстве. Глядя на Ивана смеющимися и добрыми глазами и по привычке приглаживая густые волосы, нестареющий Захарка продолжал: — Такой случай раз в жизни бывает! А невеста где? — спросил он, как будто предстояла не стариковская поездка в сельсовет, а шумная свадьба двух молодых людей.
— В бригаде, — строго ответил Иван, боясь, что Захарка переступит ту самую грань, после которой веселый разговор превращается в обыкновенную шутку, которую потом ничем не исправишь.
Захарка мигом прогнал с лица веселость, но все таким же бодрым голосом проговорил:
— Давно не было Марьи… Лет десять!
Захарка из тех людей, у которых всегда хорошее настроение, которое победить ничем нельзя, и он, не обращая внимания на ершистый Иванов вид, тут же взялся запрягать коня для Ивана.
Проходившие мимо доярки и скотники видели Ивана, о чем-то говорившего с Захаркой и, чтобы зря не стоять, помогавшего конюху запрягать коня. Никому в голову не приходило, что Марья надумалась выбраться с заимки, сидит сейчас в бригадной конторе и из окна наблюдает, что происходит на Петуховой горе. Раньше здесь ничего не было — с горы катались на лыжах и санках, — а сейчас всего понастроили — и горы вроде как не стало. Никто ни с какой стороны не идет больше, и Марья смотрит на телефон, поблескивающий черной краской… От проводов и лампочек ей страшновато, и она, как к чему-то спасительному, садится ближе к подоконнику, на котором, касаясь стекла железным кольцом, стоит высокий закопченный фонарь — такой же, как у Марьи в доме: откуда-то Иван принес.
Кто-то протопал по крыльцу, замешкался в сенях. Марья приготовилась встретить кого-нибудь чужого, распахнулись двери — Иван.
— Марья, поехали!
Она продолжает сидеть не шелохнувшись.
— Поехали-поехали, — торопит Иван, думая сейчас лишь о том, как бы не вернулся бригадир да не отобрал своего коня, ходок и сбрую, — вдруг на что-нибудь рассердится, — придется тогда ехать на какой-нибудь кляче и на простой телеге с поломанным колесом.
Марья вышла вслед за Иваном и от крыльца увидела: Захарка лихо сидит в ходке, натянув ременные вожжи, удерживает гнедого коня, который никак не хочет стоять на месте.
— Знаешь, кто я? — спрашивает Захарка.
— Знаю. Захарка…
Неизменившийся Захарка всем своим видом говорил Марье, что все на свете хорошо, что люди сами выдумывают себе лишние хлопоты и печали, и она с легким сердцем села в ходок и подумала, что, может, и правда все лучше, чем кажется.
К часу дня Иван с Марьей были в Бабагае.
С середины улицы, по которой въезжаешь в Бабагай из Шангины, Марья увидела под горкой, слева от стлани, поблескивающее озерко, окруженное темными елями; сосны, березы и ели захватили всю низину до самого конца Бабагая, разделив село на верхние и нижние улицы, которые, кроме стлани, соединяет несколько тропинок; по ним редко кто пройдет, чтобы не набрать воды в ботинки. Иван говорил: напротив магазина и почты теперь мостик, по которому идти среди звенящих ручьев одно удовольствие! Но мостика отсюда за лесом не увидишь.
Когда шагом ехали по высокой стлани с глубокими колеями от тракторов и машин, Марья издалека узнала сельсоветский дом из толстых почерневших бревен, немного покосившийся и вросший в землю, с тополями под окнами. Дому этому лет сто, не меньше. Смутил ее огромный двухэтажный дом, который тоже стоял за стланью, только немного правее. Об этом доме она слышала от Ивана, но ни разу не видела и не была в нем. Она почему-то думала, что все равно туда придется идти, и не знала, как она там будет идти, как разберется…
Марья легко вздохнула, когда Иван подъехал прямо к сельсовету.
— Илья бы никуда не уехал… Одна Октябрина ничего не сделает.
Глядя только перед собой, Иван пошел впереди Марьи, ступая медленно и чуть пригнувшись, как будто шел не в праздничном костюме и со свободно опущенными руками, а поднимался по лесенке в амбар с мешком пшеницы и боялся споткнуться.
Сельсоветская ограда Марье понравилась: большая, с крепким высоким сараем, под которым стояла запряженная в телегу лошадь и ела овес. От калитки до крыльца — тротуар. Слова «тротуар» Марья не знала — для нее это были ровные, красиво лежащие на земле доски, по которым красиво идти. Пока шла по тротуару, успела заглянуть в окна с резными наличниками и ставнями, увидела, что там сидят люди. Дверь в сени распахнута настежь. Иван из сеней оглянулся, предупреждая взглядом, что начинается самое главное. Она кивнула, что, мол, понимает, поправила на себе платок и кофту и вслед за Иваном вошла и остановилась в дверях.
Секретарь сельсовета Октябрина Попова маленьким ключиком, не видным в пальцах, замыкала желтый широкий шкаф и с любопытством поглядывала то на Ивана, то на Марью. Из другой комнаты, прихрамывая, вышел Илья Андреев. Лицо красное, как будто он только что с кем-то крепко поругался, и Марья подумала, что сейчас он выгонит обоих.
— Ну, тетка Марья, если сегодня в колхозе что-нибудь случится, ты будешь виновата! Ты хоть помнишь меня? — спросил Илья, вглядываясь в Марьины черты, как будто сам забыл что-то очень важное, и Марья вот сейчас напомнила ему об этом.
— Тебя-то она знает, Иннокентьевич, — ответил за Марью Иван.
— Ты, Иван, подожди, мы сами с Марьей разберемся! Правда, Марья?
У Марьи отлегло от сердца: хорошо говорит Илья, если бы и дальше так, и она кивнула: помню.
— А ее? — председатель указал на Октябрину.
— Забыла, — виновато сказала Марья.
Она переступила с ноги на ногу, все еще не решаясь сесть, и, не отрываясь, смотрела на секретаря не потому, что хотела вспомнить, где и когда они встречались, — ей было приятно смотреть на Октябрину: таких красивых баб Марья ни разу в жизни не видела.
— Я была на Татарске, — мечтательно улыбаясь, сказала Октябрина, как будто она была где-то за тысячи километров, в тридевятом царстве, видела то, чего другие не видели, и собиралась побывать там еще раз.
— Неужели забыла? — не выдержал Иван и осуждающе посмотрел на Марью: что ж ты подводишь?
Марья растерянно оглянулась на Илью, как будто извинялась перед ним: такой случай, а она — не помнит.
Все сидели, один Илья, сильно наклонившись вбок, — из-за хромой ноги, — стоял недалеко от двери, как будто сделал резкое движение, чтобы уйти, да так и остался, с удивлением разглядывая всех троих.
— Мы к вам за голубикой приезжали! — сказала Октябрина. — Квас пили!
Октябрина рассказала, какая тогда была Марья, и говорила о ней примерно так же, как перед этим Марья подумала об Октябрине. У Марьи разрумянились щеки, заблестели глаза…
Иван тоже приободрился и сказал Илье, зачем они пришли в сельсовет.
Октябрина из того же шкафа, который только что замкнула, достала белую книгу и ушла обедать, а Илья остался. Кого-нибудь другого он бы попросил прийти после двух часов, но Ивана с Марьей, он считал, надо зарегистрировать сейчас же, в обеденный перерыв.
— Я этого жениха давно знаю! — сказал Илья, что-то старательно записывая в книге. — Выходи за него замуж, не прогадаешь!
Марья, затаив дыхание, смотрела, что делает Илья.
Ставя огромный штамп, Илья не сводил глаз с Ивана, который держался как молодой жених, не знающий, что ему делать, — расписываться с невестой или, пока не поздно, сбежать. Вроде как торопясь, — а то, чего доброго, жених передумает, — Илья обмакнул перо, подал ручку Ивану.
— Распишись. Здесь и здесь.
Иван расписался не хуже любого грамотея и долго смотрел на свои подписи и на все, что было написано в книге, — и опять было похоже, будто Иван — молодой жених, прощающийся с холостой жизнью. Откуда было знать Илье, что Иван не жениха из себя корчит, а прощается с десятью тысячами?! Знал бы, разве бы так разговаривал?
Марья потратила много сил, и что-то вроде росписи у нее получилось!
Илья поздравил их, крепко пожав руки, и Марья будто помолодела, а Иван, как показалось Илье, на глазах состарился лет на пять.
— Куда теперь? — спросила Марья, когда они вышли из сельсовета.
— В магазин, — ответил Иван, с трудом возвращаясь в свое обычное состояние: пока трижды расписывался, пережил немало, им не понять. Разве найдется во всем районе, да что в районе — в области! — хоть один человек, который подарит колхозу такие деньги? О-о-о, как хотелось рассказать об этом Илье, но надо сдержаться — Иванов час не настал!
«Сегодня бы надо заехать к Михаилу Александровичу, — думал Иван, устраивая в ходке ящик с водкой. Пока выпивали, Иванов конь стоял бы у ворот главного бухгалтера. Бабагаевские бы увидели и начали думать: у Ивана с главным бухгалтером — дружба!»
Оглянувшись в один конец улицы, потом — в другой, как будто запоминая все, что сейчас делалось в Бабагае, Иван сел в ходок, спиной к Марье, на глазах у любознательных бабагайцев ловко развернулся на одном месте, передернул вожжами, и они покатили с Марьей по широкой бабагайской улице с домами только на одной стороне — низину занимали болото и лес, из-за которого не видно Полыновской улицы. Промелькнул в лесу длинный новый мостик. Иван потянул Марью за рукав, чтобы она повернулась и посмотрела на мостик. Конечно, лучше бы пройти по нему, но это как-нибудь в другой раз. Через неделю, не раньше, когда Иван придет к Михаилу Александровичу и скажет: «Вот они — десять тысяч для колхоза! Безвозмездно!» Тогда он и по Бабагаю не торопясь пройдется и по мостику прогуляется…
Марья, как и ожидал Иван, с интересом смотрела на мостик, а не на дома, к которым она только что сидела лицом, и не на бабагайцев, которые попадались навстречу. Но стоило ей посмотреть на мостик, по которому в это время никто не шел, как что-то ее встревожило, и она не могла понять — что? Мостик, белеющий за кустами и деревьями, вызвал в ее душе что-то похожее на радость, может быть, напомнил, что ее дом тоже стоит в лесу…
— В тот дом не поедешь?
— В какой дом? — не понял Иван.
Марья кивком указала на двухэтажное шлаколитное здание, в котором размещалось правление колхоза и возле которого, близко к штакетниковой ограде, стояла синяя, под цвет Индона, легковая машина.
— Нет, — ответил Иван.
— А куда?
— В Шангину. К родне.
9
Иван ничего не видел плохого в том, что не торопится отдать деньги. В конце концов деньги были Ивановы, и какая разница, когда он их подарит, — сегодня, завтра или послезавтра… Конечно, сильно тянуть не надо, а то получится, будто Ивану жалко денег. Решил же он, что отдаст, — значит, эти деньги теперь не его, а только у него находятся!
Михаил Александрович не подозревал, что Иван считает его своим другом. Иван ему об этом не говорил, да и не мог сказать: до последнего времени как-то не думал, что с Михаилом Александровичем их что-то объединяет. Может, ему это не надо было, а может, до дружбы тогда было еще далеко, а вот сейчас Ивану казалось, что они — друзья. Но коль они друзья, то это надо было как-то показывать? Не назовешь же себя или кого-то другом ни с того ни с сего, — в это никто не поверит! Даже то, что Иван отозвался на просьбу главного бухгалтера, не давало еще оснований считать себя другом Михаила Александровича. Иван в этом случае окажется другом всех, а одного, отдельного друга, не будет. Друга на деньги не купишь — это Иван знал твердо, тут нужно что-то другое… И вот это «что-то другое» каким-то странным образом сливалось с деньгами, которые Иван хотел подарить колхозу.
Ивану хотелось все-таки докопаться, почему он остановился на Михаиле Александровиче? Ведь вон сколько людей в колхозе! Что они, все ему не нравятся? Или он им всем не нравится?
Иван подметил: Михаил Александрович мало разговаривал с людьми и по этой причине, конечно, ни с кем не ругался, и таких друзей, как Иван, у него, наверно, полколхоза, не меньше. И все-таки эта черта объединяла их: Иван тоже не очень разговорчивый, — с кем ему говорить на заимке?
А вот и еще одно сходство: Иван, как и Михаил Александрович, стакан-другой может выпить только в большие праздники, а так ни за что не приневолишь, хоть мелким бесом пляши перед Иваном.
Чутье подсказывало ему, что выбор друга он сделал правильно. Выходило, что Иванов друг — первый человек в колхозе! Председателя Иван считал вторым после Михаила Александровича, а уж потом шли главный зоотехник, главный агроном, главный инженер… Крупно все выходило, как и хотелось Ивану. Выгоды никакой не искал, подлизываться ему не надо, а так вышло и так должно быть: два видных человека — Иван и Михаил Александрович — друзья!
Зачем Ивану понадобился друг? Ну, зачем? Разве плохо он жил до этого? Да ему была другом каждая травинка, каждый куст, каждая птица, большая и маленькая, каждый зверь! Широкое болото, озеро, густой сосняк, окруживший заимку, березы на берегу Индона, Татарская поляна, даже вон тот покосившийся высокий столб от кирпичного сарая, на котором любит сидеть ястреб, — все было Иваново!
А теперь?
Может, пока не поздно, пойти на попятную?
Но остановиться уже было нельзя. Хотел он этого или не хотел, а что-то менялось в Ивановой жизни, а значит, и в Марьиной… Не зря она боялась чего-то…
Никакой другой жизни, кроме как на Татарске, Марья не видела, почти ни с кем никогда не говорила, а разгадывала тончайшие Ивановы планы. Надолго утаить от нее ничего не удавалось: молчит-молчит, а потом в один день выведет Ивана на чистую воду! Как будто ей шепнет кто…
Дикие утки поплескались около Иванова дома, громко покрякали, как будто сообщили Ивану, что они живы-здоровы, и улетели, а Иван продолжал сидеть на бревнах, заготовленных на столбы для новой ограды, и курил одну папиросу за другой. Марья ему не мешает — кормит коров, телят, свиней, кур… Иван сидит спиной к ограде, не видит, а слышит, как она ходит, скрипит воротами, воротцами и дверями; опять ходила в амбарушку, муки взяла, что-то собаке сказала, кинула в него палкой, чтобы не лез к свиньям. Вот уж чего Иван не делал — ни разу в жизни не замахнулся на собаку! Зато с Марьей ругался. Не любила она, когда Иван бросал Татарск и шел на день или на два в деревню. Ей казалось, что он от работы отлынивает, а того не понимала и сейчас не понимает, что ему без людей скучно делается… Все в доме есть — и сахар, и соль мешками, как в магазине, а он придумает что-нибудь, и — в деревню! Иногда спокойно уйдет, а иногда — ругаются…
Через несколько дней Ивану не казалось, что он выдумал себе друга, и он, ложась спать или поднимаясь утром с постели, вспоминал о Михаиле Александровиче так, будто они друзья чуть не с самого детства…
И сразу же стало приятнее, веселее жить!
10
Иван только что приволок две сосновые жердины из лесу, бросил их на траву. Хотел принести еще две жердины, а уж потом отдохнуть, но его остановил рокот трактора, приближающийся из Шангины.
Иван подождал.
Трактор выскочил из леса на поляну, донеслось пронзительное повизгивание, которое перекрывало гудение мотора, Иван понял, а следом и увидел, что С-80 идет с плугом. Блеснули на солнце фары.
— Наш, — вслух сказал Иван. — Чужому здесь с плугом делать нечего.
Он шагнул навстречу, пытаясь издалека угадать, кто из шангинских? И сразу же тракторист, одним рывком бросил трактор влево, от Шангины к Саянам, С-80, захлебываясь яростным гулом, по прямой линии двинулся к Ивану, подминая цветы, травы и кустарники. Ивана это покоробило, настроение у него испортилось. Метрах в двух от дома С-80 круто развернулся, взревел как бешеный зверь и замер, выпустив черно-синее облако дыма, коснувшееся Ивана, и он ощутил раздражающий запах сгоревшей нефти.
Молоденький тракторист Ганя Петухов, едва высунувшись из кабины, крикнул:
— Здравствуй, дядька Иван!
Ганя нравился Ивану: здоровается всегда весело, любую просьбу выполнит, и сегодняшнее его поведение удивило Ивана: что-то с парнем делается!
Он не удержался и сделал Гане замечание:
— Ты сегодня, Ганя, чуть на мою избу не наехал!
Ганя даже не улыбнулся и без того сжатые губы сжал еще плотнее, сел рядом с Иваном на бревнах и минуту или больше сидел молча, как будто за что-то сердился на Ивана.
— Что с тобой, Ганя?
— Да говорить неохота, дядька Иван.
— А ты скажи, может, помогу чем-нибудь…
— Помощь-то вам нужна, — сказал Ганя, стараясь не глядеть в глаза Ивану.
— Мне? — удивился Иван. — Да я сам кому хочешь помогу!
— Я знаю, — сказал Ганя.
— Про то, о чем я думаю, никто не знает, — сказал Иван, продолжая внимательно разглядывать Ганю.
Ганя ничего не ответил — или согласился с тем, что сказал Иван, или не придал его словам никакого значения, а скорее всего думал о каких-то своих делах, которые у него не ладились.
Иван решил ему посочувствовать и спросил:
— Правда, Ганя, что твоя жена убежала с ветеринаром? Будто бы подчистую собрала свои вещи и твои прихватила?
— Она давно убежала. Мне ее не жалко. Она недавно пацана у меня украла… Теперь у нее не отберешь…
— Постарайся отобрать, — посоветовал Иван, уверенный в том, что суд непременно встанет на Ганину сторону. И не только суд, а вся деревня.
В последнее время Иван больше, чем когда-нибудь, рассчитывал на хорошие известия, но после разговора с Ганей тревога стала окутывать его, как ядовитый пар на болоте, которым приходится дышать до тех пор, пока идешь по болоту. Даже когда болото кончится, все равно вкус ядовитых испарений еще на какое-то время останется во рту. Предчувствие не обмануло Ивана: Гане было приказано вспахать Татарский бугор и часть поляны со стороны Шангины. Ганя решил сначала поговорить с Иваном. Он ожидал, что Иван закричит, схватит ружье и начнет палить по трактору или какой-нибудь другой номер отмочит. Но ничего даже похожего не было. Все верно рассчитал бригадир — послал Ганю, с которым у Ивана были хорошие отношения.
— Пахать я тебе не дам, — сказал Иван и с ненавистью поглядел на трактор, который, казалось Ивану, сам по своей воле заведется сейчас и двинется на Ивана.
— Не переживай, дядька Иван, я сейчас уеду.
— Ты-то уедешь… Другие приедут!
«Вот оно что-о… вот почему я не торопился отдать деньги: нет ко мне хорошего отношения! И не надо! Главное, чтоб я все хорошо сделал… Какие бы палки не совали в колеса, деньги я подарю!
— Пакостники, — негромко сказал Иван, так как знал, что кричать бесполезно. Он хотел рассердиться на Ганю, — надо же было на кого-то рассердиться, — но сдержался: не по своей воле Ганя на Татарской заимке. А по чьей? Иван зло усмехнулся: известно по чьей — председателевой! Ни разу не приехал, не посмотрел… Потом скажет: «Прости Иван Захарович, не знал, а то бы ни за что не распорядился…» В Шангину, скорее в Шангину! Все там разузнать у бригадира, а потом — в Бабагай!
Иван едва удерживался, чтобы не рассказать Гане, что он не сегодня-завтра подарит колхозу десять тысяч. Любой на месте Ивана давно бы плюнул и уехал куда-нибудь, хотя бы в тот же райцентр, и не здоровался бы с ними, а он им — десять тысяч! Но Иван — не любой. Уехать — это все равно, что сдаться, признать, что тебя победили! Легкое ли дело столько лет бороться. За чем не обратишься, один ответ: «А ты переезжай к нам!» Вроде как переедешь, так все сразу само с неба свалится!
Ганя сидел на бревнах и ждал, что скажет Иван.
Иван успокоился, даже как будто повеселел, — видит же, что Ганя готов все для него сделать! А что может Ганя сделать, — так, пустяк какой-нибудь? Хотя, как знать…
— Ганя, подожди минут десять, я Марье скажу, и в Шангину поедем.
— Правильно, дядька Иван, вместе поедем! Дай им там разгону! Я возле мостика подожду: на Индон посмотрю. Отсюда и уезжать неохота!
— То-то и оно, — сказал Иван. — Пол-Шангины жили на Татарске, да, видно, забывать стали об этом.
Пока Ганя ехал к мостику, придумал себе дело: выдернуть высокий покосившийся столб от кирпичного сарая. Скажет потом бригадиру: все-таки не вхолостую гонял трактор! Собирался провозиться со столбом самое малое полчаса, но, к своему удивлению, справился быстрее. Столб был еще крепкий — лиственница все-таки, — подгнила только нижняя часть; но даже и подгнивший он бы простоял еще долго, потому что поддерживать ему ничего не надо было. Ганя сел на поверженный столб лицом к Иванову дому и увидел Ивана, бегущего к трактору и размахивающего руками.
— Что ты наделал?! — издалека кричал Иван. Это был даже не крик, а стон.
Иван подбежал, отдышался, что-то хотел сказать Гане, но безнадежно махнул рукой: а, что с вами разговаривать, все равно не поймете!
Ганя начал оправдываться:
— Столб-то можно выдернуть…
— Ничего нельзя трогать! Неужели ты не видишь, что со столбом лучше было?!
— Интересно ты говоришь, дядька Иван.
— Я всегда интересно говорю, только меня не слушают. На этом столбе сидел ястреб, — проговорил Иван таким потерянным голосом, как будто Ганя свалил не подгнивший столб, а зацепил за угол Иванов дом. — Я отдыхал на спиленном столбике, а ястреб — на высоком… Мы тут часто вдвоем сидели, — Иван кивком указал в небо, где высоко над поляной плавал ястреб.
— Неправда, — сказал Ганя.
— Почему неправда? Мы давно с ястребом дружим.
— Садятся разные, — не соглашался Ганя.
— Я своего ястреба знаю… Бывает, и другой сядет, а больше всего один и тот же садится — мой. Ястребиный столб выдернул! Кто тебя просил?! — вскричал Иван.
— Там еще вон сколько столбов, — успокоил Ганя Ивана, показывая на чернеющие возле черемух столбы, оставшиеся от усадьбы Бондаренкиных.
— На тех столбах он не любит сидеть. Низко.
Ганя не сдавался:
— Тут кругом лес, березы на берегу Индона — места ему хватит.
— Да что береза — моему ястребу столб нужен! Другие, когда сяду на пеньке, улетают — близко же, совсем рядом! — а этот не боится. Привык.
— Что его жалеть — ястреба…
— Чем тебе ястреб плох?
— Цыплят ворует.
— Подумаешь, одного цыпленка за лето унесет! На то он и ястреб! Мы с ним, можно сказать, родня: ястреб чуть зазевается, его подстрелят; и мне тоже ухо остро держать приходится… И тут же, позабыв о своей печали, сказал: — Напрасно трактор за восемь километров гонял. За это с тебя спросят.
— Мелочь, — сказал Ганя.
— Из мелочи складывается большое, — как о чем-то хорошо проверенном заметил Иван и, не спрашивая разрешения, первым полез в кабину трактора.
Из кабины Ганя увидел Марью, хлопотавшую по хозяйству, и догадался, что Иван ничего не сказал ей. «Молодец дядька Иван, правильно делает! Зачем разводить панику раньше времени?!»
Накрениваясь на косогорах, ныряя носом в ямки с желтой водой, вздрагивая на высоких корнях сосен и лиственниц, С-80, срезая себе путь, захлебывался ревом, как будто хотел скорее вырваться из сумрачных объятий тайги к Шангине, где больше простора и ровнее дороги.
Без счету раз Иван шел с заимки в деревню, ехал на коне, на машине и на тракторе, но как только оказывался у последнего поворота перед Шангиной, всегда его охватывало радостное волнение. Казалось бы, какая сегодня радость, а все равно охватило волнение точно такое же, как раньше. И отодвинулась обида на людей, печаль как будто уменьшилась, и ему хотелось только одного — поскорее оказаться в деревне.
Шангина мелькнула за соснами, проехали место, где раньше была электростанция… Иван подсчитал свои возможности: первая надежда само собой на Михаила Александровича, но перед этим Иван должен поговорить с шангинским бригадиром, который, как и его старший брат, председатель сельсовета, всегда хорошо относился к Ивану.
11
Бригадира он нашел дома. Все были на работе, и Василий сам себе налаживал на стол: достал из печи большой чугун, потом — маленький, принес из кладовки соленых алятских карасей, коротко бросил Ивану:
— Садись.
Иван отказался.
Василий хоть и молодой, а строже Ильи — редко когда засмеется, и от этого непонятно, сердится он за что или нет. Но сегодня у Василия глаза вроде бы веселые. Да и не верится Ивану, что вот так все разом кончится. Была заимка, и вдруг ее не будет! А куда она денется?!
Жарковато показалось Ивану в избе, и он, не говоря ни слова, путаясь в длинных шторах, выбрался, как из лабиринта, из комнат и расположился в тени на предамбарнике.
Василий, оказывается, любил здесь сидеть.
Иван не задавал никаких вопросов, ждал, что скажет Василий. Тот видел, что настроение у Ивана хуже некуда, и как можно веселее сказал:
— Ну что, Иван Захарович, и до тебя очередь дошла?
— Раз шутишь, значит, еще не дошла.
— Целый час спорил с председателем! — похвалился Василий.
— Отстоял меня?
— Как будто отстоял. Я по порядку расскажу.
«Пашите, — говорит, — и бугор и поляну! Сегодня же!»
Иван слушал внимательно, взвешивал каждое слово Василия, стараясь понять, где он может прибавить, а где — нет, а тут не выдержал, впился в него взглядом синих, холодно заблестевших глаз, и хрипловато спросил:
— Что ты ему ответил?
Я ему отвечаю:
«Мы к Ивану привыкли!»
Иван поморщился, — был недоволен ответом бригадира, — но перебивать не стал.
Василий с увлечением продолжал рассказывать.
«Кто это «мы»?» — спрашивает у меня председатель.
«Мы, — говорю, — шангинские».
Он на мои слова ноль внимания.
«Может, — говорит, — шангинские и привыкли, а бабагаевские — нет».
«Да его, — говорю, — бабагаевские толком и не знают! Нашли кому завидовать!»
Он посмотрел на меня и говорит:
«Не тех, кого надо, защищаешь».
«У меня, — говорю, — защиты больше никто не просит». Знаешь, что он ответил?
«Не нравятся мне разговоры об Иване».
Ну, я тогда помягче:
«Георгий Алексеевич, пусть живет человек».
А он свое:
«Никто его со света сживать не собирается, я его только кругом опашу».
«Не надо, — говорю, — пусть он на свою поляну смотрит. Жалко, что ли?»
«Очень ты, — говорит, — добрый».
«Что ж, — говорю, — раз вы все знаете, то пашите. Доживал бы человек спокойно, а так…»
Он заинтересовался:
«Что так?»
«А то, — говорю, — что всю жизнь человеку поломаем. А много ли у него ее осталось?»
Он походил по кабинету.
«А что, Василий Иннокентьевич, правильно будет, если мы его не тронем?»
«Конечно, — говорю, — правильно!»
В этом месте разговор Василия с председателем Ивану понравился, и он спросил:
— Так все время и навеличивает?
— Только так.
— Всех или одно начальство?
— В том-то и дело, что всех. Зря не обидит, это я тебе точно говорю. Дальше строго так спрашивает:
«Ты за свои слова отвечаешь?»
Я ему говорю:
«Целиком и полностью».
Он мне:
«Ну, смотри, Андреев!»
«А чего, — говорю, — смотреть, когда и так все видно».
«Ну, ладно, — говорит, — и тебе я верю. Ты уже второй защитник».
«А первый кто?» — спрашиваю.
Он помолчал и говорит:
«Михаил Александрович…»
«Ну, — думаю, — теперь-то Иван Федосов спасен!»
Только похвалил я в душе Михаила Александровича и тут же, как будто не своими ушами, слышу:
«Но чтоб не было разговоров, вспашите бугор, который поближе к Ивану, а поляну — оставьте. Поляну действительно жалко трогать».
«А на кой черт нам бугор?» — спрашиваю.
Отвечает:
«Для порядка».
«Понял», — говорю.
«Все, — говорит, — иди».
— Бугор ты не стал защищать? — спросил Иван.
— А зачем? Начнешь бугор защищать, он рассердится и поляну вспашет!
Конечно, бригадир бы кое за что врезал Ивану, — слишком уж много он хочет, — но его останавливало одно очень важное обстоятельство: в первую очередь он уважал тех, кто хорошо работал. А Иван с Марьей еще недавно работали в колхозе так, как некоторым и не снилось! Не захотели с заимки переезжать? Так это их дело…
Василий как-то спросил шангинского конюха: «Захар Кузьмич, ты бы стал жить на Татарске, как Федосовы?» Тот ответил: «А что там делать? Слушать, как сосны шумят да волки поют?»
— С кем дальше разговаривать? — спросил Иван.
— О чем?
— Про бугор, про поляну, про дом…
— А дом тут при чем?
— А притом, что сначала бугор вспашут, потом — поляну, а потом дом зацепят трактором и поволокут в деревню!
— Дом твой, Иван Захарович, никто не тронет.
— Могут.
— Ну, а если бы тронули? — сделал предположение бригадир. — Неужели тебе не надоело бегать? Ты знаешь, что сказал председатель?
«Да мы, — говорит, — бесплатно сруб поставим, только пусть переезжает!»
— Почему бесплатно? Что у меня, денег не хватает?
— Он про твои деньги ни слова не сказал.
— Не знает.
— Почему, я говорил.
— И что он?
— Даже внимания не обратил.
— Про сколько тысяч ты ему сказал?
«Так и так, — говорю, — Иван Федосов наш местный миллионер, у него на книжке — десять тысяч!»
— Ну-у, десять тысяч… Кого этим удивишь? Ты же знаешь, что у меня двадцать!
— Слыхать-то я слыхал, но не поверил: думаю, десять тысяч — это ладно, а двадцать — откуда? Да и тебя не стал подводить.
— А ты бы меня не подвел: деньги я не украл, а заработал честным трудом.
— Я думал, может, ты хвастанул.
— А зачем мне хвастаться? Ну, сам посуди: зачем я буду на себя наговаривать? Какая мне от этого польза? Постой-постой, да я же тебе сберегательные книжки показывал! Ты еще удивлялся!
— Вот уж чего не видел, того не видел, — сказал Василий.
— Это я твоему старшему брату показывал, — вспомнил Иван. — Это он тебе и сказал про двадцать тысяч.
И двадцать тысяч необходимого действия на Василия не произвели, и это Ивана огорчило.
Василий вернулся к разговору с председателем.
— Иван Захарович, ты не забыл, что председатель сказал про дом?
— Бесплатно мне ничего не надо, — немного рассерженно сказал Иван. — Я сам себе такие хоромы отгрохаю, каких и у председателя нету!
Бригадир, прищурившись, посмотрел на Ивана и рассмеялся: ничего Иван не отгрохает — денег пожалеет!
Бригадиров смех Иван воспринял так, как и хотел воспринять: а что, Иван сделает, если захочет! Но никаких хором Ивану не надо, ему хорошо и в своей избе! Простоит еще лет пятьдесят!
— Иван Захарович, о тебе заботятся, а ты этого понять не хочешь.
— Да что я за фигура такая, — отвечал Иван, — что вы все тянете меня к себе? Зачем я вам? Я теперь на пенсии, какая от меня польза?
— Да-а, Иван Захарович, с тобой не так просто разговаривать.
— А почему должно быть просто? Вы же с человеком дело имеете! Василий Иннокентьевич, вы обо мне заботитесь? Только честно?
— Заботимся. А как ты думал?
— Тогда не трогайте бугор, — попросил Иван и поднялся с приамбарка, давая этим понять бригадиру, что разговор окончен, что больше он его задерживать не будет.
Перед калиткой, крепко пожав бригадиру руку, Иван, довольный своим посещением, сказал:
— Сегодня обязательно встречусь с председателем!
— Смелый ты стал, Иван Захарович…
— Я всегда был смелый, — ответил Иван. — Не то, что некоторые, — тележного скрипа боятся!
— Хочешь прокатиться? — предложил Василий, когда завел свой «Урал» с коляской.
— В Бабагай ты не подбросишь, а кататься у меня времени нету, — ответил Иван, разглядывая новенький мотоцикл и удивляясь, как это Василий не жалеет своего мотоцикла для колхозной работы. Но тут он вспомнил, что собирается подарить колхозу десять тысяч… Де-сять! Мотоцикл, по сравнению с этой суммой, детская игрушка!
— До Бабагайских полей довезу, а там тебе недалеко останется. Садись, — приказал Василий.
Иван сел в коляску, но не быстро, чтоб не было видно, что легко подчинился. Пусть не думает бригадир, что Ивану можно приказать, и он все так и сделает, — нет, Ивану можно только сказать, попросить как человека.
12
Каким холодом пахнуло на Ивана, когда он, войдя в бухгалтерию, не увидел за столом Михаила Александровича. Ему даже показалось, что он зашел не в тот кабинет.
Тихон Бадейников сидел на том же месте, бросал на Ивана косые взгляды и опять был чем-то недоволен. Конечно, тем, что Иван зашел в бухгалтерию… Девчонкам вот не жалко, что Иван зашел к ним, они как будто рады Ивану, о чем-то хотят спросить… Все, как одна, бросили работу, чуть не разом сказали, что Михаил Александрович скоро придет, что Иван может подождать в бухгалтерии, и, как будто знали, предложили стул подальше от Бадейникова.
Иван поблагодарил за приглашение, сказал, что подождет на улице, и вышел.
День будничный, а Бадейников сидит за столом в праздничном костюме… С чего бы это? Не связано ли как-нибудь с тем, что начали подбираться к заимке? Надо выяснить, что за праздник у Бадейникова? Если нет никакого праздника, значит, тогда все сходиться… Да и как не сойдется, если заместителем Михаила Александровича была молоденькая девчонка с высшим образованием, а Бадейников всячески показывал: он в бухгалтерии второй, а не девчонка; даже более того, держался иногда так, будто он — первый. Это ему удавалось, потому что Михаил Александрович сидел нередко согнувшись, весь уходил в работу и от этого казался меньше ростом. Бадейников был Михаилу Александровичу до плеча, а когда сидел за столом, то почему-то казался одинакового с ним роста.
Иван ни в чем не любил просить, считал: лучше чего-то не иметь, обойтись, ведь всегда можно обойтись! Это люди придумали: обязательно им надо то-то и то-то, и если «того-то и того-то» не будет, то вроде как и жить дальше нельзя… Прекрасно можно жить! Иван тысячу раз доказал это!
А сейчас?
И сейчас то же самое! Разве Иван похож на просителя? Побольше бы таких просителей! На Татарской заимке ничего нельзя трогать не потому, что там живут Иван с Марьей, хотя и это причина тоже уважительная, а потому, что нет нигде поблизости такой красоты! Надо, чтобы человеку было куда приехать, человек не должен забывать свою поляну, по которой он бегал в детстве…
Подумаешь, скажут, одной красивой поляной на земле меньше станет!
Запахать все можно! А кому от этого польза?
Он не замечал, что на него смотрят из окон конторы сразу несколько человек. Стоял он крепко, лицом к дороге, по которой изредка проезжали или проходили люди. Вернулось хорошее настроение, и, наверное, от этого по-другому светило солнце, по-другому плыли облака над Бабагаем, оставляя за собой все больше голубых просветов, в которых, то появляясь, то исчезая, летел самолет, а звука от него все не было…
Никто, считал Иван, не в силах помешать ему сделать то, что он задумал, потому что теперь он знает о себе если не все, то почти все. Его ничем на свете не удивишь: деньги он отдаст; друг у него на земле есть; человек, который больше всех не любит Ивана, ему известен…
Ивана окликнули.
Он оглянулся: угловое окно на втором этаже распахнуто, высокий, тонкий мужчина перегнулся через подоконник и смотрит на Ивана. «Председатель!»
— Иван Захарович, зайди-ка!
«Хорошо получилось: ни я председателю сильно не кланялся, ни он — мне!»
Иван так ловко и уверенно зашел в кабинет, как будто всю жизнь только тем и занимался, что открывал и закрывал двери председательского кабинета: ни плечом, ни локтями ни обо что не задел, не споткнулся о порожек, сразу же одним точным, коротким движением, — и чтоб сильно не хлопнуть! — закрыл двери, и все это одновременно с тем, что успел рассмотреть, в какой стороне кабинета находится председатель и что он в это время делает. У двери не стал задерживаться, — так делают многие, показывают не то свою культуру, не то трусость, — а сразу же прошел к столу, за которым сидел председатель, поздоровался с ним, выбрал себе подходящее место — за столом, напротив председателя, — в упор быстро оглядел его, и впервые у него появилось что-то вроде небольшой симпатии к этому молодому человеку, которого он до сегодняшнего дня и не хотел и боялся видеть.
— Это вы и есть Иван Захарович? — сразу же располагающим к себе голосом спросил председатель и чуть-чуть нагнулся вперед, как будто хотел получше рассмотреть Ивана.
— Он самый, — ответил Иван, пытаясь угадать, что у них за разговор получится и как ему вести себя. Сначала надо выслушать председателя: мужик, говорят, самостоятельный, разберется. Не поймет, тогда другое дело, тогда Иван растолкует, что к чему. Он хотел, чтобы перед ним оказался человек, видевший деревню не из кузова машины, а проживший в ней самое малое лет до пятнадцати. И чтоб умный был!
Он сидел, чуть-чуть склонив голову набок, щурился на солнечный свет, широким лучом ударявший в распахнутое окно, слушал орущих в палисаднике воробьев и делал только одному себе понятные выводы: раз председатель не закрывает окно, раз ему не мешают воробьи, значит, человек он не дурак и, конечно, поймет Ивана. Только вы, воробьи, орите потише, а то председатель поднимется из-за стола, захлопнет рамы, и пойдет разговор совсем не так, как должен пойти.
— Михаил Александрович не рассказывал, как он вас защищал?
— Нет, — ответил Иван, довольный, что разговор начался с Михаила Александровича. — Было бы что хорошее, может, и рассказал бы… А тут чем он может похвастаться?
— Вы что, друзья с Михаилом Александровичем? — спросил Сухарев.
— Я-то его считаю другом, а он меня, наверное, нет.
— Это как же понимать?
— Не знаю, — с какой-то непостижимой искренностью ответил Иван и сам испугался своей искренности. Так беспомощно он еще никому не отвечал.
Председатель заинтересованнее поглядел на Ивана, улыбнулся чему-то и сказал:
— Я с таким случаем впервые сталкиваюсь.
— С каким?
— Да вот как у вас…
— А что, разве у нас не так, как у людей?
— Дружба мне ваша непонятна. Вы, насколько мне известно, и не встречаетесь?
— Почему, — не согласился Иван, — встречаемся, но редко.
— Раз в год?
— Не-ет, за год мы раза четыре видимся!
— Друзья встречаются чаще.
— Это раньше так было, Георгий Алексеевич, а в наше время ни к чему часто встречаться. Сейчас друг тот, кто редко заходит!
— Я с вами не согласен, Иван Захарович.
— А вы подумайте и согласитесь. Вы, Георгий Алексеевич, говорите о том, чего вам хочется, а я говорю о том, что есть.
— Зачем же мне думать, когда я знаю, что это не так. Что ж это за друг, с которым можно не встречаться? Не надо обманывать себя, Иван Захарович!
— Значит, — подытожил Иван, — на один и тот же вопрос мы смотрим по-разному.
— По-разному, — согласился председатель.
— В этом нет ничего плохого, — сказал Иван. — У каждого свое мнение.
— Мнение у нас должно быть одно, — сказал председатель.
— Не знаю, как должно быть. Вам, Георгий Алексеевич, виднее. На то вас и учили!
— А не кажется, Иван Захарович, что все вы знаете, только притворяетесь, — голову людям морочите.
Иван не обиделся, но и не согласился с ним. Спокойно, как и до этого сказал:
— Никогда в жизни никому головы не морочил…
— Значит, себе морочишь.
— Люди наговорили, Георгий Алексеевич… Их только начни слушать…
— Тебя же я слушаю…
— Меня, Георгий Алексеевич, с теми, кто мне завидует, не равняй.
— Тебе завидуют те, кто похож на тебя! Хорошо, что таких немного, — единицы.
— По-моему, и того меньше, — уточнил Иван. — Один я! Чтобы завидовать моим деньгам, Георгий Алексеевич, надо работать не так, как сейчас. Чего им не жить в колхозе: трудовой день короче, чем на производстве! Только что в посевную да в уборочную… А полгода живут как на курорте! Отпуска даете, пенсию… Выходной придумали! По курортам стали ездить… А работать когда? Про доярок и свинарок я ничего не говорю, — там не отдохнешь!
— Ты, Иван Захарович, в самом деле так беспокоишься о колхозе?
— Я всегда беспокоился о колхозе. Разве вам этого не говорили?
— Говорили. Я думал, просто тебя не хотят трогать… Свой, все-таки…
— Я, Георгий Алексеевич, заслуживаю к себе самого лучшего отношения!
— А что ты такого сделал? На особенное внимание, сам знаешь, каждый рассчитывать не может.
— Еще не сделал, но скоро сделаю, — ответил Иван.
— Что же это такое будет?
— Пока не могу сказать.
— Мне казалось, что я все понял, а тут опять неясность! С вами, Иван Захарович, не соскучишься! Вы не родственник главному бухгалтеру или шангинскому бригадиру?
— Нет. С родственниками у меня плохие отношения, — добавил Иван.
— А с чужими?
— С чужими — хорошие.
— И давно у тебя так?
— Лет двадцать. Сразу после войны.
— Да-а, Иван Захарович, жизнь у тебя сложная… Если судить по рассказам, то не все совпадает… Ты только никаких номеров не выкидывай, — фантазия у тебя богатая!
— Номеров, про которые вы думаете, не будет! — весело оказал Иван. — А то, что пообещал, сделаю! Один вопрос можно, Георгий Алексеевич?
— Пожалуйста!
— Кто на меня нажаловался? Бадейников?
— Ты угадал, Иван Захарович.
— Спасибо, что сказал. А то я переживать начал: думаю, а вдруг не он?
— Ты не ошибся, Иван Захарович, не он один… Скажи спасибо шангинскому бригадиру и Михаилу Александровичу!
— Я могу сказать спасибо не только им…
— А кому еще?
— Председателю сельсовета. Старшему брату шангинского бригадира, — пояснил Иван.
— Да, он тоже хорошо говорил. Защита у тебя, Иван Захарович, надежная.
Иван опустил голову и задумался: «В самом деле все хорошо или главный разговор впереди? Неужели он со мной в кошки-мышки играет?»
Зашел Бадейников подписать какие-то бумаги. Иван заметил: ох, как хотелось ему остаться и послушать! Это и председателю бросилось в глаза, и он так выразительно взглянул на празднично разодетого счетовода, что тот, уже остановившийся послушать и уже приглядывавший стул, на котором бы можно было посидеть, круто повернулся на месте и исчез за дверью. Как будто бумажку ветром со стола сдуло!
«Ну, вот что надо человеку? — Иван глядел на бесшумно закрывшуюся дверь, за которой, ему казалось, Бадейников остановился. — За что он меня не любит? Что он лезет со своими документами именно в то время, когда я сижу у председателя? Хочет посмотреть, как у меня идут дела? Хорошо идут, лучше, чем у тебя!»
— Иван Захарович, звонил шангинский бригадир, просил не ругать, что ты не дал трактористу распахивать бугор. Так вот, я тебя не ругаю…
Иван слушал председателя почти что не дыша.
Кто-то приоткрыл и закрыл дверь. Сухарев оглянулся и продолжал:
— Мне Михаил Александрович рассказал про вашу жизнь… Околдовала вас заимка, что ли?..
— То-то и оно, — ответил Иван, огорчаясь, что ничего-то председатель не знает о нем. Разве Михаил Александрович так расскажет, как бы Иван сам о себе рассказал? Но когда рассказывать? Да и кто будет слушать? Всем — некогда! Да и нужды не было рассказывать… Жил себе и жил: А теперь как-то так все повернулось, что Иван чуть не каждому должен объяснить, что сейчас он не такой, как о нем думают, и раньше был не тот, за кого принимали… Вроде как все время жил под чужим именем! Да это целую книгу написать можно, если Иван начнет рассказывать про свою жизнь! Был бы пограмотнее написал бы! А так что человека мучить, у него и без меня дел хватает! И на том спасибо: у меня не был, заимку, наверно, хорошо не видел, а разобрался… По всему видать — хорошего человека прислали! А если бы по-настоящему поговорили, и не в конторе, а на заимке?! И ему бы и мне интересней было…
— Хорошо принял, спасибо, — поблагодарил Иван председателя, когда тот перестал говорить по телефону. — И я, когда будешь на заимке, хорошо приму: карасей наловлю, лодку дам покататься.
— У тебя лодка есть?
— Есть. На большом озере.
— Я по берегу проезжал, не видел.
— Стоит возле перехода! За кустами! Шофер разве не сказал, когда мимо проезжали?
— Про лодку ничего не сказал.
— Миронов бы не утаил.
— Что-то я тебя, Иван Захарович, не понимаю: какой смысл шоферу утаивать, что на озере есть лодка?
— А такой, что понравится тебе и озеро, и лодка, и поляна, и ты будешь лучше то мне относиться… Это ж мой родственник — твой шофер!
Председатель засмеялся:
— Да, я совсем забыл, что с родственниками у тебя плохие отношения. Не горюй, Иван Захарович, я тебя и с родственниками помирю!
— Хорошо бы, — согласился Иван. — Я-то с ними не ругался.
— А за что они на тебя сердятся?
— Денег не даю.
— А что они, сильно нуждаются?
— Сейчас-то какая нужда, а раньше — было!
— Ну и выручил бы!
— Так у меня тогда у самого не было!
— Сейчас бы помог.
— Своим — ни за что! Чужим — другое дело!
— Что-нибудь еще есть ко мне? — спросил Сухарев.
— Пока что разговором доволен, — ответил Иван.
— Почему «пока что»?
— Я еще не дойду до заимки, а ты возьмешь да передумаешь? Прощайте тогда бугор с поляной!
Иван схитрил: не об этом он хотел сказать председателю, своим ответом он только прикрылся, — рано еще было выдавать тайну.
Председатель, конечно, не мог проникнуть в замысловатый ход Ивановых мыслей и ответил, принимая Ивановы слова за чистую монету:
— Ты почему, Иван Захарович, никому не веришь? Откуда у тебя это?
— Люди научили, — ответил Иван, принимая в свой адрес явно незаслуженное обвинение. Дело было вовсе не в том, что он никому не верит, — просто он так вынужден был ответить! Хочешь не хочешь, а получалось, что Иван сам на себя наговаривал! И с этим пока что ничего нельзя было сделать… Иван только сейчас понял, почему он не хочет сказать председателю, что собирается подарить колхозу деньги: ему не поверят, поднимут на смех! Подарок надо сделать неожиданно, без лишних слов!
13
Иван подходит к окну, открывает вторую створку, прихлопнутую ветерком, и видит в палисаднике огромную стаю воробьев! Они не боятся Ивана, продолжают орать и не улетают! На заимке столько не было воробьев, сколько у председателя в палисаднике! Привыкли к открытому окну, иначе бы испугались… А может, воробьи настолько заняты собой, каким-то своим праздником, что не замечают Ивана? Храбрые, когда их много… Чудное что-то делается с Иваном: теперь вот воробьи лезут в голову, мелькают перед глазами…
Иван, видно, лишнего высунулся из окна, и воробьиная стая, продолжая неистово чему-то радоваться, перелетела в сельсоветский палисадник, где тополя были старше и высоко поднимались над черной четырехскатной крышей.
Солнце наконец-то справилось с облаками, согнав их к самому горизонту, и, как будто освободившись от работы, радовалось отдыху. Слабый ветерок, игравший кистьями тополей, нисколько не освежал — в лицо Ивану ударяли горячие волны воздуха, и в них, побеждая все другие запахи, сильнее всего чувствовался запах хлебного поля, которое начиналось за деревней со всех четырех сторон.
Через дорогу, в низине, заколдовывая каждого, кто на него смотрел, время от времени вспыхивая на солнце, из артезианской скважины бил фонтан, лет десять или пятнадцать назад оставленный геологами.
К пруду, окруженному темными елями и кой-где разбросанными корявыми березами, из-за последнего дома скатывается с горы ватага ребятишек, и начинается бултыханье, хорошо видное и слышное из окна. Кричат гуси, застигнутые врасплох, кричат ребятишки, стройное гусиное войско, только что проплывавшее над самой глубокой водой, спасается по воде бегством и занимает окраину пруда, где плавать даже гусям неинтересно, и они продолжают вскрикивать не столько от испуга, сколько от неудовольствия. Гуси знают, что хорошая вода захвачена надолго, выходят на болотистый берег, где они теперь в безопасности и откуда они, переговариваясь, будут поглядывать, когда освободится пруд.
Улетевшая воробьиная стая, хлебный запах с полей, сверкающий на солнце фонтан, шелест светло-зеленых тополиных листьев, гуси и ребятишки отвлекли Ивана от смутной и от этого еще более неприятной мысли, которая только что связывала его по рукам и ногам, и дышалось легко, и он сел на прежнее место, и председательский кабинет больше не казался ему таким строгим, и все предметы — сноп пшеницы с тяжелыми колосьями, стоявший в углу, портреты ученых, о которых Иван ничего не знал, казались ему такими же необходимыми в кабинете, как двери и окна, как стол и стулья… И все-таки, что-то неладно, мешает что-то, а Иван не может понять — что?
Нет, кажется, понимает: он уже не мог больше хранить тайну — она требовала, чтобы кому-то было рассказано о ней сейчас же, немедленно.
— Михаил Александрович, мне надо с тобой поговорить, — сказал Иван, как только главный бухгалтер зашел в кабинет и подал Сухареву какие-то бумаги.
— И мне надо, — живо, как-то непохоже на него, отозвался Михаил Александрович.
Да, сомнений не было: он смотрел на Ивана как самый настоящий друг! А чтобы председатель и вовсе не сомневался, что они друзья, Михаил Александрович укоряющим голосом произнес:
— Иван Захарович, ты почему ко мне не заходишь?
Не замечая на себе веселого председательского взгляда, Иван внешне спокойно смотрел на Михаила Александровича, а сам думал: «Молодец, друг, не подвел! Не дал посмеяться над Иваном! И я в долгу не останусь: каждое твое слово будет стоить по тысяче рублей!»
Вслух Иван сказал:
— Тебя, Михаил Александрович, поблагодарить надо.
— За что?
— За разговор с председателем.
— Я сказал председателю то, что есть.
Иван ответил:
— Про то, что есть, не каждый может сказать: некоторые говорят о том, чего нет. Попробуй потом докажи, что у тебя было, а чего — не было.
Все трое засмеялись: первым — председатель, вторым — Михаил Александрович и в последнюю очередь засмеялся Иван.
— Что с поляной? — тихо и печально спросил Михаил Александрович.
— Оставили, — ответил Сухарев.
— А бугор?
— Тоже оставили.
Не говоря больше ни слова, Михаил Александрович пошел из кабинета, и нельзя было понять, радуется он за Ивана или по какой-то неизвестной причине продолжает печалиться? Слышно было, как по коридору отдалялись его шаги.
— Иван Захарович, давно вы дружите с Михаилом Александровичем?
— На такой вопрос, Георгий Алексеевич, лучше всего не отвечать: про дружбу начнешь вслух рассказывать, и, считай, не будет дружбы…
— Это в том случае, если друга не было, — уточнил Сухарев. — А так… куда он денется?
— Я в твоем возрасте, Георгий Алексеевич, о друге как-то не задумывался: есть друг — хорошо, нет — тоже хорошо! А сейчас понимаю: без друга нельзя.
— Иван Захарович, а если оба заболеете? Там же вокруг ни души…
— Марья никогда не болеет, — постарался успокоить Иван председателя. — Я — бывает. Но и со мной ничего не сделается! Вы, Георгий Алексеевич, не смотрите, что я маленького роста, я — двужильный.
Председатель подивился Ивановой настойчивости, а больше всего — уверенности. Такое упорство отчасти нравилось председателю, но говорить об этом он не собирался, — совсем загордится Иван!
На дорогу Сухарев спросил: правда ли, что Марья как работала за троих, так и работает, а Иван — прохлаждается?
«Отсох бы у того язык!» — хотел сказать Иван, но удержался, так как следом, хоть и не полностью, но согласился со словами, которые кто-то передал председателю.
— Георгий Алексеевич, я действительно в последнее время частенько стал бегать в деревню. Марья из-за этого со мной ругается… Но сказать, что я «прохлаждаюсь», это будет неправда. Побегай-ка.
«Глубоко копает председатель — в самое сердце иголкой кольнул! Нарочно подзуживает, сыплет соль на больные раны… Хочет, чтобы Иван сорвался, что ли?.. С кричащим-то Иваном легче справиться! Но не будет скандала, Георгий Алексеевич… Все Иван выдержит, все стерпит… Не такие находились шутники, и то не могли вывести из себя! До белого каления, конечно, доводили, крови много попортили… С другой стороны, и Иван не подарок: упрется — никакой силой с места не сдвинешь! А как иначе, ну, как по-другому сделаешь? Сковырнут тебя как кустик бульдозером и скажут потом, что так и было… Не-ет, надо покрепче упираться, твердо стоять на земле, чтоб видно было, что ты стоишь, а не лежишь! Не торопись, Георгий Алексеевич, я и к этому вопросу готов, на лопатки меня все равно не положишь! Я не какое-то там перекати-поле, я — хозяин!»
Иван смотрел на председателя, говорившего по телефону, и думал, как бы покороче и потолковее ответить на обидный вопрос.
Сухарев положил трубку, нашел какие-то бумаги, полистал их, отодвинул в сторону, о чем-то задумался и продолжал так сидеть, не обращая на Ивана никакого внимания.
«По телефону сказали что-нибудь неприятное… Теребят председателя со всех сторон: то — дай, это — дай! Где столько всего набраться?!»
Ивану расхотелось отвечать на последний вопрос: и так все идет, как по расписанию! Чего еще надо: думал о людях хуже, а они лучше оказались… Постой-постой, а Бадейников? Вот бы про кого спросить у председателя: долго ли они собираются держать его на должности счетовода? Это же не шарашкина контора, а правление колхоза, а в правлении — бухгалтерия!
— Георгий Алексеевич, вы, как приехали к нам, повыгнали всех бригадиров, один только шангинский остался! Правильное было решение, ничего не скажу… А почему продолжает работать в конторе Тихон Бадейников? Неужели вы не видите, что это плохой человек? Он же смотрит на каждого, как волк из-под дуги!
«Зря я ему сказал про Бадейникова, — заранее пожалел Иван. — Ошибку допустил: полез не в свое дело… А почему не в свое? Я такой же колхозник, и мне не безразлично, кто будет мои денежки считать!»
Сухарев вместе со стулом отодвинулся от стола, как будто издали хотел посмотреть на Ивана, и, не переставая о чем-то думать, сказал:
— Я, Иван Захарович, большой радости не испытываю, когда встречаюсь с Бадейниковым…
Даже не верилось, что председатель смотрит на Бадейникова так же, как Иван!
Не зря Иван усомнился, — председатель тут же и огорчил его: он сказал что-то очень странное, в его ответе не так уж и глубоко был спрятан упрек Ивану, неудовольствие, что Иван спросил об этом. «Мы можем быть недовольны счетоводом, а тебе, Иван, подождать надо!» — примерно так сказал председатель, если не хуже…
Иван никак не мог согласиться, что рядом с Михаилом Александровичем сидит такой человек, — вроде как его кто-то нарочно держит около Михаила Александровича! Никто Бадейникова в бухгалтерии не любит, — он там сидел не со всеми, а вроде как один. Он и по коридору и по улице прошмыгивал один, как будто ни с кем из бабагайских не был знаком. И вдруг Иван сообразил: в хорошем месте Бадейников работает благодаря Михаилу Александровичу! Он оберегает Бадейникова… А почему тогда Бадейников так жесток к Ивану? Почему Михаил Александрович Бадейникова терпит, а Бадейников Ивана — нет?
Каких-нибудь полтора часа прошло, как Иван у председателя, а Ивану казалось, что он тут со вчерашнего дня! Как будто его к стулу привязали, что никак нельзя пошевелиться, или каким-то магнитом держат: надо подняться, и не можешь; вот уже поднялся, надо уйти, и опять не можешь! Только решится один вопрос, кажется, последний, как появляется новый, и конца-краю вопросам не видно… Хоть не заходи и не начинай разговора!
14
В каком-то смятении, хотя в общем-то все хорошо было, Иван вышел из кабинета, и — скорей на улицу, где светит июльское солнце, где много воздуха и синее небо, в котором высоко летают стрижи и ласточки… Выше всех плавает ястреб, которого только что крикливой стаей гоняли большие и маленькие птицы. Ястреб залетел повыше, и там никому не мешает…
За прудом, в котором все еще купаются ребятишки, Иван, поднявшись в гору, не в Шангину пошел, а свернул на Полыновскую улицу. Обогнул слева больничную ограду, где за старыми соснами на лужайке сидели мужики в коричневых и синих пижамах и над чем-то смеялись. Ивана они не видели. И он за деревьями плохо видел сидевших — мелькнет кусочек одежды, рука или голова в газетном шлеме и скроется. На лужайке так много солнца, и, наверно, идут такие интересные разговоры… Иван едва удерживался, чтобы не подойти и не посидеть с больными.
Осталась позади заросшая молодым сосняком и березником изгородь, которая скрывала Ивана, он — в поле, где не так жарко и дышится легче, а с больничной лужайки все еще доносятся голоса и смех, но теперь они сами по себе, а Иван — сам по себе, и ему было немного жалко, что он не постоял или не посидел с мужиками. На обратном пути у него не будет времени, да и мужиков, когда он вернется, на лужайке не будет.
— Зачем я здесь? — вслух спросил Иван, но спрашивать было не у кого — он один за деревней среди огромного изумрудно-серебристого поля пшеницы…
Он стоял спиной к березовому лесу, смотрел через поле на чернеющие дома, между которыми двигались или где-нибудь стояли и разговаривали фигурки людей ростом с кукол. Из деревни Ивана не так-то легко увидеть (а если кто и увидит, то неизвестно, за кого примет, скорее всего, за пенек обгорелый), а Иван многих видит! Что же лучше: одному на всех смотреть издалека или со всеми одного кого-то разглядывать? Но в том-то и дело, что сюда, наверно, никто и не смотрит, — что интересного в недоспелом хлебе и кому нужен человек, зачем-то идущий по этому полю?
«А я на деревню и на людей смотрю, как будто мне от них что-то нужно, хотя на самом-то деле ничего не нужно, — я пришел дать, а не взять!»
Скажут: в войну и не такие деньги отдавали государству, и не хвастались… Так то в войну! Когда война началась, у Ивана никаких денег не было, а подарок он сделал: было две коровы, одну, не задумываясь, отдал фронту, только бы немца поскорее расколошматить. Такую мелочь, как гусей, уток, кур, Иван не считает: рубил головы, пока не прибежала Марья и не отняла топор. Только и оставил гусей и кур, что на развод, а уток тогда всех прикончил Марья молодая была, не ругалась, но когда отбирала топор, прикрикнула на Ивана, — уж очень он тогда разошелся!
Иван прошел по глубокой тропинке, устланной прошлогодними листьями, и скрылся за стволами молоденьких высоких берез — таких белых, будто кто-то их выкрасил к празднику!
В лесу никогда не бывает скучно: березы, сосны, лиственницы для Ивана все равно, что люди, — стоят ровно или бегут по косогору, как солдаты; наклонились в разные стороны, как чужие… Стоят согнувшись, да так, что верхушками земли касаются… Деревья шепчутся, стонут, скрипят, вздыхают, радуются солнцу, поблескивая по утрам и после дождя зеленой хвоей и листьями, или стоят засохшими и не могут шуметь кроной и раскачиваться в сильный ветер… Сухостоину не вывернет с корнями — она сломается, и грозным острием будет напоминать, что она сломана, но не побеждена… У каждого дерева, как у человека, своя судьба… Потому и растут рядом, чтоб не скучно было! Не хотел Иван, а подумал, что они с Марьей похожи на засыхающие лесины, которые никому не нужны… А может, им никто не нужен?!
Пока Михаил Александрович в конторе, Иван мог бы зайти к кому-нибудь в гости. Поговорил бы, посмотрел бы, как другие живут, но, что ты сделаешь, идти ни к кому не хотелось, — нет у него, кроме Михаила Александровича, ни одного близкого человека!
15
Под вечер Иван вернулся из-за Бабагая и сидел за столом у Кирпиченкиных. Выпил стаканов пять чаю, а Михаил Александрович как налил себе второй стакан, так и не дотронулся до него больше и сидел, низко склонившись над столом; казалось, он держит на своих плечах неимоверно тяжелый груз, который, если Михаил Александрович не выдержит, раздавит его. Но вот он разогнулся и очень спокойно, — что-то для него прояснилось, — посмотрел на Ивана. Со стороны могло казаться, что у них не клеится разговор, что говорить им не о чем, но в том-то все и дело, что они оба не очень-то любили разговаривать. Получалось, что как Иван привык экономить каждую копейку, так и словами приучил себя не разбрасываться. И Михаил Александрович — то же самое… Только он всю жизнь делал это для всех, а Иван — для себя. И вот выходило, что не для себя, а тоже — для всех, только надо было поставить последнюю точку!
Михаил Александрович подумал, что ослышался, когда Иван сказал, что хочет подарить колхозу десять тысяч…
Морщины на лице Михаила Александровича сделались глубже, глаза сузились, он заморгал ресницами, как будто в глаз сорина попала.
— От чистого сердца предлагаю, — сказал Иван. — Безвозмездно.
Михаил Александрович наконец-то отпил из своего стакана, уже остывшего, сразу два или три глотка чаю. Что-то несерьезное было в Ивановом предложении: ни с того ни с сего отдать колхозу десять тысяч! «Неладно что-то с Иваном… Может, он в самом деле заболел? Может, правду говорили, что в последнее время Иван чудной сделался?..»
— Зачем тебе это, Иван Захарович? Я ведь тогда пошутил.
«Это никому не нужно», — хотел сказать Михаил Александрович, но сказал совсем другое — что, может, Иван не помнит, что говорит, не подумал, так это не страшно, еще есть время, и что он советует вообще не думать об этом: зачем усложнять себе жизнь?
Иван выслушал друга очень спокойно, даже как будто радостно, из чего Михаил Александрович хотел заключить, что он угадал в самую точку, — дает возможность Ивану пойти на попятную и забыть о том, что он сказал только что.
— Мне, Михаил Александрович, тут думать не над чем: это деньги не мои, а — ваши.
Михаил Александрович смотрел на Ивана глубоко запавшими и от этого казавшимися еще более темными и грустными глазами.
— Они только у меня находились, — пояснил Иван. — Да и то не у меня, а в сберегательной кассе…
— Когда ты это придумал, Иван Захарович?
— Я над этим думал всегда. Но также будет правда, что я это придумал недавно.
Михаил Александрович вздохнул, не зная, как поступить с Иваном.
— Чего ты пригорюнился, Михаил Александрович? Не ладится что-нибудь?
Михаил Александрович смотрел не на Ивана, а куда-то дальше, и на миг Ивану показалось, что он здесь лишний. И в это время очень неприятная мысль коснулась Ивана: пока молчал о деньгах, интереснее все было, значительнее, казалось, что деньги у него из рук выхватят, только он заикнется, и вот, оказывалось, что еще выяснять будут, почему он отдает, из каких соображений, а уж потом решат — взять или не взять! И здесь придется поволноваться! Праздник, о котором мечтал Иван, не получался! Как будто он не свои деньги предлагал, а краденые! Что-то напутал Иван в самом начале и теперь никак не распутать… Один узел развяжешь, а два появятся!
— Михаил Александрович, домой к тебе, наверно, много людей приходит? — Иван тут же пояснил, почему он об этом спрашивает: — Ты человек не маленький — главный бухгалтер такого колхоза!
— Приходят в бухгалтерию, а сюда — зачем?
— Ну, вот я же — пришел?
— Ты — другое дело. Таких, как ты, Иван Захарович, у нас больше нет.
— Это я и сам знаю, что нет.
Иван вздохнул, как будто сожалея о том, что вот, плохо ему, что таких, как он, больше в колхозе нет.
— А надо, Иван Захарович, чтобы таких, как вы с Марьей, больше было. Только не совсем таких, как вы…
— А чем мы плохие?
— Об этом, Иван Захарович, вы с Марьей не хуже меня знаете…
— Знаем, — ответил Иван, — и не согласны с этими разговорами.
— Сейчас никого ничем не удивишь… Вот я и думаю, Иван Захарович, стоит ли отдавать деньги? Съездил бы на юг на курорт, здоровье поправил.
— Думаешь, все-таки привязалась ко мне болезнь?
— Ты же сам говорил…
— Так это я простывал! У меня, по-моему, что-то другое…
— Вот бы тебе профессора и сказали.
— Не скажут ни за какие деньги! Я пробовал.
— Еще раз попробуй. Бывает, что болезнь глубоко прячется, сразу и профессор ничего не заметит. При твоих-то деньгах и в Москву можно съездить…
— Денег на пустяки не хочу тратить. Я — здоров. Так иногда что-то делается… вроде как душа болит, — так это, может, и не болезнь… А если болезнь, то неизлечимая.
— Может, и болезнь… — задумчиво проговорил Михаил Александрович. — А иногда мы сами себе придумываем болезнь… и потом не можем от нее отвязаться…
Пришла Соня.
— Вы что, как пьяные, сидите, а ни одной рюмки не выпили?
Иван засобирался домой.
— Оставайся ночевать, — пригласил его Михаил Александрович.
— Пойду, — озабоченно проговорил Иван и в дверях стал надевать кепку.
Вмешалась Соня:
— Что у тебя — семеро по лавкам, что так торопишься?
— Надо идти, — сказал Иван.
И ребятишки были рядом, во все глаза смотрели на Ивана, и Соня, и Михаил Александрович, а он вроде как один стоял в большой комнате: в ярком свете электрической лампочки поблескивает белая щетина на щеках и подбородке, и оттого, что щетина белая, Иван кажется слабеньким, и непонятно, как он один ночью пойдет в такую даль.
— Темень, — сказала Соня. — Волки встретят.
— Ночью хорошо идти, не жарко, — ответил Иван, продолжая о чем-то думать.
За столом, с краю, готовый подняться и проводить Ивана, но так же готовый и оставить его ночевать, сидел Михаил Александрович.
Соня, не зная, как еще приглашать Ивана, думала: «Мог бы утром, чуть свет, подняться, доехал бы с кем-нибудь… А он — ночью… Надо же так привыкнуть к лесу…»
— А волков я даже зимой не боюсь: у меня с ними — дружба! — сказал Иван ребятишкам.
Зимой сколько раз по ночам видел, как, поблескивая огоньками глаз, они бежали за ним вдоль дороги по лесу, и он знал: свои волки не тронут!
Иван бы с удовольствием остался переночевать у Михаила Александровича, но — нельзя надоедать другу!
Михаил Александрович вышел проводить Ивана.
— Как же с деньгами быть? Когда можно отдать? — спросил Иван.
— Недели две подумай.
— Два дня, — сказал Иван.
— Хорошо, два дня.
— С утра мне появиться в Бабагае или с обеда?
— С обеда, — посоветовал Михаил Александрович. — Я поговорю с председателем…
— Без него не обойдемся? — спросил Иван.
— Нет.
— Думаешь, не возьмет?
— Все может быть, Иван Захарович…
Скоро темнеющая фигурка Ивана исчезла за углом дома Мельниковых в проулке, по которому через мост шла дорога в Шангину. Михаил Александрович постоял за воротами, прикинул, что Иван идет сейчас по глубокой низине в густом тумане, когда дороги совсем не видно, и кажется, что обязательно с кем-нибудь столкнешься или что заносишь ногу над пропастью…
16
Заподозрила Марья, что Иван что-то от нее скрывает, и по одним только ей понятным и видимым приметам старалась определить, что он задумал. Идти в деревню и узнавать, почему Иван не такой сделался, она не хотела: люди ей не помощники, они самое главное скроют, а может, самого главного и не знают, — Иван не из тех, кто кому попало все расскажет.
Иван не проговаривался ни одним словом, не сердился на изучающие Марьины взгляды, и она терялась: ни разу Иван ей не сказал: «Чего смотришь, милка? Чего уставилась?» Ни разу не раскипятился, как это бывало раньше, ни разу не обозвал, и это ее настораживало. К его коротким сердитым выпадам она привыкла: ругался Иван — все идет хорошо; молчал — что-нибудь плохо…
Иван вставал в пять утра, а сегодня изменил своему правилу: не слышно Ивана, как будто нет его дома, и Марья проснулась. Спал Иван, повернувшись лицом к стене, как будто сердился за что-то на Марью. Как только Марья поднялась с кровати, он, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и теперь хорошо можно было разглядеть его лицо. Иван что-то забормотал во сне, Марья наклонилась к нему, прислушалась.
— Что ты сказал, Иван?
Иван на вопрос не ответил.
Марья отступила от кровати и продолжала всматриваться в его лицо и прислушиваться, — может, скажет что-нибудь? Что-то не дает Ивану спать, с кем-то он «боряется» во сне… Она приказала себе идти на улицу и расколоть полено, а ноги как будто приросли к полу.
Иван проснулся и увидел: Марья, накинув поверх ночной рубашки телогрейку, выходит в сени, в руках у нее топор.
— Марья!
— Чего тебе?
— Ладно, иди, — вставая с постели, сказал Иван.
— Что ты хотел? — спросила Марья, продолжая стоять в дверях. Иван в это время доставал из-под кровати и никак не мог достать сапоги, которые он ночью, придя из Бабагая, забросил дальше, чем нужно.
— Я уже забыл, что хотел сказать, — ответил Иван, когда достал второй сапог.
Марья, соглашаясь, кивнула: мол, не хочешь говорить и не надо. Не спеша, как будто все еще надеялась что-то услышать, закрыла за собой двери, и через минуту раздались удары топора под сараем.
Иван взглянул на ходики, они шли неправильно — показывали не то середину дня, не то середину ночи. Зная, что теперь он на дню по нескольку раз будет взглядывать на стенные часы, зная также, что с сегодняшнего числа — с девятого июля — он каждый день будет заводить ходики, чтобы они показывали точное время, он по карманным часам поставил стрелки на пятнадцать минут шестого, отошел на середину избы и как-то по-другому взглянул на ходики, когда они шли правильно. Решив, что с девятого июля началась новая жизнь, он веселее топнул одним и другим сапогом и оттого, что они еще плотнее стали на ноге, сделался таким же бодрым, как вчера в Бабагае, когда решил отдать деньги.
Под сараем, не говоря ни слова, взял из рук Марьи топор и стал колоть крупные поленья. Марья загляделась, как ловко Иван разбивал полено на мелкие осколки, — не убирая руки с полена, — так и казалось, что он рубанет себе по пальцам…
17
День должен быть хорошим: Индон и Широкое болото окутаны таким густым, белым туманом, что кажется: никакой реки поблизости нет. Облака над лесом подсвечены первыми лучами невидимого солнца — оно появится минут через двадцать, и тогда и земля, и трава, и деревья, и все, что видел Иван на земле, заискрится, засверкает тысячами дождевых росинок! Ночью, оказывается, прошел дождик. Иван не слышал, значит, крепко спал. Птичий гам еще силен, но уже начал слабеть, все слышнее одиночное пение птиц. Он похвалил и дождик, и всходившее солнце, и птиц, встречавших солнце, потрепал по шее собаку. Когда Ивана сутки или двое не было дома, Собака, будь то зимой или летом, не задремывала в своей конуре ни на одну минуту, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Ивана со стороны деревни.
«Не-ет, — подумал Иван, — я вырос в лесу, жил в лесу и помру в лесу…»
За один шум леса Иван не расстанется с Татарском! А что говорить об Индоне, о Широком болоте, о том, что нигде так не всходит и не закатывается солнце! Вот и живет Иван, чтобы видеть все это, радоваться тому, что видит, и считать, что всему этому он — хозяин.
Иван еще не сказал, а видно было, что опять он собирается в деревню.
— Доходишься, — сказала Марья.
Как будто холодком обдало Ивана, — что-то было похожее на то, что Иван легкомысленнее Марьи, поступает не думая, и за это рано или поздно поплатится…
Но за что?
Марья поставила на стол завтрак, сама села, а Иван уже до этого сидел за столом, разодетый с иголочки, похожий на представителя из Заларей или из Иркутска. Иван и сам это чувствовал, и на Марьины уговоры не поддался, и ответил ей, как и положено отвечать городскому представителю:
— Люди должны помогать друг другу! А ты заладила: не ходи, не ходи…
Иван не мог рассердиться на Марью: и день был не такой, чтобы сердиться, и Марья была не такая, как все эти дни, а лучше, что ли… Хотелось сказать Марье что-нибудь хорошее.
— Нас с тобой, милка, начальство уважает…
— За что?
— За то, что любим работать…
Иван хотел сказать, что скоро, может быть, завтра о нем все узнают, все уважать станут… Вот как повернется дело! Промолчал Иван, не стал ничего говорить.
Иваново молчание Марья восприняла как обиду или как то, что ему нечего сказать: замахнулся, хотел похвастаться, а — нечем! А может, чего лишнего Марья сказала: откуда ей знать, кто его там, в этой деревне, уважает? Только не очень-то во все это верит Марья. Не за что, считает она.
— Дождешься, — сказала Марья.
И опять в этом одном ее слове были и угроза, и предупреждение, и боязнь, и невозможность как-то так сказать, чтобы он понял, что не надо ему никуда ходить, не надо ни с кем говорить. Не ходит она, не говорит, и ему не надо.
Может, думала Марья, добром Иван поймет и хоть раз в жизни послушает? Есть же для людей воскресенье, так почему бы Марье с Иваном во всем новом не походить по заимке, не посидеть на скамейке за воротами?
Когда она сказала об этом, Иван чуть ложку из рук не выронил: ай да милка, до чего додумалась?! Готова одеться как на праздник, только бы Иван не ходил в деревню!
Ивану бы послушаться, сделать, как просит Марья, а он сидит за столом во всем праздничном по другой причине: ему надо в Бабагай идти.
Марья левой рукой как-то очень ловко оперлась о край стола, а правую руку, в которой она только что держала ложку, положила на колени — и улыбалась совсем не так, как до этого, когда Иван собирался в деревню; и в этом своем неуловимом движении, как она оперлась рукой о край стола, а другую руку положила к себе на колени, и в том, как она сидела и смотрела на Ивана, стала похожа на ту, молоденькую Марью, с которой Иван согласился бы жить не только в большой избе на Татарской заимке, а в маленьком балагане на Саянских горах!
18
Михаил Александрович встретил Ивана за воротами, на виду у всей конторы, как будто нарочно показывал, что они с Иваном — друзья.
— Идти? — Иван кивком указал на второй этаж и направо, где располагался председательский кабинет.
— Марья знает об этом?
— Нет, Марье не говорил. Рановато, сберегательные книжки у меня с собой. Десять тысяч, которые останутся, — Марьины. Все честь по чести.
Иван полез в карман за сберегательными книжками, но Михаил Александрович остановил его: не надо.
Взявшись за ручку двери председательского кабинета, Иван глубоко вздохнул, и на душе вдруг стало светло и чисто; и так же было светло и чисто в председательском кабинете, и председатель сидел за столом тоже светлый и чистый, в новом костюме, который был чуть-чуть подороже Иванова. Большой разницы сегодня между Иваном и председателем не было, — так казалось Ивану.
— Георгий Алексеевич, вы, конечно, знаете, зачем я пришел?
— Знаю.
Ивана обидел такой сдержанный и короткий ответ. Да Иван бы на месте Сухарева вылез из-за стола, первый бы протянул руку, сел рядом, — и такой бы разговор завязался между ними! А он сидит, и хоть бы тебе что! Как будто каждый день по десять тысяч предлагают! Ивану вот никто лишнего рубля не дал! Ну ведь не богачи, а ни с какой стороны не подступиться! Вот время настало: ничем не удивишь!
— Деньги мы взять не можем, — проговорил Сухарев, как будто выплеснул на Ивана ушат холодной воды. Иван даже привстал со стула.
— Как это не можете? Ты, Георгий Алексеевич, здесь самый главный, все от тебя зависит.
— Без сельсовета ничего не выйдет, — сказал председатель.
С Ивана как будто камень свалился… Он даже пересел на другой стул — был уверен: теперь можно сидеть не только на другом стуле, а хоть на полу, хоть на подоконнике, и все у него пойдет хорошо!
— Ну, это, считай, вопрос решенный: у меня с Советской властью хорошие отношения, — сказал Иван. — Там же Илья Иннокентьевич председателем, бывший шангинский бригадир! Мы с ним дружно жили.
— Это хорошо, что дружно, — ответил председатель.
Иван считал вопрос с деньгами решенным, а Георгий Алексеевич опять ему размышление подкинул:
— Иван Захарович, я за тебя переживаю!
— Как же ты за меня переживаешь, если деньги не хочешь взять?
У Георгия Алексеевича мелькнула мысль, что в последний момент Иван дрогнет, отступится, и все кончится маленьким анекдотом, в котором никому плохо не будет.
19
— Ты что, шутишь над нами? — спросил Илья, когда ему и Сухарев и Кирпиченко рассказали в сельсовете про Иванову затею.
Иван сел вместе со всеми за стол и, как-то само собой получилось, оказался с краю, — вроде как не совсем его считали своим! Скорее всего, так никто и не думал, но так выходило: с краю-то Иван сидел!
Прошла минута тишины; эта минута и молчание как раз и нужны были Ивану, — чтобы его ответ был не бегом, не наспех, как будто на сто рублей…
— Что ж я, Илья Иннокентьевич, не могу подарить колхозу десять тысяч? Никак не пойму, чему вы удивляетесь: я же не прошу, а отдаю!
— Если бы попросил, понятнее было, — сказал Илья.
Слушает Иван и не понимает: хвалит его Илья Иннокентьевич или ругает? Скорее всего, хвалит, — ругать-то вроде не за что!
— Ты бы отдал десять тысяч? — спросил Илья у председателя колхоза.
— У меня таких денег никогда не было, — ответил Сухарев.
— Ну, если б были?
— Были бы деньги, и было бы стране тяжело, отдал бы, — куда бы я делся?
Илья заулыбался и как-то уж очень пристально посмотрел на Ивана, как будто хотел удостовериться, Иван это или не Иван, и сказал:
— Все бы так рассуждали, мы бы где сейчас были! А ты, Михаил Александрович, подарил бы? — спросил Илья. Ему интересно, что скажет главный бухгалтер! Пусть не десять, но пять тысяч, наверно, было у него на книжке! Такой же, как Иван, бережливый… Такой же молчун, если не больше…
Михаил Александрович даже не стал отвечать на пустой вопрос.
— А ты? — спросил у Ильи Георгий Алексеевич.
— Иннокентьевич отдал бы, — заступился за него Иван. — Он отдал бы.
— Вот это мне нравится, — весело сказал Сухарев, — Иван Захарович защищает Илью Иннокентьевича! Да мы на него не нападаем!
— Вы на меня нападаете, а значит, и на него, — с какой-то особой значительностью проговорил Иван. Он уже не чувствовал себя сидящим с краю.
Сухарев пригладил рукой и без того хорошо причесанные черные длинные волосы, поправил галстук, который не надо было поправлять.
— И на тебя никто не нападает, — сказал он.
— Деньги не берете, — ответил Иван.
— А ты что скажешь, Михаил Александрович?
— Надо взять.
С лица Ильи исчезло веселое выражение, он еще раз как-то очень глубоко взглянул на Ивана, как будто не узнавал его, и громко сказал:
— С Марьей инфаркт будет — это я вам точно говорю!
— Я свои десять тысяч предлагаю, — пояснил Иван. — Марьины останутся.
Иван достал из внутреннего кармана пиджака сберегательные книжки, сложил по порядку — две, которые скоро будут колхозными, сверху, Марьину — снизу, — и, нисколько не сомневаясь, что делает правильно, протянул их Михаилу Александровичу. Как и в тот раз, возле конторы, Михаил Александрович не стал смотреть, а сразу же передал книжки Сухареву. Тот медленно, все больше хмурясь, полистал их, улыбнулся чему-то, вроде как похвалил Ивана, и бережно, будто в руках у него были живые птицы, готовые при малейшей оплошности выпорхнуть из рук, передал книжки Андрееву. Илья глянул на последние суммы, что-то прибросил на счетах.
— Двадцать тысяч! — не без удивления сообщил он. — Так ни рубля и не истратил?! — еще больше удивился он. — Для колхоза берег, что ли?
— Считай, что так.
— Я тебе, Иван Захарович, советую подальше держаться от Михаила Александровича…
— Это почему же? — спросил Иван. Он отлично видел, что Илья — шутит.
— Сейчас скажу, раз не понимаешь… Да ты с этим другом без штанов останешься! Он и твои десять тысяч запишет, и Марьины! И не заметит, как сделает! Ты что, не знаешь Михаила Александровича?!
Все четверо засмеялись.
— Держи, — сказал Илья, возвращая Ивану сберегательные книжки. — Спрячь подальше. Главное, ему не показывай, — Илья кивнул на Михаила Александровича.
Одну из книжек, самую новенькую, Иван положил в карман, а две оставил на столе. А чтоб хорошо было видно, что они теперь — колхозные, отодвинул их подальше от себя. С трудом оторвал взгляд от сберегательных книжек — хотел посмотреть, какое он произвел действие: может, теперь Илья Иннокентьевич перестанет шутить?
Никто больше не улыбался, а молчание было настолько долгим и тягостным, что у Ивана вдруг зазвенело сразу в обоих ушах, — как будто на жизневской горе за Бабагаем били в церковные колокола.
— Иван Захарович, почему ты хочешь сделать подарок? Может, взаймы? Тебе же лучше!
— Да что вам — трудно взять, Георгий Алексеевич?
— Ты думаешь, Иван Захарович, колхоз нуждается в твоих десяти тысячах?
— Я для себя стараюсь!
— Понимаю, — сказал Сухарев. — За деньги должны думать о тебе лучше?
— А почему бы нет? Это же свои, кровные, а не какие-нибудь…
— В самом деле без хитрости отдаешь? — никак не хотел верить Сухарев.
— Это у вас какая-то хитрость — не берете.
— А почему тайком от Марьи?
— Пусть пока ничего не знает… Для нее же лучше, Георгий Алексеевич…
— Своим подарком, Иван Захарович, ты всех ставишь в неловкое положение…
— Точно-точно, — подтвердил Илья. — Ты даже не представляешь, что может из этого выйти! Еще спасибо скажешь, что не взяли!
— Что будем делать? — спросил Сухарев. — Илья Иннокентьевич, ты знаешь человека, тебе и последнее слово.
— У нас даже заявления не было, — сказал Илья. — Поговорили и разойдемся.
— Заявление будет, — сказал Иван. — Хоть сейчас могу написать. Только продиктуйте.
— Подумай, Иван Захарович, хорошенько. Куда торопишься? Успеешь отдать.
— Неужели я стал бы предлагать такие деньги не подумавши? Илья Иннокентьевич, ведь ты меня знаешь.
Все трое долго молчали. И деньги брать не хотели, и резко отказывать нельзя было.
— Надо кончать разговор, — сказал Илья, — Ивана мы все равно не переспорим, — и он первым поднялся из-за стола.
20
Наталья видела, как Иван зашел в ограду, но продолжала полоть гряду в маленьком огородчике. Иван сидел на крыльце и ждал, когда подойдет Наталья. По тому, как долго она не вылезала из огородчика, — когда уже не полола, а просто так сидела на низком колодезном срубе, — Иван понял: сестра не хочет с ним разговаривать. Он поднялся с крыльца и как ни в чем не бывало пошел в огородчик. По мере того, как Иван все ближе подходил к Наталье, она все больше поворачивалась в его сторону, и, когда он остановился в двух шагах от Натальи, она отвернулась и стала смотреть в колодец — как будто хотела броситься туда, только бы не видеть Ивана.
— Здравствуй, сестрица, — сказал Иван каким-то не своим голосом, как будто охрип, накричавшись в лесу, или был после болезни.
Наталья, съежившись, продолжала сидеть на краю колодца и не знала, что сказать Ивану.
— Братец нашелся, — едва выговорила она, поднимаясь со сруба. — Ты хуже чужого…
Наталья больше не могла говорить и чуть не бегом кинулась в избу. Иван пошел следом за нею, старательно, как у себя дома, закрывая за собой едва живые скособочившиеся воротца. Пока шел до крыльца, ему казалось: Наталья закроется и не пустит его.
Стоял на крыльце и, как ни хотел, а не мог обидеться на сестру: не легко ей живется с оравой детей… Пусть посердится…
Двери в сенях распахнулись, на секунду мелькнуло Натальино лицо, исчезло, из глубины сеней раздался ее недовольный, плачущий голос:
— Зайди. О чем ты опять думаешь?
Наталья подала ему стул. Он сел. Только сейчас она получше разглядела Ивана.
— Если б могла, пошла бы к Сухареву. Не знаешь, как такую ораву надеть и накормить, а ты такие подарки делаешь. Да я бы за тысячу молилась на тебя!
Наталья не смогла по-настоящему отругать Ивана и только испуганно взглядывала на него — пыталась понять: что с ним?
— Ишь обрадовались! Пойду в сельсовет завтра, я этого так не оставлю!
— В сельсовете все и решали, — как можно миролюбивее сказал Иван.
Наталья сделала резкое движение в сторону Ивана, как будто хотела его ударить.
— Кто тебя звал в сельсовет?
— Сам пошел, — спокойно ответил Иван. — Что я, не могу своими деньгами распорядиться? Ты, Наталья, так говоришь, как будто я твои деньги решил отдать.
— Дурень! Тебе два хороших слова сказали, ты уши и развесил…
Иван не согласен с Натальей: он нисколько не сомневался в том, что поумнел за последнее время.
— Государству надо помогать. Я хоть поздно, да понял, а вы никогда не поймете. Это я, Наталья, не про тебя, а про других говорю, кто хочет работать поменьше, а получать — побольше. Для страны такие люди, Наталья, самые вредные. Что я, неправду говорю?
Раньше Наталья не слышала от Ивана таких грамотных слов и сейчас никак не хотела ему верить. Другое дело, от лектора услышишь, от бригадира или от председателя, а от Ивана, которого пол-Шангины чужаком считали, только что в глаза стеснялись сказать… Это другие стеснялись, а Наталья сколько раз говорила, да что толку: с Ивана как с гуся вода! Отряхнется, и опять за свое…
— Свихнулся мужик, — отвернувшись от Ивана и как бы сообщая об этом еще кому-то, сказала Наталья. — Ты и молодой-то был… Говорят люди, что у Ивана с головой что-то неладно… Я не верила, а теперь вижу: так оно и есть. Подожди-и-и, — пригрозила Наталья, — еще не раз прибежишь, несмотря что мы такие бедные, а ты такой богач. Мы жили без твоих денег и проживем, а ты, как состаришься, вот я тогда на тебя посмотрю, как жить будешь, когда некому будет кусок хлеба подать.
— Не кипятись, Наталья… Считай, что их у меня не было. Ведешь себя так, будто эти десять тысяч у меня в кармане… Родная сестра, не разобравшись, кричит, Марья узнает — крик поднимет…
Наталья, вся скривившись, выслушала Ивана, как-то уж очень нервно оглянулась на ребятишек, заглядывавших в окна и что-то кричавших.
— Что ж мне, хвалить тебя? За что?
Она вскочила со стула и прогнала с завалинки ребятишек, корчивших рожи в окнах.
Из старой хозяйственной сумки Иван достал огромный кулек с конфетами и пряниками.
Десять тысяч и — кулек с конфетами и пряниками… Наталья не выдержала, схватила Ивановы гостинцы и выкинула в ведро.
— Кто же так делает? — Иван покачал головой. — Грех тебе будет, Наталья.
— Я не святая, греха не боюсь.
Ничего другого Иван не ждал от родни и все-таки обиделся: думал, что Наталья лучше будет с ним разговаривать.
— Что нос повесил?
Наталья хоть и сердилась на брата, а нашла в себе сил предложить ему пообедать.
— Нет, сестра, я у чужих пообедаю…
Правильное у Ивана было размышление: не ходи к родне, и все хорошо будет, и, наперекор себе, пошел… Не верил самому себе? А кому же тогда верить, — черту лысому?! Не один раз ловил себя на том, что правильно он подумал, так и надо делать, а сам возьмет и наоборот сделает… Как будто бес подтолкнет!
21
Иван нигде не появлялся. Ему казалось: вот-вот начнут заходить к нему и шангинские, и бабагаевские, и с других соседних деревень…
Но никого не было.
И он свыкся с мыслью, считал, что так и должно быть, что никого нет. И сам же объяснил, почему он так считает: не хотят хвалить Ивана.
Только он так в последние два дня стал думать, как остановилась возле его дома легковая машина.
«Председательская!» — узнал Иван, выйдя за ворота.
Шофер, Иванов родственник, остался сидеть за рулем — он и теперь не хотел признавать Ивана. На это Иван не обратил особого внимания: свои могут сердиться, на то они и свои… А вот где председатель колхоза, почему не видно в кабине Георгия Алексеевича? Много ли надо времени? Заглянул бы всего на одну минуту: поздоровался бы, и — не надо ни о чем говорить! — пожалуйста, до свидания! Это для чего Ивану нужно? Чтобы тот же Иванов родственник, который сидит сейчас в чужой машине, как в своей, — Димка, сукин сын, такой молодой, а занозистый, — чтоб он понимал, что к чему, и не думал, что все это для него бесплатно свалилось!
Племянник в долгу не оставался и про себя костерил дядьку за все сразу: за то, что у него много денег было, и за то, что денег теперь не будет…
На заднем сиденье, за спиной шофера, величественно возвышалась главный врач участковой больницы Анна Афанасьевна Дубровина. Несмотря на свой высокий рост и давным-давно пенсионный возраст, она довольно-таки ловко выбралась из машины и с какой-то для самой себя неожиданной стремительностью двинулась к Ивану, как будто хотела тут же спасти его от чего-то. Ему непонятно было, как главный врач только что помещалась в маленькой машине?! Из Дубровиной бы получилось три Ивана, не меньше! Он мигом убрал сутулость, подтянулся и, не теряя важности, с удовольствием смотрел на Анну Афанасьевну, с которой у него были хорошие отношения. Она не жалела для него самых новых и самых лучших лекарств! И вообще у Ивана доверие к степенным, крупным людям… Он понял: председателю некогда, и Анна Афанасьевна, по его просьбе, приехала узнать о здоровье Ивана. Что ж, это приятно…
— Иван Захарович, ставь самовар! — весело проговорила Дубровина.
— А у меня все готово! — по возможности тоже весело ответил Иван.
Он редко когда пил чай из самовара — возни много! — а сегодня как будто чувствовал — разжег самовар! Такие совпадения у него бывали.
— Ждал меня? — спросила Дубровина.
Иван опять ссутулился, как будто вспомнил что-то неприятное, и, выжидательно взглядывая на Дубровину, ответил глуховатым голосом:
— По правде сказать, подружка, каждый день на дорогу смотрел…
Никакой шутки в Ивановых словах не было, а главный врач засмеялась.
Ему почему-то легко было разговаривать с Дубровиной: от одного разговора с ней Иван делался здоровее! Сколько раз замечал: дома и в дороге забивает кашель, в правом боку покалывает, но только переступит порог кабинета Дубровиной, кашель и покалыванье исчезают! Отойдет чуть подальше от больницы, — все начинается снова!
Иванов племянник, недовольный тем, что главный врач разговаривает с Иваном как с нормальным человеком, уехал на берег Индона. Анне Афанасьевне он неинтересен: сейчас не уважает старших, а что дальше с него будет? Не забыть сказать на обратном пути, что так себя молодые люди не ведут: даже не поздоровался с дядей… Чем Иван Захарович плох: трудолюбивый, умный, вежливый, лишнего никому ничего не скажет… И посмеется, когда надо… Не пьет…
За чаем Дубровина сказала:
— Напугал ты, Иван Захарович, своим отсутствием!
Иван недоверчиво покосился на Дубровину.
— Кого это я, интересно, напугал? Нет меня и нет, — пора бы и привыкнуть!
Анна Афанасьевна отклонилась от стола, чтобы не видеть свое изображение в самоваре, о чем-то вздохнула.
— Иван Захарович, я бы от страху убежала с заимки… В какое окно ни посмотришь, везде — лес… На каждом дереве вороны сидят, каркают… Зимой, ты сам рассказывал, волки к дому подходят… Мне кажется, Иван Захарович, вот сейчас они в сенях стоят…
— Красивое место не бывает страшным, — сказал Иван, подсыпая в тарелку самой спелой брусники, только вчера принесенной из лесу.
— Красиво там, где люди, — сказала Анна Афанасьевна.
Она ела бруснику без сахара, настолько ягоды были сладкие, и старалась не пропустить ни одного Иванова слова, — как будто каждое его слово так же, как ягоды, неторопливо пробовала на вкус.
— Да не присматривайтесь вы ко мне, Анна Афанасьевна, здоров я!
— Вижу, что здоров…
— А в чем тогда дело, Анна Афанасьевна?
— Люди сомневаются, — положив ложечку на стол, сказала Дубровина.
Иван коротко махнул рукой и также коротко и энергично проговорил:
— Людям не угодишь.
— Иван Захарович, неужели и в самом деле не жалко денег? Неужели душа не болит и сердце не ноет?
— Я же сказал, нисколько, — и добавил: — Марья с ягод идет. — В его голосе прозвучала едва уловимая тревога. Анна Афанасьевна — смелейшая женщина в Бабагае — и то немного испугалась, когда Иван сообщил об этом.
— Где она? — спросила Дубровина, поднимаясь из-за стола. — Хочу посмотреть на Марью.
— А зачем на нее смотреть? Ходит, как все люди, на двух ногах.
Наверное, в десятый раз Анна Афанасьевна оглядела бедную обстановку в избе, подивилась, как так можно жить в наше время — с деревянными гвоздями в стенах! — и сказала, оглядываясь на окно, выходившее на берег Индона:
— Честное слово, Иван Захарович, как посмотрю на тебя, о Марье подумаю, и меня от чего-то страх берет… Особенно когда в избу зайду…
— Это, Анна Афанасьевна, с непривычки. Мне в чужих домах тоже не по себе делается…
Иван сидел с хмурым лицом, чуть-чуть согнувшись, и смотрел только перед собой; может, обиделся на Анну Афанасьевну, что плохо про его дом сказала, а может, на себя за что-нибудь? Ивана сразу не разгадаешь…
— Мне все время кажется, Иван Захарович, что вы тут не в свое удовольствие живете, не красотой любуетесь, а добровольную каторгу в лесу отбываете… Как будто провинились и сами не знаете перед кем?! Не обижайся, Иван Захарович, я ведь правильно сказала.
Иван медленно отклонился от стола и, не меняя выражения лица, ответил:
— Я не обижаюсь…
Анна Афанасьевна стала смотреть в окно, но нигде Марьи не видела.
— Да где она, Иван Захарович?
Иван засмеялся.
— А ты ее не увидишь!
— Почему?
— Она по краю леса идет — за деревьями! Там по болотцу — дорожка.
— Да зачем ей идти по воде, когда на поляне сухо и дорожек сколько хочешь?!
— Такой характер, — как-то уж очень загадочно ответил Иван, оставаясь сидеть за столом.
Анна Афанасьевна стала ждать, когда Марья перед домом выйдет на поляну. Но сколько она ни стояла у окна, Марья ни разу так и не промелькнула за деревьями. И на поляне не появлялась.
— Она что, людей боится? — не отходя от окна, спросила Дубровина.
Иван не торопясь вылез из-за стола, походил по избе, как будто что-то искал и не мог найти, сел около плиты на широкую сосновую чурку и с какой-то ненужной веселостью сказал:
— Марья не хочет видеть ни своих, ни чужих! Издалека еще посмотрит, когда идет кто-то или едет… Она, считай, всех видит, а ее — никто. Что правда, то правда, прятаться она умеет: шагнет за куст или за дерево, присядет в траве или за колодиной, — и ни за что не найдешь! В лесу будешь звать — не отзовется!
— Что ей люди плохого сделали? Вот ты мне объясни, Иван Захарович?
Иван подумал с минуту и ответил:
— Этого и сама Марья не знает…
— Спрашивал у нее?
— А как же! Из-за этого и ругаемся… Она и в молодости была неразговорчивой, — как будто защищая Марью, сказал Иван, — а за последние двадцать лет совсем отвыкла от людей! Марье интересней слушать не нас с тобой, Анна Афанасьевна, а как птицы поют, как лес шумит… Я же говорю: ей в лесу хорошо, а мне — с людьми надо побыть.
Иван знал: Марья давно пришла, сидит около бани и пригоршнями перебирает ягоды. Если ей покажется, что люди не скоро уедут, она еще раз за ягодами сходит или в Семеновом сосняке рыжиков насобирает.
Корзина с брусникой стояла на траве около бани, а Марьи нигде не было.
Иван залез на широкий столб от забора и стал смотреть в лес, в котором, сделав полукруг, исчезала дорога в Шангину.
Анна Афанасьевна не представляла, как в таком густом сосняке можно увидеть Марью?
От ворот она прошла немного по дороге, густо заросшей муравой и бурьяном; старые колеи едва угадывались в траве… Лесные цветы росли сразу же за оградой, здесь их никто не рвал. День солнечный, изредка подует легкий ветерок, и тогда протяжный шум леса смешивается с настойчивым криком воронья, недовольного появлением людей, с одиноким и пронзительным криком ястреба. Слышатся еще какие-то неразличимые голоса, — может, из деревни, а может, из глубины леса… Отражение на той стороне в Индоне крутого берега с лесом, в несколько этажей поваленном на Марьиных буграх, кажется ей бездонной пропастью, из которой Ивану с Марьей никогда не выбраться…
Рассказы
Три дня в деревне
По деревенской дороге идут двое.
Дорога из тропинок взбирается на гору, падает вниз, и деревня Артуха, куда идут двое, только покажется крышами домов и снова исчезает.
Перед деревней увидели старую, на изгнивших столбах арку, на которой болтались остатки еловых веток, кусочек когда-то выкрашенной в красный цвет рамки удерживался на проволоке; вверху одного столба тесовые доски оборвались, в пустых ходах арки воробьи свили себе гнезда.
Из-за реки по бревенчатому настилу двигалось стадо коров, позади, в лесу, слышались неистовые крики, частые и резкие удары бича, казалось: пастухи кричат и хлопают бичами на одном месте. Наконец стадо вышло из лесу, подняло пыль, рев, деревня ожила и задвигалась. На улицу стали выбегать бабы и девки загонять коров.
Разноголосый шум, скрипы ворот, удары калиток смолкли, запахло парным молоком и пережеванной травой, сильней задымили летние печки и огни, разложенные на земле в оградах и у колодцев.
Уже недолго оставалось до темноты, и двое поспешили. Спустились в низину, разделявшую деревню. Здесь даже в сильную жару грязь не высыхала, и пройти можно было по прерывистой дорожке, прижимаясь к изгороди. Они перешли, переглянулись и рассмеялись, отчего — неизвестно. Может, оттого, что их коснулись волны теплого, но уже осеннего воздуха, чистый закат, голоса на реке…
Мягко ударяются в траву сосновые чурки, катятся на дорогу. Женщина и мальчик бросают пилить, приглядываются к двум незнакомым. Когда один из них — тот, что немного постарше и посветлее, спросил, где живет дядя Константин, женщина подошла ближе и сказала:
— А вы пришли! Дом с баней… Вы родня Константину?
Она вытерла ладонью нос, лоб и щеки, прибрала волосы, выбившиеся из-под белого тоненького платочка, и стала спрашивать дальше:
— Сашка, что ли… Я и подумала. А меня забыл?
— Тетка Марфа…
— Марфа, Марфа, — засмеялась она. — Помнишь. Ну иди, Константин в доме.
Дядя Константин, огромного роста, с крупными правильными чертами лица, с белыми подстриженными усами, в клетчатой, не по летам яркой рубашке, стоял посреди двора. Он бросил на груду свежих березовых щепок обрывок веревки, улыбнулся и пошел навстречу молодым людям.
— Здравствуй, племянник! Не слышно давно — забыл старика. Вдвоем учитесь? — и он протянул товарищу Александра широкую красную руку с плохо гнущимися пальцами. — На сколько приехали?
— Дня на три.
— Что так?
— Скоро занятия в институте.
— Да, у вас с сентября начинается… — помог оправдаться дядя племяннику. — Ну, в избу пошли, там поговорим. Где ж я выпить найду, — ломал голову Константин, закрывая за всеми дверь. — Уборочная — запретили. Спросите у Зойки: вы в гостях, вам она скорее продаст.
На вымытом, еще не просохшем крыльце магазина сидели несколько мужиков и вспоминали, как прошел у них день, говорили о незаконченном дне так, будто его уже не было, будто начался уже другой день…
Девушка, на вид ей можно было дать лет двадцать, домывала крыльцо. Она не смутилась, когда городские остановились, разглядывая ее, не сделала вид, что надо передохнуть и тем временем тоже оглядеть новых людей, Александр хотел заговорить с ней, — она ему показалась знакомой, — но девушка не намерена была вступать в переговоры, домыла крыльцо и ушла.
Зойка, сорокалетняя женщина, с черно-жгучими спрашивающими глазами. Она только чуть-чуть располнела за эти годы, одевается как на праздник, больше тридцати ей не дашь. Александра с Валерием встречает, вся зардевшись, жмет им руки через прилавок, спрашивает:
— Когда приехали?
Наклонившись полной грудью к прилавку, немного простуженным приятным голосом сказала:
— Я знаю, зачем пришли. Не могли раньше, — только что последнюю отдала.
Она собралась домой — жила рядом, но теперь не торопилась. Зойке все интересно: что они будут говорить, зачем приехали, надолго ли, где живут сейчас. Зойка раньше знала, конечно, но теперь — забыла.
Александр ответил на все Зойкины вопросы, оглядел магазин и спросил:
— Чья это, мы шли, крыльцо мыла?
Зойка, поочередно разглядывая молодых людей, как будто оценивая, который из них подойдет в зятья, все тем же приятным голосом сказала:
— Тася — сестры моей дочка! Забыл? Ну, конечно, маленькая была.
— Сколько ей?
— Семнадцатый.
— Это около их дома три кедра?
— У них.
— Кедры-то растут?
— Живые.
— Тася что делает? Учится?
— Перед вами из города приехала — вся в слезах. Тройку или двойку получила — не говорит.
— Куда поступала?
— В медицинский.
— Туда тяжело поступать, — посочувствовал Александр своей землячке.
Зойка кивнула, соглашаясь, и тоже решила сказать Александру что-нибудь приятное.
— Маленький ты так был похож на дядю Константина! Все удивлялись.
Уходить ей не хотелось, она бы еще поговорила, но языки в деревне длинные, припишут, чего не было. Она закрыла магазин и на здешних мужиков, продолжавших сидеть на чистых ступеньках и спокойно о чем-то рассуждавших, взглянула как на пустое место.
Константин переобулся в праздничные сапоги, ходил от стола к печи и обратно, звенел чугунами и чашками — жена Дарья уехала в гости к старшей дочери, и подавать к столу было некому. Казалось: вот-вот Константин начнет переворачивать, опрокидывать все, что заденет, из-за своего огромного роста и медленных движений. Он огорчился, что так подвела Зойка, хотел идти искать по деревне самогонки или бражки, и его едва отговорили.
Александр разглядывал фотографии над столом в больших темно-красных рамках. Среди многочисленных родственников увидел и свою фотографию. Там ему двенадцать лет. Он уже знал тогда, что скоро расстанется с теми, с кем рос, кого любил, — та белокурая большеглазая девочка, она жила в доме напротив и по утрам, когда он еще спал, поливала в огороде большой кружкой из ведра и пела. Тогда он быстро вылезал из-под одеяла, оставляя младших братьев, и слушал ее, смотрел за ней в широкую щель меж досок…
Он переехал в город с родными, а она — далеко в тайгу, к горам. Говорят, замужем, двое детей…
— Давно ли все было, — проговорил Константин, и лицо его осветилось задумчивой улыбкой. — Женился? — спросил он у Александра.
— Нет.
Константин ничего не сказал, только кивнул, соглашаясь с ответом.
Поужинали. Поговорили за столом.
Вышли за ворота. Сидели на низенькой скамейке, смотрели на дома, на дорогу, потерявшуюся в лесу, на большой закат. Нигде никого не слышно.
Константин громко зевает, сидит еще две-три минуты и говорит:
— Время отдыхать. А вы не торопитесь: нагуляетесь — придете, я двери не закрываю.
Константиново окно загорается и скоро гаснет, тень от дома длиннеет, переходит за дорогу. Луна желтела за деревьями так низко, что за нее, казалось, можно было взяться руками.
Утром Константин принес из школьного колодца два ведра воды, поставил в сенях. На молодых людей, спавших под широким ватным одеялом, посмотрел, словно никогда ничего о них не знал.
Завтракали поздно. Константин сказал, что выпросил у бригадира коня, — под вечер можно съездить за сеном к озеру, сказал, что задержалась в гостях Дарья, что год не грибной, не ягодный, — лежите себе на солнце, читайте, рвите с гряды, что понравится.
Они разделись до трусов, взяли тонкое одеяло и пошли к колодцу. Расстелили одеяло на траве, легли спинами к солнцу и сразу же, как по команде, сели: не могли привыкнуть, что много солнца, к прохладной черно-зеленой траве, усыпляющему воздуху… Поднялись, походили по горячей земле между гряд, до головокружения смотрели, как над камышовым болотом старательно летал ястреб.
Они услышали женский окрик, не поняли — откуда, но тут же, через просветы в тыну, увидели на соседнем огороде женщину, державшую в подоле свекольные и капустные листья. Она издали поздоровалась, сказала, чтоб пришли в гости, и скрылась.
— Крестная, — сказал Александр. — В доме Константина у всех одна крестная. Ариной зовут.
Валерий хотел проследить, как она будет идти, мелькая между тынинами, но не видел, и удивился, куда же девалась Арина.
— Думаешь, она ушла, — засмеялся Александр. — Смотри, только незаметно, а то спугнешь, она смотрит в щелки между тынинами.
— Зачем?
— Просто так. Интересно ей.
Солнце зашло за тучи, и они пошли в дом.
В сенях, куда свет проникал только в открытую дверь да узким лучом падал через маленькое, в ладонь, незастекленное оконце, они увидели на высокой полке старые зеленые тетради начальных классов…
— Неужели в десять лет бывает такой красивый почерк? Как ее зовут?
— Галиной. Бывает же так: глаза синие, длинные, белое лицо, а волосы черные, как у цыганки, густые, она плакала, когда их расчесывала… Любила кататься на лодке: сядет, держится за края лодки, смотрит на воду… В девчонок из-за кустов бросают малыши грязью, а ее не трогают…
Валерий с тетрадями стоял перед фотографией Галины.
— Она училась дальше?
— Вышла замуж за парня из своей же деревни. Ему все время кажется, что Галина от него сбежит.
— Парень-то хороший?
— Уж что его отличало, так это лихо ездил на лошадях. Уходил в армию, подарил Галине свою фотографию с надписью: «Кого люблю, тому дарю на вечную память». Хранила ее как самый заветный клад. Столько слез, шуму было, если фотография терялась.
— Где она сейчас?
— На востоке. Она сказала своему мужу: «Увези меня как можно дальше от дома, тогда не убегу».
Вернулся Константин.
— Ну, едем сегодня к озеру? Я думал на завтра отложить — дождя бы не было. К ночи должен пролить.
Он принес из сеней новую ременную узду в медных крестиках и кружочках, с потускневшими удилами, взглянул на одного, на другого — и почувствовал себя свободней, ему даже показалось: не такой уж и городской Александр, и этот, что с ним, переоденутся за сеном — и не отличишь от сына Федора. Федор на солнце и ветрах прокалился, в плечах и ногах крепкий: заносит по высоченной крутой лестнице зараз по два мешка пшеницы. Вот только учиться не захотел… Все дальше в тайгу переселяется… На своего деда похож: тот на деревню больше из лесу смотрел…
Ехали напрямки через хутор. Колеи пропадали в глубокой, истомленной солнцем траве. И трава, и лесные цветы, примятые колесами, выпрямлялись снова, и только что сделанные две полоски следов были едва приметны и на глазах исчезали. Пятикилометровое озеро показалось за деревьями длинной густо-синей чертой. Издали похоже, что Константиново сено стоит на воде.
Константин пустил жеребца на прибрежную траву. Жеребец медленно вошел передними ногами в мелкую воду, ткнул морду в песок, резко взметнул голову, зашел глубже, коснулся вытянутыми губами воды, пить не стал.
Константин сидел под копной на доске, выловленной из озера, и дивился несерьезности своих помощников: институт кончают, учителями скоро будут, а воюют со стрекозами, как дети!
Впервые в жизни Александр и Валерий видели столько стрекоз! Беспечно, стаями, проносились они, блестя разноцветными крыльями, — длинные косые столбы водяных брызг не пугали стрекоз.
Молодые люди перестали бить длинными палками по воде, вернулись к копне.
Константин посмеялся над ними:
— Ну что, победили стрекозы! Они как летали, так и летают!
Столкнули в фургон верхушку огромной копны-красавицы. За лето Константин дважды приходил ее подвершивать. С веселыми выкриками, с шутками ребята подавали Константину то большие, то маленькие навильники, и он с одинаковой легкостью, не боясь, что наткнется на железные вилы, схватывал и укладывал шумевшее сено по углам, в середину, утаптывал его, проходя по самому краю и каким-то чудом не падая с высокого воза. Не хватало легких, чтобы надышаться от раскрытого сена…
Александр с Валерием были огорчены, что такая работа скоро кончилась.
Константин попросил кинуть ему вожжи, жеребец стронул воз с места, и молодые люди, приотстав, — им никак не хотелось уезжать с озера, — зашагали по светло-зеленой, недавно подросшей траве.
У ворот дома, закрываясь рукой от лучей низкого солнца, стояла нарядная Дарья. Она узнала, что с возом сена едут ее люди, и прошла немного навстречу. Константин сидел на возу спиной к лошади, смотрел на уходившую из-под воза дорогу. Перед домом, не оглядываясь, потянул к себе вожжи, жеребец пошел медленнее, Константин спрыгнул с воза на дорогу, отряхнулся от приставшего к одежде сена. Щурясь от солнца, Дарья подала руку Константину, — все-таки четыре дня не виделись, — и, переступая с ноги на ногу, ждала двух. Те поняли, что у ворот ждет Дарья, и пошли быстрее. Дарья поздоровалась с племянником за руку и трижды поцеловала его. Потом к ней подошел и первый протянул руку Валерий.
Все изменилось с приездом Дарьи. Она рассказывала, расспрашивала и успевала все делать. Узнали от Дарьи, что произошло в Артухе за последнее время. Обычные деревенские новости; сколько обошелся трудодень, что бывает в сельмаге, кто женился, у кого сколько детей, кто умер… Об умерших она говорила так, будто те еще жили. Рассказала, как умерла бабушка. Последние полгода жаловалась, что ничего не может делать, плохо слышит, в глазах метляки летают… Сильно печалилась, что помрет зимой, — ямку трудно копать.
Вечером Дарья пошла звать гостей.
Гулянки особенной не затевалось, позвала родню и самых близких знакомых. Причины были, чтобы собраться, выпить, поговорить: приехал родственник с другом, перевезли сено, купили на озере карасей…
Арина приходила три раза. Она принесла бидончик бражки, большую миску малосольных огурцов и груздей.
— Пойду воды наношу. Избу закрою, а то комары налетят, — озабоченно сказала она.
Александр едва уговорил ее присесть на минуту.
— Ну, идите, — разрешила она. — А я отдохну. Целый день на ногах.
Арина в окно видела, как они прыгали с тына в картофельную ботву.
— Вы ж ба кругом — тын завалите! Все учатся? — спросила она у Константина.
Он молча и одобрительно кивнул головой.
Гостей собралось немного.
— Тася что не пришла? — спросила Дарья.
— Перед зеркалом у нас смотрится, — ответила Зойка. — Вон каких два жениха!
Дарья как будто не расслышала последних Зойкиных слов и попросила Александра:
— Сбегайте за Тасей.
По дороге к Зойкиному дому Александр спросил своего городского друга:
— Как ты думаешь, с кем она сегодня останется, — с тобой или со мной?
— С тобой.
— Откуда ты знаешь?
— Вас что-то объединяет… Хотя бы то, что ты, как и Тася, рос в деревне. Ты знал ее ребенком… Вам будет хорошо, если вы будете даже молчать.
Они шли по длинному узкому заулку, образовавшемуся между двумя стенами соседских сараев. Здесь было прохладнее, чуть собьешься — лица и рук касаются согнутые стебли крапивы и ветви тонких черемух. Пахло смородиной. В конце заулка в стене маленькая калитка с железным кольцом. Открыли, прошли под сараем. Два дома в ограде стояли плотно друг к другу Александр сказал с сожалением:
— В этом никто не живет… Стариков нет, Зойке с ребятишками хватает места в новом доме.
Когда они вернулись с Тасей, стол в большой комнате был отодвинут от стены и уставлен закуской и стаканами.
— Садитесь, где кому нравится, — сказал Константин, и сразу стало шумно.
Дарья сидела напротив Константина и о чем-то говорила с Василисой, державшейся прямо и неподвижно. Высоко поднимая брови, она царственно взглядывала на Дарью. Василисин сын женат на Галине, и обе женщины в душе ревниво относятся к каждому слову, сказанному об их детях, хотя и беседуют, посмотришь со стороны, мирно и равнодушно.
Пока Дарья говорила с Василисой, распоряжалась всем крестная: наливала в стаканы, придвигала ближе тарелки, заставляла пить до дна.
Зойка первая вылезла из-за стола, легким прикосновением ладони поправила юбку, повернулась так, что юбка, казалось, вот-вот лопнет. Она еще раз мельком оглядела себя, осталась довольна и сказала:
— А я еще выйду замуж…
Женщины похвалили Зойку, — понравилось, что она никогда не унывает.
А Зойка отодвинула цветную оконную штору, и они с Тасей начали о чем-то шептаться. Потом, громко засмеявшись, стали смотреть в окно. Тася удивилась, что березы отодвинулись в темноте от окна. Зойка не поверила.
— Ты не пила, а мерещится тебе…
Она вытерла пальцами запотевшее стекло, внимательно посмотрела и сказала:
— Стоят на том же месте.
Уже все было переговорено о деревне, о городе, гости стали прощаться.
Белеет из темноты дорога, пахнет деревьями и травами, на западе надолго вспыхивает над лесом беззвучная молния.
Около своего дома Зойка, обхватив ладонями плечи, скользнув по белевшим в темноте голым рукам, сжалась от холода, выдохнула:
— Пойду скорее засну…
Пробежала темный заулок, открывая калитку, отозвалась: какие-то ее слова прозвучали громко и странно, как из глубокого колодца.
Втроем шли по деревне. Молния осветила край неба, лес за рекой и болото с копнами. Тася смотрела в ту сторону, где собирался дождь. До Константина оставалось пройти два дома.
— Я едва держусь на ногах, — придумывал Валерий. — Я уже не сплю два года…
Он попрощался с Тасей и свернул к Константинову дому, в темноте высокому и огромному. В одном окне штора сдвинута, виден край стола, разросшиеся кусты цветов… За столом все так же царственно сидит Василиса. Ей о чем-то говорит Константин, а Дарья с Ариной убирают посуду.
Валерий стоял в ограде и думал:
«А ведь как хорошо: ночь, луна, река, и познакомились бы… Нет, она бы не пошла со мной, потащила бы Александра… Для Таси я все-таки чужой…»
Оставшись с Александром, Тася вела себя по-другому: она перестала казаться взрослой, не старалась говорить умнее, чаще смеялась над собой и над Александром, срывала на ходу то ветку бурьяна, то полыни… обожглась о крапиву, вскрикнула, со стоном сказала:
— Ужалилась… Ой, умираю…
— Какую руку?
— Эту…
Она протянула ему правую руку с беспомощно расставленными пальцами.
— Хочешь, я возьмусь за крапиву?
— Зачем, — говорила она, смеясь и плача. — Пошли к мосту, к воде. — Уже не больно. Я выносливая. Если бы днем, ничего, а ночью, неожиданно…
Зашли на мост. Наклонились к перилам, хотели разглядеть что-нибудь в белом тумане… Слышнее стали крики ночных птиц. Исчезал и снова появлялся пугающий стрекот барашка.
— Дождя просит, — сказала Тася.
Вспомнил, что когда-то недалеко от моста росла белые и желтые кувшинки, и он доплывал до них — там было мелко, можно постоять и отдохнуть на крепко сплетенных корнях водяных растений… Нащупывал поближе к дну стебель и срывал… Плыл к берегу, держа кувшинки в вытянутой руке. Длинные, темно-зеленые стебли, пока он плыл, обвивали, холодили его, мешали плыть. На берегу отдавал их девчонкам, — те делали из стеблей бусы.
— Я помню, росли кувшинки…
— Мало осталось: появятся — их срывают.
— Достать тебе?
Спустился к воде и стал раздеваться.
— Оденься! Под мостом лодка!
Она перелезла через перила, удерживаясь за них, неловко прошла по коротко выступавшему над водой настилу. Он тоже снизу прошел ей навстречу, отклонился от моста и увидел ее крепкие, выше колен незагоревшие ноги.
— Упадешь! — засмеялся он, готовый поймать ее, хотя сам с трудом стоял в ботинках на скользких, едва скрытых в воде бревнах.
— Я спрыгну в лодку с моста! Только держи хорошо, не качай!
Она примерилась и спрыгнула так, чтобы коснуться ногами дна лодки рядом с Александром: если она поскользнется, он поймает ее.
Доплыли до того места, где росли кувшинки. Александр нагнулся, хотел сорвать и удивился: цветок крепко держится!
«Надо с длинным стеблем», — подумал он, встал коленями на мокрое дно лодки, перегнулся через борт, стебель сочно щелкнул и оторвался.
— Зря сорвал… Это желтая кувшинка…
Он подал ей новую.
— Не надо желтых! — по-детски рассердилась она. — Желтые — измена.
Он долго искал белый цветок.
— Мы еще в лесу не были, — сказала она, вылезая из лодки на мост. Она говорила, он держал ее, подсаживая к перилам, и слышал, и даже руками чувствовал, как рождался в ней голос и звучал в ее теле.
Шли по лесу вдоль болота.
Он слушал ее, улыбался ей, взял ее за руку.
— Боже мой, — сказал он, — это же петухи кричат…
— Вторые петухи, — уточнила Тася.
— Я ведь знал все это…
— Что — знал?
— Как петухи кричат…
— Глупости, — сказала она.
— Да, да, глупости, — ответил он самому себе и крепче сжал ее руку.
— Смешные вы, — проговорила она счастливым голосом, — что ты, что твой Валерий.
— Может быть, может быть…
— Не может быть, а точно.
Он пришел в восторг от ее слов, хотел засмеяться и не мог. Отпустил ее руку, шагнул к деревне и снова стал прислушиваться к пению петухов.
— Сколько же я не был здесь…
— Дорогу не забудешь, — приедешь. У нас зимой тоже хорошо бывает.
— И зимой…
— Что — зимой? — снова не поняла она.
Свернули с дороги и шли среди редких деревьев по сухой и скользкой траве.
На третий день Александр с Валерием собрались с утра в лес.
Дарья принесла из-под навеса тонкое белое ведро.
— Может, где в ягоды зайдете…
Это была та же дорога, по которой ходили Александр с Тасей ночью. Солнце поднялось к одиннадцати, но в тени и в низинах не сошла роса, сухой воздух мешался с влажным, пахло болотной сыростью, сосновой корой, дымным светом падали на деревья дрожащие солнечные полосы…
— Подожди, — сказал Александр. — Тася где-то здесь потеряла янтарного жука.
Ходил около дороги, искал…
Но разве найдешь в лесу, в такой траве…
Из леса пришли перед вечером. Дарье, потом Константину показали, нагибая, ведро: на дне на сковородку грибов с присохшими сухими листьями, немного скрытых брусникой.
Сели за стол. Константин с Дарьей выпили с ними по две рюмки вина.
— Обедайте, — сказала Дарья, — я пойду телят пригоню. А то опять останутся ночевать у Пушковых.
За этим же столом, отметил Александр, любил сидеть Федя. Запомнилось: много лет назад видел на столе разбросанный букет колокольчиков… Александр гостил у дяди Константина день-два, потом уходил домой. Галя с Федей провожали его до нестрашного места. Дальше он шел один, кричал на птиц, вылетавших слишком неожиданно, пугавших его, гонялся за бурундуком… Возвращался назад, — думал, что заблудился, — узнавал дорогу и снова шел домой…
Появлялся в гостях Федя.
Врезалось в память, как он заходит в ограду, открывает двери и стоит на пороге с букетиком цветов, красный от смущения и широкоплечий…
Вечером никуда не пошли.
Валерий чаще вспоминал о городе. Александр больше молчал. Потом поднялся с постели и, ничего не говоря, стал одеваться. Ходил по ограде и спрашивал себя:
«Я как будто забыл и не могу вспомнить что-то… Со мной такого никогда не было… такое чувство, будто что-то потерял… Вчера ночью чуть не разревелся…»
Потом он сидел на скамейке за воротами и смотрел на крупные звезды над лесом. Когда-то в этом лесу они играли с Федей… Они знали, что там живет огромный зверь, который разрешал детям кричать на него, бросать в него палками и засохшими сучьями… Он сторожил для них цветы… Показывал грибы и самые спелые ягоды…
Скрипнули ворота, к скамейке подошел Валерий, постоял и сел рядом с Александром. Он что-то сказал Александру… Потом Александр что-то сказал Валерию… Слова их были сказаны просто так, в пространство, можно было не отвечать…
Утром они уезжали на попутной машине.
Константин с Дарьей стояли у ворот, и только теперь было видно, какие они старые и одинокие.
Над обрывом
Я появился на Ольхоне в конце лета не потому, что в это время здесь теплее, — в августе жене дали отпуск, а у моей тещи не болело сердце, и в маленьком самолете ей было так же хорошо, как омулю в Байкале.
Остров Ольхон покорил меня с самолета, и я, еще не приземлившись, ругнул себя, что всегда чуть не самым последним появляюсь в таких сказочных краях.
Похожих на меня, — вечно везде опаздывающих, а потом стремящихся увидеть все сразу и упускающих самое интересное, — в городе остались единицы, а может быть, один я. Все, кого ни послушаешь, везде перебывали по десять раз, а я никак дальше Тайшета не могу проехать. И дело не в деньгах, которых всегда не хватало, — ездили же другие! А мне и не надо было никуда ездить: я даже на месяц не хотел расстаться с Иркутском! Какое там на месяц — на неделю!
В Ольхонском аэропорту я решил не торопиться, чтобы хорошенько ко всему приглядеться, и через полчаса обнаружил, что все как-то умудрились на чем-то уехать в поселок Хужир, и жена с тещей взглядами, едва заметно, укоряли меня: «Ну вот опять мы последние…» Я предпринимал меры, чтобы уехать в Хужир и до вечера найти там квартиру или хотя бы устроиться на ночлег, но мои женщины не сомневались, что до самой темноты, а может, и до утра им придется сидеть под одной из сосен возле деревянного здания порта, которое к вечеру неизменно закрывалось.
К нам подошел невысокий, сильно помятый мужичонка, один из тех, которые вечно бывают с похмелья, и сказал, что довезет нас на мотоцикле. Казалось, что он следил за нами из-за деревьев, поухмылялся вволю над моей беспомощностью, подождал, когда отношения между мной и женщинами обострятся, и появился перед нами для того, чтобы выручить и меня, и женщин… От всей его фигуры, от лица, которое и бритое казалось небритым, от одежды — добротной, новой, видимо в первый же день выпачканной нефтью и мазутом, веяло такой бескорыстностью, что не поехать с ним было невозможно.
Когда мы, боясь, что кто-нибудь опять нас обгонит, ринулись к видавшему виды «Уралу», мужичонка, не такой и старый, как это показалось вначале, сделал другое предложение: мы можем никуда не ездить и жить у него в хорошем сарае, в котором есть все — кровати, электросвет, электроплитка и еще какие-то удобства.
Мы отказались.
Он нисколько не огорчился и, равнодушный ко всему на свете, все прибавлял и прибавлял скорость. Пять километров преодолевали не меньше часу: мы тонули в песках, которые нам все равно нравились, теща наравне с нами иногда метров по двести помогала подталкивать коляску, в которой лежали наши рюкзаки и мешок с постелью. Мужичонка нисколько не жалел мотоцикла: мотор раскалился и, казалось, вот-вот разлетится вдребезги.
С квартирой нам повезло: дом был большой, с новенькой баней, с широкой вымощенной оградой, и хозяин — единственный житель этого дома, 82-летний Михаил Васильевич Васьков, оказался прекрасным человеком, но в доме не было форточек, и по ночам, на берегу Байкала, мы задыхались без воздуха. Двери на ночь открывать не разрешалось: старик боялся простудиться. Сначала он пустил нас только переночевать, но за два часа, пока мы сидели и беседовали с ним в столярной мастерской, которую мы и выпрашивали под жилье (это был маленький домик с плитой и форточкой), мои женщины Михаилу Васильевичу понравились, и он, наперекор старшей дочери, жившей неподалеку и каждый день навещавшей его, пустил нас на квартиру.
Дней через пять я заикнулся о смене квартиры, потому что каждое утро вставал с головной болью. Женщины встретили мое предложение с возмущением: они потратили столько усилий, чтобы понравиться старику, тот из-за нас поссорился с дочерью, выпил с нами водки и проговорил часов до двух ночи… По рассуждению моих женщин выходило, что мы и старика подведем, если перебежим на другую квартиру, и сами будем выглядеть не очень-то красиво. Они также не хотели расставаться с Мохтей — добрейшим рыжим псом, который хоть и неловко, но достаточно высоко подпрыгивал на привязи, напоминая своими сосредоточенными плавными прыжками огромную белку в колесе. Его и шкура по цвету напоминала беличью… Дочь старика откармливала его на унты. Мохтя, кажется, знал об этом и ел плохо. Он всегда восторженно встречал моих женщин: они любили играть с ним, хотели как-нибудь спасти его, и Мохтя кидался к ним изо всей силы; короткая цепь, привязанная к бане, возвращала его на место.
За домом Васьковых, через дорогу, сверкает белизной новая изгородь, защищающая огромное поле темно-зеленого молодого овса. Около изгороди в любое время можно увидеть коров, мечтательно разглядывающих поверх изгороди или в ее просветы сочную отаву, и только одна или две, чаще всего одной и той же масти — черно-пестрая и бурая, — безмятежно пасутся в этом зеленом море. Поле с трех сторон окружает старый сосновый лес с деревьями, разросшимися как им хочется — так много для них песка и солнца! Кажется: нет прекраснее уголка на земле, чем этот остров с пасущимися коровами и козами, и лениво лежащими, где им вздумается, собаками! И в самом деле, не было бы счастливее уголка, если бы поминутно не сновали по песчаным дорогам и тропинкам, по лугу и лесу всех мастей мотоциклы. На мотоциклах здесь ездят все — дети, старики, женщины.
Все свободное время я старался проводить в лесу или на берегу Байкала. А в общем-то, мне удавалось совместить и то и другое: в одном месте недалеко от поселка лес подходил к самому берегу, только надо было пройти маленькую самую настоящую пустыню — с дюнами и редко виднеющимися уродливыми деревьями, лишь отдаленно напоминающими сосну или лиственницу. Я подолгу задерживался около иссохших, окаменевших, но все еще живых деревьев…
Иногда мне казалось, что на сказочный остров медленно надвигается пустыня… И тогда я спешил к морю, чтобы увидеть не ярко-желтые, слепящие глаза застывшие волны, а живые — голубовато-зеленые, с шумом выбрасывающие на берег разноцветные водоросли, мертвую рыбу, бревна из разбитых плотов, обломки каких-нибудь строений и лодок…
По утрам, вместо физзарядки, я колол старику дрова на зиму и уходил к берегу на час или на два позже моих женщин.
Однажды, разыскивая их, я спускался с косогора, подгоняемый первыми крупными каплями дождя, редкого здесь летом, почти всегда короткого, и следов которого, через два часа не оставалось, — песчаная почва поглощала воду мгновенно, и от прошедшего недавно дождя оставалась едва уловимая радостная прохлада и яркое сияние зеленых трав и цветов, которые растут только здесь, на Байкале. Они кажутся диковинными, из какого-то другого, фантастического мира, о котором они робко напоминают. Такие цветы не хочется срывать — начинаешь думать, что с каждым сорванным цветком это далекое и фантастическое отодвинется еще дальше…
На середине косогора я остановился: спуск был крутой, я хотел выбрать дорогу полегче, — я вдруг увидел, как ловко скользила меж огромных валунов фигурка девушки. Сначала я подумал, что это моя жена, но тут же понял: с такой ловкостью бежать по россыпям, мгновенно появляясь из-за огромных валунов, своим беспорядочным расположением создававших множество лабиринтов, может только тот, кто вырос здесь или часто приезжает сюда.
Гибкая, стройная фигурка, то исчезая, то появляясь, стремительно двигалась в мою сторону. Я, не понимая зачем, по самой крутизне шагнул навстречу, на миг устыдившись, что только что хотел спуститься вдоль по косогору, где дорога хоть и длиннее, но зато безопаснее. Девушка бежала ко мне и делалась все старше, старше — и на глазах превратилась в старуху! Превращение произошло так быстро, правда и обман переплелись настолько, что мне продолжало казаться: передо мной не старуха в ситцевом платье, а девчонка, для чего-то играющая старуху… Я взглядывал на огромные валуны, на лабиринт ходов между ними…
«Может быть, — размышлял я, — меж валунов бежала девушка, потом она исчезла — встретилась с тем, к кому бежала, а старуха, когда я схватился за ветки кустарников, чтобы не свалиться с крутизны, появилась из-за ближних валунов и продолжила путь девушки?..
Старуха смотрела на меня до жути внимательно и, казалось, своим взглядом впитывала меня. Я шагнул к ней. Она расцвела в улыбке.
— Ты меня с кем-то спутал, да?
Не мог же я сказать, что спутал ее со своей женой, которой едва минуло за двадцать, и если бы сказал об этом жене, она бы сердилась на меня, самое малое, неделю.
— Я приняла тебя за инструктора… Он с такой же, как у тебя, тетрадью ходит…
Только сейчас я увидел в руках у себя блокнот, в котором я делал простым карандашом рисунки гор. Ничего не понимая, я смотрел на старуху.
— Вчера меня обругал инструктор, — пояснила она. — За то, что я залезла до половины вон той скалы. Я бы и выше залезла, да он не разрешил.
«Это я старик… У меня и в мыслях ни разу не было вслед за смельчаками подняться на отвесную, почти вертикальную скалу…»
И еще я подумал:
«Ей недоступны те радости, которые доступны мне в моем возрасте, и она последние годы, а может быть, дни отважилась сделать опасными, хотя бы в чем-нибудь напоминающими молодость… А может, она смеялась над такими, как я, кто боится рискнуть лишний раз, а то и вовсе никогда не рисковал, и по этой причине добивался своего только до половины, а потом оправдывал свою робость тем, что на большее и не был способен?»
Один раз она сорвалась с уступа, пролетела метра два и снова начала карабкаться наверх… Издалека я видел, как она боролась с опасностью, но разве мог подумать, что на скалу карабкается не юная спортсменка, а старуха, которой давно за семьдесят?!
Моя жизнь показалась мне никчемной, трусливой, жалкой…
Капли дождя ударяли о камни и листья, ярко светило солнце, над островом не смолкал жизнерадостный гул маленьких самолетов.
Старуха увидела, что я собираюсь уйти, и стала вглядываться в меня сильнее.
— Дождя боишься?
И она протянула мне свернутый в трубочку, тонкий, как папиросная бумага, болоньевый плащ. Я отказался, спросил, как ее зовут.
— Ниной звали, — сказала она, улыбаясь, как будто ей и в самом деле было лет двадцать.
Ее голые ноги, обутые в старенькие домашние сандалии, были бронзово-черные от загара, в свежих царапинах и ссадинах… Она оглянулась, видимо, опасалась встречи с инструктором, легко переступила с ноги на ногу и, глядя мне в глаза, доверительно сообщила, как будто мы с ней были давно знакомы:
— Ты только не говори ему, — я ведь что выдумала: сижу вон там, — она показала на глубокое синеющее пространство за обрывом.
— Где? — не понял я.
— Над обрывом, — весело сказала она. — Свешу ноги вниз и читаю книгу.
Я поверил ей.
— Вы можете сорваться, и никакой инструктор тогда не поможет…
— А ну его, — сказала старуха. — Он — грубый человек.
Я не согласился:
— Вежливость тут может навредить…
Я не мог обращаться к ней только по имени, — все-таки разница в возрасте была большая, — и довольно громко спросил ее отчество.
Старуха как будто не слышала моего вопроса.
Я сказал:
— У Лермонтова в «Маскараде» ваше имя…
— Я знаю, — ответила она. — Ее отравили…
Мне показалось, что передо мной — сельская учительница. Но я ошибся, и это еще больше расположило меня к моей старухе.
— Я чувствую себя моложе, когда сижу над обрывом… Хочешь посидеть?
Я представил, как сижу на самом краешке отвесной скалы, по незаметным выступам которой высоко над землей делают невероятные прыжки домашние козы, и промолчал, вспомнив, как мы с берега с изумлением следили за ними… Чья-то большая, с белыми пятнами собака вместе с нами, только чуть поодаль, долго, замерев, смотрела за козами, пролетавшими в воздухе, которых она, как и мы, наверное, приняла в это время за диких…
— Боишься, — без всякого укора сказала старуха.
Взглянув на скалу, я понял, что никогда не сделаю даже попытки карабкаться по ней. Зачем? Чтобы сорваться? Другое как будто было легче — сидеть, свесив ноги, на краю обрыва… В первый же день мы приходили сюда. Я постоял на краю пропасти, но, оказывается, это был еще не самый край — два шага земли, а точнее — скалы впереди оставалось… Мои женщины вскрикнули, испугавшись за меня, и я отступил, так как мне хотелось и эти два шага сделать… В тот раз я почувствовал, как тянула к обрыву какая-то непреодолимая сила… Я слышал, что бездна притягивает, человек не хочет и делает в нее шаг… А иногда он делает этот шаг с восторгом, граничащим с безумием…
Проговорили мы с ней минут двадцать и разошлись каждый своей дорогой, и не начинавшийся дождь был тому виною — ведь можно было укрыться среди валунов на берегу, под соснами, да и возле заправочной можно было спрятаться от дождя под крышей… Тогда мне как будто не надо было встречаться с нею, — а почему же сейчас хочется и увидеться, и поговорить? Может быть, в тот раз ей нужно было поделиться какой-нибудь своей новостью, может, печалью, а может, радостью… А я торопился, застеснялся чего-то, неловкость какую-то увидел, и уж самое никчемное, если дождя испугался… Она никак не хотела уходить, стояла в лучах солнца и дождя, похожая на колдунью, знавшая об этом мире и о себе какую-то тайну, о которой она, как я теперь понимаю, начинала рассказывать…
Я узнал, что она не любила ездить. Это у нее с войны. Когда бежала с мешком продуктов в райцентр, — там учились ее ребятишки, — и когда кто-нибудь из колхозников предлагал место в санях или в телеге она всегда отказывалась, говорила, что ей надо скорее… На Ольхоне она побывала один раз нечаянно и теперь каждое лето прилетает сюда на маленьком самолете.
Совсем недавно вдруг вспомнилась она мне — тоненькая, до черноты прокаленная солнцем, с сияющими молодыми глазами, умудренная жизнью, — и все думал: почему же она не исчезла из памяти, почему за такую короткую встречу оставила в моем сердце след, какую-то царапину, которая не исчезает и, наверное, никогда не исчезнет?
Она сказала, что живет где-то недалеко от Усть-Орды, вырастила четверых детей. Было бы семь, и она жалела трех, неродившихся, «выбитых», как она сказала, буянившим мужем, из ее короткого рассказа скорее походившим на зверя, а не на человека…
Я подумал о великом упорстве женщины, о ее неиссякаемой любви ко всему живому, дающей любовь тем, кто ее недостоин, и своей любовью помогающей укрепиться всему, что должно жить.
Лесные колодцы
Старик Букин доживает свои дни у дальней, родственницы.
Никто не знает, сколько ему лет. Больше он лежит на широком, из сосновых досок топчане, таком же старом, как сам Букин. Подогнув ноги в самодельных носках из овечьей шерсти, почти с головой укрывшись одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, он, не отрываясь, смотрит наверх. Валяется в изголовье старинная книга с металлическими уголками, с позолоченными буквами, на страницах желто-розовые круги — книга долго хранилась между досок, под крышей.
В другом углу пустует никелированная двуспальная кровать с панцирной сеткой. Букин давно отказался от железной кровати, и я теперь сплю на ней рядом с высокой переборкой и окном. Мне надоела городская жизнь, вечная суета, спешка, и уже полмесяца я живу у незнакомых людей в одной комнате со стариком Букиным.
Днем Букина не слышно.
Ночью он кашляет на весь дом, и я просыпаюсь. В мое окно видно большую, с отблеском пожара, луну, на обрезанном пашней выгоне чернеют копны листового сена, в открытую форточку вливается речной воздух.
— Ночь — год, — недоволен Букин.
Утро не излечивает Букина. Пойдет он к умывальнику, на полпути вспомнит:
— Ай, нет. Корчик, дай корчик.
Он держит одной рукой корец — большую, с облезлой эмалью кружку, льет воду в полусогнутую ладонь и часто дотрагивается до щек влажными пальцами.
Но что это сегодня: Букин легко ходит по ограде, поправляет доски в штабеле, приглядывается к ведрам на кольях.
— Эй, студент, будет спать! Иди ополоснись — вода под навесом.
Он снимает ведра и со словами: «По рыжики сходить», — ставит на зеленую траву.
Два раза перелезаем через прясло. Вызванивая ведрами, идем по ярко освещенному лугу. Хрустит быльем под ногами первая срезанная трава. Вторая трава еще не готова. Когда она поспеет, даже самая острая коса не возьмет ее. Выходить надо рано — вторая трава тогда легко поддастся и ляжет с веселым хрустом. Она долго сохнет под нежарким осенним солнцем, останется такой же зеленой и даже в полдень будет пахнуть морозом.
Останавливаемся на грани леса и поля.
Пролетел вечно испуганный дикий голубь; странный звук подала ворона, не знаешь — будешь думать: кто это? Поле убрано, не слышно людских голосов, только зимой приедут сюда за соломой, негромко переговариваясь.
От дороги донесся пронзительный скрип пускача, эхо заработавшего трактора проликовало и утонуло в реке.
— Не нагибайся, — предупредил Букин, когда я хотел поднять подберезовик. — Наберем одних рыжиков.
Попадется целая армия грибов. Никуда не нужно идти — упади, раскинь руки: сколько захватишь — и полведра. Букин шагает, что-то говорит самому себе, и я не могу ломать «суравеги, грузди, березовики и подосинники». Прокидывались рыжики. Но это, оказывается, не то — настоящие рыжики где-то дальше, на старой залежи.
Едва поспеваю за Букиным.
Что напомнил ему этот лес, это время осени, когда устанавливаются хорошие дни, дожди короткие, самые грибные?
Залежь…
Широкой полосой стоит молодой лес. И внизу и выше по стволу он был чистым и не давал тени. Здесь светлее, тонкие высокие сосны и лиственницы готовы зазвенеть от малейшего удара.
— По закрайку, сюда реже заглядывают, — показал Букин в сторону низких острозеленых елочек. — В этих местах я собираю рыжики с твоих лет. Тут их косить косой было…
Никогда я не видел таких небольших толстых и крепких рыжиков. Они еще держат утреннюю воду, с готовностью хрупнут, если наступишь или неосторожно сломаешь, шляпки проткнуты прошлогодними иголками.
Букин кладет рыжики обрезанными корнями вверх — так они ложатся плотнее и не ломаются. Свежеет его лицо, глаза стали синее, заблестели. Он уже не видит рыжиков — оттуда, где лес сомкнулся с белыми легкими облаками, где одного цвета небо и земля, виднеют молодые годы Букина… и не уйти ему отсюда никуда и не уехать.
У нас полные с краями ведра. Подвигаемся к дому лесной дорогой, заросшей высокой сухой травой и широкими листьями. Солнце уже высоко. Нет зноя, хотя небо грозово-синее, только к горизонту белое, тонущее; в синевато-туманном бесконечном воздухе приглушенные звуки.
Скрипят журавцы, бьют ступицы колес, за уметом рядом с колодой для воды Маланья с девчонкой выбирает картошку. Мы близко, бежит к нам, спотыкаясь на лунках с ботвой, Маланьина девчонка.
— Где брали?
— А за угором, — отвечает Букин. — К вечеру нарастут.
День впереди, Букин вспоминает: надо загородить сено, тын перекопать…
Достаю воду в Лесных колодцах, пью долго, не отрываясь, до боли в висках, и не напьюсь. Вижу, как растут огурцы на гряде, срываю их. Листья и стебли еще зеленые, шероховатые. Колю дрова, свежие поленья отлетают в сторону, иду за ними. Ко мне привык черноголовый капризный воробей, он ждет, когда я открою двери веранды, чтобы залететь на ночь.
Снова сплю на улице под черемухой. Причудливыми арками склонились надо мной, где я лежу на низкой постели, черемуховые стволы. Позднее с размаху налетит ветер. Хлопают, будто крыльями, листья, и тогда виднее становятся темно-голубые просветы между ветвями и кажется, кто-то крадется, кто-то не спит в эту тревожную в звездах ночь.
Вернулись с мельницы и сгружают мешки, закрываются двери ларька, горланит Пашка.
В доме на топчане умирает старик Букин.
Волчьи ягоды
Сыну Саше
По утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве на межах такая сильная, что до нее было боязно дотронуться, Забанка и Мойган, мокрые, по-хозяйски, только немножко пугливо, прошмыгивали в сени и скрывались за лестницей, каждый с мертвой птицей а зубах.
Я просыпался всех раньше и бежал смотреть. Оба кота были черные. Они всегда встречали меня молча а покорно отдавали самую большую добычу, заранее зная, что мне она не нужна и что я ее скоро отдам.
Однажды Мойган с охоты не пришел. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а еще крепче, схватил, сверкнул в темноте зелеными глазами и вылетел из сеней, только хвост большой, как у лисы, мелькнул над порогом.
Я догадался, что с Мойганом что-то случилось. Но почему так рассердился Забанка?
Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, весь промок, а Забанки нигде не было.
И до того скучно у нас стало, что бабка сказала:
— И кому помешали… Загрызут теперь мыши.
Дед отбросил недоплетенную корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня.
— Если не приведешь к вечеру Забанку, выгоню, будешь ночевать за пряслом.
Забанку дед любил больше, чем Мойгана. Забанка никогда ничего не трогал. А Мойган даже в шкаф залезал, под низ. Там он разгибался — горлачи, кринки опрокидывались, и молоко выливалось. Если Мойгана заставили на месте, он никуда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал наказания. Но его никто не трогал, и он надолго переставал проказничать.
Забанка не приходил.
Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. Я очень жалел Забанку и Мойгана и не трогал перья, только ненадолго брал самые разноцветные, водил ими по своим щекам — перья щекотали, и я смеялся. Тогда дверь открывалась, сначала показывались длинная, похожая на осоку, борода, а затем сморщенный замусоленный рукав. Дед подкладывал под дверь чурбак, глаза его в темноте поблескивали так же, как в тот раз у Забанки.
— Ты на что взял? — слышал я уже в который раз. — Положи перо. Почему не в яслях? — допытывался дед.
Я пожимал плечами, глядя на деда и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про перья и скажет примерно так:
«А ну, ответь: к Широкой пади, где лес-медуница, как пойдешь — по солнцу или против солнца?»
Дед два раза водил меня на это место. Он говорил, что, кроме него да придавленного в прошлом году лесиной старого Тороха, никто не знает леса-медуницы. Мы до обеда плутали по кочкарнику, несколько раз переходили по упавшим деревьям речку Инку, шли где-то вдоль Пастуховой горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и, словно налитых молоком, высоких кустов волчьих ягод.
«Не трогай, — заранее говорил дед, — отрава».
Он делал еще шага три, протягивал руку, застывал, и мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос из-под земли:
«Вот оно, колдовское царство…»
Я слышал от деда, что если побудет здесь плохой человек, срубит или сломает дерево, то роса-медуница не придет больше, а лес засохнет. И я осторожнее пригибал к себе ветви…
Дед молчал. Он ни о чем не спросил, нисколько не сердился, а только сказал:
— Не трогай перья. Пошли в лес, лоза кончилась.
Мы горевали все лето, что пропали Забанка и Мойган.
Бабка говорила, что надо взять другого, но дед не соглашался.
— Подождем! Мойган, может, и нет, а Забанка придет.
Как он угадал, но только все так и вышло. С Васькой Манаком после дождя мы собирали за мостом дикий лук и увидели: кто-то так и мелькает по Второй дороге, что возле старой дегтярни.
«Забанка!» — чуть не закричал я, присел в кочках и погрозил Манаку, чтобы он сидел тише.
Вот они, огороды, а Забанка шел долго-предолго. Мы с Манаком крались подальше. Ну так и есть — Забанка! — он свернул по нашей тропинке прямо к бане и быстро побежал по огороду. Манак и я тоже припустили. Забанка оглянулся, распушил хвост и в один прыжок очутился в приамбарке. Мы окружили Забанку, я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Он стал тяжелее и вроде одичал. Только пустили в избу — он кинулся к окну, прыгнул на середину пола и стал подкрадываться к столу. Что такое — на столе, кроме черемши, ничего не было… Забанка схватил пучок и спрятался. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитое урчание. Дед налил в большую чашку молока. Забанка не подходил. Видно, отвык или боялся. Тогда дед пододвинул чашку поближе. Забанка обнюхивал чашку, фыркал, потом шерсть на нем поднялась дыбом, и он стал пить. Дед уже опорожнил горлач, а в чашке снова было пусто. «Старая, — кивнул он, — подай-ка вон то, утрешнее». Забанка неохотно лакнул языком раз, другой, внимательно, мне показалось, мокрыми глазами посмотрел на всех нас и больше на деда, и мы снова услышали как будто редкое пожуркивание ручейка.
«Куда ему столько?» — раскрылись глаза у Манака.
«Не жалей, — суетился дед, — пускай пьет».
Все равно, когда не зацвел еще багульник и за мостом через всю стлань стояла не высохшая от весны лыва, Забанка ушел.
Каждый год так было. Только к осени возвращался Забанка.
Если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что Забанку поймал филин. Манак с бабкой думали, что Забанка остался на зиму в норе барсука или прогнал белку. Дед помалкивал.
Однажды осенью к нам приехала тетя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплота чемодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони. С криком: «Тетя Гаша приехала!» я выбежал из избы.
— Тетя Гаша, тетя Гаша, — приплясывал я, ожидая леденцов.
— Медвежо-о-нок, — смеялась она, расставляя руки. — На Филиппихину елку смотрел и рос? Только меня теперь не Гаша зовут, а Галина.
И тут же в моем кармане очутилась целая горсть леденцов.
Я все время забывал новое Агашино имя, и тогда она переставала смеяться.
Тетя долго говорила с дедом и бабкой, посматривала на меня и с чем-то не соглашалась.
«Не отдам, — сердился дед. — Школа и у нас под боком».
Но потом сдался, бабка поплакала.
Через полчаса я побежал открывать большие ворота.
— Что там — справлюсь, — ворчливо сказал дед, и мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на один осевший створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, бороздит землю точь-в-точь как хромая нога у немого инвалида Гошки.
Дед подвел в поводе мотавшего шеей с белой челкой жеребчика к самому крыльцу, так что заходить в избу надо было сбоку, сгибаясь под полкой с ведрами.
Вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке, выехали с тетей из ограды, дед и бабка хотели еще раз подать нам руку, как я вспомнил, что не простился с Забанкой. Я выскочил из ходка, бегом в избу, манил, все облазил — нет Забанки. Побежал в приамбарок — тоже нет. И под сараем не было. Наверно, к бане ушел. Он всегда сидит там возле черемухового куста, и если не ловит птиц, то любит подсматривать за ними.
Забанка как сквозь землю провалился. Я звал. Вниз, к бане, шли дед с тетей. Я не мог понять, о чем они или спорили, или еще что, но дед почему-то все размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тетя и с недоверием и с недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону.
Я сидел возле огурцовой гряды и плакал.
Тетя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот и он нисколько не хуже, а лучше, потому что никуда не уходит.
До станции ехали мы весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях, старых колеях и ямках, и нет-нет да нас с тетей обдавало ржавой водой, скрытой густым трилистником и ряской. Показывались из-за «колен» и поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроежки с тоненькими шляпками, синюшки, разнаряженные, с красными щеками, мухоморы, а через них, мне казалось, прыгал и прыгал Забанка…
Запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, на рябой от грязи полуторке я добирался в нашу деревню. После города дома ее показались мне маленькими, а дедов — совсем покосился. Ворот, высоких, давно-давно старых, на которых прибитые гвоздями держались кружочки, солнца и полумесяца, уже не было. Их заменил низкий заплот с отполированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддался ни жаркому лету, ни жгучим холодам, ни дождям. Крепкие бревна его все так же отливали красноватой медью, дранье было целым, и только лиственничная кора, сберегавшая его, покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши застывшими лохмотьями.
Дед так и не расставался с корзинами и коробами. Он бросил на лавку только что принесенную из леса лозу, заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, что со мной делать. Он говорил и говорил и вдруг осекся, вроде бы недовольный: сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Я растерялся.
Выручила бабка:
— Ты про Забанку спроси…
Мне было двадцать три. Я едва вспомнил: смешным показалось спрашивать про Забанку, да и нет его, наверно, давно. Дед мог обидеться, и я послушался бабку.
— А что, дед, Забанка наш тогда так и не вернулся?
Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, взгляд его потеплел.
— Забанка… Не будет больше… Один Забанка… Э-э, браток, мало ли вот котов, а он не такой. Обойди всю сторону — и не будет, нет, не найдешь.
Что-то еще, другое, мучило деда, но он молчал, а затаившуюся в глазах горечь скрыть не мог. Дед посидел-посидел, повернул ко мне голову и спросил:
— Лес-медуницу помнишь?
— Ага.
— Ну-ну…
— А сходим, дед, в этот лес?
Дед расчесал бороду и будто самому себе сказал:
— Дойдет солнце — от жары деться негде. В самый раз идти.
В лесу дед показывал — где какое дерево молния сбила, а какое срублено.
— Э-э, мал был, не упомнишь: вот же, рядом, голубицу с тобой брали. А переход не знаешь? Брусница там была-а… по-над берегом. А найди. Который год уже будто пал прошел. А бывало, и пал пройдет, а смороду, да хоть что — пригоршнями греби…
Еще давно с дедом мы продирались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину располосуешь. А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропкой береза да спиленный кондач, и над самой Инкой забелела длинная поленница дров.
Дед сердито мотнул рукой:
— Герасименок, лесу ему не хватило… Коршун, и только, — распекался дед. — До заимки руби — не вырубишь, так сюда залез, волчиные глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и все… А это что: столько прута срезано и брошено, столько охапок лежит с позатого лета, коню не увезти. Ну, на что ему?! Чтоб вас перун разбил… Ну, подожди.
Дед больше не мог говорить и молчал и, лишь спотыкаясь на свежих пеньках и корягах, готов был плюнуть, но только и мог, что обзывал кого-то коршуками и вороньем.
Вот и лес-медуница.
Дед остановился возле поломанного изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку.
Дед растерянно поглядел на меня, опустился на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом, одними губами выговорил:
— Иди-иди. Смотри, я не пойду.
От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, еще давно вырубил молодой лес на частокол и жерди, кому-то понадобились и деревья потолще — и половина из них была подрублена.
Росы-медуницы нигде не было…
Я вернулся к деду, сел на колодину. Дед встрепенулся, подсел поближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:
— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — Забанка тут ходит… Только раз видел — годов пять тому будет: молоньей залетел на ту вон лесину. И чего это такое: в доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь, — инженер к нам, хлюст раскакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая затевается… Камень бы вроде нашли. А по мне век бы его не было. И что вытворяют: до Мильгитуя порубку… А такого красавца строевика и к Загорью не будет. Лес-то новый, не вошел в силу. Вырубят — и помру, — тихо сказал дед. — А инженера-прихвостня… в болоте… Вот те крест, не забоюсь. Натерпелся коршуков, хоть одного…
Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я — в другую. Старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в клюквенном болоте.

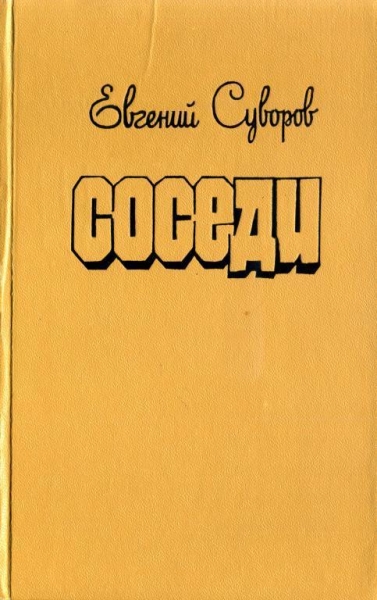



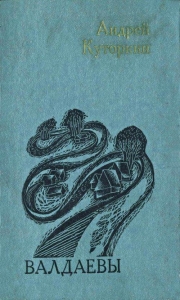

Комментарии к книге «Соседи», Евгений Адамович Суворов
Всего 0 комментариев