Всеволод Иванов Кремль У
Кремль
Пролог
В том году, когда великий князь Иван Третий призвал на помощь русским мастерам итальянских, чтобы воздвигнуть несокрушимую крепость — московский Кремль, произошли две ссоры.
Великий князь Иван сильно обидел мелкого удельного князя Никиту Ильича Подзольского, что владел городом Подзол, лежащим неподалеку от верховьев Волги на рыбном и глубоком озере Подзольском и на лесной речке Подзолке. Москва долго обсуждала эту ссору: хитер и зол был князь Никита, и хоть был беден, но большое зло мог причинить Москве. Но надеялись на ум великого князя Ивана. И случилось по надежде: великий князь Иван приласкал князя Никиту, и тот покинул Москву словно бы без злобы.
А вторая ссора прошла почти незамеченной. Русские мастера каменной кладки повздорили с итальянскими, и старший русский мастер был схвачен и верчен за чуб, и великий князь, узнав об этом, сказал, смеясь: «Добре. Так и надо. Не обижай гостей». А правда-то была на стороне русских: они говорили, что Кремлевскую каменную стену надо начинать кладкой до того, как земля повреждена стужей; итальянцы же считали, что это не имеет значения.
Покидая Москву, князь Никита словно бы невзначай встретился со старшим русским мастером и словно бы невзначай сказал ему:
— Уж если трудно стоять тебе рядом с немцем, приходи ко мне на Подзол.
Мастер тряхнул длинными черными волосами, которые в драке, видно, не все выдрал итальянец, и ответил:
— Уж коли, княже, взялись за этот Кремль, достроим. А про ласку твою княжескую не забуду.
И не забыл. Лет через пять уже сильно поседелый мастер Петр приехал в Подзол.
Князь Никита вывел мастера на холм, обнесенный дубовым тыном с башнями из несокрушимого кремлевского леса, и сказал:
— Хочу здесь выстроить каменный Кремль лучше московского.
Мастер Петр поклонился князю и, похвалив желание его, осторожно добавил, что Москва богата, велика, что много у ней и камня, и рук мужицких, и коней, а здесь… И строитель Петр сын Григорьев развел руками, указывая на обширные и пустынные воды озера, медленно текущие в Волгу через речку Подзолку, и на дремучие леса, сквозь которые, казалось, не только что человеку, но и мысли пробиться трудно. «Бедна твоя окраина, княже, беден удел твой», — говорили глаза мастера Петра.
И тогда князь Никита подал мастеру две монеты. Одна большая, почти в ладонь, а другая маленькая, с ноготь мизинца, и обе из чистого золота. Князь спросил:
— Которая будет тяжелее?
— Большая не в пример тяжелей, — ответил мастер Петр.
— А теперь вглядись и скажи мне: которая ценней — большая или малая.
Недолго держал в руках монеты мастер. Он ответил:
— Малая не в пример дороже. Необыкновенный искусник чеканил ее, княже.
И тогда князь Никита строго приказал:
— Вот так же вычеканить мне и мой Кремль.
Мастер, тряхнув волосами, низко поклонился:
— Вычеканим, княже. Одно только скажу. У московского Кремля герб есть святой: Георгий Победоносец, растоптавший змия и растерзавший ему поганые татарские уста. Надо и тебе, княже, о гербе думать. Легче нам будет строить под святым гербом.
И тогда сказал князь Никита:
— Видишь — леса? И видишь речку через те леса? И видишь — кто-то плывет через ту речку?
— Не то человек, не то медведь, — ответил, вглядываясь, мастер.
И тогда сказал князь Никита:
— Вот тебе и герб: медведь плывет через воды.
— Глупый зверь, — сказал мастер, — много ли, княже, будет от него помощи? Того лучше какого-нибудь святого поставить.
— Святыми мы сами встанем, — сказал князь.
И мастер, дивясь смелости и гордости князя Никиты, только поклонился.
Вот и выстроил князь Никита удивительный свой Кремль.
На московское чудо любуются люди, а приедут в Подзол — того более поражены. Будто и невелика кремлевская стена, будто и не много палат закрыто кругом, — всего шесть, — а как дивно прекрасна стена, какая она легкая, стройная, как необыкновенно прекрасны угловые башни-храмы, и какими цветками выглядывают из-за стены кремлевские палаты! Снаружи храмы и палаты белы, а внутри, сверху донизу расписаны фресками о том, как приятно жить человеку согласно законам божеским и человеческим, и о том, как наказуется житие в грехах, беспутство, законопротивность и срам. А сколько замысловатых лестниц внутри, переходов, коридоров и тайников, а как тепло в тех палатах, и как тихо, и как задумчиво смотришь оттуда на мир!
Митрополичий храм не уместился в кремлевских стенах. Собор и звонницы поставили возле главных ворот. Там, в соборной церкви, в белой серебряной раке, окруженной цепями лампад, почиют мощи святого и благоверного князя Никиты. Мягкий звон несется со звонницы утром и вечером, и особенно ласков он при закате, когда облака отзолачиваются и похожи на резной иконостас, а на повороте реки, под золотым этим блеском, виден белый пароход, мимо красных бакенов огибающий небольшой островок, похожий на плывущего медведя.
Над главными воротами Кремля, выкованными из толстого железа, находится медный герб города — медведь, плывущий через реку. Герб от времени сильно позеленел, края у него какие-то восковые, хрупкие. Фигуру медведя еле разглядишь.
Герб этот висит и поныне. Только в 1922 году, когда в Наркомпросе обсуждался вопрос о переходе республики на латинизированный алфавит, музейные работники, которые ведают Кремлем, прибили над гербом медную пластинку с буквами «U.R.S.». Точки стерлись, и получилось «урс» — латинское обозначение медведя. Посетители, недоумевая, глядят на эту надпись, но причину появления ее спросить стесняются.
Кремль розовато-белый. Пронзительно белы монастыри за городом, в одном из которых лежит прах преподобного строителя Петра сына Григорьева, того, что вместе с итальянцами строил и московский Кремль, и воздвиг Подзольский. Монастыри эти по-разному повторяют кремлевское чудо. Они лежат среди огородов, гряд капусты сизой, темного картофеля и редкой моркови. Домики обывателей в городе бархатного серого цвета. Хоромы князей Подзольских — голубые, под цвет неба, а казенные здания сизо-багровы. И над всем этим радужно сияет и поныне глубоководное и рыбное Подзольское озеро. Оно тоже повторяет Кремль.
Глава первая
о том, как и с какого времени стоят Мануфактуры подле Волги, как веселый дракон Магнат-Хай ушел в пьяные пещеры, как говорили «четверо думающих» и какая получилась ночевка у А. Сабанеева
I
И. П. Лопта поехал из ужгинского Кремля, сопровождаемый дьяконом отцом Евангелом. Дьякон напросился, видимо, желая знаменовать собой будущую паству епископа или митрополита Гурия. Дьякон остался очень доволен, когда И. П. Лопта согласился взять его с собой. Тарантас пересек мост, исчезли и Волга и Ужга, и направо встали корпуса Мануфактур, деревянные серые домишки поселка, овраги, пыль, над поселком горы цвета позднего лета. Между поселком и железнодорожной станцией полз овражище, одним концом вползая в Ужгу, а другим — в шоссе, где в него упирался только что построенный стадион. Над стадионом взлетал мяч и тяжело отдавался в чьих-то сиплых криках. И. П. Лопта презирал современные голые игры. Мало утешали его и благотворительные здания, воздвигнутые обрусевшими немцами, владельцами Мануфактур, сентиментальными господами Тарре.
Здесь находились Воспитательный дом, приюты, богадельня, ремесленная школа, и здесь некогда служил И. П. Лопта экономом, здесь он женился, здесь родился Гурий, и отсюда была взята на радость Агафья. Он жаждал рассказать об Агафье, жаждал получить одобрение своему поступку от сына, он жаждал сказать ему, как его любил и как ждал. У забора стадиона, на лужайке и у оврага четверо, должно быть, безработные, охваченные неисцелимой скукой Мануфактур, забавляются с желтой котомкой. Лысый с огромными розовыми кулаками бросает ее маленькому и толстенькому…
Да, здесь коплены деньги и мысли о плотах, о подрядах, о доме, — и здесь же не предвиден пробел, называемый революцией… Как трудно теперь копить средства, чтобы сын, по протекции некоего Луки Селестенникова, взятый в Духовную Академию, смог занять древний пост епископов кремлевских, пост пустующий и опасный. Гурий любит странствовать, с каким трудом его бледное и слабое тело переносило эти странствования по святым местам, поправился ли он теперь… Отец Евангел просит не беречь коня для такого случая, не смотреть на жару, приударить.
«Мы думаем», — донеслось пение четырех с лужайки от стадиона. И. П. Лопта знал, не оборачиваясь, что они лакают водку, хвастают и врут, он их не знал, но он их уже ненавидел, как ненавидел и весь поселок, и корпуса Мануфактур, и пыль и горы за поселком цвета позднего лета. Он стегнул коня. Дым поезда поднялся над парком Мануфактур, пересекаемым овражищем.
Гурий Лопта, окончив Духовную Академию, направился домой. Он ехал долго. Наконец чахоточный кондуктор, кашляя от нестерпимого курения сезонников, прошел по вагону, уныло бормоча «Ужга». Гурий высунулся в окно. В дымке сухого тумана он увидел, как поезд, бросив за собой ветку к Большим Волжским Мануфактурам, обдал влажным паром будку стрелочника, промасленную и знакомую Гурию еще с детства. На мгновение Гурия умилил рыжий человек, стоящий подле будки с посохом, с пыльным картузом в руке и озабоченно поправлявший за плечами несуществующую котомку. Поезд был дешев и тесен. Гурий устал, расслаб.
Порадовало поэтому то, что встречали его только родитель Иван Петрович и неустанный любопыт, дьякон Евангел. Их обгоняли сезонники с пилами, плохо завернутыми в рогожи, приехавшие на хлебную уборку. В рогожах сверкало, и изредка раздавался трепетный вой стали. Рыжий, поправлявший у будки несуществующую котомку, тоже шел через станцию. На него оборачивались. Сезонники думали «мошенник» и поправляли карманы. Гурию стало его жалко, но рыжий был задорен и натянуто весел. Гурий вышел на крыльцо. У коновязи дремали извозчики. Гурий увидал много знакомых лиц. И. П. Лопта, гордо, и смущенно, и неумело улыбаясь, смотрел на сына. Молодой жеребчик играл среди оглобель, недавно окрашенных, а старый тарантас был по-прежнему облуплен, и по-прежнему рессоры гнулись влево. Отец Евангел, больше из любопытства, чем из почтения, сложил руки. «На перроне, отец Гурий, теснота и запах, не откажите благословить», — сказал он. И Гурий ответил ему тем, что многим будет он говорить с болью:
— Не рукоположен еще…
Рыжего с несуществующей котомкой, должно быть, заинтересовало странное движение рук отца Евангела. Опять Гурий увидал его измученные глаза. Гурий отвернулся. Перед ним голубеет Московское шоссе, за ним «стрелка», и на ней Ужгинский Кремль…
Разрыв первой главы
желательные вставки, лучшие отрывки по истории Ужгинского Кремля из книги «Звезда чертежей»
…«В нем есть знаменитые башни Зелейная и Фроловско-Проезжая, они служат славой для женщин, идущих по их ступеням, и местопребыванием бойцов за их странную веру! Плывут впереди Кремля реки и раскачиваются по области его леса…» (стр. 37).
…«Сообщаю это я ритмической прозой: два предмета гордости имеют его обитатели: лица девушек как северный жемчуг, брошенный на коралл, и сердца их, вместе с тем, щедры и милостивы. Вы встретите этих девушек на площади Собора Петра Митрополита…» (стр. 42).
…«Они держат горящий факел над глазами коня, и конь, ослепленный, бежит неимоверно быстро. Так в два часа они достигают возвышенностей, называемых Рог-Навалогом, и один час скачут до плато горы, имеющей форму двух сосков и называемой Тугова гора, и там есть, посреди болот, две слободы Ловецкая и Пушкарская. Из болот вытекает река Ужга…» (стр. 54).
…«Я встретил против Кремля, на лугу, называемом Ямским, девушку. Я заметил, что у нее руки тоньше камыша и грудь как спелые яблоки. Там дрались со мной кольчужные мастера. И когда я победил их, они предложили мне золота — и я отказался. Я по-прежнему шел с поднятым оружием. И они предложили мне книгу «Рудники драгоценных камней», и я опустил оружие, так как я не только воин, но и путешественник…» (стр. 79).
…«Говорит беглый раб Андропка: Я пытался бежать, потому что…» И тогда рассказал Хамс-уль-Мулюк, плененный и заточенный в подвалах собора Петра Митрополита, рассказал со слов раба, как царь Петр строит в туманах подле Кремля большие ткацкие фабрики и как сгоняют к ним рабов…» (стр. 107).
…«Теперь я гляжу вперед, туда, где горе должно смениться новой встречей с возлюбленной. Сидя здесь, в подвалах монастыря, под собором Петра Митрополита, я написал «Книгу Путей, Царств, Сообщений и Знаний». Я пришел к выводу, что люди привержены негодованию, но разумный не должен поступать согласно виденному во сне. Я записал, что в Кремле много полезных товаров в лавках на площади и в подвалах под собором Петра Митрополита. По Московской дороге есть веселые города. Идут подле Кремля водообильные реки с угрюмыми селами, в них есть удивительные особенности и вкусные плоды. Люди живут привольно и чтут предания. Монахи красноречивы и почтенны, но они тяжелы несколько на язык и в мыслях их заметно хвастовство. Кирпичные колонны в их храмах искусно раскрашены. Митрополит имеет персидские ковры, много драгоценных камней, подушки из гагачьего пуха и из пуха птиц розового цвета, названия мне не известного, он имеет знаменитые шкуры соболей, куниц и горностаев. Глаза его, от долгих молитв, приобрели форму и цвет лимона…» (стр. 169).
…«Кроме собора Петра Митрополита, видел я еще в Кремле монастыри: Николая Мокрого Чудотворца и Марии Вешней. Видел и храмы: Благовещенья Пресвятой Богородицы в Васильевском стану; Воздвиженья Честного Креста Господня у Неропольского Быстреца; Всех Святых в Заровье; Ильи Пророка на Пробойной улице; Пятницы Великомученицы в Калашной слободе, — все же иные храмы не смог осмотреть, и есть их многое множество. Мы, люди Дарваза, мастера разноцветных рубах с узорами, торопились уехать…» (стр. 333).
…«Хоть конь мой был неподвижен и уши его были как копья и весь Кремль спал, но я не был глух, я слышал, как стремена врагов издавали легкий звон, — и я поспешил воспользоваться молодостью и славой девушки. Была она бела, как хлопчатник…» (стр. 420).
Продолжение главы первой
I
На Ямском лугу, между Кремлем и Мануфактурами, Гурий увидел приторной зелени траву и неизменных сорок, которые по-прежнему в рыхлом воздухе позднего лета, изнемогая от жары, хотят попасть в сады Кремля. Они трепещут над низким мостом через реку Ужгу. Еще более ожелезнели своды моста, и на чугунной решетке все еще сохранились остатки ужгинского герба: бронзовый медведь везет на себе человека с веткой в руке и на ветке — змея. Такой же герб висит еще над Девичьими воротами Кремля. Через ворота бегут к Волге купаться мальчишки и девчонки. Вбежав в темный тенистый квадрат, который кладет солнце от ворот, они, замирая сердцем, видят сияющий сноп Волги и пушистый пар, поднявшийся над рекой; тугой запах воды доносится до них. Они приглаживают вспотевшие и взбившиеся волосенки, и им кажется, что как будто стало холодней, они вздыхают и бегут по камням мостовой, по спуску. Булыжники, заросшие травой, приятно обжигают ногу, — и они тогда напрямик устремляются по крепостным валам. За воротами аллея тополей. Листья изгибаются под неощутимым ветром, и пыль перекатывается сухо среди жилок листьев.
— А у нас от тебя много ждут, Гурий, — сказал И. П. Лопта.
— Оскудели, отец?
— Оскудевали-оскудевали, а пока днюем невыясненными, выяснят — задекретят! Велика ли моя обязанность: председатель церковного совета, а смотри, что получилось…
— Чем же живы, отец?
— Кремль — преданьями. Мануфактуры — газетами, Гурий.
Молодой сезонник выкрикнул: «Пила скоро ест, мелко жует, сала не глотает, а мы сыты бываем». Сезонники захохотали и прошли. И. П. Лопта тронул коня. Рыжий с несуществующей котомкой подвинулся к ним ближе. Гурий подумал, что рыжий идет подслушивать, но и сезонники вдруг остановились. На шоссе, из переулка, вышел азиатец в ситцевом халате с засученными рукавами. Он был перепоясан сыромятным ремнем, на котором болталась кривая шашка. Он вел под уздцы коня, на котором седой старец в бурой папахе весело улыбался. Конь стремился гордо. Старец был слеп.
— Много их ходит здесь, — сказал И. П. Лопта, — а такого еще не показывали. Учатся на Мануфактурах, чтобы, дескать, свою промышленность открыть. Ты почему, Гурий, про Агафью не спрашиваешь?
— Больна разве?
Отец Евангел открыл было рот, но взглянул на И. П. Лопту и замолчал. Сезонники окружили азиатцев. Гурий положил под ноги чемодан, уселся. И. П. Лопта, облокотясь на кучерское сиденье, задумчиво смотрел на азиатцев.
— Мужики обступили халатника и думают: чудо, а была у меня девка, поломойка, ты ее, небось, Гурий, и не помнишь? — взял я ее на жизнь, когда экономом служил в Воспитательном доме. И произошло с ней разное, и взяло меня это разное под самое сердце. Велел я ей вымыться и приготовиться, чтобы могла она нагреть своим телом твою постель…
— Плохой обычай, и христианского в нем мало.
— Каков ни на есть, а веду. Сказал ей, а она отвечает мне: «Не хочу». Почему противится, неизвестно, всегда была раньше сговорчивая. Ну, грешен я, обругал, приказываю: «Иди». А она стоит и говорит мне, что от дверей не отойдет. Я тогда и хлопнул дверью со всей силищей и не заметил того, что она за косяк держалась, и отбило ей все пальцы. Ей бы только убрать руку, так она из гордости движения сделать не хотела — руку убрать, дескать, — свою слабость покажу, или сказать мне: «Темно, папаша, не бейте дверью, здесь моя рука лежит», — я б ее уважил. Раздробило пальцы!..
— Не сказала, — подтвердил со вздохом отец Евангел.
— Раз ты на подвиг приехал, то я тебе о подвиге и рассказываю, сынок.
— Не на подвиг, отец, на размышление.
— На размышление? — переспросил отец Евангел, поправляя бисерный свой кушак. — Над чем здесь размышлять? Нас и без того взреволючили.
— Помолчи, отец Евангел, — дай рассказать. Вышла она, у ней из руки кровь брызжет. Домника Григорьевна с полотенцем бежит, а Агафка мне такие слова: «Зачем мне мыться, коли мне нечего одеть». Вот ты смеешься, Гурий, а то чудно, что девка была в полном забросе, одежонка на нее шла, — нищий бы постыдился одеть. Заговорила девка!.. Вставала она, бывало, с петухами, и ложилась она с курами, а тут… заиграло во мне этакое. «Отлично, говорю, — думаешь, я скуп и жалел на тебя? Так вот — на, выбирай!» Распахнул я кованный жестью, дедов еще, сундук, вывалил из него все платья, так что Домника Григорьевна, строптивая твоя мамаша, охнула и присела. Стою, и любо мне, понимаешь, смотреть, что дальше с девкой произойдет. Так-с… А она, не мало думая, подходит к сундуку, выбирает малиновое бархатное платье, — сшила его Домника Григорьевна лет пятнадцать или двадцать назад и надевывала пять раз к причастью, — выбрала еще зеленую кашемировую шаль, встряхнула, прикинула на руку, а рука, заметь, брызжет кровью, сказала: «Спасибо, папаша, Иван Петрович» — и поплыла в баню. Еле успели мы очнуться от такой смелости, вкатывает Хлобыстай. Портной был при тебе, помнишь? Сейчас он заведует типографией; храмы посещает, а сам боком насчет бога выражается. И с придурью вообще. Ротище у него прокуренный, табаком за версту, руки над платьями распростер: «Ах, говорит, готовитесь к встрече сына, платья выбираете».
Кто знает, отнял бы я у Агафьи платье или нет, но только она, надо думать, об отнятии рассчитывая, одним словом, подождала, когда Хлобыстай разговорился, открывает дверь, рука завязана, а сама… вот уж не думал, что привел бог такую красавицу воспитать.
— Удивительный вид, точно, — вздохнул Евангел, — и косы, как рожь, и походка тоже. Слава вам, Иван Петрович.
— Веселый это случай, а не диво, отец.
— Ты еще дослушай, диво-то в том, как и о чем она заговорила и что нам сказала, в уме и характере диво, а не в красоте, Гурий… А теперь еще по Кремлю слухи, скажут, сберег невесту сыну-епископу.
— Не рукоположен, — тихо повторил Гурий. — И есть у меня одна невеста неневестная: церковь.
Азиатец в ситцевом халате, едва И. П. Лопта влез на облучок, подвел к ним своего коня и быстро проговорил:
— Ты тоже имеешь коня, ты знаешь места, где здесь подле Мануфактур живет мой сын Мустафа Буаразов и где здесь Дом узбека?
И. П. Лопта молчал. Слепой старик весело крикнул ему с седла:
— Я слышу дым от дома моего внука, поворачивай вправо.
Азиатец в ситцевом халате сказал, поднимая ножны своей шашки:
— Ты плохо слышишь дым своего внука, отец, — вправо течет Волга. Я остановлюсь здесь, потому что в ней я могу поить своего коня. Ты, сидящий на облучке, у которого борода похожа на серп, может, тебе придет фантазия не только молчать, но и смеяться над моим отцом? Его зовут Мехамед-Айзор Буаразов, его имя знает вся Средняя Азия и некоторые окраины Персии. Я его сын Измаил, вот какие мои перспективы, и мы идем в гости к Мустафе, сыну моему, из Дома узбека, который будет большим инженером и спецом по хлопководству.
— Ожидаю на той неделе Луку Селестенникова, он тоже был хлопковод, а теперь мне срубы поставляет на плотах. Великим знатоком оказался. Может, и выйдет толк из твоего Мустафы, а из тебя, гражданин, как ты с первым попавшимся изъясняешься, — не вижу…
— Я говорю не с каждым попавшимся, а с врагами. Шашкой этой я ударил и бил много врагов, и каждому из них перед смертью я говорил обширную речь. Басмачи и офицеры захватили моего отца, потому что он был комиссаром и революционером. Они поднесли к его глазам раскаленный в огне клинок и нагло сказали: «Поскольку ты хотел мешаться у нас под ногами, постольку ступай в тьму». И они держали клинок у его глаз, пока они не лопнули… И вот я ловлю мучителей и офицеров, и тоже отправляю их в тьму, всех, кто не хочет мне указать дорогу. Они разбежались от сверкания моего клинка по всей России. И я шел от Туркестана, ведя под уздцы моего коня, на котором сидит мой отец… Он был храбр…
— Кто на войне не был храбр? — сказал И. П. Лопта, подбирая вожжи.
— Посмотри моего коня! — вскричал Измаил гордо.
И. П. Лопта хлестнул вожжами, тарантас ринулся, и И. П. Лопта обернулся к азиатцу:
— На таком коне золоторотцу хорошую карьеру сделать можно.
Сезонники захохотали. Измаил опять поднял из ножен саблю. Старец потрогал его за рукав. Из переулка к ним бежал волоокий узбек в пиджаке, в кепи и с часами на кисти руки.
— Я еще с этого коня произнесу над тобой смертную речь! Я вижу слабость твоих рук! Я по рукам угадываю!.. Граждане, веселый Магнат-Хай, программный дракон, ушел под землю в пьяные пещеры, а людям дал 777 богов, и люди медленно раскидали его богов. И сказано в его программах, что придет на землю человек, который откинет последнего из семисот семидесяти семи богов. Этот человек, граждане, совершит сто раз по десять смертных грехов, его, помимо всего, вы сможете узнать по золотому волосу на виске. Он совершит убийства, развраты, кражи, ложь, ссоры, обиды друзьям, он будет думать скверные мысли о своем народе, он привьет людям усталую зависть и потерю желаний. Я уже вижу его, он движется по земле, он ослепил моего отца, и я произнесу перед его смертью и над ним величайшую из моих речей. «Слушай, — скажу я ему, — как ветер разносит сухой бараний помет, так я разнес мучителей моего отца»…
Он смотрел вслед убегающему тарантасу и вдруг обернулся к сезонникам и к рыжему с несуществующей котомкой. Он положил руку к рыжему на плечо и быстро спросил: «Как твоя фамилия?» Рыжий поспешно ответил: «Вавилов», и, видимо, стесняясь того, что испугался окрика и сказал свою фамилию, отвел глаза и посмотрел вдоль забора. Вавилов, приподняв рыжие плечи, вгляделся еще раз и вдруг, скинув руку Измаила, быстро побежал к новому и длинному забору, окружавшему стадион. Он слышал, как Измаил кричал ему вслед: «Покажи твой висок», как хохотали сезонники и как подошедший узбек Мустафа увещевал отца и хохочущего на коне деда Мехамеда-Айзора.
II
Вавилов быстро устал от бега. Ему показалось, что у канавы, подле поворота забора, против высокого темного здания (это был Воспитательный дом, в котором он рос) — сидят четверо и у одного из них в руках мелькнула вавиловская желтая котомка. Но чем ближе он подходил к четверым, тем меньше в нем было уверенности, что котомка эта его. Он зашагал тихо. Воспитательный дом! Вавилов горько запомнил коридоры, запах квашеной капусты и гнилых дров. Многие из его друзей шли из этого дома в Приют, устроенный обрусевшими немцами, владельцами Мануфактур, господами Тарре. Из приюта можно было попасть в ремесленную школу, а оттуда в тюрьму и на каторгу. Его охватил трепет, знакомый ему еще в детстве! У него хорошая память на прошлое. Он вспомнил, как дразнили их, учеников ремесленной школы, — «козлами» за жалкие синенькие шинели с оловянными пуговицами и желтенькими кантиками. Вспомнил он, как он рассчитывал на изменение, когда уехал на войну, а там дали ему разбитый мотоциклет, пакеты и ежедневную грязь дорог и ямы от разорванных снарядов. Он посмотрел на Кремль. В детстве и поп и учителя рассказывали им много священных преданий о Кремле, и над койками у ребятишек висели литографированные картинки, и в пост, под унылый вой тридцати кремлевских церквей, их вели на исповедь. Он долго помнил покрытый легким инеем холодный пол притвора… Из темного здания вышли несколько солдат, быстро размахивающих свертками, — должно быть, пошли в баню. Значит, здесь теперь казармы. Ему стало грустно, что он не может испытать такого же желания свободы, которое чувствуют сейчас солдаты. Ноги у них, — и отсюда заметно, — радостно сплетаются. Да, он воевал, но, талантами не обладая, застрял мотоциклистом, а в революцию все мучали болезни. Он поступил на рабфак, но и тут не удалось: захворала жена, надо было ухаживать за ребенком, он вернулся на производство. Жена умерла, за ней вскоре ребенок, тусклое раздражение всегда мучило Вавилова. Подоспел какой-то разговор, сокращение, — Вавилова рассчитали. Он признал это правильным: болезненный, вялый, он любил водку, совершал прогулы, тосковал по жене, вслух, нелепо. После расчета он вспомнил Большие Волжские Мануфактуры: где-то прочел, что там набирают третью смену, он и поехал, впрочем, мало надеясь на возможность заработка. Когда он подъезжал к Мануфактурам, ему стало скучно, он, как и всегда в таких случаях, — выпил. Проснулся, а его желтой солдатской котомки и тужурки с деньгами не было, соседи же высказали радость, что хоть хорошо документы у него не утащили. Но главное, вместе с деньгами украли и билет. Он подумал: протокол, потащат его в милицию, — и, не доезжая одной станции до города Ужги, он слез. Ему доставило чувство облегчения сознание, что он идет и как будто делает необходимое дело. Он срубил посох, снял фуражку, вспомнил, что давно не брил голову: он не любил рыжих своих волос. Но как только он подумал, что можно захворать, простудиться и вообще чем-то страшно навредить себе, он сразу почувствовал себя утомленным и голодным. Ему подумалось, что вот он, когда пошел, то думал идти далеко, но куда теперь уйдет, да и как он будет разговаривать с крестьянами, к которым с войны он питал злобу, несмотря на все прочтенные брошюры о необходимости мира с середняком. Мужики с обычной ненавистью, с которой они относятся к бродягам, начнут осматривать его и будут его бранить, а он с обычной своей трусостью ответит выдумкой какой-то сложной мести, которую нельзя никогда осуществить. Он прошел через станцию, дабы самого себя утешить, что приехал с поездом, и ему не хотелось гнать себя к Мануфактурам, да и машин он не любил. Он вспомнил многое и позорное из своей жизни, когда происходили случаи трусости перед машинами… даже жалкий мотоциклет на войне… Он стоял у канавы. Четыре человека сидели в кружок. Он узнал свою желтую котомку и свое полотенце с синими краями и с розовой буквой, вышитой покойной женой. Прошло много лет с последней встречи, — но недаром была у него отличная память на прошлое, — он узнал их, четырех!..
III
Ближайший к нему — Мезенцев, низенький, совсем округлился, имел щеголеватое брюшко и стал еще нахальнее, чем прежде. Черноухий Пицкус мыл в канаве длинные волосатые свои ноги. Памвоша Лясных, коренастый и весь цвета мутной воды, лежал на спине, крепко и уверенно дыша объемистой грудью, а над ним Милитон Колесников, облысевший, с огромными розовыми кулаками, раскачивал забор и кого-то в щелку натравливал. Сережа Мезенцев раскладывал на четыре доли котомку Вавилова. Все четверо тоже узнали Вавилова. И лишь один Памвоша Лясных вздобрел было, улыбнулся, но Колесников повел кулаком, и Памвоша уставился в небо.
— Изъездили тебя, рыжий, — протянул Мезенцев, — до того изъездили, что стоишь ты вот и думаешь: моя, мол, котомка или не моя, мои, мол, подштанники или чужие. Ты за десять сажень от нас был, а Пицкус уже про твою душу наушничал нам… Верно, Вавилов?
Вавилов видел, что спорить бесполезно, а пока бежишь за милицией, мошенники убегут. С. П. Мезенцев уже разделил поровну котомку Вавилова, уже добросовестно вздохнул, удовлетворенный, и сказал: «Берите», — но П. Лясных лениво выразил желание разделить выкраденное на пять частей, и Вавилов понял, что этим предложением, если оно покажется им чем-то смешным, он войдет в круг мошенников. Колесников рассмеялся, за ним рассмеялись и другие. Вавилову было стыдно, но он вместо возмущения тоже рассмеялся. С. П. Мезенцев разделил котомку на пять частей, и Вавилову досталась эмалированная кружка, полотенце и мыло в костяной мыльнице. С. П. Мезенцев провозгласил пискливо:
— Будешь ты, Вавилов, с нами наслаждаться и доводить тех, кто в сапогах, у кого две кожи на ногах, — до лыка.
— Оттого, что мы думаем, — затверженным басом протянул Колесников.
— Оттого, что Памвоша Лясных у нас так перетерт, что получился из него лед: и в реке не тонет, и в огне не бывает, и не пылает… — прервал его С. П. Мезенцев. — Был он мелиоратором, был он и оратором, а стали все, одним словом, безработные. Был, скажем, Пицкус голкипером, потому он нас подле забора остановил, на футбол смотреть.
— 8 и 0. Вбили кремлевцам, — сказал Пицкус, выкидывая из канавы ноги. — Пошли, ребята, будет кудесничать, Сережка. У тебя какая специальность, Вавилов?
С. П. Мезенцев закричал во весь голос:
— Дурак не без идеологии, умный не без специальности, не мешай Вавилову соображать, Пицкус. Ты, Вавилов, не беспокойся, мы тебя воровать не позовем, теперь мы такое слово не любим употреблять, теперь — бухгалтерия, и, если удалось, — архив и амба!.. — Он посмотрел, как Колесников кинул пуда в четыре камень и как ударили брызги и как лягушка испуганно понеслась вдоль канавы: — Ты не удивляйся, Вавилов, он раз пить захотел, а кругом жара, и было это, кажись, в Астрахани…
Опять заученным басом и, видимо, наслаждаясь шутками Мезенцева, Колесников тупо проговорил:
— В Оренбурге!
— Совершенно верно, в Оренбурге, Вавилов. Да, была жарища и воды нету, а идем мы по тракту. И плывет, понимаешь, над землей туча, Вавилов, так Колесников берет камень, оборачивает вокруг него пинжак и кидает в тучу. Падает камень обратно, и весь, понимаешь, в воде. И напились, и пинжак прохладный, а ты говоришь — бога нету… Пицкус в тех местах, благодаря своим ногам, сайгаков пас и подгонял их под выстрелы охотящихся комиссаров, а я для тех комиссаров — жалко мне было ихней скуки — из-под курицы, при общем наблюдении, яйца выкрадывал. Памвоша Лясных, добрейшая душа, водолюб, жалко ему смотреть, как Колесников через каждую версту пинжак кидает в тучи, износиться может пинжак, — и понюхал Лясных песчаную землю, стукнул пальцем и говорит: «Здесь вода», и ткни ногой Пицкус — и ударила вода, Вавилов! Всю ночь мы плакали от такой высокой специальности и после этого пошли на службу в Мануфактуры. В случае чего, он, Лясных, знаменитый мелиоратор, может для нас Волгу отвести, и мы оставшейся рыбой будем питаться.
Над забором прыгал футбольный мяч и слышались хриплые свистки. Вавилов устал от пискливых воплей С. П. Мезенцева. И Мезенцеву противен Вавилов, он ему рассказывал про друзей, издеваясь, со сплевываньями, с противными взвизгиваниями, но тяжелее всего Вавилову было понимать то, что самая важная их профессия скрывается ими и лучше бы Вавилову уйти сейчас, а он не мог. Он подошел к щели, в которую смотрел Пицкус. Пицкус освободил щель ласково, и Вавилову стала обидна эта ласковость, Пицкусу при дележе достался вавиловский револьвер, дрянной «бульдог», к которому Вавилов привык и держал при себе только потому, что было десятка два патронов. Пицкус, по-видимому, боялся, как бы Вавилов не донес. Последний мяч взметнулся, кремлевцы-игроки, по большей части крючники, вышли из ворот, они шли раскачиваясь мимо канавы. Мезенцев, отбегая от Вавилова, задорно закончил:
— Меня не обкрадут, Вавилов!
— Меня не обгонишь, Вавилов, — сказал Пицкус.
Лясных по-прежнему смотрел в небо, но и он отозвался заученно:
— Меня не утопишь!
Колесников с хохотом закричал:
— А меня попробуй кто осилить. Я с зимы здесь кулачную стенку вожу. Я через весь СССР на кулаках прошел!.. У меня!..
С. П. Мезенцев прервал его:
— Ты тянешь, Колесников, а все, Вавилов, происходит потому, что мы над этим думаем. Мы — четверо думающих, вникни!..
Белобрысый крючник крикнул Колесникову:
— Здоров, свояк, кто это еще с вами?
С. П. Мезенцев быстро и пискливо отозвался:
— Вавилов, наш приемыш! Вавилов у нас как месяц: идет лесом — не треснет, идет плесом — не плеснет, а в общем и целом ён хлызда и слякоть!..
IV
Тарантас въехал на мост. Гурий вздрогнул: позади себя он услышал пронзительный визг. Гурий обернулся. Пухлая девушка любовно несла веселого, плывущего в воздухе ножками поросенка. И. П. Лопта сказал презрительно: «Совнаркомово постановление, а «пять-петров», пять братьев-пролетариев три дома себе электрифицировали в Мануфактурах, четвертый сруб сбили, пятый зимой собираются и, кроме того, породистые животные, чтобы налогом не обкладывали». Отец Евангел вздохнул: «Действительно, знаменитые люди, персонализировались до отказа». Под мостом плыли плоты, а рядом по-прежнему стоял среди разбираемых плотов нелепый, похожий на баржу, старинный пароходишко «Полярное сияние». «И капитан Тизенгаузен жив?» — «Живой». Против парохода, на валу, чайная «Собеседник». За прилавком видна счастливая туша А. Щеглихи. Плотовщики пили чай, мухи носились над столами. Несколько приветствий послышалось из чайной. Кто-то вышел на крыльцо, пристально посмотрел на Гурия. Тарантас кружил по откосу, медленно взбираясь к розовым, пряничным стенам Кремля. Разъехались с курьером у исполкома. Курьер мчался в архиерейском ландо. И. П. Лопта посмотрел на сына с гордой укоризной, наверное, думая: «И ты мог бы ехать, неудавшийся епископ». Белая глыба собора Петра Митрополита мелькнула в воротах. Умиление тронуло сердце Гурия. Несмотря на усиленную работу, привычку к молитве, несмотря на редкие книги и поучительные собеседования наставников, — он сильно тосковал по Кремлю. И отец его и дьякон Евангел, видимо, поняли его волнение. Коня остановили у ворот. Гурий вылез. Ветхий протоиерей Устин ждал его в прохладе ворот. Протоиерей прослезился, обнял его, он был по-прежнему простодушен и по-прежнему не понимал обычных и всем ясных событий. Он спросил: «Управлять епархией будете, Гурий?» И ему тоже Гурий ответил, что не рукоположен. Тогда протоиерей спросил то, что выспрашивал у всех приезжих, с которыми его допускали говорить: «Скажите, Гурий, вот вы человек ученый и существовали в столицах, неужели же так-таки все правительство в бога не верит: или же есть часть, хотя бы и скрывающая свои верования?» Гурий ответил: «Все правительство без бога». И протоиерей повторил так же, как он и повторял всем: «Истинно, чудес нашей жизни, как солнце, никому не обойти, не объехать!..» Протоиерей уже чувствовал усталость и был весьма благодарен, что Гурий проводил его до дому. Возвращаясь, Гурий зашел в собор Петра Митрополита. Он приложился к раке великого ужгинского строителя епископа Петра, сына Григория. То чувство, которое Гурий называл про себя «Он со мной» и которое он потерял на несколько часов, когда подъезжал к Ужге и ехал с отцом в тарантасе, — вновь заняло все его сердце. Он ощущал трепетное спокойствие и сознание того, что все поступки, которые он совершает, правильны и угодны тому, которого он называл «им». Гурию хотелось видеть Агафью в ее замечательном преображении. Он слабо помнил ее: постоянное впечатление грязи и угрюмости сопутствовало ей. Ее часто били. Она ездила одна в ночное и почти одна вела хозяйство. Всегда она ходила в громадных стоптанных сапогах и в стеженном, запачканном и много латанном пиджаке.
Между собором Петра Митрополита и домом И. П. Лопты лежал отличный лоптинский сад из молодых, уже в революцию насаженных деревьев. Гурий не стал выходить на площадь, а перелез через изгородь и прошел к большому каменному дому, тоже недавно отремонтированному. На ступеньках крыльца он увидел Агафью. Она была в старинном бархатном платье с высокой талией и длинным подолом. Она, должно быть, ждала Гурия. Она стояла прямо и гордо, так, как будто видела под собой свой рост. Все в ней было удивительно сильно и нежно, и особенно нежно было ее лицо. Понимая, видимо, изъян своих несколько крупных ушей, она крепко зачесала на них волосы цвета поспевающей ржи. Какое надо иметь смирение и самообладание, чтобы хранить так долго свою красоту! Малоподвижное и вспыльчивое тело Домники Григорьевны показалось в дверях. Рассказывали, что в молодости они с Иваном Петровичем часов по десять кричали друг на друга, ссорясь, а теперь привыкли, только махнут рукой, плюнут — и разойдутся. Она увидела Гурия и закричала Агафье: «Куда смотришь? Куда?»
И вот Гурий дома, за столом, на родине. Отец говорит, что плотов становится год от году меньше, государственные предприятия жмут частника, раньше он с большей легкостью доставлял застройщикам срубы в Москву, а теперь застройщик норовит сам привезти, да и со складами и с подводами в Москве плохо, и едят сильно налоги. А теперь новая опасность — пристань для плотов хотят перенести в Мануфактуры; единственная задержка: мост через Ужгу ломать боятся, денег нету, а мост низкий, пароходы под него не подходят, если бы пароходы подходили, давно бы пристань перенесли. У нас теперь начали лес плавить дорогой, еловый, корабельный и аэропланный. Домника Григорьевна прервала его нетерпеливо: «Успеешь о хозяйстве, не с фининспектором разговариваешь. Ты вот, Гурий, объясни, почему в епископы не хочешь идти, почему дом наш позоришь?» И Гурий ответил: «Не рукоположен еще и не собираюсь». Агафья наклонила над стаканом нежное свое лицо, голос ее был строг, и, сказав: «Если боишься, — стыдись, Гурий; если считаешь себя недостойным, суди не сам, а другие пусть судят», — она ушла.
V
Ученый секретарь ужгинской реставрационной комиссии профессор Зоил Федорович Черепахин совершал каждый вечер прогулку. Он выходил из музея, помещавшегося в бывшем митрополичьем доме, рядом с собором на площади Октябрьской Революции, — проходил, минуя дом протоиерея Устина, Собор, переулком мимо сада И. П. Лопты и спускался вниз, через Девичьи ворота, к Волге. Он стоял здесь пятнадцать минут и затем шел по берегу Ужги до чугунного моста. Он любил ароматы мокрых и скользких бревен и вычурную брань плотовщиков. Плотовщики часто приветствовали его хохотом: «Наше вам, профессор!» И он вежливо снимал свою черную шапочку и оправлял толстовку. Плотовщики вкатывают на берег мокрые бревна, бревна гулко подпрыгивают, сияют, и так приятен развороченный бревнами песок. В этот вечер профессор З. Ф. Черепахин совершил свою прогулку необычайно быстро. Он забыл дома часы, забыл остановиться у Волги и направился прямо в чайную «Собеседник», держа в руке очень неразборчиво написанное открытое письмо со штемпелем «Москва». По дороге он спросил встреченного плотовщика, не видал ли тот в чайной «Собеседник» некоего Луку Селестенникова, и плотовщик ответил утвердительно. У самой чайной профессора задержали хранитель библиотеки и местный правозаступник И. Л. Буценко-Будрин в рыжей крылатке с огромным капюшоном и с черными усищами, казалось, падающими за плечи дальше в капюшон, и капитан парохода «Полярное сияние» Борис Тизенгаузен, хромой инвалид — пленный германской войны, прозванный за тяжелую свою походку «капитан Железная Нога». И у них тоже профессор поспешил спросить, не видали ли они Луку Селестенникова и не сможет ли Буценко-Будрин, лучше профессора знакомый с местными условиями, посоветовать профессору какую-нибудь общественную работу, нагрузку, так сказать?.. И. Л. Буценко-Будрин весьма удивился, так как профессор всегда несколько иронически относился к общественной работе. Вечер был душный. Вертела река жаркие круги сухого тумана. Профессор был бледен и потен, он стремился к чайной, открытое письмо в его руке трепетало. И. Л. Буценко-Будрин пожелал узнать причину волнения профессора, и тот, глядя в окно чайной, где плотовщики, окружив высокого старика (в мерлушковой шапке, несмотря на лето), рассуждали, что хитрый И. П. Лопта, схоронив у себя дочь владельца Мануфактур, сестру сумасшедшего Афанаса-Царевича, единственную наследницу, — если посметь так выразиться, — миллионнейшего состояния, воспитал, а теперь за кого отдаст он ее замуж, за епископа, который приехал? Снынче, если епископы алчны на плоть, они могут жениться, глядя на А. Щеглиху, странную и веселую женщину, которая приезжает в Кремль периодически, скучает по Москве, рассказывает об Европе и Азии, она толста, ей много лет, но жизнь, видимо, не проходит мимо нее, она вливается в ее тело никому не известными притоками, она стоит за прилавком подбоченясь, через розовую кофточку видно, как ее огромные груди лихо оттягивают черный бюстгальтер, — профессор сказал, видимо, восхищаясь крепостью и долговечностью ее сил: «У моего покойного сына, Илья Леонтьевич, у Доната, как вам известно, погибшего на французском фронте, была некоторая мания коллекционировать желтые осенние листочки. Весьма любопытные листочки встречаются!.. И вот Лука Селестенников тоже, слышал я, коллекционирует осенние листочки, и я об этом хотел бы очень побеседовать, так как я сильно любил и люблю своего сына. К сыну моему, Илья Леонтьевич, похаживал приятель, знаменитый, говорят, оратор на военные темы и плохой актер тогдашних императорских театров, ныне академических, извините, я еще там не был, и актер этот погиб вместе с моим сыном во Франции! Моя жена тоже молилась за него, я к религии безучастен, но я не сопротивлялся. А сегодня я получаю открытку: он жив, он в России, он уважает мою общественную деятельность, а ее у меня нет как нет!.. Он собирается ко мне приехать, и встреча наша будет плоха как соль, в воде родилась, а с матерью увиделась и померла — он жаждет моей деятельности, а что я покажу его просвещенному уму? Вот я и хотел у вас попросить, Илья Леонтьевич, некоторых советов и указаний и, если даже можно будет, инструкций: что и как я должен миражировать, так сказать?..» Он сунул открытку в карман, к которой было протянул свою беззастенчивую руку провинциальный адвокат. Он, чтобы загладить неловкость, сказал то, что он хотел раньше высказать, когда смотрел на мощную А. Щеглиху: «Чрезвычайно любопытнейшую легенду перечел я сегодня в материалах по книге своей «Отрада»! Легенда сия ехидно утверждает, что население ужгинского Кремля произошло от тех семи пленных викингов, которых выкинули сюда татарские князья, ибо, видите ли, оные викинги отказывались от рабской работы. А был, при слиянии Ужги и Волги, тогда великий камень кругом и голь! И дали в насмешку викингам тем семь старых истасканнейших девок, не только не годных для потомства, но и для таскания щеп. Что же произошло, смеем мы спросить летописца ужгинских покоев? А он говорит, что викинги поймали на плато, так сказать возвышенностей Рог-Наволог, горного козла. Козел сей был, уверяют меня, приучен: козел стал давать молоко и шерсть, пленные викинги соорудили ткацкие станки, они воздвигли укрепления, и когда пришли татары, чтобы отобрать у них продналог и кустарные изделия, они, не обладая даром речи, вооружились. Они прогнали татар, дорогие мои, и вы заметили, что кирпичи зданий — крепостных зданий и стен — складены на неком, неизвестном нам, составе извести и их весьма трудно отделить, и летописец, кажется мне, намекает на секрет этого состава, но я не поэтому вычеркнул легенду из своих материалов, — главный цинизм легенды в том, что летописец, монах, святая душа, утверждает, будто пленные зажгли кровь у девок, натаскали их так, — простите за охотничье выражение, — что девки дали обильный и крепкий плод!»
Капитан Б. Тизенгаузен, внимательно прослушав профессора, сказал так громко, что в чайной перестала греметь посуда; указывая толстым перстом своим, израненным в боях и в ремонтах разваливающегося парохода, на крепостные валы, сказал: «Я многое видел и перетерпел в своей жизни, граждане, но налево от моста, по остаткам кремлевских валов, среди, граждане, крапивы и прочего, я впервые в жизни вижу, чтоб на медведе ехал человек без шапки!»
И точно, даже и не с такими морскими глазами, как у капитана Б. Тизенгаузена, увидали все, что по валам, прокладывая широкую дорогу среди кустарников и лопухов, мчится с ревом громадный медведь и на нем отчаянно барахтается человек.
VI
Еварест Чаев за свою короткую жизнь испытал много бедствий. Он пришел к выводу, что при современных условиях красота, которой природа наделяет своих немногих любимцев, часто служит во вред и намекает на покое, малоподходящее для карьеры, происхождение. Он любил мать, но и любовь к матери, при современных условиях, тоже может принести много огорчений; мамаша его Ольга Павловна могла изыскивать и расти, как репа: в землю блошкой, а из земли лукошкой, его ж природа лишила дара ловкости. Он ссорился с матерью, мать его уговаривала исполнять работы, часто противные его возвышенной душе и пышному мироощущению! Последняя их ссора закончилась тем, что мать поплыла вниз к Астрахани с иконами, а он отправился из своей слободы Ловецкой, что была на Туговой горе и где жило много кустарей, изготовляющих знаменитые светские лаки, пешком в Кремль, дабы снять копии с фресок собора Петра Митрополита, по коим снимкам кустари, добавив соответствующую идеологию, изготовляли бы трудовые процессы или заседания волисполкомов. Он пошел окружными путями, минуя Мануфактуры, так как в одном селе у приятеля думал занять на житье некоторую сумму. Приятель же не только отказал, но даже не накормил обедом, а предложил послушать радио, коего он был великим мастером. Е. Чаев еле добрел до лугов, за которыми кочанились ужгинские огороды. Ему было скучно жить на свете! У него две пары штанов, одна будничная, которую носить даже в деревне стыдно и над которой даже в деревне смеялись, а вторая, праздничная, пронашивалась. Штанов же на рынке все меньше и меньше, и цена на них поднимается. Не доходя до кремлевских огородов, он должен был в укромном месте надеть свои праздничные штаны. Он все же дошел до огородов. Но и отсюда дорога к Кремлю длилась бесконечно. Жирная пыль злобно восседала на ней. Е. Чаев увидал подле дороги кирпичный сарай с окнами, забитыми досками, и сторожку. Из сарая пахло сеном. Рваный еще больше, чем Е. Чаев, сторож вышел на порог избушки и чесал лениво живот, громоподобно вздыхая. Е. М. Чаеву не хотелось унижаться перед оборванцем. Е. Чаев переночует в сарае, чтобы рано утром следующего дня, по росе, в унизительных штанах дойдя до Кремля, искупаться в Волге, — и войти в ворота Кремля опрятным и переодетым!.. Сторож ушел было, но вернулся, поставил на костер чайник, уныло и долго чесал живот, как будто сбираясь посеять на нем злаки, — Е. Чаев завернул в сторону сарая, скрытую от сторожа. Кривобокая ель торчала подле стены. Е. Чаев влез, по суку дополз до окна, оторвал прикрепленную гнилой проволокой доску, заглянул в сарай, там было темно, тихо, обильно пахло сеном, и, протянув руку, он нащупал мягкое луговое сено. Он сразу же почувствовал неодолимую усталость! Он влез в окно и, не имея уже сил ощупать хотя бы палкой сено, вздохнул, сонно вспомнив детство, когда бойкая мать кричала ему: «Лоб перекрести», перекрестился, плюхнулся!
VII
Водитель медведей Алеша Сабанеев, происходящий все из тех же кустарей слободы Ловецкой, знаменитой своими светскими лаками, забракован был к работе из-за грубых рук. Алеша Сабанеев был черен собой, похож на азиатца, и, чтобы досадить своим односельчанам, он сдружился с цыганами, пел выдуманным и крикливым голосом непонятные песни, — цыгане доверили ему водить зверей. Он оказался весьма искусным водителем, слегка замысловатым и мечтательным, правда, — цыгане предложили ему ехать в Москву. Двое цыганят с бубном сопровождали его. Он пошел. Медведи капризничали, у них болели животы, подвод по случаю уборки хлебов было трудно найти, да и для того, чтобы везти больного медведя, лошадь надо найти особо смирную.
Последний переход под [ужгинский] Кремль получился чрезвычайно утомительным. Алеша Сабанеев мало надеялся на возможность добыть квартиру для своих медведей в Кремле, — почти все кремлевцы имели скотину, хозяйство, а даже курица, и та боится медведя и плохо спит, поэтому Алеша очень обрадовался, когда сторож у огородов согласился пустить на ночевку медведей и вожака. А Сабанеев лег спать вместе с медведями. Он устал, заснул быстро, и так как медведи всегда внушали ему беспокойство, то, проснувшись, он остолбенел, ему в свете зари показалось, что медведь влезает в окно. Заря освещала высохшие цветы странным светом, напоминающим водку зубровку, — и засохшие цветы расцвели!.. И тут только он разглядел короткие ноги и вздох человека, который так желает отдохнуть, что почти заснул. Человек прыгнул! Раздался испуганный медвежий рев!.. Сено поднялось бешеным вихрем, — все смешалось в голове Сабанеева. Затрещали стены сарая. Сторож выскочил и ошалело ударил в чугунную доску. Сторожу казалось, что стены сарая колышутся, что пыль хлещет над падающими стенами. Из сарая неслись крики и вопли медведей. Ворота дрожали. Сено прорывалось из окна. Сторож трепетно думал, что напрасно он прельстился жалким вознаграждением, которое ему обещал цыган, и возможностью лестного разговора с водителем медведей, которым можно было бы позже похвастать кое-кому и в Кремле.
VIII
Четверо искали ночевку. Вавилов шел позади и от усталости не мог ни соображать, ни сопротивляться. Четверо хотели сначала остановиться у Гуся-Богатыря, знаменитого пьяницы Мануфактур, но тесная хибарка его была плотно забита кутящими. Гусь весело закричал: «Приходите через неделю, думающие!» Четверо пошли спать к шинкарке Арясивой. Рядом с шинкаркой, в зеленом домишке, проживала самая дорогая из гулящих «сорокарублевая» Клавдия. Четверо купили водки, заказали самовар. Вавилов, чтобы передохнуть, лег во дворе на бревна. Но и на бревнах было слышно, как Колесников науськивал Пицкуса на Лясных и как хвастался, что жена его не видела семь лет, а он не спешит в богатый дом к «пяти-петрам», а лег спать с друзьями. С. П. Мезенцев тоже пожелал изумлять друзей, он выпил стакан водки, завизжал: «Изоляторничал я много раз и ради друзей могу по первому зову!..» И чтобы доставить радость четверым, чтобы показать мир с Вавиловым, он вынес ему ломоть арбуза. Вавилов подумал: не стоит есть, но съел. К водке его не звали! Он томился, но просить водку было стыдно. Он задремал. Его разбудил молодой и длинный смех. У забора стояла Клавдия — он узнал ее по описаниям. Рассказывали о ней, что получает она от заказчиков по сорок рублей в ночь, поет песни лучше любой цыганки, говорит лучше любого оратора, да и ткачихой была из лучших, а вот затомилась — пьет и любит пьяниц! Она с любопытством смотрела, как четверо гремели посудой, как Колесников перекатывал в розовых ладонях арбуз, как С. П. Мезенцев вопил: «Минирую события с сегодняшнего дни, минирую во что бы то ни стало…» Клавдия спросила:
— А тебя, рыжий, не угощают? Плохо жалобничаешь? Вот натешатся — перепадет и тебе стаканчик, жулики они, поломаться любят. Безработный?
— Ищу.
— Коммунист?
— И сам не знаю теперь.
— Видно, изухабили рыжего! Не опирайся, парень, на лед; не доверяйся, парень, коммунистам. Скажут тебе: пришел в Мануфактуры, запишись на биржу; а там и без тебя, рыжий, пять тысяч али больше… А они больше тебя понаторели в безработице, и не переждать тебе их, рыжий Вот я тебе и говорю: повиснешь ты через неделю или через месяц на кривом суке.
— А сказывали про тебя, Клавдия, что ты весела и утешительна.
— И о плечах тебе моих сказывали?
— Сказывали и о плечах.
— И о грудях, рыжий, сказывали?
— Плохо запомнил.
— Видно, не плохо. Так вот, если бы у тебя имелось сорок, я тебе бы пропела, что, мол, рыжий, хоть Волга и начинается с ключа, а впадает она в море. И еще, может быть, сказала, рыжий, что огонь ты на голове носишь, как светец. А бесплатно чего ради я изъерничаюсь перед тобой своей душой? Ты ведь даже не пожалеешь меня.
Вавилову было приятно разговаривать с ней, так как разговором своим он досаждал четверым, не угостившим его водкой. Они в избе затихли, слушают. Вавилов, как и всех женщин, Клавдии несколько опасался и несколько презирал, но, желая еще больше досадить четверым, он громко сказал:
— Было б сейчас у меня не сорок рублей, а последние сорок копеек: так я бы тебе их отдал, Клавдия.
— Ой, как растрогал, ой, как зажег, купец! Изъяснился, рыжий, полюбила я тебя, замуж за тебя выйду, на производство вернусь, — не надо ли высококвалифицированной ткачихи, товарищи? А товарищи поцелуют раскаявшуюся Магдалину и заплачут. Ты знаешь, кто такая Магдалина, рыжий?
— Нет.
— И начнем мы, рыжий, работать на фабрике, и поднимется на нас зависть. Про тебя скажут, что ты офицер или незаконнорожденный сын фабриканта, — потому что я тебя, рыжий, в директора проведу, на моторе будешь кататься, а меня… — Она скинула шаль и похлопала себя по круглым и белым плечам. Она была довольна собой. Она посмотрелась в карманное зеркальце. Она уже забыла о Вавилове. Она перескочила через забор и подошла к порогу: — Колесников, тебе надо к жене идти, сколько лет она тебя ждала? Семь?..
— Семь, — прогремел Колесников самодовольно: семь и еще семь может ждать.
А я вот социализму восемь лет ждала, и не хватило жданья. Гнилое сердчишко, Колесников, гнилое. — Она обернулась к Вавилову: — Я, рыжий, жадная, и ты жаден на деньгу: не ходи на биржу, ступай сейчас же к директору и поклонись, а получишь первую монету, неси ко мне, мы с тобой вместе за водкой, — и позже, — капитализм будем вспоминать. А то ты сейчас работаешь-работаешь, а будто пух летит паном, а в воду упадет, и до дна не дойдет, и воды не всколыхнет… Не выйдет у тебя с директором, ко мне вернись, предайся унижению, рыжий, я тебя поцелую в лоб твой веснушчатый и приведу тебя перед очи Парфенченки, заведующего Новой фабрикой, он ко мне сегодня сорок рублей или больше принесет…
Она зашла к четверым, выпила водки. С. П. Мезенцев посмотрел на Вавилова с пьяным омерзением. Вавилов поспешно ушел.
Деревянный забор, наверху обтянутый проволокой, огибал фабрику. Вавилов увидал Правление. Он понимал, что та досада, которую он хотел причинить «четырем» душевным разговором с Клавдией, не удалась. Если он окажется ловким и поступит на фабрику, он сегодня не уйдет от шинкарки, от «четверых»…
С отчаянным лицом он предстал перед директором и сказал: «Я хочу на производство». Директор, толстогубый и курносый, в кепке и в очках, наслаждающийся своим правильным пониманием нужд рабочих, принял его отменно вежливо. Он сказал: «Партийный? А если партийный, дорогой товарищ, ступайте в уком, там вам сначала нагорит, чтоб не дезорганизировали работы фабрики, а затем вас направят на биржу». И он еще вежливее спросил, поднимая с пола окурок, брошенный Вавиловым: «Высокой квалификации?»
И Вавилов, понимая, что говорит с обидным, и для себя и для директора, хвастовством, все же сказал: «Без квалификации». Вавилов вернулся к шинкарке. С. П. Мезенцев, любуясь его унынием, налил ему водки. Вавилов выпил. П. Лясных взволновался, узнав об отказе директора. И тогда С. П. Мезенцев тоже взволновался, он объявил, что сейчас продемонстрирует, как надо поступать на службу. Он ушел, но вернулся быстро. Колесников спал пьяный. С. П. Мезенцев сказал значительно: «Назначено в одиннадцать». В одиннадцать они были у Клавдии. Весь передний угол ее комнаты увешивали иконы в серебряных ризах. Конопатый и седой человек лежал в кровати. Он курил трубку. Глаза его, умные и усталые, вяло отвернулись от Вавилова. Это был Парфенченко, заведующий Новой фабрикой, человек, который проработал на Мануфактурах около сорока лет, многое узнал и многое, кажется, скрыл. Он спросил, играют ли ребята (насколько ему известно, двоюродные племянники Клавдии) в шашки? Клавдия сказала: «Если ты, рыжий, думаешь, что мне надо сорок твоих рублей и ради этого я забочусь, так сдохни лучше на месте». Парфенченко прервал ее: «Клава, подай доску». Она подала. Вавилов с удовольствием обыграл Парфенченко три раза, тот его осматривал с какой-то снисходительной боязнью. На четвертый раз Вавилов запер три дамки, и Парфенченко, мешая шашки, решил: «Толку от тебя не получится, рыжий, но приходи ко мне завтра в десять утра, выдам служебную записку».
IX
Чаев прыгнул, покатился сеном, и то, что произошло дальше, как бы удлинило его прыжок. Сено перешло в шерсть, шерсть поплыла, стала тяжелой, склизкой, пальцы его одеревенели. Сумка и палка его потерялись, ноги его отяжелели, и, долго спустя, он понял, что его окружил нестерпимый рев. Зловонное дыхание опалило его лицо! Он думал, что, держась за шерсть, он сможет скрыться. Он чувствовал, что ему не следует кричать, и все-таки закричал, и чем больше он кричал, тем крепче он хватался за шерсть, и тем нескончаемее длилось зловонное сено, в котором он метался и которое проткнуло ему глаза. Колеблются стены; трещат доски; какая-то доска больно ударила его в плечо, словно стараясь снять его со шкуры, и как только она попробовала его снять, он решил, что медведь (теперь он понимал, кто его волочит) — немедленно подомнет его под себя. Ему надо кричать как можно громче — и он кричал! Медведь понесся; острый ветер прыгнул в лицо Чаева. Он попробовал открыть веки, но ветви кустарников впились ему в глаза, и то минутное наслаждение, которое овладело им при мысли, что он не ослеп, исчезло. Ветви хватали его за горло; он склонился, прильнул к шкуре, он кричал в шкуру. По ногам его больно било железное, должно быть, цепь. Он почему-то был уверен, что медведь мчится по обрыву Волги и как только медведь бросится в Волгу и как только его шерсть станет мокрой и Чаев не сможет держаться, — медведь кинется на Чаева… и страх еще больший, чем тогда, когда он упал в сено, овладел Чаевым. Он захотел попытаться одной рукой схватить ветку кустарника, но едва смог сорвать несколько сухих и жестких листьев, обжегших ему руку. Но, сорвав эти листья, он уже поверил в спасение. Несколько мгновений спустя он смог опять оторвать одеревенелую руку от шерсти и протянуть ее во тьму. Тяжелый сук впился ему в руку. Чаев хотел было приподнять свое тело, но сук сломался, медведь подпрыгнул, — Чаев открыл глаза. Змееныш, ловивший, должно быть, на суку последние лучи солнца и не успевший сползти, — взглянул на Чаева. Чаев закрутил ветку, змееныш скользнул ему на руку. Медведь попил! Перевернутый Кремль где-то несся позади глаз Чаева! Рвы и лопухи вскочили на него, смяли его с воем. Консервная банка, пустая и ржавая, лезла ему в рот! Розовые раковины упали ему на уши. Он покатился, и медведь, самодовольно урча, навалился на него!..
Глава вторая
о том, как Колесников встретился со своей женой, которая ждала его семь лет; как маховик смеялся в большом и голубом окне; как Иван Лопта приказал сломать забор и составил опись и что говорили об этом и о другом «четверо думающих»
I
Профессор — не вождь, для него и подворотня окоп! Он готов был сознаться в этом, когда увидал бегущего по рвам к мосту медведя. Капитан Б. Тизенгаузен имел мужество высказать: «Шесть лет стою я на пароходе «Полярное сияние», и что же мне о нем говорят: по Волге он не ходок, рассыплется, а в реку Ужгу спустить нельзя, ибо учреждения не берут на себя задачи разобрать мост и пропустить мой пароход, который бы и крейсировал от Мануфактур к Кремлю. Я пытался пройти несколько раз в половодье, но какое здесь половодье — вода по колено, едва заливает Ямский луг!» И адвокат И. Л. Буценко-Будрин смог резонно возразить капитану: «А что и кого и по какому тарифу вы будете перевозить?» Но капитан Б. Тизенгаузен сказал, еще раз вглядываясь в рвы морскими своими глазами: «Несомненно, это ревущий медведь!» Медведь уже мчался по рву, подле чайной. Он ревел, и вокруг него визгливым сиянием кружилась цепь, и человек замер на нем. Кони ломовиков сорвались. Профессор бросился на мост. Кремляне из чайной тоже устремились к мосту. Все почему-то думали, что спасение в воде и что медведь кинется вверх, в Кремль. На мосту от зари еще цвели корни арбузов и недоеденные огурцы. Люди спотыкались о них. Под мостом кочегар и единственный помощник капитана Тизенгаузена качался в лодке: он каждый месяц проверял, не покачнулись ли сваи, не пора ли разобрать мост и не пора ли сообщить об этом очередным владельцам парохода, ибо каждый год пароход невидимо переходил из одного учреждения в другое. Сам капитан Тизенгаузен отстал от профессора; капитан стоял и думал: развинчивать ли ему железную ногу для обороны или же ограничиться пинком медведю? Кочегар крикнул, чтоб капитан прыгал в лодку, на это капитан Тизенгаузен вполне нравоучительно ответил ему, что прыгать вредно, так как он пробьет своей ногой борта и даже дно лодки. И тут-то вот профессор З. Ф. Черепахин наконец-то получил возможность говорить с Лукой Селестенниковым, который вышел из чайной и, спокойно идя по мосту, как будто не замечая суматохи, встретил сына своего, служащего Мануфактур, инженера Трифона Селестенникова. Сын ехал на извозчике, одёр коего неустрашимо плыл по мосту навстречу медведю, всем своим существом показывая, что ему равно издыхать: от голода или быть задранным медведем. Трифон Селестенников сказал отцу то, чем хотел профессор начать свой разговор и чем он не начал, так как тело его ослабло и обвисло. Он даже не нашел сил крикнуть кочегару: «Разрешите мне прыгнуть в лодку?»
— Я удивляюсь, отец, у тебя свидания в Москве с наркомами, мы ждали твоего возвращения через неделю в Мануфактуры, а ты, при непонятных для меня обстоятельствах, слез в Кремле, а?..
— Я очень признателен, Трифон, что, кроме винтиков в машинах, тебя интересуют винтики, которые приводят в движение людские жизни. Ехал я на пароходе и думал, что раньше люди строили дворцы, надежда найти в них счастье одушевляла их, — так сказать, ныне же строят машины, и сие одушевляет их. Тоже надеются на счастье! Оптимизм — он неистребим, дорогой. Я подумал, что не стоит мне бросать мои плоты и выгодную работу с Иваном Петровичем Лоптой и к тому ж что-то не хочется тебя спасать и делать хлопок. Руками дураков, подумал я, ловят змею — и слез в Кремле. К тому же, на пароходе и стерлядь тухлая.
— Ты притворяешься, Лука, я знаю, какие мотивы руководили тобой, когда ты слез с парохода. Я проверю, и едва ли ты меня увидишь, если подозрение мое окажется правдой. Кто тебе передал записку от Лопты на пароход?
Лука Селестенников не ответил сыну. Он только пробормотал что-то вроде того, что, мол, не сам ли ты, Трифон, охвачен искомым тобой волнением, и Трифон, больше почувствовав, чем услышав его слова, велел извозчику повернуть. Толпа ринулась, унося с собой профессора к чайной, у которой пал медведь. Медведь задохнулся. Человека, которого он волок на себе, отливали водой. Змея уползла в лопухи, ее искали мальчишки. Лука Селестенников, сердясь на сына и на себя за неудачный и лживый разговор, пытался полюбоваться плотами. Их приплыло много; шли в обход их, за милостыней, нищенствующие ужгинские попы. Они шли, подбирая рваные рясы, и рясы все-таки шелестели, задевая съежившуюся кору, отскочившую от бревен, только что выброшенных на берег. От бревен пахнет глиной, и вода маслянисто виснет на зеленоватых боках их, на боках, которые много дней колыхались по водам Ужги.
II
Вавилов поступил на фабрику. Парфенченко, как и сказал, встретил его в десять, скучным голосом расспросил Вавилова о прежних работах и дал к директору «служебную записку». Вавилов понимал, что нелепо идти к директору, который только что отказал, и он направился к его заместителю. Заместитель черкнул поперек: «Согласен». Вавилов подумал, что на этот раз ему удастся освободиться от присущей ему не то что боязни машин, а вроде желания обойти их. Дабы рассеяться, к тому же и похмелье стряхнуть, — он согласился пойти с Колесниковым, который наконец решил посетить свою жену Зинаиду, старшую дочь одного из «пяти-петров». Колесников сказал, что жена первая должна прийти, но Зинаида не шла. Колесников шагал хмуро, и видно было, что взял он с собой Вавилова лишь для того, чтобы тот рассказал четверым, как Колесников умеет обращаться с женой и тестем. Колесников писал жене большие хвастливые письма о занимаемых должностях, о карьере, а карьера обещалась, а на самом деле протекла где-то за спиной Колесникова.
Колесников был взят в дом «пяти-петров», когда они начинали строить первый дом старшему Петрову, Колывану Семенычу. «Пять-петров» рассчитывали на розовые руки и сильное туловище Колесникова, а он, после полугода гульбы и мечтаний, встретив на ярмарке «троих думающих», пошел с ними четвертым. Зинаида осталась одна, ждать. Она ждала, и вот, идя сейчас к «пяти-петрам», Вавилов думал, почему она ждала? Собой, как говорили, она была и крепка и хороша; ему любопытно было на нее взглянуть. А кроме того, сегодня, когда он сознавал свою жизнь несколько устроенной и когда он мог быть к себе несколько осуждающ, он согласился с мелькнувшей мыслью, что его всегда прельщала состоятельность и жадность людей к деньгам. Он извинял это в себе, так как ему за всю его жизнь денег видеть пришлось мало, жалованья он никогда не получал больше тридцати рублей в месяц, а когда на последней службе пообещали сорок пять, он был сильно доволен.
Колесников самоуверенно вошел в дом. Зинаида была действительно хороша, особенно удивляла в ней превосходная шея, да и голос у ней был отличный, и платья она любила носить такие, которые показывали ее шею и как бы обнажали голос. Колесников попросил сразу же водки; с хохотом, неумело, стал врать, как четверо устроили Вавилова и как они напугали А. Парфенченко, поймав его у Клавдии-сорокарублевой, и Парфенченко принял Вавилова, будто высококвалифицированного, без биржи. Зинаида, откинув назад голову, внимательно слушала и внимательно приглядывалась к Колесникову. Ее недавно выбрали цеховой делегаткой, и ей хотелось рассказать Колесникову, что ее кандидатуру хотят выставить от завода, в числе других выдвигаемых ткачих, в уездный и городской советы. Ей было противно смотреть на рыженького задорного человечка, которого Колесников привел с целью похвастать своей силой перед «пятью-петрами», и еще ей было противно смотреть потому, что у нее скользнула мысль о том, что не напрасно ли она ждала и верила письмам мужа семь лет! И чем дальше, тем больше Вавилов возбуждал и в ней и в «пяти-петрах», сидевших рядком на венских стульях, негодование и отвращение. Вавилов находился в доме старшего из «пяти-петров» Колывана. Угощенье готовила младшая его дочь Вера, та, которую встретили на шоссе Гурий и его отец.
«Пять-петров» сильно любили и уважали друг друга, они даже завертывать папироски стремились из одного портсигара, то вынет Колыван — закурят, то вынет Яков, то Зиновий, прозванный Журавлем, то Костя, тоже с прозвищем, которое он очень любил, — Чираг. В двадцать первом году, после войн, когда Зиновий возвратился из германского плена с душой, наполненной чудесами немецкого духа, — по щепочке и по гвоздику собрали они и выстроили Колывану дом. Строить они начали на пустыре, отделенном канавой и высоким забором от лесных складов Мануфактур. Колыван Семеныч рассчитывал, что за ними пойдут постройки, и он не ошибся, — теперь, кроме трех домов, сооруженных братьями Петровыми, и срубом для четвертого, — рядом и позади Колывана тянулись три улицы домов.
«Пять-петров» гордились своей затеей, и гордился жадностью их и хозяйственностью их — весь поселок. В доме их чувствовались сила и накопление, они разводили породистых коров и свиней, на столе Вавилов увидал сельскохозяйственные журналы, в углу под иконами чернело радио, и Колыван объяснил, что слушает он по нему законы; после закуски они обещали завести граммофон. Все это крепкое хозяйство напомнило Вавилову ижевских и вятских рабочих, тоже крепких и основательных, которые в свое время составили две дивизии из рабочих за Колчака, — и бились эти дивизии с Вавиловым крепко… Колесников погладил Зинаиду по шее и спросил Манилова:
— Есть ли у кого жена красивей моей, как полагаешь?
Вавилова раздражала привычка Зинаиды откидывать голову назад, — и он сказал:
— Нынче спрашивают — не красивей, а умней! — И он сразу понял сказанную им обидную глупость, которую «пять-петров» запомнят, и они, точно, один за другим посмотрели на него медленно, и старший Колыван отозвался:
— Одно, что она верна, — это, гражданин милый, уже ум. Она семь лет глаза поднимала только на родных. Изъяснился ты!..
— Есть чему радоваться, — сказала Зинаида мужу с неудовольствием, и опять закинула назад голову.
«Пять-петров», все еще думая об обиде, нанесенной им Вавиловым, смотрели в пол. Марина Никитишна, жена Колывана, собрала в беседочке, аккуратно сбитой из досок и даже окрашенной, среди малинника, — закуску. Она несла бражку и ласково напомнила мужу, не помнит ли он, как она раз, сготовивши тоже бражку в бочонке, попробовала его всколыхнуть, и как выскочила пробка, и как ударила бражка пеной, и побежала она на фабрику, с перепугу, за мужем, а дорогу к мужу она перепутала, и вывел ее в цех Колесников, и был тогда Колесников еще с полными волосами… Колыван Семеныч прервал ее:
— Отличное время было, хотя и при капитализме: теперь и фабрику-то огораживают, как окопы, да еще и с пропусками, и на бражку-то надо от пайка отделять…
Марина Никитишна продолжала, собирая тарелки, что побежали они с мужем домой, а пока прибежали, бражка-то и вытеки.
«Пять-петров» взялись за стол, чтобы нести его в беседку. Зиновий отстегнул пояс с револьвером — он служил милиционером. Стол был длинный и крепкий, видимо, сделанный своими руками. Все пять несли стол легко и быстро. Они высоки и загорелы. Малинник вычищен, приглажен, и ягоды в нем в меру зрелые, покрытые легким пушком, и весь малинник в чуть заметной, хозяйственной паутине. Вера поставила на стол четверть с бражкой; Колесников гудел в доме; Вавилов плохо разбирался, почему он пошел за «пять-петрами» и за их столом.
Они сели. Вавилов стоял перед ними. Они смотрели на Вавилова. Они не приглашали его сесть. И Колыван Семеныч сказал торопливо, пока еще не пришли женщины и Колесников:
— Ну что, рыжий, чужой хлеб науживать явился? Жри, слякоть!
Они смотрели теперь на него нагло и весело. Он отошел, пощупал волосы.
Они захохотали. Он направился к воротам, младший сказал, заливаясь смехом:
— Щеколду не проглоти со страху!
III
Он тяжело перетащил свое тело через порог калитки. Остро пахучила улицей фабричная пыль. Он опустился на лавочку у ворот. Трое: Мезенцев, Пицкус и Лясных играли в карты подле забора. Пицкус вытянул к нему маленькое волосатое ушко. С. П. Мезенцев злорадствовнул:
— Доведывался до пяти-петров, рыжий?.. Вижу, удачно…
Из-за угла, размахивая руками, выбежала милиционер-женщина в коротенькой юбочке цвета хаки. Что-то крича, она устремилась вдоль улицы, туда, где виднелась ярко-голубая крыша Правления фабрики. Пицкус устремился за милиционером. Послышался свисток. Взвизгивавшая собака в малиннике «пяти-петров» (изредка слышно, как Колесников милостиво дразнил ее костью) залилась. Калитка распахнулась, и Зиновий-милиционер, пристегивая револьвер, понесся к Правлению. Он весь погрузился в величие своего перепоясывания.
Событие и место, которые разнюхал Пицкус, достойны более ярких красок и сильных слов, нежели те, коими располагает описатель замечательных дней Кремля и Мануфактур.
Пицкус увидел Правление, и Пицкус увидал и услыхал Бухгалтерию! Перед ним длинным полем раскинулись столы, неисчислимое количество синих абажуров поникло, колыхалось, плыло. Под абажурами с костяным шелестом топтались бумажки. Словно изогеотермы и словно изогиеты проносились среди бумаг, испуганно повисших на арифмометрах и ундервудах, — десятки, сотни комиссий и ревизий. Умоисступленно они требовали справок! Никакой лунелабий не смог бы измерить величия комиссий! Вотще инферии взывали к их жалости и снисхождению!!!
И вот к этому таинственному и разговорчивому дому под невероятно голубой крышей явился Измаил на своем коне «Жаным». Грохоча и размахивая саблей, пронесся всадник по всем маршам лестниц. Отрясая седую пену с удил, замер конь у перегородки подле белесой машинистки, необычайно грустной (так как в свободные, редко свободные, минуты она считала, сколько ей вчера раз сказал «люблю» ее милый; сегодня ей нечего было считать — милый покинул ее).
Измаил поднял саблю над зачесанными назад, вбок, вперед, над лысыми, считающими и соображающими, над белесой и грустящей машинисткой, — вознес свою сталь с изображением знаменитой обезьяны — «Мамун» (Измаил поссорился сегодня со своим сыном Мустафой); Измаил жаждал подвигов, он возопил:
— Кто из присутствующих здесь офицеры, кто имеет золотой волос на виске и кто ослепил моего отца?
Неисчислимое количество синих абажуров замерло. Ревизии и комиссии, что похожи на изогеотермы или изогиеты, торопливо вписывали в формуляры бухгалтерам сей пугающий шум и голос. Но вот в зал пожаловал милиционер, ревнуя к порядку, он требовал, чтобы Измаил слез с коня. Измаил и к нему возопил, но милиционер в юбке цвета хаки сказал:
— Разберемся в протоколе.
Так рассказал вернувшийся Пицкус об Измаиле всем «думающим». Вавилову не помогла та мысль, что имеются страдающие больше, чем он. «Четверо думающих» стояли перед Вавиловым и вопили на разные голоса, и С. П. Мезенцев кривлялся, сверкая своим приятным брюшком:
— Нет, ты скажи, рыжий, если не трусишь, почему медведь вбежал в Кремль и с кем?
— Нет, ты подумай, рыжий, почему ждала баба Колесникова?..
— Нет, ты узнай, рыжий, почему И. П. Лопта устраивает православный средник в своем доме?
— Нет, ты скажи, рыжий, что можно утырить у И. П. Лопты?
— Нет, ты подумай, рыжий, какой разговор хочет вести профессор с Лукой Селестенниковым и почему задержались плотовщики и не возвращаются вместе с Лукой Селестенниковым в лесные свои дебри, где есть прекрасные болота, наполненные дичью и ждущие страстного охотника Луку Селестенникова, и о какой канаве намекал профессор среди плотовщиков?..
Давно уже «четверых думающих» пригласили пить водку в малинник; давно уже унылый Рабочий сад, запущенный и сырой, принадлежавший некогда капиталистам, осветился тонким электричеством, и робкое кино затрещало; давно уже лесной склад и ржавые бока цистерн, затерянных среди его просторов, померкли; давно уже от реки, кривой и лукавой, как «пять-петров», отбелило луга до мертвенной пустоты, — а Вавилов сидел на лавочке, и мысли в его голове бестолково тыкались из стороны в сторону.
IV
И. П. Лопта призвал сына своего Гурия, желая посоветоваться с ним: когда можно и как передать скопленное и сохраненное от фининспекторов имущество — Церкви и общине, арендующей собор Петра Митрополита? Община слаба, в ней всего восемьдесят человек и бедных, вдобавок. Гурий, видя что отец неистовствовал гордым смирением, Гурий ответил осторожно, что придумано вовремя и что необходимо возможно крепче оформить. П. Лопта остался доволен сыном. И. П. Лопта занимал пост председателя церковного совета собора. И. П. Лопта сообщил на общем собрании прихожан о своем даре общине. Горкомхоз предлагает произвести ремонт собора, и если суметь продать дом, то искомые деньги найдутся, да и без того дом сможет принести немалый доход, так как к нему привыкли плотовщики; теперь же, когда узнают, что дом принадлежит церкви, в нем останавливаться будут в большем количестве, нежели прежде. Маловеры из общины увидали в измышлениях И. П. Лопты некий неизвестный ход, но большинство общины одобрило, и дьякон Евангел, размахивая руками, предложил что-нибудь сделать. И. П. Лопта, горя рвением жертвы, жаждал, чтобы община немедленно приняла имущество. Себе он просит оставить дедовский сундук, тот, который окован жестью. Лопта стыдливо улыбнулся и добавил, что дед верил в сундуково счастье и что сам Лопта не потерял надежды на умиротворение. Собрание выделило комиссию, пропело молитву, и курносый Захар Лямин, стремящийся к работе, но принужденный жить на пенсию своей жены Препедигны, невенчанной даже, ибо Препедигна боялась потерять свою пенсию за убитого в перестрелке с бандитами мужа — З. Лямин высказал пожелание, что в такой великий день жертвы все члены общины работали б во имя Христа, и хотя известно, что хозяйство И. П. Лопты отменно, но нет ли в нем какого-нибудь изъяна, который исправить бы общими силами, тем самым закрепив внутри себя Христа. Собрание одобрило речь Лямина о «среднике», собрание воодушевилось; Лопта сказал, что надо бы исправить забор в саду, а то яблоки поспевают, от них в общину вложение, а мальчишки кремлевские озорничают.
Община вышла в сад. Община решила проложить дорожку и пробить в заборе калитку, дабы из сада сразу попадать к собору. Калитку пробивали рядом со сторожкой, крошечной и замшелой, — забор тут сильно перетлел. Натесывали топоры, жамкали пилы, в стружки врезался рубанок — дьякон Евангел блистал среди стружек, умиление охватило сердца, даже пчелы ласково гуляли среди ульев и не кусали работающих. Забор лопнул, пополз — вскинулся пред ними всей своей трехвековой массой собор! Ветхий и ласковый протоиерей Устин, не понимавший жизни, перекрестился и устало сел, он все подходил к орудиям, возьмет лопату, забудется и смотрит, как стружки сыпятся из-под рубанка Евангела…
Агафья собирала в сторожку лопаты и кирки. Пять тропинок проложено среди яблонь к калитке. На Агафье надето все то же старомодное бархатное платье. Тихая тревога овладела ею. Она видела много взоров, обращенных на нее. По всем пяти тропкам шли к ней люди с одинаковыми взглядами и с торопливыми жестами. Они несли лопаты, топоры, а кто шел и пустой. Яблони, изрешетенные розовыми плодами, висли над ними укоризненно. На первой тропинке, рытой цветными лопатами, которые принес Хлобыстай-Нетокаевский, заведующий типографией, недавно вступивший в общину, стоял он сам со своим прокуренным ртом, со ртом-язвой, со ртом-ямой. За ним Сережка Гулич, извозчик из Москвы, жулик, говорят, и сводник, приятель Щеглихи, владелицы чайной «Собеседник», и она сама, А. Щеглиха, позади Сережки весело смеется, сотрясая мощные свои телеса. На второй тропке, прокладываемой грубой киркой, так как там залежался щебень, стоял Ефим Бурундук, охотник-дачник с Туговой горы, большеголовый, коротконог. Ермолай Рудавский, бывший когда-то работником у Лопты и женившийся на его племяннице, изнасилованной фабричными, получивший за эту женитьбу десять тысяч; сам он состарился, и жена его умерла, а он все мучается этими десятью тысячами. Осип Аникиев, кроткий плотовщик и каменщик, и рядом с ним белесый Прокоп Ходиев, футболист, крючник. На третьей тропке его жена Ольга и Никита Новгродцев, тоже плотовщик, силач, кулачный боец, очень радующийся тому, что приехал в Мануфактуры Милитон Колесников, который хвастает, что возобновит «стенку». Алеша Сабанеев, водитель медведей, здесь же, он принес приветы от общины в слободе Ловецкой. На четвертой тропке, разговаривая с Милитиной Ивановной, женой немца Зюсьмильха, фактора монастырской типографии, бесследно исчезнувшего на войне, топтался курносый Захар Лямин, и жена его Препедигна фыркала на него. Архип Харитонов, приказчик из кооператива, молодой и, как говорят, ростовщик. Шурка Масленникова и ее сестра Надежда, недавно обращенные, кружевницы и прислужницы в чайной «Собеседник», и с ними Егорка Дону, воспитанник Милитины Ивановны, сын французика-коммивояжера П.-Ж. Дону, тоже скрытого войной, бойкий и востроглазый, поддразнивая, посматривал на Машу, дочь Милитины Ивановны, ленивую и тупую девицу. На пятой тропке, подле бани, были монахи-наборщики: Лимний, мучившийся бешенством своего пола; Феофил; Николай, вечно восхищенный землей; появился где-то сбоку высокий и полный, похожий на актера, Афанасий Тарре, последний из владельцев Мануфактур, прозванный за блаженный разум свой Афанасом-Царевичем, — взглянул на малиновое платье Агафьи, перекрестил воздух, грузно подпрыгнул и убежал.
Профессор З. Ф. Черепахин спутал своим появлением все пять тропок. Он по-прежнему выспрашивал, где ж ему найти Луку Селестенникова, и по-прежнему в руке его трепетало открытое письмо, теперь уже со штемпелем «Самара», и по-прежнему он перебивал свои расспрашивания какими-то никчемными разговорчиками и притчами. Так, посмотрев вслед Афанасу-Царевичу, он сказал:
— Тридцать лет человеку, кораблики пускает, а гуляю я третьего дня, наблюдаю в лугах курган, через который я некогда проводил археологическую траншею. Стою я у этой траншеи и думаю, хотя была империалистическая война и сын мой сражался на французском участке фронта добровольцем, заметьте, отец Гурий, — собой же я был жизнерадостен, переписывался с актером, он и теперь мне пишет, видите — письмо, — Афанас-Царевич прерывает меня: «Ты, профессор, канаву рыл, уже зная о потере сына. Ты рыл канаву и говорил всем уходящим: «Вот, видите, как я хорошо оплачиваю работу и хорошо с вами обхожусь, так знайте, что канаву я рою для того, чтобы разошедшийся во все стороны и во все страны народ рассказывал — каким изумительным от отчаяния способом профессор ищет своего сына Доната. Сын, растрогайся и вернись к отцу!» Я внес, сегодня же, эти измышления блаженного в книгу свою, собственно, в материалы свои под названием, собираемые, «Отрада». Здесь, ради бога, ради бога, не подумайте намек или некое контро с жизнью, отнюдь!..
— Уехал, — сказал подошедший к профессору И. П. Лопта, — уехал Лука Селестенников на охоту и вернется не раньше зимы.
— Невозможно, — испуганно воскликнул профессор, смяв письмо, — невозможно ему уехать, не поговорив со мной.
— Уехал, — с каким-то наслаждением даже повторил И. П. Лопта.
V
Они остались одни, эти трое стариков, — сухой Лука Селестенников, улыбающийся так, что улыбка наискось пересекала его лицо; Ермолай Рудавский, постоянно чем-то заостряющий свою душу, и И. П. Лопта. Все они трое сидели на лоптинском широком сундуке, на столе перед ними лежала опись имущества и денег, сданных И. П. Лоптой Общине собора Петра Митрополита. Лопта сидел напряженно, как бы изрывая изнутри себя гордость. Лука Селестенников рассматривал Евангелие, которое И. П. Лопта, вместе с сундуком, оставил.
— То, что я оценю эту вещь, едва ли вам важно, милый Иван Петрович, — сказал Лука Селестенников. — Евангелие это я отнесу к четырнадцатому веку, переплет к шестнадцатому, а вообще вещь дорогая. Раньше раскольники заплатили б великие деньги.
Лука Селестенников в этот день принес заявление о вступлении своем в члены Религиозно-православного общества при соборе Петра Митрополита. Л. Селестенников твердо желал остаться в Кремле.
— Не за вещь я держусь, а за Евангелие. Ты вот мне разъясни, зачем ты в Кремле остановился и зачем тебя профессор ищет и ты от него бегаешь, Лука?
— Профессор — ерунда. Пустой, Иван Петрович, профессор твой, как таракан: на быка похож, а и дома не любят и на базаре не купят. Или я ему должен, или он мне должен, как-нибудь нашарим друг друга. А причина моя, Иван Петрович, ехидная, хотя и крошечная, да ведь вон ласточка — маленький конек, а за море ходит… Ты вот лучше Рудавского спроси, он тебе легче о своей душе расскажет, я все в сторону сворачиваю.
— А я безотлучничаю при одном помысле, Лука Егорыч, — безумничая изгрызенными губами, ринулся в разговор Е. Рудавский. — Вот не знаю, вспоминает ли Иван Петрович, как я ему пять тысяч из приданого вернул и начал сбирать дальше, хотя и произошла тут всероссийская авария, и овладела мной мысль — вывалить ему опять на стол пять тысяч мгновенно. И не хватило у меня трехсот рублей, Лука Егорыч.
— Вторая авария произошла? Октябрь?..
— Вторая, Лука Егорыч, вторая, я могу сберегательную книжку показать.
— Вспоминаешь ты, Ермолай, — сказал И. П. Лопта, — нехорошее, когда я гордостью болел и собирался, грешный человек, купить за деньги любое сердце.
Он аккуратно свернул опись. Вошла Агафья. Лука Селестенников крепко осмотрел ее лицо.
— Жениха уже подыскал, Иван Петрович? — высоко, не своим голосом спросил он.
— Христова невеста, — резко ответила Агафья.
Л. Селестенников почувствовал себя неловко, как будто в чем-то нахвастал. Е. Рудавский сидел неподвижно, и ему казалось, что душа его острупела, он хотел ее доверить кому-то, а все жарятся на собственном огне.
Агафья заговорила о том, как кремлевцы натрусились богомаза Чаева и какие о нем идут разговоры. Окруженный монахами, бывшими наборщиками монастырской типографии, появился осторожной своей походочкой Гурий. Он нес в руках подсолнух, мохнатый и черный. Он сел рядом с отцом. Заметно было, как в его присутствии дичкует Агафья и как она злится на это.
— Да, Агафьюшка, божья душа, подхожу я к дому, а вокруг него Афанас-Царевич носится, сам он большой, быстро ходить ему потно; жарко, а подсолнух тяжелый. Щипнул он меня, а я и по глазам вижу, наущает он меня тебе подсолнух отнести, подарить. — Гурий положил подсолнух на стол и, осторожно перебирая по нему пальцами, продолжал: — Но суть моей мысли не в этом, папаша, и ты, Агафьюшка, и вы, дорогой Лука Егорыч, и вы, Рудавский. Веротерпимствовали мы достаточно, дьявол нас доволок до конца, ходят слухи, что некий сонм баптистов приехал в Кремль, и баптистский благовестник не этот ли молодец, на медведе столь картинно изобразивший кремлевский герб, чем и пленил души обывателей? Боюсь, как бы не переумничали, не переждали, и после небольшого разговора с Хлобыстаем-Нетокаевским, заведующим типографией, и этими безработствующими наборщиками мне подумалось: после ликвидации папашиного имущества и его сумм и после того, как община исходатайствует в горкомхозе отсрочку на ремонт, что, по моему наблюдению, вполне возможно, община сможет обладать некоторыми свободными оборотными деньгами. Наборщики тоскуют по работе, типография велика шрифтами и велика отсутствием заказов и посему даст нам большую, чем в остальных провинциальных типографиях, скидку. Книжная бумага есть в запасе, да и в столице ее достать есть возможность…
Сундук оживился. Седые головы на нем задвигались. Агафья разлапушилась. Л. Селестенников, стараясь угадать мысль Гурия, напряженно тяпал по воздуху сухой своей ладонью. И. П. Лопта смотрел на сына нахваливающе. «На что ты хочешь израсходовать нас?» — спросил он. Гурий, осторожно настилая слова тонкими своими губами, вымолвил:
— Зачем я буду расходовать, я хочу только предложить на обсуждение такой, приблизительно, случай. Не сочтет ли община Петра Митрополита ценным и нужным, так как в религиозных книгах сейчас ощущается большой недостаток, — взяться за осуществление задачи печатания весьма дорого стоящей сейчас, весьма редкой и весьма ценной книги. Печатание это принесет не только духовные выгоды общине и благодарность от бога, не только сознание, что в нашем Кремле появилась первопечатная книга во времена гонения на несокрушимое православие, но и материальные выгоды для церкви. Я говорю о Библии, христиане.
VI
Агафья замечала, что кремлевцы к ней несколько остыли после того, кик появился Е. Чаев, и община, после того, как Гурий высказал мысль о печатании Библии. Она понимала, что сейчас ей оступиться легко. Предложение Гурия осенило общину крылом славы. Община заволновалась. Заговорили о типографии; Хлобыстая-Нетокаевского приглашали из дома в дом, и приглашения эти он приписывал тому, что он вступил в Религиозно-православное общество, и ему было стыдно, так как в душе он себя считал до некоторой степени атеистом и в Религиозно-православное общество вступил лишь для того, чтобы быть ближе к Агафье, теплая нежность лица которой возбуждала в нем легкие и хорошие мысли о себе и других.
Оказалось, что типография настолько превосходна, что напечатанную в ней копию одной древней рукописи в Губернской Археологической Комиссии недавно приняли за подлинник и сообщили о том подлиннике в Москву, где много хохотали. Агафья попробовала предупредить общину, что если при теперешнем заведующем типографией, т. е. Хлобыстае-Нетокаевском, и возможно сдать заказ, при теперешнем шальном председателе укома тов[арище] Старосило и при заведующем агитпрома тов[арище] Топорковском, постоянно охотившемся в лесах, возможно начать печатание, так как они люди невежественные, пьянствующие или собирающиеся пьянствовать вроде тов[арища] Старосило; им не трудно доказать, что и в столице взяли бы подобный заказ, но принимаем ли мы во внимание Мануфактуры, которые мешают нам найти необходимого для паствы резкого и смелого епископа, потому что здесь методы борьбы с безбожием должны быть особые, и Мануфактуры даже вредят нам в том, что переносят остановку плотов к себе, тем отнимая у нас последний кусок хлеба!
И. П. Лопта возразил ей, что в Мануфактурах нашлись люди, способные взять у нас денежную помощь на оборудование квартир, взамен чего обязуются доказывать в соответствующих инстанциях, что останавливать плоты у Мануфактур все равно что топить.
Гурий добавил, что посетили его прошедшей ночью «келейники», — весьма странная секта, беспаспортная, безымянная, ходит по Руси ночью и живет в клетушках, кельях, которые пристраивают мужики незаметно к баням или к амбарам. Келейники готовы разносить Библию по земле русской. Агафья тоже знала о келейниках, многие из них останавливались в доме И. П. Лопты, когда приходила нужда им посетить город. На печатание же Библии и сроку-то надо самое большое год. Мануфактуры сейчас набирают третью смену, им не до Кремля. В Библии всего девяносто печатных листов, шрифтов достаточно, и если удастся пропускать по десять печатных листов в месяц, то через десять месяцев мы сможем получить Библию и, возможно, в коленкоровых переплетах. Гурий оживился, он довел свою мысль до конца и осторожно ушел с совещания.
— Это будет не подвиг, но большое благодеяние для человечества, — закончил он, уходя.
Агафье было тяжело слышать и вспоминать его слова. Селестенников и Рудавский смотрели на нее неустанно. Кровь монаха Лимния, стоявшего у дверей, налила его лицо исступлением. Про монаха рассказывали анекдоты, он и сам страдал и каждую неделю ходил исповедоваться к протоиерею Устину. Она вышла на крыльцо. Гурий, заложив за спину руки, любовался собором Петра Митрополита. Он обернулся к Агафье и сказал, указывая ей на виски:
— Довольно, Агафьюшка, локончиковать. Убери.
Она закрыла волосы. Она будет слушаться его. Обида изнуряла ее. За воротами она встретила И. П. Мургабову, дальнюю родственницу Афанаса-Царевича. И. П. Мургабова была слаба, немощна, она жаждала внимания от Агафьи и потому неожиданно пожаловалась, что Афанас-Царевич плакал весь день и с плачем ушел на Ужгу пускать кораблики. И. П. Мургабову удивляет и волнует его плач!
Агафья согласилась отыскать Афанаса-Царевича. Она пошла по лугу, вдоль Ужги, к обрыву, куда он имел обыкновение убегать. Обрыв, застланный корнями сосен, гнулся к Афанасу-Царевичу. Он, вытирая слезы, налаживал к большому суку парус. Река, перебирая легкую сеть сучьев, как бы паутиной покрывающих ее, мерцала синим. Ужга, заворачиваясь здесь к Ямским лугам и Мануфактурам, еще не была загрязнена отбросами. Афанас-Царевич, пухлый и большой, в одной руке он держал драную кошку. Тяжелая цепь, обвивавшая его тело, выползла через рваную рубаху, на груди его видны были струпья.
Агафья посмотрела на него и внезапно подумала, что она должна согласиться на печатание Библии и всячески помогать Гурию. И тогда жалость к Афанасу-Царевичу охватила ее. Она сорвала желтый цветок «львиного зева» и окрикнула блаженного. Он подобрал цепи, выпрямился, радость затопила его лицо. Агафья протянула ему цветок. Он схватил кошку в зубы, замычал, вырвал цветок у Агафьи, хотел поднести его к носу, но кошка мешала ему, он подпрыгнул, кошка выпала, он затрясся, пена показалась у него на губах, он упал. Агафья подошла ближе, Афанас-Царевич лежал в обмороке. Он был омерзителен. Агафья смерила — не упадет ли он, если покатится по обрыву, в реку, вышло — едва ли что упадет, — она и ушла.
Афанас-Царевич поднялся, чувствуя в груди томительную и хрупкую легкость. Он пощупал свои струпья. Он вспомнил про цветок. Он поднял его. Было жарко. Солнце стояло высоко. Обрыв горел. Томительная и хрупкая легкость по-прежнему трепетала в его груди. Он прижал цветок к струпьям. Вериги мешали ему, он их начал срывать, — струпья заныли, показалась кровь. Знобясь вязкой болью, страдая и наслаждаясь страданием, он всовывал цветок под струпья; под кожу, туда, где в груди ширилась эта томительная и хрупкая легкость. Ему показалось, что он делает больно не себе, а цветку, — и он точно сорвал уже лепестки. И он начал собирать лепестки одной рукой, другой раздирая себе грудь, кровь залила его пальцы. Она таяла перед его глазами, ширилась и синела, как Ужга.
VII
Маховик, весело показывая черные зубы в голубом окне, приветствовал его у сторожки!.. Вавилов еле подвел себя к дверям прядильного корпуса. Слабость овладела им уже с начала дня работы, с той минуты, в которую он проснулся. Шум корпуса как бы изогнулся над ним. Вавилов вошел в лифт. Вавилова поднимали вверх, в сортировочное отделение. Замелькали этажи. Чесальные машины! Влажный рев ожалил его уши, кардные иглы как бы вычесывали соринки из него, а не из хлопка.
Он увидал несколько рабочих-холстовщиков, один из них улыбнулся ему, — это был Колыван Петров. Или ему почудилась улыбка К. Петрова? Жирно стремилась белая чесальная лента, падающая в тазы. Чесальные машины заменились ленточками; работницы волокли тазы. Банкаброши! Хлопковая лента с ленточной машины уже перескочила на толстые банкаброши. Он, Вавилов, не мог ее догнать, она скакала перед ним по этажам! Рогульки накручивали веретена, уже хлопковая ровница наполняла синие, красные и черные катушки на банкаброшах. Банкаброшницы! Одна из них, закинув назад голову, делала присучку ровницы, — он подумал, что это Зинаида, но еле успел вспомнить, что она в прядильном отделении, а не в приготовительном. Перестругивающее визжание ватерных машин топило его сердце! Веретена и деревянные шпули с наматывающейся пряжей кинулись к его изнуренным глазам. Увлажнители воздуха шипели. Ватерщица с неимоверно широким лицом остановила машину; съемщицы быстро сняли наработанные шпули, ватерщица присучивала нитки. Ему стало тяжело, он закрыл глаза.
Лифт остановился. Вавилова встретили ряды хлопковых кип с прикрепленными ярлычками, указывающими сорта. Вавилов подвозил на тачке хлопок к кипоразрыхлительной машине. Он сбивал обручи, снимал тару и учился обирать с кип грязные и ржавые окрайки. После этого он брал слоями спрессованный хлопок и бросал его на решетку машины. Решетка подводила хлопок к наклонному игольчатому полотну, иглы захватывали хлопок, поднимали его кверху, хлопок попадал под валик отшибателя, отбрасывался на отводящее полотно и оттуда вливался в пневматические трубы, которые вели его в лабазы и оттуда дальше по машинам.
Рабочие, думал Вавилов, смутно догадываясь о его ощущениях, разговаривали с ним и насмешливо, и жалостливо. Пыль лезла ему в глотку, с непривычки ему трудно было дышать, и так как он часто думал о болезнях и часто, раз по десять в день, мыл руки, то все это мешало ему чувствовать себя управителем машин и быть спокойным, как все. Машины напоминали ему фронт тогда, когда над окопами проносился цеппелин и когда все, зная, что бомбы, сброшенные цеппелином, никогда в окопы не попадают, все же трепетали. Но здесь ощущение боязни цеппелина владело им одним! Он жаждал поскорей отбыть свое мученье, вернуться домой («четверо думающих» и он уже переселились к Гусю-Богатырю), — лечь. Раздался гудок. Вавилов не смог от усталости вымыть, как подобает, рук и, держа в руках полотенце, спустился по чугунным маршам лестниц. По-прежнему гудение, рев и свист машин преследовали его во всех углах и на всех поворотах. Он еле дошел до выходной двери. Здесь он остановился, им владела измельченная слабость, он чувствовал себя так, как будто его истолкли. Из всех дверей на двор вывалила смена. Появление рабочих еще более расслабило его. На дворе было светло, солнечно, но туманный вой фабрики господствовал над его зрением. Его окружили несколько человек. Какая-то сердобольная ткачиха высказала предположение, что он голоден, не ел трое суток, — и, высказав, тотчас же поверила своему предположению. Она вслух, вкрадчивым голосом, жалела его. Ему стало противно, он поднялся. Перед ним стояла Зинаида. Ей было вручено проработать вопрос о перевыборах Советов по уборным фабрики, в единственных местах, где могли покурить и передохнуть рабочие. Кампании, без предварительной проработки в уборных, часто проваливались. Только проработав вопрос в уборных, можно было переносить его в цеховые собрания!
Зинаида ходила по уборным, ораторствовала, и ей было приятно понимать то, чего она не понимала, как ей казалось, раньше, насколько капиталисты были жадны и насколько они презирали рабочих, что рабочие могли и покурить-то только в уборных. И еще ей было приятно понять, что с рабочими легко разговаривать и легко их убеждать и отношение их к жизни зачастую детское, легкое и тревожное. Они, например, высказывались против директора только потому, что тот, едучи на тарантасе из Кремля и увидав рожавшую на дороге ткачиху, — проехал мимо.
Ее только несколько задел слышанный в месткоме разговор о Вавилове. Говорили, что Вавилов был два года на рабфаке, человек, по всей видимости, тертый, культурный и что не плохо б выдвинуть его кандидатуру руководителем культурно-просветительной работы Мануфактур. Дело пустяковое, а все отказываются, а если берутся, так чаще всего со скуки спиваются. Разговаривающие хохотали, и Зинаиде подумалось, что выступить против Вавилова не стоит, чтоб не подумали, будто она гонится за мужем своим Колесниковым, приятелем Вавилова, что она ревнует своего мужа, который пропадает среди кутящих у Гуся-Богатыря. Кандидатура Вавилова! Вообще все к культурно-просветительной работе относятся так, что хорошо найти человека, который отлично сочинял бы доклады и мог бы отписываться.
Она остановилась против Вавилова, будучи уверена, что он не голоден, а пьян, и, остановившись и увидав в его руке полотенце, вспомнила, что она забыла вымыть руки, — озлилась и сказала соболезнующей ткачихе, что парень пьян и что это приятель ватаги из «четырех думающих», дурные разговоры о которой уже шли по всему поселку. Уже знали П. Лясных, который бродил подле прудов с хулиганами и засорял и без того засоренные эти пруды; знали Пицкуса, который носится по поселку и которому известно не только то, кто думает купить себе штаны, но даже и кто хочет остричься; знают Колесникова, хвастающегося своей силой и своей красивой женой!
Вавилов увидал ее злые глаза, устремленные на его полотенце. Он хотел ей сказать, но что сказать — он и сам не знал. Рабочие отошли от него со смехом, ему было стыдно. Зинаида взяла соболезнующую ткачиху, которая сразу после ее слов стала чужой и осуждающей. До него донеслись слова Зинаиды; «Разве это человек? Это свинья, ходит по земле, а неба не видит».
Вавилов прошел через будку сторожа последним. И сторож, рябой старик, герой труда, проработавший на фабрике шестьдесят лет, сказал ему: «Шел бы, парень, к Гусю пьянствовать, а здесь и в машине носом расцвести не трудно». «Четверо думающих» встретили его у Гуся криками:
— А мы без тебя все думаем, рыжий!
— Мы придумали такое, — запищал С. П. Мезенцев, — мы такое придумали… Дай, Гусь, ему водки!
Глава третья
о том, что думал т[оварищ] Старосило и как он присутствовал на заседании реставрационной комиссии; как Гурий посетил подвалы под собором Петра Митрополита; как актер Ксанфий Лампадович Старков шел в Кремль и как Еварест Чаев встречал свою мамашу
I
Первым вопросом, когда профессор встретил Гурия, посетившего реставрационные мастерские, первым вопросом был все тот же: где наконец скрывается Л. Селестенников и почему он не желает посетить профессора? Лицо у профессора было встревоженное и надменное. Он вынул из кармана засаленную открытку. Он передал Гурию ключи от подвалов собора Петра Митрополита, не сопровождая, как всегда, передачу вещи, которую ему приходилось держать в руках, притчей или сказанием. Он вставил только, что сегодня на заседание реставрационной комиссии ожидается товарищ Старосило, видный, но разжалованный постановитель. Он не без гордости показал Гурию мастерские, в которых работало шесть человек мастеров. Он шел, раскидывая маленькими ножками обрывки бумаги, чертежи и рисунки. Он показал Гурию несколько икон, освобожденных от наслоений времени. Гурия всегда обижали освобожденные иконы. Его злила наглая самоуверенность расчистителей, зараженных археологическим зудом и докапывающихся не до того, что талантливей и прекрасней, а до того, что старей. Бездарные эти дураки перепортили десятки тысяч икон в России и испортят еще больше…
Гурий увидел изразцы XVII века, он с теплым волнением дотронулся до тонкой, нежной и синей поверхности их. Над ними еще парил Восток и вспоминались купола мечетей. Он улыбнулся. Профессор напомнил ему, что изразцы эти, возможно, привезены с Востока одновременно с плитой на могиле епископа Варлаама.
— С вашим приездом, — вдруг сказал профессор З. Ф. Черепахин, испытующе заглядывая ему в глаза, — уважаемый Гурий Иванович, наступила некоторая оживленная атмосфера и усложнились события в Кремле, чему я рад, чему я рад! События эти даже отразились на председателе местного совета, который внезапно и удивительной манерой выразил желание посетить заседание нашей комиссии.
Гурий не поинтересовался узнать, какова странная манера т[оварища] Старосило извещать о своем присутствии. Гурий уже был в дверях, когда профессор сказал ему быстро, одной рукой указывая на деревянные козлы, стоящие в коридоре, другой же вращая открытое письмо подле глаз Гурия:
— Заметили, многоуважаемый: постель человека, вскочившего в город на медведе? Я уважаю отвагу, мой сын погиб добровольцем на французском фронте, я позволил Еваресту Чаеву, поскольку он беден, спать в коридоре… Легенды, легенды создаются о том, как я ищу своего сына! И вот актер Ксанфий Лампадович Старков пожелал, несмотря на свои преклонные годы, посетить наш угол. Он уже теперь, наверное, народный артист какой-нибудь республики, вожди плачут, глядя на его игру. Я не спал несколько ночей, я придумал тезисы! Глубокоуважаемый Гурий Иванович, и мне хотелось бы огласить вам тезисы…
— Несокрушимое православие немощно и хило, едва ли вы будете уделять ему ваше профессорское внимание.
— Кто знает, кто знает, милый Гурий Иванович! Но пока я набросал тезисы о том, как и каким путем можно превратить Кремль в некий гигантский музей, не только искусства, но и истории, истории древнерусской, без которой невозможно себе и представить теперешнюю советскую историю.
— Вы предлагаете?..
— Я, собственно, желал бы с вами посоветоваться, и вы один, один сможете и понять меня и помочь, самое главное, помочь мне в моей работе. Обширная история Кремля, подвиги князей, их любовь и ненависть скоро будут, в самом непродолжительном времени, известны всей Европе, и без того интересующейся русским искусством. Мой сын Донат обладает великим жаром любителя истории, и он поведает всему миру, на французском или английском языках, он ими обладает в совершенстве, нарисует историю Ужгинского Кремля, и вся Европа, — я, дорогой Гурий Иванович, был в прошлом году в Европе, во Франции, я видал десятки совершенно гнусных по своим архитектурным достоинствам замков, а посмотрите, какое количество автокаров возит по этим замкам сотни тысяч туристов, — вся Европа, прочтя книги Доната и его школы, его учеников, заметьте, — Европа ринется к нам и обомлеет. «Вот это — да!..» — как говорит мой любимый писатель Глеб Алексеев. Мы подчищаем наш Кремль, вы мне помогаете, я провожу вашу кандидатуру в соответствующих инстанциях, ваши родовые, так сказать, знания безграничны, при иных обстоятельствах мы были б здесь митрополитом или князем. Ведь музейных церквей, строго говоря, в Кремле десять, остальные надо обставить Историческими событиями, чтобы они стали ценны. Здесь был Лжедмитрий, да, был! Маршалы Наполеона кутили в митрополичьих покоях, у меня остались даже их стаканы, в музее. Петр Великий… многие!.. Пилсудский…
— Бог в помощь, — сказал Гурий.
Профессор обогнал его в коридоре. Икона болталась у него под мышкой, он ее захватил, должно быть, вместо портфеля. Он заглянул в лицо Гурию.
— Так, значит, нет? — сказал он шепотом.
— Так, значит, нет! — тоже шепотом ответил Гурий.
Профессор З. Ф. Черепахин посмотрел ему вслед с удивлением и с каким-то удовольствием. Профессор встретил членов реставрационной комиссии: Буценко-Будрина, архитектора из Мануфактур А. Е. Колпинского, представителя власти и партии тов[арища] Старосило.
Тов[арищ] Старосило сел и, пока не открылось заседание, сказал, чтобы его заявление не было принято официально:
— Строго говоря, ваши заседания и попытки восстановить храмы — реакционны. Можно докатиться до того, что и мощи будешь защищать от расхищения, а на мощи мне плевать, граждане.
Профессор З. Ф. Черепахин сказал ему:
— Вот я изложу сегодня некоторые тезисы моего доклада в губернию, и посмотрим, что вы на это возразите. Мое предложение, как мне кажется, вполне солидаризуется с вашим мнением.
Т[оварищ] Старосило сидел грузный, большой, в боевой своей одежде, продымленной порохами многих фронтов, и, никого не слушая, думал свое: вот уже иссякают три месяца, в конце коих, как ему дали понять в губернии, его смогут возвратить, если он будет трезв, так как все посылаемые в Кремль начинали пить через два месяца. Тов[арищ] Старосило твердо трезвовал. Он убежденно скучал в уездном затхлом городишке, лежащем против огромных Мануфактур и никак не связанном с Мануфактурами. Раньше город Ужга жил паломниками, гостиницами, ресторанами, в которые ездили кушать волжских стерлядей купцы и офицеры. Доживали здесь свой век чинуши в отставке, любуясь своими особнячками: Кремль стоит высоко над рекой, воздух чист и близки горы для прогулок и для грибов! А теперь в особнячках благочестивые старушонки даже ванные не восстанавливают, чтобы избежать вселения коммунистов.
Старорежимное городское самоуправление паром стеснялось провести между Мануфактурами и Кремлем — фабричной смуты, изволите ли видеть, боялось, тихое благолепие городка потревожить! И мост воздвигли через Ужгу кирпичный, низкий, сводистый, чтоб пароход не смог проскользнуть под него и чтобы фабричные, по шоссе, версты три-четыре шли сюда от фабрики и являлись усталые, смиренные.
Одиннадцать мощей, черт возьми, красовалось в кремлевских церквах, пятнадцать угодников числил в своем активе Кремль и к тому еще четыре чудотворных иконы! В пасху с соседних губерний, уездов и даже из столицы за исцелением и чудесами заполняли город от десяти до пятнадцати тысяч богомольцев. Митрополит выходил в одежде, стоимость которой оценивалась в миллион рублей, — одежду ту все-таки съел волжский голод!.. А мало т[оварищ] Старосило и его предшественники истратили крови для того, чтобы выпросить ассигнования на разборку моста, чтобы под ним пропустить пароход «Полярное сияние» и тем связать Мануфактуры и Кремль. Шесть лет стоит недвижно пароход, и дело ограничивается лишь тем, что приписывают каждый год пароход к новому владельцу — тресту или учреждению. Числился он даже один год за уездным исправдомом. Думали поймать на удочку Мануфактуры… и приписали его к ним, а те тоже схитрили и проектируют теперь Мануфактуры превратить в уезд, а город Ужгу и его Кремль — в волость, и таким образом опять пароход «Полярное сияние» и его голодный капитан окажутся в горкомхозе!
И тов (арищ] Старосило горько рассмеялся, и все удивились, так как проф. З. Ф. Черепахин докладывал, какие наличники удалось восстановить реставрационной комиссии и сколько потребуется испросить ассигнований на восстановление Алексеевской шатровой церкви и что проект о Кремле-музее сможет поколебать остановившееся на месте дело реставрации Ужгинского Кремля.
— Богомазы у вас живут при музее, — вдруг прервал доклад профессора З. Ф. Черепахина т[оварищ] Старосило. — Почему ночует у вас богомаз Е. Чаев?
— Много я разговаривал с этим богомазом, — немедленно ответил профессор, — мечты у него странные: хорошо бы, говорит, иметь шерстяной костюм в своей жизни. В религии сомневается, и откровенно, как член ЦКБУ, я вам скажу, не подослали ли вы его, товарищ Старосило? Не шпион ли, подумал я, или расследователь, так как ко мне приезжает актер Ксанфий Лампадович Старков?
— Кто? — спросил т[оварищ] Старосило.
— Актер академических театров и народный артист многих республик Ксанфий Лампадович Старков. Не делали ли вы, томясь скукой, такого распоряжения и не подозреваете ли многих?
— Такого распоряжения не было. И спать ему здесь незачем, и это я ставлю на вид реставрационной комиссии, и в остальных ее успехах я согласен, пока не будет инструкций, изменяющих ее вид. — Товарищ Старосило вежливо поклонился и вышел.
Профессор З. Ф. Черепахин сказал:
— Вернемся ж к основному вопросу нашего заседания…
II
— Кандидатуру твою, кандидатуру твою выдвигают, Вавилов, в руководители, в заместители руководителя культурно-просветительной деятельности ткачей. Во-о!.. Разрабатывай дилеммы, рыжий! А у меня пролетарии.
С. П. Мезенцев собрал руками к своему животу три головы «думающих» и сказал так, чтобы Вавилов слышал: «Такая соображения: губерния наша, которая и раньше не была производительной, а жила-существовала на отхожие заработки, теперь в положении города. И вот, окончив уборку, выясняют, что недород… Мы и пошли. Мы приходим в вик и видим столы. «Где же, — спрашиваем мы, — у вас председатель?» Встает такой рабоче-крестьянский мужик. «А вот, — отвечает, — у этого стола». И стол тот, как сосна в лесу, ничем не отмечен, заметьте. Мы подходим к этому столу и прикрепляем заказанный ранее типографский плакат: «Председатель волисполкома». Душа у него смазана. Мы его обдокладываем: так и эдак, а губисполком и центр предполагает ввиду надвигающегося недостатка, вежливо выражаясь, перенести не только производство, но и город на паек и посему приписать все окружающие Мануфактуры деревни и села к городу Мануфактуры, дав им названия пригородов, дав им номера улиц и номера домов, а пока мы представляем вам мандат (от… имярек) и право принимать заказы на номера для домов и на таблички с наименованием улиц. Табличка стоит, писанная на жести, — три рубля, задаток рубль, получаешь квитанцию. Мужик жаден, мужик завидует пролетарию, мужик есть мужик, его надо жмать… Ежли обойти две тысячи домов, а ежли пять…
— Мы думаем! — заорал восторженно М. Колесников. — Гусь-Богатырь, ты посмотри, как мы думаем!..
III
Едва Гурий закрыл за собой дубовые подвальные ворота, едва он ступил несколько шагов и сухой песок заскрипел под ногами, — как сухой восторг потряс его тело. Он правильно прожил эти первые дни в Кремле, и «тот, который находится с ним», доволен! Профессору даже непонятно, почему замечательный воспитанник Академии отказывается от духовного сана; Хлобыстай-Нетокаевский с изумлением смотрит, как Гурий правит корректуры; Агафья умилена, так как Гурий вдруг во всем согласился с ней, да и она признала правильным печатание Библии.
Монах Николай ждет в типографии первые оттиски Библии! Поломойка и стряпуха Агафья, которую все обездоливали, оказалась не только красавицей, но и великоразумным человеком: она в несколько дней разобралась и в технике печатания книг, и в счете на листы, и даже в весе и в размерах бумаги, предлагаемой типографией.
Свет от ворот скрылся, Гурий зажег свечу. Подвал раздваивался: направо шли монастырские склады, сюда клали на сохранение скарб мирян при нападениях врагов, в мирное время здесь хранили хлеб и даже вгоняли сюда скот, здесь же висели монастырские весы, и здесь монастырь принимал свою часть с мирских промыслов и здесь же измерял добычу со своих обширнейших угодий. Налево находились подвальные часовенки и ниши с останками прославленных отцов кремлевских, и здесь же лежал первоосвятитель кремлевский епископ Варлаам.
Гурий повернул налево. Чем дальше, тем суше и туже воздух. Шаги звучали, как ветер. Темнота, рассеиваемая светом свечи, казалась серой и короткой. На стенах Гурий видел бронзовые остатки подсвечников, канделябров и лампад. Лампады перед могилами епископов тлели неугасимо целые столетия, и в семнадцатом году проезжие матросы с каких-то металлических судов ворвались в подвалы, думая найти здесь офицеров; долго они блуждали, сорвали бронзу и, убедившись при выходе на солнце, что это не золото, не доходя даже до своего корабля, покидали лампады в Волгу.
Воздух поизумрудел, заколебался, Гурий понял, что близко зало, где лежит епископ Варлаам. Сердце Гурия встрепетно встаяло. Он остановился, вздохнул и, высоко подняв свечу, шагнул. Золотой узор изукрашивал намогильный камень епископа. Камень был огромен и темно-зелен. Его привезли из Персии, он похож на ложе, его изголовье изобилует надписями легкомысленных персидских поэтов. Князья ужгинские так презирали басурман, что даже не верили их письменности, надписи эти они считали орнаментом. «И они правы, — подумал Гурий. — Все проходит и забывается, все мысли и поэты, остается один орнамент». Гурий вспомнил грубую скуфью и палку епископа Варлаама, которые хранятся в соборе, епископ, наверное, был скуп, суров и сутул. Он ходил по земле, собирал людей к Христу, он умел их увещать ласково и умел гнать плетью. Он умел их вести…
Горечь овладела сердцем Гурия. Он упал на колени. Он просил «того, который был с ним», не отходить от него, не лишать его милосердия и смирения. Путь, им избранный, тяжел и долог, но он полезен церкви! Он пойдет по нему, его не свяжут ни отец, ни дом, ни жена. Жена! Он вспомнил Агафью. Он смотрел на камень. Золотой орнамент на зеленом камне, а камень похож на ложе. Ложе! Ложе его и господь его!! Он отказывается от епископства не ради женщины, и отказался он тогда, когда не свершилось еще в Кремле появления Агафьи. Кто посмеет сказать и посмеет подумать, что Агафья, ее нежное и великое тело святейшей девы и хозяйки, поколебала его!.. Утром сегодня он проходил мимо ее комнаты, и дверь она сама, — он видел ее руку, — она сама распахнула дверь. Она стояла, держа белую одежду в руках, глядела ему в рот, и он видел ее тело, в котором каждый мускул лопотал о силе и обилии. Гурий сказал ей; «Господь с тобой, жено», — и закрыл дверь. Ему показалось, что он услышал плач за ее дверью. Он остался доволен — и тогда и сейчас. Он трепетно вгляделся в глубь изумрудного мрака. Дуновение белых и нежных шагов послышалось ему. Он встал. Он увидал опять белые одежды. Страх и ужас потрясли его. Он потерял свое тело, он его уронил, он испугался падения.
Гурий ощутил огромную боль в голове — он ударился головой о ложе епископа Варлаама. Золотые персидские надписи ринулись вниз, он сбивчиво начал сбирать молитвы, молитвы рыскали вокруг него, и ни одна из них не была ему верна. Он испуганно закрыл лицо руками. Он услышал ласковый голос: «Простите, отец Гурий, я прерываю вашу молитву, но сами вы просили меня найти вас во что бы то ни стало для передачи вам корректур первого листа Библии». Гурий увидал монаха Николая в длинной белой рубахе. Лицо у него было счастливое. Гурий перекрестился. Он взял оттиск первой страницы, набранной простым и дешевым цицеро. «В начале бе слово», — прочел он и тихо заплакал. И Николай тоже кротко прослезился.
IV
Актер Ксанфий Лампадович Старков добывал себе пропитание чтением нараспев стихов, как он говорил, «народнейшего поэта нашего Сережи Есенина». Он прыгал из поезда в поезд, скрываясь от кондукторов и железнодорожной охраны. Его ловили, арестовывали, он показывал множество мандатов, — так он доехал до ужгинского Кремля.
Синими луковицами, лебедиными шеями, цветущими маками, пальмами, далеким островом — встал Кремль. Он шел к нему осторожно, оглядываясь по сторонам и прячась в кусты. Он был рад, что шоссе пустынно. Он шел и язвил над шоссейными ямами, — он был сведущ в политике строительства и организации бесчисленнейших наших обществ: «Скоро вас, ямочки, чинить будут, скоро около вас, ямочки, червонцы закипят, скоро к вам жулики поползут, а вы лежите, мирно любуясь лугом и Кремлем!» И хотя вокруг никого не было, — он похвалил Автодор сомнительными своими похвалами, с тем, чтобы дальше перейти и иметь больше возможностей язвить.
Он увидал, что от Мануфактур по Ямскому лугу едет человек верхом на коне с обнаженной саблей и в косматой папахе. Актер немедленно залез в лопухи. Он сидел на корточках в канаве у шоссе подле верстового столба, склоненного к востоку и изрешеченного пулями кулацкого восстания девятнадцатого года.
Измаил Буаразов рано утром попросил у сына своего Мустафы один рубль тридцать пять копеек на подметки к сапогам. С восходом солнца у кооператива уже стояла очередь, и Измаил Буаразов отметился пятым. В этот день новый заведующий культпросветом месткома Мануфактур тов[арищ] Вавилов собирал экскурсию в Кремль, и Мустафа Буаразов тоже пожелал посетить Кремль и его древние виды. Мустафа желал купить себе кавказский ремешок на рубаху, ваксу и носки зеленого цвета. Он был пылок, Мустафа, недаром на него сердился отец его Измаил и восхищался слепой дед, — Мустафа тайком от многих желал посмотреть знаменитую кремлевскую красавицу, о которой шло много разговоров в Мануфактурах.
Мустафа, спросонья, грубо отказал отцу. Он сказал среди других обидных слов: «Продай коня, над которым все смеются! Ты его держишь в передней Дома узбека и сам спишь с ним рядом, а я отвечай за твои неблаговидные поступки перед ячейкой и властью». Держать тысячного коня стало неблаговидным поступком для узбека и революционера! И к тому же, услышав разговор, стал жаловаться слепец Буаразов: Измаил обещал исцеление, прекрасных врачей, а здесь сырость, солнце не греет век… Правда, лицо старца при этих словах было восторженное, но Измаилу было горько их обоих слушать. Было обидно и то, что рыжий Вавилов, человек с подозрительными руками, уже назначен заведовать просвещением, уже ведет рабочих в Кремль для того, чтобы показать кремлевскую красавицу и, главное, показать себя ведущим. Измаил решил его обличить. Измаил много слышал о Кремле и много узнал при аресте о «четырех думающих». Да, Измаил напрасно не стал бы ночевать в милиции! Он крутил на своем коне по лугу — и актер, недоумевая, смотрел на него. Актер только лишь собирался вылезть из канавы, как сверкающая сабля Измаила показалась среди кустов и тонкие ножки коня взвинтили воздух. Измаил решил ждать экскурсию у моста. Он замер. Человек с колесом на плечах и подметкой в руке показался на голубых камнях шоссе. Он шел с трудом, кашляя и торопливо переплетая ногами. Измаилу показалось, что человек имеет походку его сына Мустафы. Измаил поторопился к нему. Он желал ему помочь хотя бы хорошим советом — тащить колесо не по шоссе, где так жарко, а по лугу. Человек упал под колесом, подле верстового столба, наклоненного на восток и изрешеченного пулями. Он был хил и плевался кровью. Он поднял было прокуренный рот, но, узнав, что всадник незнаком, не осудит его и не надсмеется, — опять опустил голову. Измаил поднял над ним саблю и сказал:
— Я одобряю действия нашей партии, направленные против кулака и его приспешников. Ты одет опрятно, ты тащишь колесо, ты не желал изнурять своего коня, — ты кулак! Ты наказан за свою жадность, ты сдыхаешь, ты есть буржуй, тебя надо запостановлять до конца. Ты офицер или ты отец офицера, ты ослепил моего отца, и над тобой я произношу речь. На это я имею приоритет во всем советском и во всем капиталистическом мире!..
Человек с колесом поднял прокуренный донельзя рот. Это был Хлобыстай-Нетокаевский, заведующий типографией и бывший портной. Он отхаркнул кровь и сказал:
— Вы совершенно правы, гражданин, теперь шитьем жить нельзя, теперь все шьют сами. Что же такое, спрашиваете вы, произошло со мной, если я, заведующий типографией и получающий повышенную ставку, тащу на своих плечах колесо из Мануфактур? А что вообще происходит со мной, спрошу я вас? Почему я, ненавидя типографское дело и любя портняжничество, вынужден заведовать литерами? Почему я, ненавидя бога, вынужден состоять в Религиозно-православном обществе и печатать Библию? Если бы вы, гражданин, были из Мануфактур или из Кремля, я бы вам объяснил: польский гонор влечет меня с колесом, я не хочу просить чужого коня, а постольку, поскольку вы гражданин неизвестный и разговор с вами причинит мне облегчение и может дать наслаждение, я вам скажу, что некоторая женщина, не будем называть ее имени, сказала мне: «Вот вы признались мне в своей любви и предложили себя в мужья, и вы хвастаетесь тем, что первый оценили мои достоинства. И вот, если вы любите меня, то вы пойдете и принесете из Мануфактур колесо, потому что колесо моего тарантаса сломалось. Я буду смотреть на ваш подвиг с кремлевских стен, на которые я имею доступ». Я пошел рано утром, пока спят мои дети и спит моя жена, которая все же следит за мною, несмотря на ее польский гонор. Или мне нужно понять ее разговор иносказательно, гражданин? — Хлобыстай-Нетокаевский попробовал поднять колесо и не мог. Он сунул купленную заодно подметку в карман. Он плюнул на ладонь, тоскливо растер кровь и сказал: — Перестаньте размахивать саблей, гражданин, и без того вам жарко. У вас отличная сабля. Мой отец собирал оружие, и я кое-что понимаю в саблях…
Он поднялся. Он с грустью смотрел на колесо. «Если он еще склонится, — подумал Измаил, — подметка выскочит из кармана». Измаил хотел было отъехать, так как скоро выйдет экскурсия и он обязан приготовить свою обличительную речь, но подметка внушала ему и зависть и презрение к обладателю ее. Любовь, колесо, и вместе с тем мелкая дума о сапожных подметках, — разве так любит узбек! Измаил сказал, поднимая саблю:
— Сказанное девкой ты должен понимать иносказательно, гражданин. Что видим мы, сказала она, мы должны вертеться, как белка в колесе, бесцельно и вдобавок тащить на себе колесо, которое называется страстями Ты только один, заведующий типографией, можешь тащить на себе колесо страстей, иные же откажутся, так как они думают не о страстях, а о жульничестве и о дешевом и либеральном, — по профессии, по профессии, считаю, — хлебе. Подними свое колесо, портной и заведующий, сказала она и также добавлю я, в Кремле у нас тревожно и тяжело! Колесо устремится на втулку так же быстро и легко, как та девка, которая сказала тебе посылающие слова. И ты, портной и заведующий, будешь тверд, как железная ось. Поднимайся и борись, ты силен, и твой Кремль силен, ты сделаешь свое дело, ты даже победишь Мануфактуры, так как они ослабели и в просветители себе выбирают таких подозрительных людей, вроде Вавилова. Я презираю Мануфактуры! Люби жизнь, заведующий! Посмотри на конец позднего лета! Посмотри на Кремль… Листья начинают желтеть, они отлетают, сначала самые легкие и самые маленькие, они летят, цепляясь друг за друга так же, как и мы в нашей жизни, и кора на деревьях приобрела вид и цвет сухого тумана. Посмотри на Ямской луг, на речушку Ужгу, она недостойна того, чтобы я поил в ней моего коня… скоро над Туговой горой, имеющей вид двух сосков, поднимутся туманы и ветры; так и радость, как позднее лето, может вырваться из твоих объятий, заведующий, и убежать к другому… Ты должен спешить, ты поднимаешь колесо, ты его несешь, и девка любуется твоей силой и преданностью со стен Кремля. Бери, заведующий!
Хлобыстай-Нетокаевский наклонился к колесу. Он схватился за обод. Обод был желт, обильно просмолен, спицы выдержаны и как бы из камня, из мрамора. Хлобыстай-Нетокаевский взглянул на кремлевские бойницы, их розовые ресницы щурились. Хлобыстай-Нетокаевский поднял колесо и, поднимая колесо, уронил подметки, и эти подметки возжаждали и спрятавшийся в лопухах актер К. Л. Старков и узбек на коне Измаил Буаразов. И едва управляющий отмерил десяток шагов, как Измаил взмахнул саблей, и актер с сожалением разглядел, что на конце сабли Измаил поднес к своим глазам — подметки, длинные, желтые, шероховатые на ощупь. Он засунул их за пазуху.
Над голубыми камнями шоссе повисли черные кустарники, и, цепляясь за их верхушки, лениво и нежно стремились чередой почти прозрачные листочки. Измаил поймал один, он, как сито, почти состоял из одних жилок. Измаил сказал: «Жизнь моя изнурительна, как жизнь росы; ночной водой, а днем паром в небесах, — когда же я скажу настоящую речь и по-настоящему покараю ослепителя? В Кремле есть, по-моему, много ослепителей и вредных мне людей, там есть и Гурий, есть и девка Агафья, есть и И. П. Лопта, и профессор Черепахин чрезвычайно подозрителен мне, все они в бегстве своем от меня будут еще газообразить…»
Измаил еще раз осмотрел свои подметки, он погнал коня, чтобы похвастать Мустафе своими подметками. Он сократил путь и направил коня прямо через луг, мимо заросшей ужгинской заводи, рассыпавшейся мельницы, Рабочего клуба, пруда, туда, где стоял Дом узбека и где через улицу, на пустыре, ютилась хибарочка Гуся-Богатыря. Он скрылся в уличках Мануфактур, а на шоссе тем временем вышла рабочая экскурсия, и актер К. Л. Старков вежливо ее обошел, он направился в Мануфактуры, чтобы найти слабого и несчастного Вавилова, так как только слабый и несчастный может понять такого же слабого и преследуемого. Выслушает и о Неизвестном Солдате, и о профессоре Черепахине, и многие другие информации и сообщения, которые отяжеляли его душу!
V
Вавилов возлагал мало надежд на затеянную им экскурсию, все ж он рассчитывал, что она поможет ему ознакомиться с рабочими, а явилось всего десять — пятнадцать молодых людей, заинтересованных больше возможностью пошутить с барышнями, собирающимися в экскурсию, нежели осмотром северного барокко, как представил Кремль сопровождающий экскурсию профессор З. Ф. Черепахин. Вавилов ожидал, что придет Ложечников, мастер из прядильной, три года бывший народным судьей, а затем вернувшийся на производство. Ложечникова даже и те, которых он жестоко осуждал, хвалили за справедливость, прямоту и какое-то мягкое равнодушие к людям. Вавилов искал длинного и томительного разговора о справедливости, о том, чего он и сам не знал, он хотел видеть в людях то, что он называл добротой, ему стыдно было сознаться, что он нуждался в жалости.
Е. Чаев, увидав экскурсию, собрал свои убогие краски и быстро ушел из собора. Профессор подумал, что Е. Чаев не желает встречаться с рабочими. И это обеспокоило профессора: профессор опасался фанатиков. До прихода экскурсии он разговаривал с Е. Чаевым, отказал тому в ночлеге, и тот, вместо того, чтоб обидеться, внезапно показал профессору свои копии с фресок и спросил — религиозен ли он. Профессор подумал, что тот своеобразно спрашивает его о таланте, и сказал: «Талант нынче, молодой человек, дело смутное», на что Е. Чаев опять спросил о религиозности и добавил, что она должна чувствоваться в копиях, и тут же задал вопрос о религиозности профессора, на что профессор не пожелал ответить.
Профессор З. Ф. Черепахин нервно бежал впереди экскурсии, то и дело оглядываясь испытующе на Вавилова. Вавилов больше смотрел в пол и, видимо, мало интересовался кремлевскими прославленными древностями. Узбек в халате и в галошах догнал профессора и спросил у него ломаным языком и шепотом, в котором же доме живет кремлевская девка, и второй раз в этот день профессор нелестно для себя умолчал. Профессор показал митрополичьи покои, ризницы монастыря, трапезные и затем опять вернул их в собор Петра Митрополита.
Собор обильно украшен золотом и деревянными скульптурами, снизу доверху весь собор покрыт фресками. Сверху на них смотрело огромное лицо Христа. Бабочка, невесть как попавшая под купол, заинтересовала рабочих. Она, белая и прозрачная, кружилась подле самых глаз Христа. Профессор объяснял, насколько хитро устроено освещение, что хотя окна и малы, но всегда, в любой час дня, в соборе солнце. Рабочие слушали смутно, кто-то широко потянулся, молодайка подошла к мощам, перекрестилась, над ней засмеялись, она отошла обиженная, а затем и быстро покинула экскурсию. Профессор обещал показать прославленный ужгинский звон, известный даже Европе, но, к сожалению, звонарь заболел. Лучшим соборным звонарем числился Колыван Петров, один из знаменитых «пяти-петров» Мануфактур. Раньше он долго звонил в церкви при Мануфактурах, а перед самой революцией был приглашен митрополитом в Кремль. Здесь ему передали звонарные ключи, и митрополит благословил его, а прослушав, одобрил.
Колыван Семеныч в собор заходил редко, он, торопливо получив благословение, поднимался на звонницу. Он часто звонил для экскурсий, отчасти побуждаемый жадностью к плате, отчасти и влекомый честолюбием: ему нравилось, когда про него говорили, что это последний русский звонарь. Узнав, что рабочие Мануфактур собираются слушать его, он отказался звонить; профессор сам написал ему записку, и он сам тоже ответил запиской: «Ей-богу захворал».
Профессор показал им еще подвалы, многие бывали здесь в детстве, он им перевел легкомысленную надпись на камне епископа Варлаама; некоторые посмеялись, а один молодой сказал любовно: «Озорник». Они закончили экскурсию прудом, в котором разводили для митрополита и князя легендарных карасей, и молодой, назвавший Варлаама озорником, сказал: «Вот теперь Вавилов для нашего клуба разведет карасей». Вавилову было приятно слушать это первое веселое и слегка любовное слово про него, а клуб, точно, находился в парке среди запущенных, когда-то называвшихся Императорскими, а теперь совсем безыменных прудов.
Лицо у профессора пылало, веселело, и рабочим, видно, тяжело было на него смотреть, они, наверно, думали, что обилие обладаемых им знаний придает ему веселье. Профессор развел руками, вытер пот со лба и сказал:
— Я прошу вас, товарищи, поддержать мое начинание, а именно: вот вам мой доклад, сейчас идут перевыборы Советов, и, по всей видимости, Кремль потеряет принадлежащий ему уезд. В своем докладе я излагаю новому составу Совета мое предложение о том, чтобы из Кремля устроить музей общесоюзного значения.
Экскурсия была польщена и растрогана. Профессор З. Ф. Черепахин передал доклад Вавилову и добавил, что если потребуется, то он, профессор, сам приедет защищать свой доклад и свои предложения. Он пожал руки всем экскурсантам и заметил, что узбек, спрашивавший его о девке, — исчез. Профессор подумал: к чему узбеку осматривать русские древности, но тотчас же устыдился националистической своей мысли и еще раз попрощался, сняв шапочку. Спускаясь через Девичьи ворота к Волге, чтобы искупаться, экскурсанты заговорили о Мустафе, и многие пожелали повидать Агафью и человека-богомаза, который приехал на медведе. Кремль им не понравился, себя они чувствовали изнуренными; экскурсия не удалась, и целую неделю мальчишки кричали Вавилову: «Музеец, рыжий!»
VI
Е. М. Чаев отдыхал на лавочке, неподалеку от дома И. П. Лопты. Он видел, как спускалась к реке Агафья. Он думал, какую б ему все-таки найти специальность и что и по какому вопросу подчитать. Он чувствовал, что на въезде в Кремль можно отлично нажиться, но как и кому нужен его чудесный въезд? Даже водитель медведей А. Сабанеев, и тот обиделся и не желал разговаривать! Е. Чаева злили бестолковые люди, увивавшиеся у юбок Агафьи!
Волоокий азиатец рыскал по переулку. Е. Чаев подозвал его и, нагло уставившись ему в глаза, спросил сначала, не из экскурсии ли он, и когда тот ответил отрицательно, Е. Чаев сказал:
— Это ты правильно, гражданин, поступил, отказавшись от экскурсии, я тебя смогу отблагодарить. Ты мне работать не мешал, я тебе самостоятельную экскурсию устрою, — желаешь на голую кремлевскую богородицу посмотреть?
— Хочу, — быстро ответил Мустафа.
Е. Чаев пожелал узнать, сколько у Мустафы денег. Денег оказалось рубль тридцать пять. Он успел купить лишь кавказский пояс, а на носки у него не хватало. Ему не хотелось отдавать свои деньги, но русский смотрел на него с обидной горечью, и было понятно, что если он обманет Мустафу, ему самому будет тяжелей. Да и хорош русский, который торгует телом своих девушек! Мустафа кинул деньги на лавочку. Е. Чаев открыл новую калитку в сад, провел Мустафу мимо сторожки по тропке, засыпанной песком, средь яблонь и ульев. Он подвел его к стене, раздвинул плохо порубленную крапиву, достал лестницу. Мустафа влез на Кремлевскую стену. Он увидал Ужгу, кусты, розовое тело женщины.
— Далеко, плохо видно, — сухим голосом, не оборачиваясь, сказал он Е. Чаеву.
Е. Чаев откликнулся:
— Что ж тебе, за рубль тридцать да и рядом?
Мустафа услышал стук, он оглянулся — Чаев отнял лестницу и уходил. Мустафа стал браниться. Чаев стукнул калиткой, и Мустафа слышал, как он закричал на весь переулок: «Лопта, никак в твой сад вор залез!» Голова закружилась. Мустафа поднял руки, выругал Чаева русским отвратительным ругательством — и прыгнул. Он покатился по рву. Он сильно ушиб себе колено, но вскочил и побежал к тем кустам, среди которых раздевалась девка. Он бежал теперь не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы отплатить наглому кремлевцу. Он подбежал к коричневому, густо переплетенному кусту. Девка стояла к нему лицом, он увидал: на ее теле доблескивали капли воды, она наклонилась, чтобы взять рубашку, и, не торопясь, оторвала от ноги приставшие листья. В груди у Мустафы съежилось и исчезло, словно взяли из него что-то. Он отошел. Он чувствовал, идя лугом, — тело его опустошено. Злость на Агафью охватила его, он остановился, чтобы ее обругать, она уже исчезла. И тогда боль в коленке., до сего не ощущаемая им, осыпала его всего. Он присел на береговой песок.
Голос Измаила окрикнул его. Измаил, вытирая папахой лоб, смотрел на него с другого берега. Конь танцевал, стремена плыли.
— Первоклассно ты прыгнул со стены, Мустафа, ценю такой прыжок, пожалуй, и мне, старику, не мешает осмотреть ценную девку.
— Ерунда, — сказал Мустафа, вставая.
Он разделся и кинулся в воду. Плыть было тяжело, течение быстрое, и мешала привязанная на голову одежда. Измаил внимательно следил за ним, готовый броситься. Конь перестал играть.
— Дурные мысли у тебя были, Мустафа, — сказал Измаил, когда Мустафа оделся. — В результате твоих мыслей я мог бы остаться без подметок, но счастливо мне: за некоторую работу дали подметки.
— Дурные, — согласился Мустафа и подумал, что необходимо ему три года рабфака и затем, самое меньшее, четыре года вуза, а всего она должна ждать семь лет, а сейчас ей, судя по ее сильному и ловкому телу, двадцать пять…
VII
Е. Чаев побежал на берег, к плотам, в домик «Собеседника». Он злорадно желал встретить Агафью. Чаев бывал в Туркестане и на Кавказе и знал, как могут вспыхивать азиатцы при виде такого женского тела, которое чувствовалось у Агафьи. Он только боялся, как бы Агафья, устыдившись оскорблений Мустафы, не направилась бы обходным путем в свой дом. Агафья шла, размахивая полотенцем. Лицо у нее было веселое и, как всегда, наполненное бегущей нежностью. Она посмотрела на Чаева, смело улыбнулась и пошла еще легче. Е. Чаеву стало скучно. Он понял, что не он обманул, а его обманули. Ему даже подумалось, что и событие с медведями не подстроено ли. Он услыхал тихий голос А. Щеглихи из-за прилавка: «Молодец, разве водки подать?» Е. Чаев отказался испуганно: он боялся спиться. Но чтоб как-нибудь отблагодарить А. Щеглиху за ее участие, он заказал две порции чая, но тотчас же раскаялся. А. Щеглиха сказала, подавая чай: «Вон и компаньон ваш идет».
К столику Е. Чаева подсел И. П. Лопта. Е. Чаев понимал, что И. П. Лопта подослан Агафьей, и именно в тот момент, когда он, Чаев, чувствует себя наиболее слабым, когда ему негде ночевать, когда его изгнал не только профессор, но и в Доме крестьянина отказали ему, — дескать, съезд каких-то пастухов. В интересах общины церковники хотят дешево купить его и торговать его популярностью… И. П. Лопта любезно высказал радость, что в чайной никого, кроме их двоих, нет и что А. Щеглиха свой, религиозный брат. Он добавил, что давно намеревался поговорить с Еварестом Максимовичем. Еварест Максимович, насколько известно Лопте, иконописец и сведущ, небось, в церковных древностях. Община сейчас нуждается сугубо в деньгах, и Лопта, хотя и отдал ей все имущество, оставив себе Евангелие, сейчас жертвует и это последнее — Евангелие, древнее, рукописное, которое может быстро найти себе покупателя, но нуждается в справедливой оценке опытного лица.
Е. Чаев понимал, что о ценном Евангелии говорится лишь для того, чтобы связать их обоих неким денежным интересом, и Е. Чаев, собрав остатки злости и силы, резко сказал:
— Я человек бедный, я занял сейчас рубль и буду жить на тот рубль неделю или год, но торговать собой не позволю.
И. П. Лопта взглянул на него озлобленно, но тотчас же смиренно и вежливо поклонился, встал и, извинившись за беспокойство, ушел. Е. Чаев растерялся. А. Щеглиха смотрела на него сурово, он попросил двести грамм колбасы. Он испуганно сдирал шкуру с колбасы. Ему вспомнилась кремлевская стена, трава среди бойниц, примятая телом Мустафы. Над бойницами редкие облака, и сами бойницы похожи на шестерни. И Мустафа ему с этого дня враг. И Лопта тоже!.. Деревянной, неправдоподобной походкой прошел мимо окон тов[арищ] Старосило. Е. Чаев заискивающе поклонился ему.
VIII
Тов[арищу] Старосило душно сидеть в канцелярии! Он шел по городу и мысленно расставлял патрули. Красноармейцы окликали его, и он отвечал звонким паролем… Но пустынна улица, нет красноармейцев, нет пулеметов, батарей, один только Е. Чаев почтительно снимает перед ним фуражку в окне, один только Е. Чаев, должно быть, знает многие подвиги тов[арища] Старосило, его рейсы по Кубани и Дону, его битвы с бандитами и даже белогвардейскую легенду о том, что сподвижники его, когда тов[арищ] Старосило поймал неуловимого пять лет бандита Дунду, выварили череп Дунды в котле и, осеребрив его в пепельницу, поднесли тов[арищу] Старосило.
Вот какие легенды распространяли эмигранты и бандиты про тов[арища] Старосило, а теперь… Тов [арищ] Старосило смотрел на плоты. Агитпропаганда среди плотовщиков плохо налажена: клуб где-то высоко в городе; церковники имеют здесь большое влияние. Кто слушает тов[арища] Старосило и кто исполняет его приказания? Чинуши, отписчики, склочники! Он шел проверять пост у железного моста. По ту сторону Волги копошились поляки, и отлично ж расставил тов[арищ] Старосило свои части, отлично будет разметана белопольская сволочь!..
У парохода стоял хромой капитан Б. Тизенгаузен. Капитан опять начнет жаловаться на бюрократизм. Но, к счастью, капитан Тизенгаузен не заметил тов[арища] Старосило, подле капитана пыталась тихо смеяться Даша Селестенникова, сестра Луки Селестенникова, инженера, хлопковода, плотовщика и охотника по неизвестной дичи. Шесть лет, каждую пасхальную субботу, направляется капитан Тизенгаузен в Кремль и делает предложение Даше Селестенниковой.
На столе стоят наливки и середняковствуют куличи. Благоразумная девушка размышляет, седой и дикий Лука ухмыляется. Капитан Тизенгаузен, размышляет девушка, получает двадцать пять рублей в месяц на законсервированном пароходе, к тому же обещают еще снизить и убавляют команду, которой и без того осталось двое. В ночь на субботу Даша обходит весь Кремль и спрашивает у всех солидных людей — выходить ей или не выходить, и в субботу, долго и задумчиво смотря на капитана, отвечает: «Нет», и капитан Б. Тизенгаузен, вспоминая прекрасный Гамбург, — идет обратно, тяжело грохоча железной своей ногой. Он не видал Кремля вблизи, так как постоянно смотрит себе под ноги, ибо его железная ступня легко может застрять среди колеблющихся и грязных досок тротуара. Даша Селестенникова пришла к пароходу с Милитиной Ивановной Зюсьмильх, вдовой немца-фактора из бывшей Монастырской типографии. Она пришивает капитана Б. Тизенгаузена: «Капитан, читая немецкие газеты, не слышали ли вы о Людвиге-Иване Зюсьмильхе, не вернулся ли он и не прославился ли в Германии?» И капитан Б. Тизенгаузен неизменно, как уже много лет, отвечает ей, что среди известных ему по газетам вождей Германии имя Людвига Зюсьмильха еще не упоминается.
Милитина Ивановна сказала, что в Кремле нет ничего нового, ждали экскурсию из Мануфактур, думали, придут ткачи, а явилось пятнадцать человек мальчишек, да и те, как видно, больше из-за Агафьи, — Милитина Ивановна, взяв под руку приемыша своего Егорку Дону, в длинном своем платье, обшитом стеклярусом, и с талией у самых подмышек, идет в гору.
Тов[арищ] Старосило всматривается в пароход и думает: «Почему здесь поставили на часы хромого, сонного идиота, здесь, у парохода, важный стратегический пункт, и я об этом упущении сообщу в штаб армии, прямо».
IX
Е. Чаев к вечеру раскаивался горько. Ударили к вечерне. Томиться не было сил. Он решил найти в соборе И. П. Лопту и униженно извиниться перед ним. На паперти, устланной чугунными плитами, корчился Афанас-Царевич, утирая заплаканное лицо рогожей. Собор был полон. Е. Чаев увидел Агафью. Она, скромно потупив глаза, стояла у входа. Афанас-Царевич, заглядывая в собор, кланялся ей. Все входящие осматривали ее величественную нежность, похожую на акафисты. А. Щеголиха продавала свечи, ее две помощницы по чайной, недавно раскаявшиеся и вернувшиеся из сектантства в несокрушимое православие, ходили с кружками. Старшая из помощниц, Шурка Масленникова, держала кружку с надписью: «На печатание Библии». Шурка старалась скрыть свой неимоверно разросшийся зад и подозрительно отцветшее лицо. В кружку опускали многие. Опустил и Е. Дону, воспитанник Милитины Ивановны, озорник, хулиган, но пришедший в собор, как понял Е. Чаев из разговоров, по одному слову Агафьи. И весь собор смотрел на него с умилением.
Е. Дону, положив деньги, вышел покурить. Переваливающейся походкой, по-фабричному, он спускался по чугунным плитам паперти. Профессор З. Ф. Черепахин с синей папкой под мышкой возвращался из уисполкома. Е. Дону быстро свернул к профессору, поравнялся и — локтем вышиб у него папку. Профессор взглянул растерянно.
— Подними! — визгливо крикнул Е. Дону, сунув руку в карман.
Профессор поднял папку, и Егорка сказал, стукнув финкой по папке:
— Я тебе, старая крыса, нутро вычищу, ты у меня вздумаешь еще нас в музей сдавать, я тебе укажу доклады!!.
Профессор зашептал что-то неразборчивое. Егорка все той же переваливающейся походкой пошел через площадь.
Е. Чаев решил немедленно разыскать И. П. Лопту. Калитка в его сад была открыта. Е. Чаев с сожалением посмотрел на Кремлевскую стену, вспоминая дурацкую утреннюю свою шутку. И. П. Лопта не любил собак, двор оттого показался Е. Чаеву еще более обширным и пустынным. Он прошел в прихожую. Он откашлялся. Чаева охватило беспокойство, он шагнул в горницу, служившую, видимо, столовой. Молчание встретило его. Через горницу, медленно, не глядя на него, прошла серая кошка. В окно он увидел крышу и звонницу собора. Звонарь ходил среди огромных колоколов, похожих на ели, птицы носились среди веревок. Е. Чаев попробовал окликнуть, ему не ответили.
На синей, тщательно выглаженной, так что видны были горбатые складки, скатерти лежало Евангелие, должно быть, то, о котором говорил ему И. П. Лопта. Оно толсто и серебряно, тускло перекликаются в нем многие столетия и дешевенькая зелененькая закладочка в нем. Е. Чаев взял евангелие в руки. Да, можно понять жадность И. П. Лопты, не пожелавшего отдать книгу общине. Рядом лежали — «Известия». Чаев ухмыльнулся и положил книгу на газету. Он обошел весь пустой дом, вышел на крыльцо, покурил, курицу подразнил: «Тох-тох» — и быстро вернулся в дом.
Он не спеша, прислушиваясь, завернул евангелие в газету, взял его под мышку и, сразу же вспомнив профессора и жест Егорки Дону, выпустил книгу. Книга упала. Он не желал быть вором, но ему хотелось досадить, поймать и обмануть обманывавших его — мысли менялись в нем часто. Он понимал, что люди, которых он хочет обмануть, имеют такое же право, как и он, на иные желания и иную веру, чем у него, — и все же их вера раздражала его! Он схватил книгу, он уже не имел силы развернуть ее, — если бы он ее развернул, он оставил бы ее. Он шагнул в сени. Он одеревенел, тот страх, который владел им, когда медведь нес его по валам, опять смял его сердце. Мимо него, босиком, держа ботинки в руках, прошла Агафья.
Улица остановила его бегство. Он взмахнул рукой, чтобы кинуть евангелие через забор, в сад И. П. Лопты, — его окрикнули. К нему направлялся взволнованный профессор З. Ф. Черепахин. Мальчишки расставляли городки, — [Е. Чаев] устремился к Волге. Он лег в кусты и тотчас же заснул. Роса разбудила его. Он дрожал. Он стал прыгать, развел костер, какой-то рыбак подошел и поинтересовался клевом. «Плохо клюет», — ответил Е. Чаев. Он вспомнил, что ночью должен встретить пароход, на котором плыла мамаша его Ольга Павловна, она сильно желала встретить сына и расспросить его о делах. Он подумал: не кинуть ли ему евангелие в реку? Но не будет ли тогда наказание церковников еще более грубым, нежели тогда, когда он раскается и возвратит сам?
У Агафьи есть, видимо, причины, если она не остановила Е. Чаева сразу и сразу же не уличила его! Благодарность и негодование стиснули сердце. Надо пойти и поговорить с Агафьей, признаться ей в шутке, и, если она его считает виноватым, он рад загладить свою вину чем угодно. Ему стало легко. Он шутник и веселый человек. Он прошел через весь Кремль спокойный, размахивая евангелием, завернутым в газету. Загудел пароход. Сонные пассажиры торопливо махали длинными билетами. Ольга Павловна деловито его обняла. Она везла теперь вверх продавать иконы и добавленные к тому арбузы. Она подробно выспрашивала, как идет его работа, щурилась и была недовольна. Он врал ей. Она похвалила его, что он смог быстро найти столько гражданских мотивов во фресках, — она дала ему пять рублей, подумала и прибавила еще пять. Она вынесла ему арбуз, сделала карманным ножом пробу, вкусила и впервые улыбнулась.
— Вот я везу арбузы и богов, — сказала она с пренебрежением, — а то и другое — одинаково скоропортящийся продукт. Рентабельное место занимай, Еварест, происхождение твое не дворянское, слава богу, не купеческое. Народ, я смотрю, растет, мест еще меньше будет, все займут. Я вот на иконы смотрю, по иконам жизнь стараюсь понять, и какую же, ты думаешь, икону требует заказчик?..
— Георгия-Победоносца, — ответил Е. Чаев.
— Женщину требует на икону заказчик, женщину, Еварестушка, бабу хозяйственную и чтобы покрасивей.
Выгружали длинный ящик. Суетился хмурый Вавилов. Ольга Павловна спросила: кто это и не деловой ли чиновник? Еварест объяснил, Ольга Павловна выразила готовность похлопотать. Е. Чаев пренебрежительно разъяснил ей полную бесполезность рыжего, направился к нему развязно, попросил закурить и сочувственно сказал: «Все скорбите». Вавилов зажег ему спичку, криво ухмыльнулся, и Ольга Павловна согласилась, что рыжий словно посконь — посеешь — родится, а на семена не годится.
Глава четвертая
о том, как Вавилов поговорил с Зинаидой; как мнихи-наборщики встали к реалу; как Еварест Чаев пас коня и что говорила Агафья на собрании Религиозно-православного общества
I
Колесникова приняли на фабрику. «Четверо думающих» получили каморку в корпусах. Вавилов приписывал выдачу каморки своему заявлению в жилищную секцию Совета: заведующий культурно-просветительным отделом, а вынужден жить у пьяницы Гуся. Жизнь там, правда, веселая и поучительная, Колесников уходил оттуда с неохотой. Колесников совсем отбился от «пяти-петров», и это немного порадовало Вавилова, вот если б Колесников не пил, но и трудно было не напиться у Гуся. Гусь хвастался, что около его стола прошли все революции и все революционеры знают его, многие пили из его рюмок. Сам он уже давно покинул производство, был сед, шестидесятилетен, толщины необъятной и на громадном своем животе носил многие уже годы лоснящуюся фрачную жилетку. Он сидел всегда посреди комнатенки, на толстом табурете, вытесанном им самим еще в дни молодости, и к нему за веселым разговором и за сплетнями шли пьяницы со всего поселка. Летом он часто переносил пьянство в пустырь, который он называл «Вифлеемским садом». Он обладал чудовищной памятью и способностью всегда оставаться трезвым. Он знал всех в поселке по имени и по отчеству, знал, кто когда родился, крестился и когда женился. Он редко выходил из дому, особенно после того, как прекратились кулачные бои, коих он был великим любителем. Для бабы стал силу свою беречь мужик», — сказал он уничтожающе. Он очень обрадовался, когда приехал М. Колесников, обещавший возобновить кулачные бои, которые есть даже в Москве, в Девкином переулке. Он, Милитон, покажет, как надо драться! Гусь-Богатырь смотрел на розовые его кулаки с любовью. За водкой Гусь сам никуда не ходил, даже мальчишкой, и чрезвычайно гордился тем, что водка к нему текла сама. Он разливал, пил не пьянея, «потому что в жизни не огорчался», он сидел на своем табурете благостный и добрый, всех называл по имени и отчеству, даже босяков, бывавших у него лет пять или десять назад.
Постоянно вокруг него крутилось пьянство; приходила Клавдия, играя цыганскими плечами; рабочие, напившись, снимали единственный в поселке и в Кремле автомобиль «прокат», подъезжали к дому Гуся, плясали, автомобиль тарахтел, вся улица хохотала, рабочие уезжали кататься. Гусь оставался один. Он сидел грузно на своем табурете, сосал огурец и, относясь насмешливо к Вавилову, быстро его напаивал и укладывал спать на печку. Вавилову снились, как всегда, дикие военные сны. Он стонал, а Гусь сожалел его вслух.
Вавилов был рад попасть в казармы, но в первый же день переселения он почувствовал большую тяжесть. Казармы эти, десяток четырехэтажных корпусов, построенные еще владельцами Мануфактур господами Тарре, толкаясь среди грязных канав, луж, оврагов и пыли, стерегли фабрику. Они добивались, чтобы ни один рабочий не проскользнул мимо них. «Камнят они нашу душу», — любили жалобничать старожилы корпусов. Имелось какое-то действительно озлобленное наслаждение своим несчастьем и грязью среди живущих. Сколько раз пытались посадить деревья подле казарм, проводили субботники, через день, через два — все деревья были выдернуты с корнем. Люди, казалось, хотели углубиться и нырнуть до самого конца этого грозного отчаяния, которое назвалось каморочной жизнью. Мало счастливцев покидало каморки. Каморка!.. В ней часто жили и две и три семьи, в ней были одно окно и одна дверь. Каморка отбирала у людей любопытство к земле. Пожив пять, шесть или десять лет в ней, люди не стремились уйти дальше своих казарм. Они сидели на лавочке у корпусов, сплетничали, грызли подсолнухи, в дождливую или снежную погоду гуляли по чугунным и тусклым коридорам. И странно было видеть Вавилову, что здесь нет пропусков и нет дневальных у входа и по чугунным плитам бегают дети. Внизу, в конце каждого коридора, царствовали гигантские кухни. Каждая печь, — а их было и по две и по три, — величиной превышала крестьянскую избу, десятки жерл отдельных печек высовывали сухие языки железных листов, и на этих листах, — жалкие призраки собственности, — чахоточные женщины ставили отдельно, каждая для своей семьи, в свою печь, тощий суп или хлеб… Двери внизу всегда распахнуты, клубы пыли или мороза трепались по коридорам. Платье, развешанное на кухне, зловонило. Дети, нищие, гадалки, слепцы…
Он развешивал одежонку «четырех думающих», расставляя кровати, от прочтенных им инструкций по культпросветительной работе, от длинных и опрятных фраз голова его исходила в какой-то короткой сухости. Дверь плохо затворялась, она постоянно ползла, надо будет купить крючок, — Вавилов потянул дверь. В коридоре, откинув назад голову, с узелком в руке, стояла Зинаида. Она прошла, села, оглянулась и признала каморку сырой. Вавилов глядел на ее узелок, она рассмеялась: ему бояться нечего, она к ним не влезет, пусть даже муж ее и навсегда здесь останется. Она спросила, где Милитон. «Четверо думающих» справляли свое новоселье у Гуся.
— А ты что не идешь? — спросила Зинаида. — Или отвадили, или натырить на выпивку не успел?
— Не успел, умница.
— То-то я и смотрю, не успел, культурной работой сегодня занимался, просвещал, как раствор в квашне, без рук, без ног по стене ползешь, голова рыжая. — Лицо у нее горело, она кинула узелок на пол, встала.
— Что же, в Милитоне ум изыскала, Зинаида Колывановна?
— Изыскать в тебе ум трудно, рыжий. Я с тобой миловидничать не желаю, и ты меня не величай, пожалуйста. Я вот жалею теперь, что против твоей кандидатуры не голосовала, да и мало ли у нас лодырей государственный хлеб отбирают… Скрытничать что мне, я баба здоровая, сначала мне в тебе порох какой-то почудился. — Она, успокоившись, села на кровать и опять подвинула к себе узелок.
Вавилов сел с ней рядом. Она, не замечая его и глядя в пол, стала говорить о том, что занимало ее голову последние дни и что она хотела рассказать М. Колесникову не для того, чтобы ожидать от него одобрения, а чтобы намекнуть — изурочиванье, владевшее ею много зим, проходит. Она была довольна собой и довольна тем, что в перевыборах участвует много ткачих и что ткачихи единогласно выбрали ее в Совет. Она хотела показать мужу красную книжку. Она развеселилась, закинула назад голову. Вавилов по-своему понял ее переход от внезапной брани к веселью и снисходительности. Он уже придвинулся к ней достаточно близко для того, чтобы понять при всей его мужской неопытности, — что ее переругиванье не что иное, как женская хитрость. Подумав так, он осмелел, и, когда она закинула назад свою голову, обнажив длинную и крепкую шею, он ее обнял и потянулся к ней. Зинаида любила себя в те минуты, когда увлекалась — говорила ли она, молчала ли, обнимала ли, работала ли. Ей не хотелось второй раз бранить рыжего, который к тому же, кажись, и выпил немного, да и, направляясь в казармы, она думала о Колесникове, об его розовых кулаках и хвастливом теле. Она хотела поговорить с ним в ясную, она начинала уже смотреть на Колесникова, как хорошие люди смотрят на прошедшую молодость. Она была уверена, что сейчас началась ее взрослая жизнь. Она весело убрала руку Вавилова и сказала:
— Ты подумал, я к тебе с симпатиями пришла, мне, мол, моего кобеля мало. У нас, миленький мой, и без того тешут языками поселком — кто с чьей женой живет, кто у кого отбил, и мне такой славы захотелось?
Она подумала немного и сказала, все о своем:
— Я вот с ткачихами некоторыми на днях в жилищную секцию вольюсь и тебе советую. Ты вот ходишь, жалуешься, что клуб сырой, гнилой и на болоте, а он, верно, на болоте, — пока я еще не влилась, так вы и стройте, начинайте, явочным порядком. Сколько вам на ремонт отпущено?
— Двадцать пять тысяч, — униженно ответил Вавилов.
— Закатите фундамент, а там дальше вас или под суд отдадут или велят достроить, ассигнуют, как дали достроить в Иваново-Вознесенске и Серпухове, кажись. — Она громко рассмеялась. — Но ты, рыжий, не сердись, какой же из тебя хахаль, употребят тебя на заклепку дыр профсоюзного здания — и то слава богу. Вот, небось, и клуб явочным порядком построить трусишь. Опять стало жалко, что я кандидатуру твою не опрокинула. Я с тобой сидела и заметила, как ты ко мне тянешься… Ну, ясно, баба я здоровая, побаловаться моему телу охота, оно разум-то и отгоняет в сторону. А баловаться, если приведет бог, не к тебе приду, я даже от тебя, помнишь, полотенце хотела попросить, так после этого два дня руки вытереть противно было…
Вавилов вспомнил, о каком полотенце она говорит. Он понимал, что надо с ней поговорить ласково и тихо, по-человечески, он даже привстал, она подняла на него глаза. Он сказал:
— Кобыла, дура.
Она положила узелок на окно и ушла. И все это оттого, что он стосковался по женщине, и оттого, что он постоянно думает, что возникающие у него желания и тяги одновременно возникают и у других с такой же силой. Стараясь удалиться от огорчавших его мыслей, он вспомнил, что с вечерним пароходом придет рояль и мотоцикл, высланный, после настоятельных просьб, в кружок автомобилистов при клубе. Стариков он рассчитывал привлечь в клуб организацией кружка рыболовов и охотников, без Лясных тут не обойтись; Лясных отлично знал и воду и рыбу, но Лясных пьянствовал у Гуся. Да и рояль получили благодаря С. П. Мезенцеву, который составил обширную бумагу и, как он говорил, «мог льстиво плавать среди оборотов». Бумагу украсили многие подписи рабочих…
Вавилов ехал Кремлем, по спуску к Волге. И. П. Лопта вел купать и поить отличного коня. И. П. Лопта пленил своего коня гордостью, конь ластился к нему. На уничтожение Вавилова в соборе Петра Митрополита, — как и триста лет назад, — бухнул колокол! За ним дискантами кинулись все тридцать приходов ужгинского Кремля. Они заглушили крик подходившего парохода. Когда Е. Чаев подошел к нему за спичкой и кинул сострадательный свой намек, Вавилов был уже удивлен той мыслью, которая окончательно укрепилась в нем в последующих пьянствах у Гуся и которая послала его к пруду, возле которого стояла расщепленная береза, похожая на вилку.
II
В типографии справляли печатание первого листа Библии. Наборщики выпили, выпили и монахи, принятые в рабочие временно, пока не придет санкция из губернии. И. П. Лопта, сын его Гурий стояли у печатной машины. Николай исправлял последнюю корректуру. Многим хотелось увидеть Агафью, — она обещала быть. Она много сделала в последние дни для дела церкви и дела Библии.
Типография находилась в полуподвале, но и здесь было жарко. Раскрытые стопы бумаг тускло блистали. Пахло скипидаром, валиками, водой. Двери в бумажный склад были распахнуты; там на обрезках бумаги спал полуголый пьяный Лимний. Наборщики, посмеиваясь, скидывали рубахи. Тела их блистали тусклым светом бумаги. Лоскут длинного бархатного платья на секунду застрял в решетке окна. Агафья спускалась по ступенькам, И. П. Лопта протянул ей навстречу пухлый, разрезанный карандашом, только что сфальцованный лист Библии. Она перекрестилась. Шмель влетел в окно и понесся над машинами и бумагой, являя желтое, полосатое, бархатное свое брюшко. Вздыхающим стуком двинулась печатная машина; из-под валиков вылетели сияющие линейки, и затем показалась и исчезла вся тяжелая красота набора. Печатник взял лопаточкой краску из бочонка, она старалась ускользнуть обратно, он ее ловил на лопатку, и она оседала тающими кружками.
Николай, мних и наборщик, как подхватил последнюю шпацию из набора на шило и как она взыграла, словно рыба, так он остался, восторженный, плотный, много лет не работавший и чрезвычайно довольный своей работой. Его смущало только голое тело Лимния, развалившегося на бумагах. Агафья улыбнулась Николаю, он выронил шило и прослезился, гляди на набор. «Стосковался», — сказал он. Агафья направилась к заведующему Хлобыстаю-Нетокаевскому, который сидел за складом, в стеклянной загородке. Она взглянула в склад. Голый Лимний насмешил ее, она расхохоталась. Лимний вскочил, тело его напружинилось, — Агафья опустила глаза.
— Смеетесь! — заорал Лимний. — Вам угождают, а вы смеетесь. Тарелка с остатками колбасы валялась на столе. Лимний схватил тарелку:
— Жеребца хочешь? Смотри, какой силой кричит жеребец!
Он разорвал остатки одежды. Посыпались осколки тарелки.
— Выгнать его! — сказала Агафья и повернула к выходу.
Николай восторженно смотрел на ее строгость. Гурий перекрестил Лимния. Тот огляделся изумленно, упал на бумагу и мгновенно заснул. Хлобыстай-Нетокаевский закрыл лицо руками. Позор! Он без ропота донес Агафье колесо, но она не вышла к нему. Он взял монахов-наборщиков по ее просьбе, он печатал Библию, но и тут она не подошла к нему. Он ненавидит бога, и бог преследует его. Хлобыстай-Нетокаевский вскочил, громко спросил через всю перегородку, как местком смотрит на такую похабщину. И местком ответил ему немедленно — уволить. «Уволить», — подписывая свою резолюцию, прочел Хлобыстай-Нетокаевский.
Е. Чаев пришел к типографии мириться с И. П. Лоптой. Он принес евангелие, по-прежнему завернутое в «Известия». За работой он думал о своей шутке, за едой тоже. Евангелие властвовало над ним. Он прислушивался к разговорам о своем медвежьем въезде, — разговоры начали стихать. Он подошел к лестнице, решительно распахнул дверь, — по лестнице навстречу ему шла Агафья. Нежное лицо ее изнывало в злости и в каком-то удовлетворении. Увидев Е. Чаева, она подумала, что если ей суждено иметь мужа, то муж ее должен быть тихим и женственным. Она выхватила евангелие, оттолкнула Чаева, тот прислонился к стене, хотел что-то сказать, протянул руку, — она обратно положила ему евангелие и захлопнула дверь. Он вбежал за ней. Она сказала: «Отстань, монахов позову». Он остановился у окна. С пухлым оттиском первого листа появился на улице И. П. Лопта. Гурий, заложив за спину руки, шагал следом. Гурий сказал:
— Если мыслить символами и предзнаменованиями, отец, то весьма странно ознаменовал господь появление первого листа своего творения.
— Откуда у тебя богохульство, Гурий? Дьявол это ознаменовал, а не господь. Господь накажет Лимния.
— Господь более милостив, чем думаем мы, он не станет наказывать больного и полоумного. О великом бешенстве пола напоминает нам господь случаем с Лимнием. Берегись, человек, уподобляйся камню.
И. П. Лопта направился к окну. Он взял Е. Чаева за лацкан толстовки. Борода у И. П. Лопты похожа на серп, И. П. Лопта, по всей видимости, думал, что Е. Чаев стоит здесь ради Агафьи и ради Агафьи желает мириться с церковью.
— Раздумал я о своем предложении, иконописец! С тысячу верст великой муки и испытаний пройдем своими силами, пройдем, небось, Гурий. Не жди, иконописец, союза.
— Пройдем, отец.
— А конюх общине требуется, и не поступишь ли ты, иконописец, в конюхи?
Е. Чаев понял, что старик чванится, старик рад случаю унизить богомаза. Но твердо Еварест не был уверен в своем предположении, — по-прежнему над ним ныло украденное евангелие. Он сам кинулся в унижение, испытывая томительное и пугающее наслаждение.
— Поступлю, — ответил он. — Три дня не ел… рисовать устал.
И. П. Лопта изумился. Гурий неодобрительно покачал головой, но гордость уже захлестнула И. П. Лопту. Он подумал, что Чаев спросит жалованье, и это будет предлог отказать ему, но Чаев не спросил.
— Иди, накормлю, — буркнул И. П. Лопта и пошел. Гурий остановил растерянного Е. Чаева, который уже шагнул за И. П. Лоптой. Гурий заговорил осторожно:
— Конюхом, Еварест Максимович (Е. Чаев необычайно удивился тому, откуда Гурий узнал его отчество), сказано чересчур громко, мой отец пышен. Двор наш, Еварест Максимович, передан общине, и община, следовательно, владеет конем. Правда, передача эта еще не оформлена и больше все на словах, но в связи с печатанием Библии и возможными затруднениями с бумагой и прочим понадобятся поездки. Отец мой крепок больше душой, чем телом… Вы нам окажетесь весьма полезны, много мы вам платить не сможем, приходы наши бедны, и вы, как изволите видеть, узнали, что священники наши ходят побираться по плотам, некоторые общины при кремлевских церквах имеют всего состава по шесть, по восемь человек. Вы юны и крепки, Еварест Максимович, а церковь весьма нуждается в юных организаторах. К тому, как нам известно, и технически вы образованны, а от нас власти требуют и ремонтов, и смет, и хотя учение ума несравненно с наукой чувств, все ж будет полезно объединение вами юных сил несокрушимого православия с техническими доводами в пользу веры.
Он задумчиво обернулся к возвышенности Рог-Наволог. Он хотел риторическое обращение свое закончить высоким жестом к горам. Над Туговой горой, похожей на два сосца, стлался легкий дым. В воздухе пахло гарью, уже несколько дней горели не то леса, не то болото на плато горы. Передавали, что в районе Мануфактур видели выгнанных лесным пожаром лосей и волков. Религиозно-православное общество и общество хоругвеносцев чрезвычайно нуждаются в дельных и грамотных работниках, и если вы, Еварест Максимович, пожелаете вступить в оное общество, я помогу вам всем моим слабым авторитетом…
— Я рад… я благодарю вас, ваше преподобие.
— Ну вот, а кто-то даже распустил слух, что вы организатор и представитель баптистов… Да… сегодня кружка «на печатание Библии», дорогой Еварест Максимович, в Кремле, где люди голодают, где иереи просят милостыню, где не только нам, — может быть, мы и виноваты перед властью, — но и детям нашим не дают пайков, здесь кружечный сбор нам дал двадцать рублей. В Мануфактурах люди заботятся о квартирах, и суды наполнены квартирными тяжбами, — у нас отдают дома в пользу церкви, родовые священные книги, нательные кресты. В Мануфактурах люди думают о любви и наслаждениях, — у нас девственная дева, поклявшаяся в любви к Христу, несет людям утешение в страданиях, жертвует своей жизнью… Кремль свят еще, Еварест Максимович.
— Свят, отец Гурий, благословите на подвиг.
— Я не рукоположен, брат мой, я просвещаю в светском чине.
III
Евареста послали пасти коня на Ямской луг. Он понял, что это испытание: коня не трудно сдать в городской табун. За Ужгой на лугу каждый день фигурял саблей со своего коня азиатец Измаил. Сперва многие влезали на Кремлевскую стену, чтобы посмеяться и полюбоваться на него, а затем привыкли. Еварест ехал лугом и завидовал коню Измаила, и хотя за Ужгой трава была лучше, — он спутал коня по сю сторону. Еварест уже начинал чувствовать ревность к хозяйству и к славе И. П. Лопты. Это радовало и злило его, радовало потому, что он сознавал себя глубоко религиозным, а, следовательно, и способным воплотить религиозные замыслы: в рисовании ли, которым он сейчас совершенно не мог заниматься, в строительстве ли церкви; и злило потому, что до сего дня он не мог передать Агафье евангелие, многое мешало этому… Измаил подъехал к берегу, опустил поводья, конь его «Жаным» сердито посматривал на коня Евареста.
— Пасешь коня девки, а девка на том коне поедет к моему сыну в гости. Мустафа возьмет ее молодость, красавец!
Еварест замкнул путы коню, поднялся. Ямской луг кадился последними остатками осенней пышности. Через темные кусты проскальзывали лиловые цветы. Разбитые бутылки, разноцветные папиросные коробки, окурки, — топтал конь «Жаным», — следы праздника фабричного.
— Советую скорей брать, азиатец, — получили мы письмо, едет к ней свататься с гор Бурундук, много дичи, видишь, набил, разбогател. Жених, да к тому же и крестить его не надо, крещеный. А по коню судить симпатии, наш конь смотрит зверем, на тебя и на сына твоего, дяденька.
— Ты смеешь упрекать в бедности моего сына, дурак?
— Не хочу я о тебе думать, махай саблей, мой конь будет о тебе думать, старый барабан!
— А я и коню запрещу о тебе думать и саблю спрячу в ножны, я тебя плетью пороть даже не хочу!..
— Конь наш поднял хвост, — берегись, выскочит кое-что зловоннее твоих слов, увязший в чистилище коммунистической партии!..
Измаил соскочил с коня, торопливо спутал его, положил в кусты халат, саблю в голову, ноги на солнце, чтобы показать зубастому мальчишке свое богатство — новые подметки. Он знал, что его конь лучше, и потому заснул немедленно. Еварест видел, что конь его если не лучше, то зубастей, — и тоже заснул. Так они спали, и кони глядели на них осуждающе. Кони пробовали ржать, греметь путами, — бойцы спали. Презрение овладело конями. Они крикнули друг на друга — и одновременно кинулись в реку. Они сцепились еще в реке; путы на ногах мешали им, они выплыли на берег. Они били друг друга ногами, они кусались и катались по песку и скатились в реку. Они выплыли на другую сторону к Мануфактурам — и здесь они дрались. Они высоко вскидывали разбитые бутылки, папиросные коробки, шарахались от них в кусты, кусты восторженно вздыхали и одобряли такую прекрасную драку. Пышная осенняя трава, пригретая обильным солнцем, сохла от жара их сердец. Конь «Жаным» победил. Он прогнал кулацкого коня с позором и кровью и стал щипать траву.
Эту битву видел один только человек. Это был Е. Бурундук, пьяный, довольный собой, своей первоавгустовской охотой и своей силой. Одиннадцать девок измял он перед тем, как выехать в Кремль, одиннадцать девок переловил он подле слобод Левецкой и Пушкарской, одиннадцать девок, сбиравших грибы. Он опасался, что дичь, набитая им, испортится, и все же он сложил дичь в погреб и послал письмо к Агафье, написанное самим председателем сельсовета слободы Ловецкой, — в этом письме он предлагал ей стать его женой. Он боялся соперников, надо отдать ему справедливость, и для страха соперников он, садясь в лодку, выпил две бутылки водки. Он вез дичь! Он греб и пел. Он греб и стрелял, и лодка прыгала по Ужге, и рябина, как зипун с красным гарусом, задевала Е. Бурундука за голову. Он пересек заводь. К берегу подошел волоокий азиатец. Азиатец держал в руке кусок дегтярного мыла, гребенку — девичью, розовую, — и пудру, черт возьми!
— К девке подарки?! — крикнул Е. Бурундук.
— К девке! — отозвался Мустафа. — Перевези меня, трудящийся.
— Ищи броду, чушка!.. Ищи броду, а как выйдешь на тот берег, зубы выломаю, потеряй лучше в броду свои зубы.
— Не найти тебе мои зубы, буржуй, так как синяки, которые на тебе будут, помешают тебе увидеть не только мои зубы, но и Волгу и даже Каспийское море, в которое она впадает; как верно сообщил писатель А. П. Чехов.
Е. Бурундук остановил лодку. Он повернул ее к берегу. Он выпрыгнул. Мустафа его ударил первым! Охотник растерялся, он протянул руки, чтобы схватить Мустафу за уши, — тот его ударил в подбородок.
Измаил проснулся, Измаил бежал уже к драке, и не успел он похвалить сына и сказать: «Великий революционер выйдет!» — как Мустафа ударил Е. Бурундука в глаз. Бурундук охнул, остановил размах кулака, так как он услышал голос И. П. Лопты с Кремлевской стены: «Куда спрятал Евангелие, паскуда?!» — Мустафа хлестнул Бурундука по виску, Бурундук упал. Мустафа подобрал мыло, пудру и гребешок, мгновенно нашел брод. Мустафа шагал уже далеко.
Конь И. П. Лопты, искусанный и в крови, гремя путами, скакал домой. Е. Чаев проснулся. Из Кремля донесся вздох парохода, возглас: «Прими чалку!» — толчок парохода о пристань и треск бревен, подвешенных к барже и сдавленных пароходом. Голос И. П. Лопты повторился. Е. Чаев увидал скачущего коня, Измаила, который лихо ехал вдоль реки, подняв саблю и готовясь произнести речь над поверженным врагом. Измаил говорил:
— Слушай, офицер, превратившийся в охотника. Благодаря тому, что Мануфактуры развивались и расширялись бывшими владельцами постепенно и, видимо, без всякого плана, фабричные корпуса, вижу я, представляют из себя целый ряд построек, пристроек, складов, сараев и других разных клетушек, загромождающих всю фабричную территорию, кроме того, я видел в черте фабричной территории жилые дома рабочих и служащих, что в значительной мере затрудняет мне контроль, и все же мною замечено, что большое разнообразие станков в ткацком отделе усложняет правильный ход работы и строения советской власти, вызывает целый ряд недоразумений с рабочей силой, ибо заработок работающих на более легких станках бывает выше, чем заработок тех, кто работает на более сложных станках, и для уравнения заработка Мануфактуры пришли к необходимости переводить одних рабочих с одних станков на другие… Слушай, что я им предложил!..
Бурундук вскочил. Он оттолкнул лодку. Он греб, бешено размахивая веслами. По воде скакал окровавленный человек, по берегу — окровавленный конь. Розовый Кремль стлался над Ужгой.
Надька, одна из прислужниц чайной «Собеседник», недавно обращенная, спускалась по откосу за водой. Она остановилась в лопухах, залюбовавшись быстрыми и мокрыми веслами Е. Бурундука.
IV
Е. Бурундук вогнал почти целиком лодку на берег. Он взбежал. И мост, и плоты, и пароход, и берег были пустынны. Мустафа исчез! На Кремлевской стене стоял И. П. Лопта, короткий пиджачок на нем вздувало розовым ветром. Он грозил кому-то кулаком, и был смешон Е. Бурундуку этот старый бешенник. Протоиерей Устин показался рядом с Лоптой, — тоже сдыхать пора, а он праведника из себя корчит, лимонная борода! Надька смотрела на гнев Е. Бурундука. Надька много грешила с плотовщиками, а теперь туда же, опустила глаза, подобрала зад и — смотрите все, любуйтесь все ее смирением, — воду таскает в общинный дом и собор Петра Митрополита! Бурундук подбежал к ней и сказал: «В Ловецкой слободе одиннацать девок я изнасиловал, понимаешь?» Надьке бы Масленниковой снести, опустить глаза, звякнуть ведрами, — Е. Бурундук, глядишь, и успокоился бы. А она наточила его еще острей, она подперлась руками, подняла грудь и нараспев возразила ему: «Будто бы, Бурундук!» — и, поздно вспомнив свое обращение, добавила: «Пропусти». Е. Бурундук утер рукавом кровь со щек, чтобы показать — не пьян он и действует разумно. Бурундук, возмущенный сомнениями и возможностью поражения и еще от какой-то паршивой девки, схватил Надьку за плечи, она блаженно зажмурилась, ведра покатились. Он поволок ее в лопухи. Протоиерей Устин перекрестился, дьявольское видение не исчезало из лопухов, он покинул бойницы. И. П. Лоти позвал Агафью. Лопухи колебались и шипели.
Агафья, схватив веник, которым подметала горницы пред объединенным собранием Религиозно-православного общества и общества хоругвеносцев, вбежала на стену. И. П. Лопта спустил ей лестницу. Размахивая веником, она устремилась по лестнице, путаясь в длинном своем бархатном платье. Несколько раз в лопухах взметнулся и опускался ее веник. Встал Е. Бурундук, и раздался его усмиренный голос: «Я ей покажу дразниться!» Агафья, посмотрев в блаженное лицо Надьки, ударила и ее. Надька Масленникова подобрала ведра, пропела: «Грешна» — и спустилась к мосткам. Агафья сказала Е. Бурундуку:
— И ты еще хотел меня взять в жены, Бурундук! Помнишь, как ты догонял меня на коне, лет восемь тому назад… или рассказать? Напомнить?
— Помню.
— Значит, долго тебе придется гнаться за мной! У бога я, теперь убогая.
— Погонюсь и за тобой, а если надо, и за богом, убогая.
— Поставь свечу Марии Египетской, положи сто поклонов и ложись спать, а через неделю приди, я тебе крест наложу.
— Приду, — ответил Е. Бурундук.
Когда Е. Чаев вошел в горницу, Агафья, чуть-чуть быстрее, чем обычно, дыша, читала через руку секретаря О-ва курносого гражданина З. Лямина, отношение горкомхоза о ремонте собора Петра Митрополита, Е. Чаев подивовался ее крепости и смелости. Слово взял И. П. Лопта, который и сказал с гордым смущением:
V
— Евангелие пропало, православные. Я отдал все, я ль скупился? Сатана подсмеялся над моим домом и привел врагов! Евангелие родовое, и не цена мне в нем нужна, а душевная привычка молитвы с ним. Я, православные, сами знаете, помощи никогда не просил, а тут как же мне? В советский суд жаловаться остается?
Агафья отложила бумаги. Голос у нее был тихий, медленный, и во время речи она смотрела всем по очереди в глаза. И, как всегда, когда она начинала говорить, в нее вглядывались удивленно и любовно.
— О каких делах мы должны заботиться в начале наших поступков, ежедневно: о мирских или о божеских? Кто скажет — о мирских, пусть покинет наш дом. И все оставшиеся скажут — о божеских. Надо ли напоминать вам, что мы взяли на себя тяжкий труд печатания Библии, и начало этого труда ознаменовалось тем, что типография спешно повысила расценку, и таким образом задаток наш, уже внесенный, мы немедленно обязаны были увеличить. Нам требовалось внести двести рублей. Хлобыстай-Нетокаевский, присутствующий здесь, пришел ко мне с великой скорбью, он верующий, но он бессилен. Община, вам известно, как бедна! Если бы я имела свою одежду, я б ее продала немедленно. Я бедна так же, как и моя община, братья! Я посоветовалась с отцом Гурием, сроку у нас был день, иначе типография грозила перенести вопрос в губернию, а там — нам неизвестно, — как отнесутся к печатанию Библии. Утром, сегодня, я должна была внести деньги. Надо сказать вам, что в город приехал купец, торговец стариной, — я вспомнила про евангелие, православные. Иван Петрович ушел рыбачить, Иван Петрович ушицу из ершей любит… Торговец мог меня обмануть, я женщина слабая, убогая. Еварест Максимович согласился сходить с евангелием. Каюсь, подговорила я его, судите меня. Где у вас евангелие, Еварест Максимович?
— В чулане, где сплю, Агафья Ивановна.
— Не сторговались, видно?
— Торговец, когда вниз по реке спускаться будет, обещал купить. Мало дает, Агафья Ивановна.
— Принесите, Еварест Максимович, евангелие, если Лопта напугался столь воров, что взял впереди всех слово и не дал нам даже молитвы прочесть.
И. П. Лопта встал, он был растроган и был старчески расслаблен.
— Я каюсь, православные. Я славно проучен за гордыню. Прости меня, Агафьюшка, всегда-то я впереди всех стараюсь быть, и всегда-то я думаю о себе.
— Кто ж внес двести рублей? — спросил Гурий. Ему было противно слушать манерную речь Агафьи, и мучительно жалко было огорченного отца.
— А внес их, Гурий Иванович, наш новый молитвенник Лука Селестенников.
Л. Селестенников, оглядев всех с любопытством, неумело, но смиренно потупил голову. Е. Чаев обрадованно чертил на клочках бумажек какие-то цифры. Секретарь сообщил, что запись в члены Общества хоругвеносцев повысилась, с бумагой для печатания Библии дело налажено, заказы поступают исправно и возможны даже авансы. Есть даже заказы от сектантов, но они отвергаются. По окончании его доклада слово опять взяла Агафья, которая предложила, ввиду развивающейся деятельности обществ и чтобы в обществах не было параллелизма, — избрать единого секретаря, принимая во внимание то обстоятельство, что для общества хоругвеносцев желателен секретарь молодой. Среди выступавших ораторов предложение ее не пользовалось успехом, Гурий думал, что оно провалится, сам он высказался против объединения обществ и выборов нового секретаря. Но он забыл про женщин. Женщины были на стороне Агафьи. Проголосовали — и вышло выбирать. Называли кандидатов. Агафья молчала, но как-то получилось так, что кандидатов назвали двух: Е. Чаева и Г. Лопту. Е. Чаева предложила А. Щеглиха, содержательница чайной «Собеседник», и кто-то тихо пошутил, что из-за нехватки чая предложила, будет употреблять как суррогат!
Агафья высказала мнение, что лучше бы кандидатам покинуть временно собрание, и, когда кандидаты ушли, она заявила, что с грустью и прискорбием, но она обязана высказаться против кандидатуры Гурия. Гурий упрямо, во вред церкви, брезгует епископством в Кремле, страшась принять мученический венец. Такое же смирение и медлительность он может выявить и при организационной работе среди двух обществ, а мы должны напрячь все свои силы и напечатать Библию возможно скорей. Враг идет на нас, сектанты внимают нам и нашей работе! Горкомхоз усиленно настаивает на усиленном ремонте собора, и, узнав о том, что община печатает Библию, он свои требования усилит… И. П. Лопта молчал. И он осуждал сына.
Секретарем и делегатом в Губернию для отчета и связи избрали Е. М. Чаева.
VI
Гурий после собрания поджидал Агафью на крыльце. Она провожала старух до ворот. Возвращаясь, она сказала:
— Ну, братец, хай меня, хай!
— Зачем мне тебя хаять, Агафья, но клятвенно скажи мне: мужа ли ты ищешь в Еваресте или епископа?
— Божью волю я ищу в нем, братец.
— Ты и богу и мне обещала, Агафья, остаться девой. Посмотри, как хороша девственность, она спасает человека от порока, от зла, она ведет его по истинному пути, никуда не сворачивая. Святой жених вечно пребывает с тобой, он кладет тебе руку на плечо, когда ты усомнишься, он мудр и благостен!..
— Будем помогать, Гурий, свершать богу то, что он хочет.
— Нам предстоит видеть много страданий и испытаний, Агафья, — мне не быть тебе ни другом, ни наставником, и Еварест Чаев не принят моим сердцем и «Тем, который есть в нем». Смерти и горечи будут лежать на нашем пути, я предлагаю тебе, Агафья, кто из нас больше отнимет и украдет у смерти жертв. Возьмешь такое домоганье?
— Возьму, Гурий. Не христианский ты мне спор предлагаешь, кажись, но ты ученый, тебе видней.
— Но в сердце нашем Христос, он разрешит всякие споры и поможет нашим похищениям от смерти ее жала!
— Смерть и причины ее неразборчивы для нас, Гурий, так же, как и для рыб невод: смотрят — ноги каменные, туша конопляная, голова деревянная, а ловит.
Агафья стояла, решительная и нежная. Гурий поклонился ей изумленно. Ворота распахнулись. В дом вошло несколько человек, очень просто и грубо одетых. Гурий узнал их, это были «калейники», единственные сектанты, которым община согласилась продать библии и о которых, по непонятным причинам, не упоминалось на общем собрании. Их громадные сапоги обильно смазаны дегтем, приготовлены к далеким зимним походам, их бороды выцвели от солнца и головы всегда наклонены. Сермяжный Тибет!..
— Напрасно ты бежишь митры, Гурий.
— Дальше узнаем, Агафьюшка, спаси тебя бог.
Стемнело. Домника Григорьевна вынесла на крыльцо лампу. В горах видно было зарево. С Ужги донесся плеск весел лодки, и четыре голоса, то повышаясь, то понижаясь, прокричали: «Па-аром!..» Все прислушались, и И. П. Лопта сказал грустно:
— Наши певчие из собора…
Глава пятая
о том, как пробовали мотоцикл; как Захар Лямин решил привести в действие свою думу; как Вавилов посетил пленум горсовета Мануфактур; как мучился Гурий, ища смирения, и как Вавилов пришел к Императорским прудам
I
В клубе Мануфактур стрелковый инструктор обучал комсомольцев. Все утро пыхали выстрелы. Клуб находился в запущенном парке, изобиловавшем искусственными прудами, похожими на заигранные карты, были они некогда четырехугольны с замысловатыми гротами, островками, подстриженными деревьями по берегам, и, по преданию, начало им положил император Петр, и назывались они долго Императорскими, теперь они настолько заросли и запущены, что даже не имеют названия, словно лужи. В парке появились овраги, того и гляди, явятся болота. Вавилов помог выгрузить рояль, распаковал его; после стрельбы ребята обещали прийти смотреть мотоциклет. Вавилову не терпелось, он направился на стрельбище. Ребята любовались дымом, покрывавшим вершину Туговой горы. Ребята заметно дичились Вавилова, — они говорили с ним неумело покровительственно. Долго придется Вавилову искать их дружбы!.. Он записался в очередь на стрельбу, вернулся в клуб, велел сторожу раскрыть все окна. Клуб стоял на дамбе, Вавилов выглянул в окно, — саженях в четырех внизу плескалась о плесень дамбы Ужга, кустарник рос среди кирпичей. И клуб был тоже запущен, в углах осел, трещины; зимой, говорят, нестерпимый холод, и посещение, судя по отчетам, «падает до минимума». Требовать же постройки нового клуба сейчас, когда набирают третью смену и когда особенно обострился жилищный вопрос, безумие… Вавилов избегал даже думать об этом.
Вавилов вспомнил о присланном мотоциклете и о том, что ему, Вавилову, до зимних холодов надо явить предельную силу для того, чтобы привлечь рабочих в клуб. Он оторвал от папки своей кусок картона, написал «проба»; сторож помог ему выкатить мотоцикл на дорожку; Вавилов вскочил, раздался оглушительный треск по парку; поднялись тысячи ворон, — мотоцикл он направил к стрельбищу; сторож бежал позади с жестянкой: Вавилов забыл налить бензин. Сторож упал, поскользнулся — лето оканчивалось обильными и теплыми росами, — жестянка опрокинулась, сторож поднялся, пугаясь, он вылил весь бензин себе на колени. Винтовки и хохот окружили Вавилова. Сторожа послали в правление за бензином; теперь надо было полдня искать зав технической частью, затем директора или пома — для резолюции. Вавилов сразу засторонился от комсомольцев, переписал свою очередь на стрельбу, — пошел к пруду, самому запущенному, подле которого был глубокий овраг, пруд этот, угол которого украшала береза, похожая на вилку, он мысленно отметил цифрой четыре. Подле березы имелась крошечная лужайка с песком, и несло густой и теплой прелью из оврага. Вавилов положил под голову кепку, и, как всегда, когда огорчение скучало в нем, он мгновенно заснул. Ему часто снился один и тот же военный сон… Теперь этот сон прерывало тонкое мяуканье котенка, он даже видел — котенок голубой и лезет к нему под бок, и талия у него, у Вавилова, столь тонка, что котенок легко проползает под него. Трава шелестела, комсомольцы шли к нему, — сторож, должно быть, вернулся. Он слышал все и не мог проснуться. Тревожило его и то, что ребята разговаривают испуганно. Руку его скрючила холодная боль. Он с трудом открыл глаза. На руке и на плече лежала свинцовая лента. Лента быстро из свинцовой превратилась в серую. Он вспрыгнул. И когда он уже стоял на ногах и упавшую змею бил прикладом комсомолец, — по нему загалопировал страх. Он натуженно сказал: «Вот, ребята, какие у нас черви водятся», и сам он и другие поняли, что смелость не вышла. Комсомолец, убивший змею прикладом, передал ему винтовку и сказал: «Твоя очередь», и сторож подошел, осторожно держа банку с бензином. Вавилов закинул винтовку на плечо, взял у комсомольца патроны, которые тот испуганно вставлял в винтовку, когда увидел змею, и так же испуганно вынул, когда ударил первый раз прикладом.
II
Вавилов сел. Комсомолец, передавший ему винтовку, извиняющимся голосом сказал: «Оружие-то мешает», и он, как и все, вдруг посмотрел в горы: оттуда пахнуло дымом, военный задор овладел Вавиловым. Он поправил винтовку и спросил: «Ребята, что горит на Туговой горе?» «Лес», — ответил один. «Торф», — сказал другой. И потому, что Вавилов сидел на мотоцикле, с винтовкой за плечами, они отвечали быстро. «Узнаем точно», — сказал; Вавилов, пуская машину. И когда мотоцикл уже выскочил на шоссе и какой-то мужик натягивал вожжи брыкавшейся лошади и солома накренилась у него с воза, — Вавилов вспомнил, что сегодня на стрельбище обещал привести свою племянницу мастер Ложечников, тот, который был долго судьей, и тот, с которым Вавилов сильно желал побеседовать и перед которым Вавилов-то и желал покрасоваться ездой на мотоцикле, так как говорили, что Ложечников большой любитель новостей и чудес, да и сам-то он видный чудесник. Мысль о Ложечникове проскользнула, сожаление исчезло, — Вавилов собирал и вспоминал обрывки тех разговоров, которые помогли бы найти ему дорогу на Тугову гору к слободе Ловецкой, а оттуда к пожару.
Он вспомнил: дорога поворачивает мимо каменной дачки господ Тарре и мимо кирпичного столба. Он увидал дачку, кирпичный столб, он повернул. Проселочная дорога пересекала осиновый лес. Машина ныряла в овраги, строчила по гатям, недавно насыпанным, — возили сено и хлеб с полей. Он пронесся по мосту через речку Ужгу, — мотоцикл пересчитывал уже ели. Вавилов прибавил скорости. Еловый лес белел мхами. Верхушки елей перешибал дым пожарища. Начала изобиловать сосна, руль отблеснул желтыми стволами. Заяц ошалело воткнулся в поляну, напуганный дымом, треском мотоцикла, дорогой, которая стала уже прятаться в дыму. Вавилов миновал зайца, поляну, ветки, — они ему почудились, — с искрами хрустели под ним. Он плутал. Но он мчался, трепеща страстью движения, и был уверен, что смерть только сможет остановить его. Мотоцикл жадничал, рвался, — лес наполнился низким и коричневым дымом, среди дыма стройно шли сосны, шепеляво шелестя: «Ждали-пожидали». Вавилову некогда ими любоваться, он исполняет приказ. Он прибавил еще скорости, стрелка прыгнула… Мотоцикл перестриг гнилой ствол и потрясся в песчаную яму, застрял. Вавилов выкатил его.
Он сбился с дороги. Вавилов заелозил среди стволов. Он выскочил на поляну. Среди поляны лежал валун, натуженно украшал его осьмиконечный крест, выведенный масляной краской. Вавилов подумал о кладбище, он пошел по поляне. Маленькая речка окаймляла поляну, он нашел тропку, кирпичную ограду кладбища, белую церковь. Он выехал на большое плато, покрытое дымом. Камыши струились белесо, в деревне суетились мужики, бабы рыли канаву. Горели торфяные болота подле слободы Лонецкой! Высоко над дымом испуганно искали его конца утки, — полет их был ждущий. Вавилов быстро нашел обратную дорогу. Ветер нес ему в спину дым и треск, винтовка беспокоила его. Вавилов снял ее и привязал к раме. Кончался еловый лес. Вавилов увидел избушки, которые раньше он не заметил, он вспомнил, что здесь живут угольщики и кузнецы, обслуживающие шоссе, там, где все дороги с возвышенности Рог-Навалог вливаются в шоссе. Несколько здоровенных мужиков стояло на крышах избушек; увидев Вавилова, они замахали руками, указывая ему дорогу в том месте, где ельник соединялся с осинником.
Вавилов остановил мотоцикл. «Бей, бей!» — опять закричали мужики. Поперек дороги стоял, мотая головой, длинный и поджарый волк. Вавилов пригляделся. Морда у волка была окровавлена, шерсть опалена, он, должно быть, бежал из самого сердца пожара. Вавилов свистнул, волк поднял голову, весь верх головы был залеплен грязью и кровью, — волк ослеп. Вавилову стало его жалко. Он завел машину. Услышав рев, который напоминал ему пожар, волк, мотая головой и припрыгивая, понесся по дороге. Угольщики заулюлюкали, завопили, — лихо ж мотоцикл скакал за волком! Долго бежали следом угольщики. Волк боялся свернуть в осинник. Он выскочил на шоссе. Он лапами спрашивал путь. Он скучил свой слух. Волк бежал от звука, преследовавшего его. Едва звук пожара и треск падающих деревьев слышался влево, волк брал вправо, — однажды он свернул даже с твердой и каменистой дороги, но попал в канаву и вернулся обратно. Боль в глазах научила его прямому бегству. Дорога наполнилась запахами людей, устремлялась вниз, — волку казалось, что внизу его ждут гладкие луга и мягкие камыши. Он встревожился только когда увéдал близость жилья.
III
Волк натянулся. Волк хотел миновать жилье. Вавилов, держась одной рукой за руль, начал отвязывать винтовку. Править ему было трудно, и к тому же узлы веревок стянуты были слишком туго. Вавилов вдруг вспомнил, что он не на стрельбище, бетонный барьер не окружает его; если стрелять, то надо было стрелять в лесу. Слева, по шоссе от Кремля, послышался стук автомобиля, — именно оттуда, куда намеревался свернуть волк. Возвращалась комиссия, любовавшаяся древностями. Вавилов убавил ход; волка все это, видимо, встревожило, и он, безобразно приседая, падая, кувыркаясь в пыли, ворвался в поселок. В автомобиле махали, автомобиль несся волку наперерез, послышалась из автомобиля револьверная стрельба. Улица поселка опустела. Волк несся к Рабочему клубу. Когда Вавилов подъехал к новым тесовым воротам клуба, украшенным пышными лозунгами, неподалеку от них валялся убитый волк, и тов[арищ] Старосило, с револьвером в руке, глядел на волка. Товарищ Старосило выехал проводить комиссию, он был удовлетворен своим подвигом. Все кричали, что волк бешеный, один из членов ревизии или комиссии возмущался тем, что при стрельбе ухитрился кто-то прострелить две шины. «Четверо думающих» стояли возле клуба. Видны были розовые кулаки Колесникова. Хвалили стойкую бодрость товарища Старосило, а с Вавиловым даже и не поздоровались. Ложечников осматривал волка. Племянница его Овечкина стояла рядом с ним. У Вавилова не было сил и, главное, уверенности в нужде подойти к Ложечникову. Вавилов думал, что выгнал он волка потому лишь, что снятся ему военные сны и может он исполнять военные приказания, и убил-то волка такой же, как и Вавилов, остаток войны — Старосило, и, глядя на товарища Старосило, Вавилов понял, что испытывает он перед ним робость и пугает его товарищ Старосило. Но вот товарищ Старосило войдет в историю, а он… Колесников взял волка за шиворот, поднял одной рукой, торжественно осмотрелся и понес. Он шел по поселку, огромный и величественный, направляясь к хибарке Гуся-Богатыря, и «думающие» окружили его, и многим, идущим по его следу, захотелось выпить.
IV
— Ты сам, Гурий, отложил митру, ты бежишь митры, так и от нас пора ждать благословения тебе… кнутом, хотя бы, — сказала Агафья. — Довольно мы тебе абажурили, Гурий, изучили мы тебя… Гурий дома, возможно, сомневается в несокрушимом православии!
Гурий осторожно отломил веточку яблони, и тогда Агафья сломала ветвь больше, толще, сломала быстро и свободно, как хозяйка. Гурий увидел сквозь обезлиствовавшие ветви яблонь удивительно нежное, — таких не бывает, — лицо Агафьи. Родители его смотрели на Агафью подобострастно. Вся ссора произошла оттого, что Гурий узнал, как плотовщики, предводительствуемые П. Ходиевым и его взбалмошной женой, с иконой и пением псалмов ходили тушить торфяной пожар в слободе Ловецкой и что послала их туда Агафья. Пожар потух раньше их прибытия, но почва для пропаганды истинной веры подготовлена в слободе Ловецкой, и тем начата вспышка ревности к православию в окрестностях Кремля. Агафья хотела начать проповедь среди Мануфактур, Гурий же считал необходимым укреплять православие в Кремле, печатать Библию и вести проповедь среди плотовщиков. Агафья ответила ему виденным своим сном: отрок явился к ней и сказал, что через пять лет ждут войны, Русь и православие должны думать о войне, сопротивляться войне, мешать войне!.. Гурий усумнился истинности ее сна. Она его стала упрекать отказом от митры, о келейниках почему-то заговорила. Отец не защищал его! Отец любовался урожаем яблок, садом. Гурию тяжело спорить, он поднялся на Кремлевскую стену, шел, время от времени срывая травинки, росшие среди бойниц. Он проходил над двориками кремлян; мимо тишины, мимо развевающихся платьев. Палевая Алексеевская церковь выросла перед ним лапотком, колокольня — шильцем, ограда — дратвою! Он увидел Алексеевскую площадь, товарищ Старосило деревянно шагал по ней, Хлобыстай-Нетокаевский догонял его с каким-то пакетом, — а подле бойницы, прикрывшись листом выцветшего картона, сидел на кукорках бледный, трепещущий, бывший секретарь Р. П. о-ва, курносый Захар Лямин, сожитель Препедигны, той, которая получала пенсию за убитого в бою с бандитами мужа и на пенсию которой он питался. Захар Лямин высовывал из-за листа картона дуло ружья. З. Лямин целился. Гурий ускорил шаги, схватил его за руку. Выстрелило.
V
По уходе Гурия Агафья подозвала к себе его родителей и сказала:
— Приятель у Гурия есть, вместе учились, священник Преображенский, он пишет в письме Гурию: «Я дома столько же, однако клобук преклоняется к моим рукам». Стыдно нам читать такое!.. Раз он хочет светской жизни, советую я вам его женить, да и невеста есть ему, пусть он не мешает церкви своими сомнениями.
— Кто же невеста, Агафьюшка? — спросила Домника Григорьевна.
— Даша Селестенникова.
И. П. Лопта поспешно согласился с Агафьей, и поспешность эта испугала Домнику Григорьевну, так как задумчивость его в последние дни соседствовала с изуверством.
VI
Тов [арищ] Старосило был глуховат на одно ухо. Как всегда, он расставлял посты и прислушивался к империалистам, наступающим из-за Ужги. Выстрел, раздавшийся с Кремлевской стены, казалось, прозвучал ему во вчерашнем дне. Он не слышал, как упал Хлобыстай-Нетокаевский, человек, который не мог больше выносить равнодушия людей к его мучениям, людей, не разъяснивших ему жизни: человек, который не вынес равнодушия Агафьи и который, после долгих мучений, с ненавистью наблюдал, как печатали Библию и как чвакали революционные валики машин, накатывая краску на церковные слова, решил организовать при типографии кружок безбожников. Воззвание, написанное им собственноручно и вывешенное подле неумелой и засиженной мухами стенгазеты, — вызвало и изумление и хохот. Он написал заявление о выходе из Р. П. о-ва, он написал проект борьбы с церковщиной среди кремлевцев, и с этим-то проектом догонял тов[арища] Старосило. Он спешил, так как в форточку его конторы блаженный Афанас-Царевич уже кинул ему падаль, ворону, и кто-то из темноты типографии крикнул ему в это время: «Заискивай, прокуренный ворон!» Пуля ему попала в грудь, он корчился на Алексеевской площади, строгая пальцами булыжники. Никто не вышел попрощаться с ним, так как все думали, что тов[арищ] Старосило, по обычаю своему, в обеденный перерыв стреляет ворон. Захар Лямин визжал, прикрывая лицо картоном:
— Отец Гурий, отец Гурий, два с половиной года обдумывал я отмщение за своего сына, два с половиной года сбирался в губернию или в центр за смертью для Старосило, а он сюда приехал! Два с половиной года перед обдумыванием делал я ружье, так как за мной следили и УУР и другие соответствующие учреждения, два с половиной года до выделки ружья искал я порох и пули и — мимо, господи, боже мой, мимо!..
Лямин бросил ружье, откинул картон и побежал по стене. Седые волосенки торчали у него над ушами, карманы у пиджачишка вздутые, выпал грязный платок… Да, не уберег ты, Гурий, человека от смерти, не поймал, — своей рукой навел ты на плечо Хлобыстая-Нетокаевского пулю, своей рукой ты закрыл его прокуренный рот. Гурий поднял ружье, спустился со стены. Хлобыстай-Нетокаевский умирал. Он с трудом вглядывался в наклоненное над ним лицо Гурия. Хлобыстаю-Нетокаевскому подумалось, что уже началась галлюцинация и что лик Христа с купола собора Петра Митрополита смотрит на него. Хлобыстай-Нетокаевский так, чтобы не заметил Христос, собрал крови в ладонь; соединяя остаток сил, влил ее в рот и, набрав полный рот крови, харкнул в небо. Кровь брызнула, и Гурий еле разобрал слова:
— Я плюю на тебя, Христос!..
Гурий отшатнулся, бросил рядом с трупом самодельное ружье и убежал. Долго затем рассуждали в Кремле о странном самоубийстве Хлобыстая-Нетокаевского, и тов[арищ] Старосило любил повторять: «Я слышал далекий отзвук выстрела, но полагал, что и у нас наконец, как и в Мануфактурах, открыли военно-спортивный кружок. Пора бы!..»
VII
За полночь возвращался Гурий из типографии после правки корректуры. Ему подумалось, что было б лучше, если б З. Лямин убил бы тов[арища] Старосило. Поставили б тов[арищу Старосило в большую заслугу его смерть от пули кулака, честь его была б исправлена, пьянство его забыли бы, труп его привезли бы, возможно, в центр и похоронили с большими почестями, и многие друзья, которые теперь по занятости не отвечают на его письма, поплакали бы и поговорили высокопарно. Он шел аркадой Гостиного Двора. Громыхающие шаги послышались за ним. Он натужился, чтобы не обернуться. Его обогнало несколько человек. Была луна. Он узнал келейников. Тяжесть размышлений, жевавшая его весь день, покинула его. Он понял, что приближается испытание и что слова Агафьи о митре, ее угрозы, не напрасны. Он остановился. Он сказал громко: «Бог со мной, и я не покину его, — что ж вы конфузитесь?» Келейники к нему приблизились. Самый маленький из них, в фуражке без козырька, схватил его за плечо, тряхнул. Гурий упал. Боль обволокла его. Он застонал. Ему заткнули рот грязной тряпкой. Его притискивали к деревянному тротуару. Завизжал прут. Запах досок, гнилой травы захрустел у него по лицу. Сапоги келейников стояли неподвижно и пахли дегтем. Сначала он вертничал, но стоило лишь ему сказать мысленно: «Во имя твое, господи!» — ему стало легче переносить боль. Он повторял эти слова при каждом ударе изъедающей боли. «Сорок отботали…» — сказал спокойный голос. Шаги удалились. Гурий лежал, все еще повторяя: «Во имя твое, господи!» Он поднял голову, увидел белую аркаду, ему стало мучительно стыдно. Вдоль аркады шел милиционер, переворачивая лавочные замки вверх и отверстием так, чтобы они приходились к стене: от воров. Милиционер сказал: «Вставайте, гражданин! — И, увидев лицо Гурия, остановил улыбку, которая была с ним всегда, когда он видел пьяных, милиционер построжал. — Плакать направляйтесь домой, здесь подозрительно».
VIII
В актере Ксанфии Лампадовиче Старкове имелось много суетливости и скрытности. Он часто забегал к Вавилову, смотрел на него пристально, выжидая чего-то, и всегда неожиданно высоким голосом любил начать поиски с рассказа о себе. И в этот раз началось по-обычному:
— Событиями с Неизвестным Солдатом все еще не заинтересовались?
— Когда они войдут в вашу программу преподавания в драмкружке, я заинтересуюсь, Ксанфий Лампадович.
— А лично меня слабость человеческая влекет, я для слабых берегу эту историю, верную гарантию приобрести бессмертие, слабые, прослушав мою историю, защищат меня от его высокопревосходительства! Пьер-Жозеф Дону не найдет меня! Выслушайте, пожалуйста, Вавилов!
— Ступайте к Гусю, Старков, там любят истории.
— Был. И даже Гусь презрел мой рассказ, но у Гуся на это есть свои причины, судите сами, Вавилов. Участвовал я в бою под Верденом, а вам известно, каков происходил бой? На километр фронта немцы выкатили по тридцать батарей. По сто машин лупило с одного километра, многоуважаемый! И падает подле меня тяжелый снаряд, Вавилов, и я, будучи робкого сердца, я так испугался, что хотя и не умер, но душа моя поспешила покинуть тело и быстро вознеслась на небо, и бог ее похвалил за такую поспешность, ибо она первой прилетела к нему с подробным докладом о сражении под Верденом, потому что остальные души умерших, любопытствуя знать конец сражения, все еще носились над землей. И бог сказал мне: «Спасибо тебе, Ксанфий Лампадович, за услугу, и вот выбирай лучшее: богатство, счастье, возможность вечных наслаждений, радость, страдания, музыку, слезы, успехи движения и вообще все, что хочешь». Что ж, вы думаете, я выбрал? Я выбрал сказки, товарищ Вавилов! Но не рассчитал, не рассчитал я, старый болван, что страна наша находится в строительстве социализма и ей не до моих сказок, ибо она сама пребывает в сказке… Так-с, возвращаюсь я к телу своему, а у него ворон, традиционная птица сражений, сорвал мясо со щек — видите, шрам!.. Мне стыдно стало занимать такое рваное тело, кому приятно, когда станут думать о вас, сифилитик, но Неизвестный Солдат…
— А сейчас вы зачем ко мне пришли, Старков?
— Вижу и одобряю ваши занятия, но мне, наполненному сказками, трудно понимать смысл сказки, нахальничающей вокруг меня. Имею я два пропуска на пленум нового Горсовета Мануфактур. Ткачихи, ткачихи преимущественно, и на заседании жилищной секции ткачиха Зинаида Колесникова намерена выступить по жилищному вопросу. Мне Пицкус это сообщил, Пицкус с длинными ушами, а Пицкус — ее муж… Изъявите сегодня пойти со мной, товарищ Вавилов, прошу вас.
— Изъявляю, — сказал Вавилов.
IX
Очевидно, ткачихи пришли на заседание пленума Горсовета сразу с фабрики. Пыльного солнца хватало лишь на лица, платья их тонули в серой мгле. От маленьких окон старинного здания, что ли, в лицах их виделась текучая геометричность. Если они вставали говорить, они горбились ромбами; если они, всегда старавшиеся осилить свист станков, говорили, — голоса их возвышались высоко, как уходящая прямая! Многие из них курили. В коридорах, когда Вавилов подходил к залу заседания, шел разговор о жилищах. Актер К. Л. Старков, заглядывая в лицо Вавилова, трещал о слабостях своих, встреченному архитектору А. Е. Колпинскому он попытался намекнуть на желаемый с ним разговор, — архитектор, как всегда в общественных местах, шел, наполненный восхищением. Он горячо пожал руку Вавилову, открыл ему дверь в залу, умиление не оставляло его лица, он, указывая Вавилову на ткачих, добавил: «Железнеет масса, железнеет и намагничивается и притягивает интеллигенцию». Ткачихи наклонились, наступила тишина, — кто-то глубоко затянулся табаком, дымок жалобной спиралью полез к потолку, все обернулись на дым, куривший растерянно попытался даже поймать его, рука его треугольником нырнула в пыльное солнце… Сердца играли! Ткачихи требовали! С трибуны говорила Зинаида:
— Телеге, товарищи, летом хорошо, саням, товарищи, зимой, а коню все равно возить, — нам нечего радоваться лету и нечего говорить, что зима пройдет, мы — кони, товарищи, но за коней думает хозяин, а мы должны думать за себя. Итак: мы получаем ежегодно на жилищное строительство пятьсот тысяч рублей, и в текущем году мы смогли выстроить пять домов по пятьдесят квартир, всего, значит, двести пятьдесят квартир (Зинаида начертила в воздухе цифру 250) — из них двести квартир по две комнаты и пятьдесят по три. Мы разместим двести пятьдесят или от силы триста семей, а в третью смену Мануфактурами сейчас принято новых две с четвертью тысячи рабочих, и многие из них прислали сюда своих представителей. Для того, чтобы ликвидировать жилищную нужду, мы должны, по приблизительным расчетам, истратить единовременно восемь миллионов рублей и для поддержки квартирной нормы тратить ежегодно по триста тысяч рублей… Я предлагаю следующее…
Вавилов вышел. Сердце его щемило. Ему стало несколько светлей, когда А. Е. Колпинский устремился к нему из глубины коридора. А. Е. Колпинский похвалил голосовые данные Зинаиды Колесниковой и обрадовался тому, что Зинаиду выдвигают в заместители тов[арища] Литковского, зав[едующего] коммунотделом горсовета. Ткачихам предстоит большое будущее!.. Он внимательно оглядел Вавилова и спросил: не болен ли товарищ, надо отдыхать, отдыхать и следить за собой. Вавилов рад был с ним уйти. К. Л. Старков скроил сострадательную рожу, ему ясна была причина ухода Вавилова. Архитектор А. Е. Колпинский повел его к себе. Им открыла жена архитектора Груша, безвольная и сама издевавшаяся над своим безволием: многие над ней смеялись, и она покорялась желаниям многих. Вавилов горько посмотрел на ее перетянутую ситцевым сарафаном крошечную талию и широкий зад, скрываемый сарафаном. Он, оказалось, боится женщин и злится на них за это. Ему взгрустнулось. Груша, минуя Вавилова с тем холодным равнодушием, которое не оскорбляет, а радует, ибо оно откровенно, прошла в переднюю, донесся ее голос: «Ты опять лечить, а я в гости, до свидания», щелкнул замок, архитектор вернулся смущенный, но быстро оправился. Он ждал момента, чтобы Вавилов изъявил желание пересчитать свои болезни, а тогда архитектор с сухим от радости языком позвонит приятелю-доктору, сам пороется в лечебниках. Судорога злости свела Вавилова: он злился на уход Груши, хотя и сознавал, что не имеет никакого права на ее присутствие. «Ну-с, — процедил сладострастно архитектор А. Е. Колпинский, — на что мы жалуемся, объяснитесь». — «Устал! — воскликнул Вавилов. — Иногда по десять баб в вечер, сами знаете, как утомительно! До свидания, товарищ!» А. Е. Колпинский локнул слюну неожиданности, но проводил его до дверей с восхищением.
Вавилову горится. Тело его смеркалось. Сердце его деревенело. Зачем ему нужно было обижать и без того обиженного судьбою архитектора? Он шел берегом Ужги, там, где она огибала Мануфактуры. Лодка обогнала его, он узнал плеск весел П. Лясных: тот всегда гребет сильным лоскутствующим звуком. П. Лясных подтянул лодку. «Куда тебя прикутить?» — лениво спросил он. «К дамбе», — ответил Вавилов.
X
У Гурия от долгого сидения за столом над корректурами затекли ноги, к тому же и свет в каморке тусклый. Гурий счел приличным отказаться от комнаты, которую он занимал, он переселился в каморку, рядом с кухней. В каморку постоянно несло чад, споры и разговоры о дороговизне, торг с мужиками, укоры их Христом и делом церкви. Здесь посетил Гурия священник Преображенский, приятель по академии. Разговор с ним был краток. Он несомненно был послан высокопреосвященным. Он начал:
— Итак, ты, Гурий, в каморке, на родине, почти схимник.
— Я несчастный, — прервал его Гурий.
Священник Преображенский замолчал, затем сказал, что Гурий заметно осунулся, процитировал Ф. Достоевского, просмотрел одиннадцать листов напечатанной Библии — зависть отразилась на его лице, — тем увещательный разговор и кончился.
Гурий высунулся в окошечко. На крыльце Е. Чаев показывал Мустафе облик Агафьи, написанный им по бересте нежными лаками. Он говорил Мустафе, что не смог прямо смотреть в лицо Агафьи и писал ее по отражению в Ужге, и оттого лицо ее окружено козявками и рыбками, плававшими в воде. Мустафа просил у него бересту. Е. Чаев хотел за нее… Гурий не смог разобрать его слов. Мустафа торопился — Е. Бурундук постоянно ловил его, Е. Чаев потешался над ними обоими.
Е. Чаев жал мозг Гурию, Е. Чаев собирал верующих успешно, но успехи его не утешали Гурия, И. П. Лопта безропотно подчинялся Еваресту, подписывая все бумаги, предлагаемые им, и много часов подряд толковал вместе с Лукой Селестенниковым Апокалипсис, ключ к толкованию коего все тот же Чаев и нашел. И не только И. П. Лопта, — профессор смирился и отправил письмо к Вавилову с просьбой вернуть доклад о переделке Кремля в музей! Отправив письмо, профессор тщетно ждал прихода Луки Селестенникова, тот по-прежнему бежал от него, и по-прежнему квартира его неизвестна. Мустафе надоело клянчить, он покинул крыльцо. Истома от света, скользящего по окну, легла на тело Гурия. Падение, которое он претерпевал, уже виделось отрадой, уже Кремль относился к нему снисходительно, как к Афанасу-Царевичу, есть и наслаждение в этом. Он пощупал свою бороду, она отросла, он ее не мог подстригать, так как даже ножницы забрал Е. Чаев. Широкий и легкий, похожий на древесные стружки, смех донесся из кухни. Гурий затрепетал. Он сразу догадался, чей это смех. Теперь, когда еще и этот смех покорится ей, Агафье ли не перейти на Мануфактуры. Агафья выспрашивала:
— Денег от тебя мы взять возьмем, но какая тебе прибыль, у тебя в Мануфактурах есть церковь и кружка, ты и через ту церковь смогла принести. Безличный дар угоднее богу, сестра.
— А ты вынеси кружку, святая душа-богородица, вынеси на кухню, смирись и поклонись жертвователю! Я в кружку по червонцу буду опускать, а вечером прибежит ко мне Мустафа-красавец, украдет у отца коня и внесет мне пять червонцев и еще твой березовый портрет в придачу… рыбки, козявки, вишь, плавают по портрету…
— Побаловался иконописец, не должен был светский портрет снимать, я его предупреждала, прости уж, Клавдия…
— Васильевна, богородица, Васильевна!
— Клавдия Васильевна… Принесу я тебе сейчас кружку.
— Нафаршировали тебя смирением, девушка, неси. Не стыдно грешные деньги брать? Похотью от них несет на версту.
— Крест все смоет — и похоть и твои намеренья, Клавдия Васильевна, не для себя копим.
Агафья вернулась быстро. Гурий услышал шелест бумажек и смех Клавдии:
— Руки-то у тебя, богородица, жадные, руки бы надо иконописцу рисовать. Венички-то кто это тебе поднес, веничками-то тело чье стегаете, не Мустафа ли тебе поднес венички и не в бане ли ты его хочешь в христианство принять? Торопись, а то я его сегодня же окрещу и не выпущу, сестрица, застрянет у меня азиатец. Острастила ты Кремль, а я Мануфактуры отращу, и подхватит нас обеих такая сила, которой я в жизни не могла найти, и понесет и закружит. Кто же тебе веники нарвал, не Лука ли Селестенников, правдоискатель и убийца?
— Лука Селестенников — верный богу человек, а принес мне венички Афанас-Царевич, он все по лесам, вот и нарвал и насушил.
— Убийца Лука Селестенников, Агафья, а вы его в соборе держите?
— Зачем мне такие слова говорить, говори кому другому, с кем тебе надобно говорить.
— Правила-то жизненные ты как знаешь, богородица, по профессии моей глупо б мне не помогать сыщикам, а отсрочиваю всё!.. Лука Селестенников первый повел меня в баню, а в парной бане… дай-ка еще сюда кружечку, еще за внимание твое бумажку опущу… а в парной бане было три грядочки, три точеных брусовых лавочки…
— Твоя слабость, ты ей и мучайся, Клавдия Васильевна.
— И твоя тоже слабость, и тебе придется мучиться. Слушай! Было там три окошечка, было все бело-побелено для меня правдоискателем, на которого я тебе доношу и которого ты должна бояться.
— Я бога боюсь одного!
— Слушай! На первую грядочку положила я шубку, а правдоискатель в предбаннике ждет, на вторую белую шитую сорочку. На первую стопочку положила я тонкое полотняное полотенце, а на вторую березовую стопочку — свою дорогую свободушку. Просунулась его рука и добавила на первое окошечко мыло в зеленой бумажке и по бумажке белые цветочки, а на второе окошечко чистый гребешок для коротких волос и белила с румянами. А сам ждет! Поставила я на первую лавочку медный таз с ключевой водой, а на соседнюю лавочку мыло. И распустила я три разноцветных шелковых ленты, и повисла моя коса до сухожилий, и тогда сказал Лука Селестенников: «Нет в тебе истины, девка, прощай!» И ушел из предбанника.
— Врешь на Луку Семеныча, девка!
— Задела, барышня, ты думаешь, все люди так просто и ходят распахнутыми. Были глупы, девушка, истопники, — не упарилась я: были глупы, девушка, водоносники, — не умылась я, — а с волей все-таки рассталась… Я Библии твоей, девушка, покупать не стану, я книг не люблю, я на работу вашу зарюсь, на рвение. Я врагов вам хочу указать!
— Прости меня за возглас, сестрица, какой же Лука Селестенников убийца?
— А ты меня обрати в веру, я тебе расскажу подлинно, покаюсь, и назначишь ты меня своим представителем в Мануфактуры, и будет у тебя здесь иконописец, а у меня рыжий Вавилов. Откройся мне!..
— Живи, как жила, думай о боге, он тебя обратит.
— Ну, ты хоть мне Вавилова подари, благослови мне его.
— Если обратишь в доброту, бог тебя благословит.
— Подарила, отдала, носить тебе Вавилова тяжело, локай его, Клавдия! Сильно тебе хочется остругать по-православному Мануфактуры, Агафьюшка! Правильно, надо их брать, оттаивать, осчастливливать во имя Христа…, Дай-ка еще кружку!..
Разбойничьи плечи с синим полушалком на них спустились по крыльцу, прошли мимо яблонь, садом, к собору. На паперти в два ряда сидели слепцы. Слепцы, главным образом, были из солдат германской войны, спившихся и выгнанных из Союза инвалидов. Они разъезжали по базарам, по престольным праздникам и распевали религиозные песни про бога, в которого они не верили; им было и весело и страшно. Они прерывали песню для того, чтобы вставить в нее имена проходящих. Имя Клавдии они не вставили. Клавдия раскланялась с ними насмешливо. Она заглянула в собор. Собор переполнен.
[Товарищ] Старосило, покачиваясь, шел через площадь. Кончилось, — Кремль переименовали в волость, Кремль отдали за штат, название города присвоено Мануфактурами. Город Мануфактуры! Ломовики перевозят учреждения в город Мануфактуры. В городе Мануфактуры заседает горсовет, а тов[арищ] Старосило отправил сегодня архив, находящийся в клетушке против вика, в клетушку, где некогда помещался будочник. Он, тов[арищ] Старосило, побеждавший и диктовавший, теперь председатель волостного исполкома! Тов[арищ] Старосило запил.
XI
Зинаиду в первый день ее заместительства больше всего удивил архитектор А. Е. Колпинский. Он заявил, восторженно поднимая глаза, что самое важное в теперешней работе — это уметь клянчить. Зинаида рассмеялась, но, просматривая и подписывая бумаги, звоня по телефону, разговаривая со строителями, она поняла, что архитектор во многом прав. Сам архитектор держал себя так, точно ему от восторга перед происходящим не удержать головы на плечах. Архитектор и смешил, и удивлял, и злил ее, она не могла понять, где у него притворство соединяется с истинным чувством. Поздно окончив работу, пообедав в столовой при горсовете, она поняла, что возвращаться ей в дом «пяти-петров» трудно, но и причинять горечь Колывану Семеновичу, которого она очень любила и прощала ему все — и страсть к колокольному звону и стыдливую его веру в бога и в то, что он, строя дома, думает, что совершает полезное дело не только для себя, но и для поселка и что постройкой домов люди могут спастись от разврата, самым отвратительным явлением которого он считал появление в Мануфактурах сорокарублевой Клавдии. Сорок рублей!.. а законы гонятся за тобой, хватают тебя за ноги, вырывают те места, которые чуть-чуть покрылись жиром, а ты способен бросить ей сорок рублей! Сорок рублей! Колесников, узнав, что Зинаида выбрана заместителем, потребовал от нее службы и доходов всем «четверым думающим».
Зинаида нашла Колесникова в клубе. Ей трудно было отказывать ему, она привыкла да и не любила лишних раздумий и сожалений. Но уйти надо: и сейчас Колесников хвастал, что по первому снегу возобновит кулачные бои и что стенку они поведут от самого клуба по Ужге. Злость на Вавилова копилась в ней. Унылый, сутулый, рыхлый и рыжий, он возбуждал в ней чувство отвращения и в то же время любопытства. Он все-таки хотел что-то сделать, он писал какие-то бумажки. В комнате должны были собраться люди, интересующиеся спортом, но пришли только «четверо думающих», но и то трое из них ушли, оставив Зинаиду с мужем. М. Колесников ходил из угла в угол, упрекал Зинаиду ее общественной работой, и как только он к ней попробует с лаской, так она сейчас же на собрание. Что ж, она на собрании, видно, с мужиками спит? Он схватил ее за плечи и поволок к окну. Под окном у дамбы слышался плеск, разговор. М. Колесников стал ее тискать. «Милитон!» — раздался от дамбы голос Вавилова. М. Колесников пыхтел, трясся. Зинаида выскользнула у него из рук и сказала:
— Я, собственно, Милитон, пришла тебе сказать: с жизненкой нашей совместной плохо, отбросить нам нужно друг друга. Скулить нечего, сам многое натворил, и меня перетягивать тебе не стоит.
— Милитон, — повторил голос.
— Пять-петров конфузятся моей жизнью, они тебя науськали, Зинка?..
— И от пяти-петров я ухожу, Милитон.
XII
П. Лясных подплыл к дамбе. Он стукнул веслом по кирпичам и уныло сказал: «Ты, Вавилов, чудной, хочешь, я тебе двадцать пять тысяч сберегу?» Вавилов давно ждал разговора с П. Лясных, он торопливо спросил, как же П. Лясных хочет сберечь ему двадцать пять тысяч. П. Лясных, постукивая веслом, продолжал:
— Комиссий у нас много, а надеяться на них не стоит, осматривали они клуб в жару, в сухость, и назначили двадцать пять тысяч, что ли, на ремонт, а я, Вавилка, воду знаю, ты на сто тысяч щебню вкатишь в подвалы а зимой все равно сырость будет, роднички в подвалах, милый мой, роднички…
— По-твоему, клуб невозможно отремонтировать?
— По-моему, надо нам эти двадцать пять тысяч или украсть или пропить. Ты вот, осень уже движется, хоть сегодня загляни в подвальчики и архитектора позови, ткни его носом и смету ему покажи. Да ты вот, кстати, и Зинаиде Колесниковой покажи подвальчики, поскольку она сейчас в клубе и поскольку с мужем натурничает.
Вавилов крикнул: «Милитон!» Он повторил крик несколько раз. В окне показалась лысая голова Колесникова. «В чем дело, граждане?» — спросил он озлобленно. Вавилов попросил его передать сторожу, чтобы тот приготовил фонарь и ключи от подвала. «Греби обратно», — сказал он П. Лясных. П. Лясных вдруг отказался. М. Колесников захохотал наверху. Вавилов понял, что они хотят его унизить перед Зинаидой, оба они знали, что Вавилов почти не умеет грести. М. Колесников прокричал: «Здесь веревка есть, веревку тебе кину, может, по веревке полезешь?!»
— Кидай! — сказал Вавилов.
М. Колесников отошел от окна. Вавилов надеялся, что Зинаида отговорит мужа. М. Колесников показался с пуком веревки, шипящие кольца пронеслись и упали в воду. П. Лясных подал ему веревку на конце весла.
— Удержишь? — спросил он лениво Колесникова.
Вавилов попробовал веревку. Дамба круто упиралась в реку, высота ее была не меньше четырех сажень, бока ее блестели, — должно быть, родники действительно иссосали ее. Вавилов натянул веревку. М. Колесников ответил ему самодовольным рычанием, — Вавилов оттолкнул лодку. П. Лясных удивленно сказал:
— И в самом деле полез.
Ноги у Вавилова напряглись, он не сразу овладел ими. В начале подъема попадались кустарники, но чем выше, тем сырее и сырее становились кирпичи, и подошвы сапог начали скользить. Один раз он сорвался, и М. Колесников закачался в окне, но Вавилов уцепился за кустик травы, опять нога его упала на кирпич, — он пополз. Одной рукой держался он за веревку. Колесников тянул, — свободной рукой Вавилов щупал кирпичи. Веревка длиннела, становилась острой, зудящие искры пересыпались в ладонях. М. Колесников пыхтел в окне, и утомленное дыхание его, — тогда, когда его Вавилов улавливал, — было злорадно-приятно. Вавилон полз. Вавилов показывал последние свои силы, горло ему сводило, веревка перестала натягиваться, он не владел рукой, — но тут под ногу попали сухие кирпичи. Он завершил свой путь, он схватился за подоконник. П. Лясных протянул снизу:
— Жалуется, а дамбу дабывнул! — и уныло погреб.
Вавилов сел на подоконник: Зинаиды в комнате не оказалось. «Клоун!.. Мальчишка…» М. Колесников опустился на пол, растирая руки и повторяя:
— Чуть ты меня в окно не утянул, а тут жена от меня, развелась, — ушла!.. Чуть ты меня в окно, рыжий, не утянул, а тут жена… — Он повторил фразу несколько раз, а затем спросил: — К Гусю пойдем?
— Пойдем, — ответил Вавилов.
XIII
Клавдию он увидел у Гуся, «четырех думающих». Измаил сидел тут же с плеткой и рюмкой в руках. Измаил сказал ему: «Я так езжу на своем коне в поисках врагов, что стремена его стерлись. Я обещал коню серебряные стремена».
Измаил играл деревянными четками. С. П. Мезенцев завизжал ехидно: «Чаю заведующему налейте, чаю, а не водки!» Измаил взял круглую чашку со стола, налил кипятку и, придерживая чашку полой, протянул Вавилову. Вавилов понял, что издевательство будет длиться, если он прольет чашку или обожжется. Он сорвал с руки Измаила четки, положил их на ладонь и поставил чашку. Одна Клавдия похвалила его, да Гусь-Богатырь прогудел что-то одобрительное, выдумка. Клавдия взяла у него чашку, отпила глоток и сказала:
— Ты ведь, рыжий, ко мне не придешь, хоть и получил жалованье.
— Кто знает!
— Я знаю. А мне тебя сегодня подарили, рыжий. Агафья из Кремля мне тебя подарила. Я думала, что в бога верую, а посмотрела сейчас на тебя, и, оказывается, в тебя верую, мне легче в человека верить, Вавилов. Я тумана ищу, а вокруг меня платные места.
— Глупости ты болтаешь, Клавдия, выпей водки со мной.
— Ты и сам знаешь, рыжий, что денег от тебя не приму, плевать мне на твои деньги, ко мне со всей губернии деньги идут. Я дала Агафье такое слово, что уберу тебя. Агафья, видишь ли, одна желает просвещать Мануфактуры, ты ей не мешаешь, но ты противен ей, ты, лягушка в образе человека. Говорящая лягушка, согласен?
— Пожалуй.
— Согласился, согласился, черт! Я загадала, если согласится — дано мне тебя любить, а любить я, Вавилов, начинаю сразу, не думая, ба-ах, — и в омут! Вот чашечка-то, они над тобой хотели посмеяться, а я говорю и пью и из чашечки: я тебе отцом своим обещаюсь и клянусь, пить воду я буду только в твоем присутствии. Слышите, четверо…
Вавилов резал перочинным своим ножичком колбасу. Он посмотрел, как жадно идет по ее горлу вода, он вспомнил сегодняшнюю Ужгу, дамбу, веревку и обиду от Зинаиды. Вторая женщина сегодня обижала его! Он вспомнил то, о чем думал много в последние дни и что впервые пришло ему в голову на пристани. Он заказал себе сам: если Клавдия допьет до дна, он повесится. «Четверо думающих» вопили наперерыв:
— Мы думаем, рыжий, почему ж подрались на лугу кони?
— Мы гадаем, рыжий, почему ж возвышается девка в Кремле, а ты падаешь? И что предлагает ткачам Зинаидка, бросившая мужа?..
— Мы ждем, рыжий, когда ж Ложечников придет в твой клуб, справедливый мастер Ложечников?
— Иностранцы-инженеры едут в Мануфактуры, рыжий, мы думаем: как ты им будешь показывать и клуб, и Мануфактуры, и Кремль, как?..
Гусь колыхался, огромный, дымящийся, потный, от живота его, покрытого фрачной жилеткой, поднимался пар. Он чокался со всеми, он всех любил. На божнице его красовались штофы и графины, печь его была жарко натоплена, возле печи сидел Парфенченко, хвастаясь тем, что он работает одной десятой ума, а девять десятых спят у Гуся. Он уже был пьян, и Гусь смотрел на него нежно. Парфенченко жаловался, он жаждал увидеть, когда ж напьется Гусь, но Гусь-Богатырь никогда не напивался! Когда вкруг него все сваливались, он гордо осматривался и доставал с божницы синий штоф, носивший у него название графа Романовского. Он наливал рюмку, чокался со штофом и восклицал презрительно:
— Земля, граф!.. Народы, граф!.. Умы!..
— На столах валялась колбаса, кочаны капусты и синие скользкие грузди собственного засола и собственной крепости. Каждой осенью Гусь засаливал сорокаведерную бочку груздей и две бочки капусты. Он рубил капусту сам, кочаны окружали его, нож сверкал, живот его гудел, он не пил целую неделю, он трудился, он пробовал на язык соль, сам кипятил воду!..
Клавдия допила до дна чашку. Клавдия пустилась в пляс, плечи обнажилить, и Гусь-Богатырь, указывая на ее плечи, колыхал животом:
— Уплывут, честное слово, уплывут от нас отдельно плечики, в Москву, и останемся мы без милости!..
XIV
В сенях темно. Вавилов зажег спичку. На бочке с капустой он увидел обрывок веревки. Он ухмыльнулся, схватил и понес его в кармане, вместе с перочинным ножичком и записной книжкой. Он поравнялся с клубом, хотел было снять шапку, попрощаться, — безрассудно он направился к так называемым Императорским прудам и к тому пруду, который он отметил цифрой четыре, у которого стояла расщепленная береза, похожая на вилку. До ближайшего сука он легко дотянулся рукой, ему показалось низко, он влез на березу. Он скинул фуражку; холодный ветер освежил его, и он подумал.: что в конце концов он делает самое разумное, так как нельзя существовать на людскую жалость, а его служба в клубе не больше, как проявление рабочими жалости к нему. Двенадцать суков он насчитал под собой, на тринадцатом вешаться глупо и манерно, он спустился: если уже вешаться по цифрам, то вешаться на одиннадцатом! «Как мало в жизни величественного, — подумал он. — Пришел ты вешаться, а считаешь сучья, и в сущности получилось так, что ты всю жизнь только и думал об этом, а жил для того, чтобы выбрать одиннадцатый сук!..» Он прикреплял веревку. Гусь-Богатырь заботился о своих клиентах, он даже им веревки крепкие приготовлял, чтобы хорошее воспоминание о нем имелось при человеке до конца. Но откуда Гусю денег на веревки столько набрать, сколько людей отчаялось?.. Вавилов поднял петлю, наклонил голову, и записная книжка чуть не выскользнула из кармана, он поймал ее и рассмеялся: вешаться хочешь, а жалко, что из кармана падает книжка. И он подумал, что будет лучше, если он напишет людям письмишко. Он черкнет, что повесился по семейным обстоятельствам, а не по общественным. Зачем ему плевать на общество и уходить, как волку; люди в конце концов стараются сделать друг другу лучше, они совершают много ошибок, но и не ошибаться им нельзя, им даже полезно и следует ошибаться!
Он достал книжку, карандаш оказался сломанным, он обрадовался тому, что с ним был ножичек. Он чинил карандаш, коричневые стружки бойко относились ветром; пруды светлели под ним; у лужайки, где вползла на него змея, он разглядел муравьиную кучу, муравьи домовничали бойко; пень подле кучи был ими весь источен весьма замысловатыми узорами; он поднял голову выше, увидел Мануфактуры, туман над Ужгой, и на Ужге, как чудесный цветок, чудился миру Кремль! Кремль доставал острыми тенями соборов и башен Ямской луг и тянулся к Мануфактурам! Карандаш был давно очинен, и ножичек строгал сук. Ножичек скользил по бересте, обнажалась жирная зелень подкорья, и, наконец, показалась; мокрая и белая древесина. Смола не мешает ему, кора соскальзывает легко, ножичек носится и добывает древесину! Довольно он остолопил, минерализировать себя надо, черт возьми!.. Весело Кремлю, пока Мануфактура спят!.. Он осмотрелся, стоит ободранный одиннадцатый снизу сук, и на нем крепкая и свежая веревка. Смешно, действительно смешно. Он спрыгнул, еще раз посмотрел на веревку.
Смешно!
Он направился к Ужге, выкупался и пришел к клубу. Он позвонил сторожу. Но едва раздался звонок и едва он услышал шаги сторожа, он сразу забыл, зачем он пришел, а пришел он осмотреть подвал, — ему представилось, как сторож ругается, что будят его ни свет ни заря, и Вавилов спрятался за будку мороженщика. Сторож открыл дверь, ругался, зевая, а затем подумал вслух: «Досада, а если приснилось?» И тогда лишь Вавилов смог пересилить себя и со стыдом выйти из-за будки и попросить с дергающимся сердцем ключи.
— Пожалте-с, — сказал сторож испуганно. — Ревизия, что ль?
Глава шестая
I
Нашел и прорубил в Кремлевской стене дверь профессор З. Ф. Черепахин, рабочие работали четверо суток: двести лет, говорит, как замурована дверь, — но материала в его хозяйстве на калитку не оказалось, и он очень удивлялся, что «Я понимаю, когда нет яиц и приходится мне стоять в очереди, но чтоб лесу…», ему предложили на складе бревно, и еще фортель: размыло осенними дождями дорогу, и нашли две каменные бабы, он их тоже приволок к дверям, но втащить не было сил, рабочие ушли спешно ремонтировать клуб Мануфактур, заставил пролом лоптинской дверью, и собаки пролезали под нее и мальчишки, но тут же мандат, где попротестуешь!
Е. Бурундук пришел к Агафье и застал ее здесь у пролома, она хотела выйти на Волгу, топилась баня. Гурий носил воду, и все это возмущало Е. Бурундука. Ей было жалко его, она его помнила с детства, и эта память злила ее особенно, сейчас он пьянел час от часу больше, а тогда не обращал на нее внимания.
Он ходил по двору, приготовленные прутья для верши, которую он плел, кинул подле бани, смотря, как Гурий тащит воду и из его усталых рук она льется медленно. Бурундук приставать начал к Агафье: почему-де она разговаривала с Клавдией, почему-де ее портрет, нарисованный Еварестом, попал к Мустафе, и тот и та хвастаются, почему-де Лука Селестенников не едет вместе со своими плотовщиками к Уралу, а вздумал организовывать какую-то артель, — смотри, скопыснешься ты, Агафья, почему плотовщики готовятся к ней сегодня прийти, на какое такое собеседование. Она держала веник под мышкой. Хороший полдень. Она смотрела на Бурундука с сожаленьем.
— Ехал бы ты лучше, Ефим, в горы, пора начинать охоту!
Клавдия, подумала она, смотря на проходящего по двору Евареста, маленького, изящного, завидует, что у нее такой любовник.
Даже Захар Лямин, полусумасшедший, упал перед ней на колени, выл и сознавался в каких-то убийствах, она его прогнала. Она зашла в баню, посмотрела, сильно ли натоплена каменка, еще было рано, она вернулась. Ефим все еще метался по двору, он возмущен был тем, что она даже с З. Лиминым обращается вежливей, чем с ним, она, чтоб с ним не разговаривать, вышла через пролом к валу, там стояла каменная баба. Е. Бурундук вышел тоже на вал.
— Пойдешь ты со мной или нет? — весь пылая, спросил он.
— Не пойду, — ответила она.
Он воскликнул, что она ему не верит, он теперь уйдет в горы, за дичью, к нему будет ездить сам Е. Рудавский. Он воскликнул:
— Возьми меня, Агафья, я могу кинуть тебя в реку так же, как кинул себя и свою душу.
Он посмотрел на каменную бабу, которую в ту минуту принимал за Агафью, он ее обнял за шею, от нее шел холод, он напрягся и поволок. Он притащил ее на плечах, Агафья улыбалась и крикнула ему, что надорвешься. Он бабу поднял с огромным усилием и кинул в реку. За ее падением пошли круги. Он стоял опешивший.
Агафья смотрела на него с сожалением. Он смотрел за полетом сорок, как всегда, стремившихся над мостом к кремлевским садам, он сказал Агафье:
— Ты зазналась, и с тобой сейчас трудно говорить, я напряг свои силы и бросил бабу, а ты приняла это так, как будто я щепку бросил, я и сейчас ухожу, и ты меня помни, и вот что я тебе предложу: вот перед тобой сороки и вот Ужга, я буду каждый день убивать птицу, в память моего ожидания кидать ее перья в реку, и они поплывут, и ты их смотри.
Он сорвал с себя одежду и в одном нижнем белье, кинув все, пошел вдоль берега, он прошел через мост, поравнялся с возом сена и исчез.
Шутите, шутите, шути, шути! Друг твой ушел, Агафья, на что-то ты обсчиталась, Агафья.
Она вошла во двор. Гурий исполнил свой урок и сидел подле бани на солнышке, читая книгу.
Он сказал:
— Готовлю книгу и хочу дать прочесть Еваресту, может много полезных сведений почерпнуть, самое важное и для человека и для животного в его социальной жизни — уметь льстить.
Он, видимо, не стыдился того, что его избили, и знал ли он, что это подстроено Агафьей, она не хотела начинать и не могла начать разговора об этом. Она спросила, что не устает ли он и не желает ли, чтобы она взяла в дом невесту для него, он опустил книгу на колени и задумчиво сказал, что подумает, он протянул, что тягостно — молчать, помнить, страшиться, понимать и не мочь рассказать миру. Он перенес разговор на плотовщиков, он все знал, он одобрил, сказал, что Агафья правильно поступила, еще надо бы побольше пригласить. Передо мной стоит большое решение о женитьбе… Она не поймала его на порку, он ускользнул от ее тела, она и сейчас застыдилась того, что показалась этому сопляку голой почти, и, хотя ей надо было подождать с баней, что-то тянуло ее, она и подошла. Она спросила его о плотовщиках, он поднял лицо от книги: «Они колеблются, куда им деваться, что им с артелью устраивать, она права». Он тоже вышел за пролом к башне. Он ей хотел сказать, что она плохо бережет своих чад, что-то растерянное было в ее движениях, он наблюдал за ней с интересом, он почувствовал в ней что-то растерянное.
— Пойти посмотреть на бабу, что ли…
Она, услышав его слова, поспешно ушла в баню.
Агафья, когда входила, видела, что пришел Прокоп Ходиев, который зачастил, и за ним плотовщики, он сел на крыльце, даже и не желая заходить в дом. Она вошла с поленом. Она стояла голая, держа полено в руке, шел пар из бани, плотовщики побежали. Да, она поторопилась. Один из них, твердый и маленький, не стерпев, горячо кинулся к бане. Тут валялась ветка, и тот другой ударил его шутя. Гурий вышел и наблюдал с интересом, как они ищут в себе что-то плетями. Они вначале баловались, после нескольких ударов состязание их усилилось, они били себя уже в лицо, стараясь угодить за шею, они били изо всех сил. Они отскакивали, из дверей бани шел пар, и странное, щемящее удовольствие испытывал Гурий.
И. П. Лопта шел по валу с С. П. Мезенцевым и с тем, которого называли ростовщиком. Они остановились, и И. П. Лопта сказал, что он рад пожертвовать собой ради Кремля и еще даст взятку. И вот мастера не имеют пряжи, добавил ростовщик. С. П. Мезенцев попросил задаточек, ему тот дал конвертик, он сосчитал.
— Пятьдесят рублей — гроши-с.
Они увидали внизу на мосту Пицкуса, который, шныряя, шел и издали и махал рукой Мезенцеву.
Гурий посмотрел на С. П. Мезенцева, который просил его, чтобы тот не говорил о нем друзьям, которые рады его затравить. Но Пицкус уже устремился на вал. Гурий хотел предупредить отца и также хотел предупредить о людях из Мануфактур (кое-что есть в Мустафе, но лучше его не крестить). В бане уже было тихо, пар исчез, плотовщики унялись, их разнял П. Ходиев, которому самому хотелось сдержаться, он старался быть тихим и ласковым. Агафья вышла, наслаждающаяся соперничеством. Гурий стоял на пороге, он остановил ее и сказал:
— Пойди к реке, согрейся, закрой тело, здесь будет слово божие. Она посмотрела на него с ненавистью, взяла его за плечо, хотела оттолкнуть, но, кинув сверток, еще он не успел опомниться, она протащила его через пролом и, указывая на реку, спросила:
— Видишь, что плывет?
— Перья, — ответил Гурий изумленно.
Азиатцы из Дома узбека пришли к тому наркому, которого должен был встретить в Москве Лука Селестенников и не встретил. Нарком был тучен, ехал лечиться, и он с радостью разговаривал со всеми узбеками и девушками, он с удовольствием смотрел на тот пролетариат, который они ему создадут, так как ему надо было кое-что сохранять из старинной пышности для Азии, а он мечтал завести пролетариат где-то на границе Индии или Персии. Он было начал говорить на свою излюбленную тему, и Имаил и Трифон Селестенников соглашались с ним, и Измаил шептал: «Учиться бы тебе, Мустафа», в голосе наркома было много теплоты. Измаил боялся, как бы нарком не спросил, где Мустафа Буаразов и как ответит ему отец, что сын его пользуется каждой свободной минуткой для того, чтобы бежать в Кремль и которого девка даже не впускает в дом на потеху мещанам, Кремля обывателям. Измаил вышел из вагона, огорченный. Быть бы тебе умным, Мустафа, какой поучительный разговор пропустил, ведь Измаил может забыть, пока тебя найдет и пока заседлает коня.
Нарком выразил желание видеть Луку Селестенникова, разговор с его сыном мало удовлетворял, ему нужен знаменитый специалист, здорово работавший у бывших владельцев Мануфактур Тарре, но ныне отказавшийся от работы, [хотя] и выразивший [было] желание работать, его уговорил сын, но теперь [он] вновь отказался: в чем дело? Со стыдом должен был сказать Трифон Селестенников, что отец его влюбился, овладел им род запоя, кое-что в этом есть и от запоя. Не скрывает ли действительно Лука Селестенников вроде убийства, о чем говорила по поселку Клавдии и о чем болтает актер, но Трифон Селестенников вслух не высказал своих мыслей. Измаил пошел последний раз крепко поговорить с сыном. Кто-то даже вслух рассмеялся, а тут еще Насифаты, сестры, у которых отец похоронен в Мекке и которые желали бы поехать и взять оттуда его прах, потому что отец был только погонщиком верблюдов и безбожником, а умер в Мекке, и считают его теперь за святого.
II
Вавилов привел архитектора в подвалы, везде действительно, как и говорил П. Лясных, сочилась вода, он его даже ниже не стал спускать, потому что там грязь. Архитектор и здесь нашел повод восхищаться, что столько лет стоит дом и его еще не обрушили и что какой пролетариат смелый, сидит в таких зданиях. Он воспользовался случаем, чтобы похвалить прозорливость Вавилова, выругать интеллигентские комиссии, в которых он, кстати, сам и был председателем, кое-что запустил и насчет властей, но весьма лояльное. Вавилов указал на то, что ремонт производим, бесполезно, хотя хозяйственная комиссия уже и наняла рабочих, но архитектор высказал, что, возможно, ремонт и удастся, иначе снова смета, а без ремонта и печки-то обвалятся, печки больно плохи, он же второй раз и официально отказывается на себя брать ответственность, он не берется судить: сейчас вода — открылся родник, а через неделю он прекратится и воды не будет, он сразу сдал на попятную, и Вавилов понимал, что делать бесполезно, но придется делать, и, чтобы отложить, у него нет авторитета и никто в правлении клуба его не послушается. Они дошли до ворот.
Там стоял Мустафа, который вышел из Дома узбека, прихорашиваясь, То он был сумрачный, то веселел, тогда как ему ли не учиться: молодой, красивый, не истрепанный, свежий и окруженный огромным количеством книг, которые на него действуют свежо и воспитывают в нем радость жизни. Так прихорашиваться можно лишь тогда, когда не веришь или мучительно устал и ищешь выхода. Вавилов обо всем и сказал прямо Мустафе, исчезновение которого он вспомнил еще в Кремле. Мустафа идет на вокзал у наркома побывать. Мустафа показал нарисованное на бересте нежное лицо и рыбок и козявок вокруг него. Вавилов с удовольствием побывал бы в вагоне наркома, он много слышал о нем, это был сильный, храбрый и крепкий человек, его здоровье и смелость облепляли всех вокруг него.
Скоро и Мустафа показал, как он к нему относится, он взглянул на Вавилова с презрением, при нем была его страсть, и она не покидала его ни на минуту. Он даже готов был и на то, чтобы перейти в православие, буде предложи ему одно слово Агафья, он сам понимал, что возвышал ее достоинства, но иначе он не мог. Мустафа бежал торопливо через мост, когда его остановил воз сена, подле воза о ту пору он увидал Е. Бурундука.
Он ткнулся в воз, чтобы взять соломинку или две, подержать среди пересохших и торопливых губ. Он опешил от неожиданности, надо ли напомнить, что тот напомнил о себе ударом наотмашь. Мустафа отклонился, бросил пук соломы в лицо. Бурундук схватил зубами пук соломы и смотрел бешено. Одновременно с этим они шли за возом, солому вез мужик, который понимал, отчего они дерутся, и зависть и злоба крутили его, возчик не в силах вынести их хода рядом с возом, остановил. Мустафа побежал. Бурундук кинулся за ним; обегая воз, он наткнулся на вилы, которые были боком воткнуты в воз. Бурундук зашиб себе щеку. Он выхватил вилы. Возчик что есть мочи закричал:
— Умереть бы тебе лучше, в свидетели попаду, засудят, стоять мне у стенки, в кулака превратят!
Он кричал что-то еще более смешное.
Мустафа бежал к реке, по кочкам, он стремился, сам того не сознавая, к тому месту, где он победил Бурундука, но сейчас ему было трудно его победить, он запыхался от бега. Бурундук приближался, вилы у него болтались о бок; Мустафа, испуганно услышав его шаги и звон вил, оглянулся и, увидав вилы, решил броситься Бурундуку под ноги с тем, чтобы тот упал и напоролся, тогда как Бурундук покатился, вилы у него попали в кочку.
— Обманул! — закричал Мустафа отчаянно, поворачивая в сторону.
Большой гнался за маленьким. Пахло все время им соломой, и земля была рыхлая. Бурундук вскочил, ноги у него были мокры от кочки, и когда побежал, ему показалось, что он бежит значительно легче, он бежал, махая руками и держа вилы острием вверх.
Перед ним был Мустафа, испуганно отступающий. Мустафа понял, что ему никогда не убежать, он пытался придумать какую-нибудь хитрость, то в голову пришло, — он расслышал голос возчика — «караул!» — что товарищ Старосило, постоянно хвастающийся, что выходит на это слово, теперь вряд ли выйдет, то об наркоме, который, наверное, сожалеет, что не пришел Мустафа, то о Вавилове, обиженном и не способном обижаться, уговаривавшем его, — он споткнулся и упал навзничь, больно ударившись теменем. Скоро он разглядел склоненное, волосатое и каменное лицо Е. Бурундука, он взглянул на него, отскочил, обежал вкруг него, все так же размахивая руками и злорадно рыча:
— Обманул, обманул, азиатец!
Он уронил вилы, они упали, звякнув, он остановился. Мустафа приподнялся, — то, что сказал Бурундук, эти его немногие слова, которыми он обладал весь день, придумывая их с утра, мелькнули в нем, и он повторил то, что сказал Агафье перед тем, как кинул каменную бабу, он вспомнил свой подвиг. Он воскликнул: «Не подниму!», он схватил вилы, повторил опять:
— Не поднять!
И вдруг взнес Мустафу на вилы. Тот повис, хватаясь окровавленными и пожелтевшими руками за черенок, он наклонил голову, и Е. Бурундук сказал, видя, как льется кровь на его руку:
— Обманул.
Мустафа с трудом поднял свое тело, посмотреть хотел Бурундуку в лицо, но не нашел сил, он только воскликнул:
— Я и… теперь… выше тебя…
Е. Бурундук кинул его вместе с вилами и пошел, размахивая руками, вдоль по реке.
III
Из-за угла показалась телега с досками, начался ремонт клуба. Вавилов понимал, что если так пойдет дальше, то скоро уже поздно будет останавливать, если поклонятся Зинаиде, то поклонятся теперь, — он увидал в воротах, единственном достижении, которое сделано его предшественниками, — «пять-петров», даже милиционер Зиновий, приехавший из германского плена в тоске по родине и влюбившийся в Германии в девушку, которую ему там предлагали, даже и тот стоял. Вавилов вспомнил, что сегодня заседание кружка охотников и рыболовов.
Они с ним поздоровались отменно вежливо, стали говорить о ремонте, что на рынке пусто и даже в учреждениях на материал надо записываться за месяц-два, не то что у частника. Кружки посещаются плохо, клуб того и гляди расстроится, и будут мальчишки приходить; приезжают инструктора, пишут, а дело не двигается, — захолустье, что ли — филиалы? Он попробовал расширить их работу, и по отчету видно, что хорошо, а на самом деле пустота, единственное — кино.
Профессор З. Ф. Черепахин, и тот пришел, расспрашивал об актере, которого нельзя было в тот день разыскать, взял свой доклад, признавая его несвоевременным. Колыван Семенович и все «пять-петров» задумчиво кивали головами, начали говорить, что с того дня, как Вавилов побывал в доме и как они обидели его, все как-то пошло вверх ногами, а теперь надо предупредить, что к нему «секретные гости» ожидаются, и Колыван сомневается, как бы не навредили Вавилову его четверо друзей, но мелькнул этой фразой о «секретных гостях», перешел на другое, и Зиновий тоскливо стал рассказывать, как он попробовал рыбачить однажды в Силезии, но тоже вернулся к тому же, а именно к Зинаиде, она уже больше недели не заходит ни к ним, ни к другим, и поселилась в каморках, против того корпуса который был жилищем Вавилова.
Милиционер предложил организовать кружок иностранных языков, тем более, что инженеры какие-то на фабрику ожидаются — не то французские не то немецкие, и можно будет рабочим переписываться на языках мира со всеми рабкорами-иностранцами. Вавилов проводил их, пошел с ними, он им сочувствовал, они все были хорошие мужики, он глядел на них с удовольствием, и они ушли, не узнав того, зачем приходили, они думали, что Вавилов подхватил Зинаиду, и они рассматривали его деловито, как будущего работника, и выискивали в нем достоинства, ловили его. Вавилов потолковал с ними, едва они ушли, мысль его царапнула, но он ее отбросил. Но она выглядывала где-то из-под всех его мыслей и дел, которые он делал в этот день: ты себя чувствуешь удовлетворенным, потому что тебе льстит, во-первых, сознание, что «пять-петров» тебя могут приютить, и во-вторых, то, что ты подскреб к себе Зинаиду, — а вообще, ты мытарь, ты собственник, ты только случайно не кулак.
Он возвратился в свою каморку, тщетно стараясь не думать о встрече с Зинаидой, но смотря на соседний корпус, С. П. Мезенцев визжал перед «четырьмя думающими», что он идет в Кремль к самому Лопте, будет с ним познакомлен и непременно подсыплется к богородице, хотя она из прита, — «братцы, да мы, может быть, все сыновья офицеров и фабрикантов, и нам дано зарабатывать себе пролетарское происхождение, и мы случайно не контрреволючим». Все остальные «думающие» явно завидовали, он был доволен своей работой, но Вавилов попытался было сказать им о «секретных гостях», но подумал, что тут надо разобраться, да и мысли у него об этом быстро исчезли.
С. П. Мезенцев визжал, что соблазнит Агафью и откроет огромный публичный дом — мечту всей его жизни, с бассейном и с рыбками золотыми. Вавилов подумал о своем происхождении, подумал о матери, и ему показалось странным, что его так тянет к людям: вот и «пять-петров» поговорили с ним ласково, и он стал себя чувствовать значительно легче. Он направился к прудам, усталый, и хотя ремонт и постоянная перебранка с рабочими и с техниками, которые норовили упереть, особенно цемент, раздражала его, он все-таки пошел к четвертому пруду и к березе, отмеченной им, и сломал прут во имя «пяти-петров» и во имя трусости своей и поклонения собственности, его утешало то, что очистка прутьев, детская забава, доставляла ему большое облегчение, и он понимал, что сознавать свои слабости — это уже большое достоинство, но что поделаешь: где природа и потеряет, а где и приобретет, на нем она потеряла явно.
На обратном пути он встретил Измаила верхом на коне, чепрак у него был окровавлен, он ехал потупившись. Вавилов подумал, что, кажется, наконец-то Измаил убил человека, но тот подъехал грустный и, даже не глядя, с кем говорит, рассказал, что нашел сына окровавленного и рядом вилы — он напоролся на вилы. Он ездил за доктором в Кремль, он созовет всех докторов СССР, он спасет сына. Тут он узнал Вавилова, он закричал:
— Из-за твоей неналаженной деятельности гибнут люди, смотри, на лугу З. Лямин, старикашка из Кремля, рубит дерево, оно убьет его, и не хочет ли этого старикашка…
Он забыл про Вавилова, он ехал к больнице и говорил сам с собой. Вавилов побежал на Ямской луг.
IV
Хотя З. Лямин имел все возможности молчать и не каяться, но ему думалось, что этим молчанием он обязан Агафье, он думал, что только она спасла его. Он кинулся к ее ногам, целовал ее следы и обещал ее любить до конца дней, и его возмущало то, что женщина Препедигна тратит на него тринадцать рублей получаемой пенсии, а он, старый дурак, лезет к девкам, еще надеется на какую-то взаимность. Где-то в лице его беззаботничала эта надежда и самоуверенность, и это страшно возмутило Агафью, она поговорила с ним резко, она подумала о его судьбе и о Хлобыстая-Нетокаевского подле рвов могиле, которую она ему выкопала и которого отпел протоиерей Устин, который взял на себя этот грех, но и заслуги Хлобыстая в деле печатания библии были очень уж велики, и можно ему было простить многое.
— Так что же ты хочешь? — спросила Агафья.
И. П. Лопта видел, как З. Лямин стоит в пыли перед Агафьей он шел довольный ею и темными ходами своего сына Гурия, который сидит день и ночь в типографии, играет даже в шашки с новым заведующим молодым человеком, из Мануфактур присланным, — Сеничкой Умалишевым, однобоким, слюнявым и болтливым необычайно, но который томился и все карточки себе каждую неделю визитные печатал: «личный секретарь», а чей — неизвестно, сплетник, паршивец и вообще тля.
Сеничка Умалишев изрекал подозрительные сентенции насчет власти и смотрел выпытывающе в глаза, а Гурий говорил спокойно: «Ваш ход». З. Лямин был огорчен невниманием Агафьи, у него похрустывало что-то внутри, он смотрел на сад, и Агафья, чтобы отвязаться от него, велела ему разнести вещи [И. П. Лопты], которые давно уже частью разобрали, частью нет: вот и топор из типографии меченый валяется. «Мы воровством не живем, хотели бы мы этого, нет». Он взял топор с зеленой крашеной рукояткой. «Какая бесхозяйственность, кто же топоры красит?» — он забрал его и пошел.
В переулке было сыро, уже пахло осенью, он вспомнил, что топор надо отнести к плотовщикам и что о плотовщиках и их странном сечении Гурия прутьями говорилось многое. З. Лямин нес топор, но ведь он его не занес, и все же, может быть, с таким именно топором… (…) он шел и ему было грустно, с ним рядом шел тоже грустный Афанас-Царевич, который болтал что-то и постоянно добавлял: «Пускай его, пускай». Так они шли, большой и рваный Афанас-Царевич и З. Лямин. З. Лямин взошел на луг и стал рубить березу, он ее рубил, потому что ему хотелось, во-первых, как-нибудь согреться, во-вторых, он хотел перенести известное наказание, и, если бы он посидел за березу, это от наказания за убийство было б недалеко, в-третьих, он хотел показать, что способен и поверху летать, а не понизу ползти, как думает Агафья. Афанас-Царевич, изумленный его действиями, вначале отошел от него и смотрел на Кремль, где видны были проломы в розовой стене, и профессор ходит по берегу и высматривает своих каменный баб.
К Мануфактурам скакал Измаил. Он не остановился, лишь взглянул, и, хотя он всегда искал людей, которые, по его мнению, собирались кончать с собой, он тут увидел просто хулиганство, а не высокую жизнь. З. Лямин стал рубить сильней, щепы так и летели, Афанас-Царевич стал смотреть, что значит эта рубка, словно человек желал дорубиться до чего-то. Он выкрикивал с ожесточением: «Во имя Христа, во имя Христа!»
Вавилов поспешил и побежал не оттого, что Захар Лямин, личность не известная ему, рубит дерево, какой-то кремлевец, Вавилов побежал потому, что ему хотелось отчасти и разобраться в своих чувствах, отчасти и потому, что его привлекала мысль о Кремле, о своем рождении, о намеках С. П. Мезенцева, которые разрастались и становились тягостными, он выдумывал много причин для того, чтобы свернуть в сторону, но оно, это неизвестное, влекло его, и он бежал. Он быстро запыхался, и действительно, на том месте, где им была распланирована детская площадка и откуда утаскивали постоянно песок и землю, на зоне этой, единственной, которую он взлелеял и думал разбить здесь сквер, так как здесь уже было размечено, — сумасшедший человечек с седой головой рубил березу. Вавилов смог только крикнуть ему:
— Стыдно!
Человечишко взмахнул руками. У Вавилова захолонуло сердце, он вспомнил многие свои болезни и остановился, если б он не остановился, он смог бы добежать и оттащить человечка, и тот встал перед березой, которая заколыхалась на секунду, но затем струсил и отбежал, но уже было поздно, она отделилась от горизонта и поплыла быстро вниз, и Афанас-Царевич побежал домой. Вавилов посмотрел на то, как падает человек, ему вспомнился Кремль, его соборы и храмы, и он посмотрел на храм Успенья — копия Петропавловского собора в Петербурге и копия довольно точная, и Вавилов подумал: что, как он слышал, там два этажа, из которых можно сделать и лекционный зал, и театр, и прочее. Он посмотрел на шпиль, освобожденный падающей березой. Он вспомнил, как их водили туда из Воспитательного дома каждое воскресенье, злорадная радость потрясла его. Он смотрел жадно на шпиль и думал, что это надо обмозговать.
Уже из поселка бежал народ, из Кремля скакала подвода, и сам И. П. Лопта сидел в ней. Вавилов отошел, захваченный своей мыслью, и ему кололо в боку, и он пришел к архитектору, все думая о своем, и тот начал его лечить и расспрашивать, опять ушла жена архитектора, и опять стало неприятно, и Вавилов все-таки лечился и стал чувствовать, что колет еще больше. Он с трудом ушел, когда уже понял, зачем и почему он пришел и в чем его болезни, и архитектор с удовольствием милосердствовал. Он шел, тер себе бок и думал о храме Успенья. Он пришел чрезвычайно оживленный и сообщил это трем «думающим», они отнеслись к его мысли спокойно, и только сказал П. Лясных, что едва ли что выйдет: во-первых, наука, храмы здесь сплошь древние, а во-вторых, совесть.
Пицкус вскочил немедленно, по дороге он сообщил Клавдии, которая действительно приходила пить воду в присутствии Вавилова, и сначала его возмущало это, а затем стало умилять. Клавдия озорничала, ей самой нравилось исполнять то, что она задумывала хотя бы и в пьяном виде. Пицкус имел теперь повод прибежать в Кремль и сообщить о затее Вавилова. Он устремился, Агафья рыла сама могилу З. Лямину, во рву у кладбища, рядом с могилой Хлобыстая-Нетокаевского.
V
Зинаида отказалась от зова тела, она стала довольной, но довольство, которое было в ней, скоро прошло. Она разговаривала с Ложечниковым и его племянницей, трое довольных, тех, к которым стремился Вавилов и которых он искал. Зинаида выглядела хорошо, несмотря на то, что ушла из ними, и несмотря на то, что она много заседала, ходила осматривать строящийся дом, и ее еще радовало то, что ее не трогает М. Колесников, который все-таки время от времени приходил к ней и говорил:
— Есть ли жена красивей моей и есть ли кто храбрее меня?
К Зинаиде приходил П. Ходиев с тем, чтобы ему дали какую-нибудь работу в Кремле, он оттуда уходить не хотел. Зинаида знала его [Колесникова] давнишнюю злость, Прокоп был действительно хорош, беспокойный и ловкий, она и сказала:
— Прокоп, по-моему, сильней тебя, и Ольга Прокопова красивей меня.
М. Колесников, розовый и наглый дурак, безжалостный и смелый, ушел, и ей стало жалко его крепкой силы. Он был доволен своей силой чрезвычайно, и она поколебала его довольство и посожалела, так, если бы поколебал кто ее, но она смотрела на тех, которые могли бы ее поколебать, с неудовольствием и опаской. Она пообещала в то памятное заседание приложить свои силы, и это ей удалось; лишь только она пообещала, как ее подхватило ураганом внимания и понесло. Пришли ткачихи, они уже действовали и думали более смело и более коротко, если можно так сказать, а памятное заседание в тот день, когда ее избрали, было как бы приготовлением к прыжку.
Произвели обследование. Результаты и ужас квартирный оказались более сильными, чем думали. Уже каждый день после обследования жилищных условий Мануфактур к Зинаиде в горкомхоз стали приходить ткачихи, роскошествует, говорили они, а в горкомхозе было грязно, пыльно, сидел товарищ Литковский, автоматически переведенный из Кремля, где он привык сидеть и говорить с товарищем Старосило и выслушивать его рассказы о боях, принимая их как жалобы, что и было на самом деле. Из конур вылезли и легли к Зинаиде на стол руки с требованиями. Товарищ Литковский захворал и рад был своей хворости, и его назначили в санаторий, и Зинаида уже заняла его место.
Ткачихи, стоящие среди грохота машин, казались всегда довольными и ловкими, здесь же, поняла Зинаида, учреждение служит для того, чтобы люди приходили жаловаться и выявлять свое недовольство, и ей было стыдно немного, что она такая довольная живет в корпусе у подруг, трое в каморке, три кровати чистых, и у одной из кроватей стоит швейная машинка. Ткачиха, довольная своим злым голосом, подбоченясь и готовая вступить в драку, кричала:
— Отчего он может занимать квартиру в две комнаты с ванной еще, а не могу! Ах, он больше прослужил на фабрике, скажите, пожалуйста, мне вешаться, если я позже родилась, чем он, на десять лет, значит, эти его десять лет я должна жить в подвале. Наши избушки, сколоченные из бревен, заливает Волга каждый год, и в подвалах у нас постоянно вода.
Да, тов[арищ] Литковский узнал, что такое фабричный разговор, от которого с потолка штукатурка валится, а Зинаида только улыбалась и была довольна. Тов[арищ] Литковский бормотал что-то о разрабатываемом Госпланом плане пятилетки, об уничтожении женского труда, требовал директив в укоме, но и сам уком был растерян чрезвычайно. Ткачихи приводили мужей, все были словно довольны случаем покричать, женщины кидали на стол больных детей, которым жить в теперешних условиях невозможно, — создали ряд комиссий, комиссии-подкомиссии, выбрали в одну из таких комиссий Ложечникова, он пришел вместе со своей племянницей, тихий и ловкий, и она тоже ловкая и смелая, и он сказал, что теперь отдыхает: он хочет отдохнуть от комиссий только полгода; он и его племянница стояли в прокуренной комнате, чудо как сохранившие здоровье и бодрость, и смотрели на Зинаиду и позвали ее в ближайший свободный день в гости. Ложечников сказал:
— Все устроится, и мне страшно нравится, когда так суетится мир, я вот дал слово год отдохнуть, а не могу, — тянет, опять я буду заседать и бегать, и говорить.
Племянница смотрела на него и тоже была довольна его стремлением, она искала работу, и ей поручили, она все исполняла с большим удовольствием. Зинаида с удовольствием пошла к ним, и там собрались родственники, и все люди, которых когда-либо судил Ложечников, имевший особенное удовольствие выспрашивать людей, быть довольным, когда они мирятся, и даже когда засуживал, то человек уходил, понимая, что тот ему желает добра. Зинаида отдохнула у них, здесь говорили только о хорошем, и хотя она ничего не придумала, и никто бы не мог придумать, кроме того, что люди, действительно, находятся в ужасном положении. Она привыкла к своему хозяйству, а дом Ложечникова напоминал ей дом «пяти-петров».
Вавилов жил в корпусе, он находился в глубине парка, деревянный, и к нему надо было идти мимо прудов, и они были запущены, и Пицкус, наслаждаясь своей ловкостью, пытался прыгать по плавающим деревьям, и П. Лясных лениво следил за ним и за его прыжками. Пруды зацвели, и Вавилов стоял подле, противно ему было то, что он наслаждался своими дурными качествами, он был все-таки самовлюблен, что ли, и это противно было ему самому, он к Зинаиде подошел и сказал, что с клубом и с ремонтом ничего не выходит. Она плохо слушала его, она вспомнила, что везде ее преследовали дома, в которые скоро надо вселять рабочих; архитектор А. Е. Колпинский возмущался нехваткой материала, сезонники капризничали, уходили, и каменщики задерживались оттого, что не работали плотники, надо было всех обегать и всех уговаривать. Она поняла, что Вавилов предлагает и предполагает взять под клуб церковь, и она возмутилась, так как эта мысль не приходила в голову ни одному из его предшественников, а гнусный и рыхлый рыжий придумал ее.
Она разозлилась и сказала, зная, что и сама говорит неправду, но это с ней случалось часто, когда на нее налетали и грели приступы гнева, и она теперь не должна сердиться, но она закричала:
— Можете открывать против меня кампанию, а церковь — под наукой и старинная, и опять загудят, что пролетариат разрушает, вандалы, просто не можешь материалу строительного достать, я не боюсь твоей компании и твоих четырех прихлебателей.
Она почувствовала к нему зависть, все это скоро прошло, и она даже раскаивалась, когда шла дальше, Вавилов так и остался, рыхлый и осевший и слабенький со своим покрасневшим носом. Она легла в постель, раздраженная, но утром проснулась и была довольна собой и довольна даже тем, что поступила неразумно, но Вавилова надо одергивать — такая грязь опасна и заразительна для Мануфактур, и без того не свободных от заразы. Такая грязь, прикрывающаяся партийным билетом, скромностью и несчастием, хуже всего.
Она была довольна тем, что молода, способна бороться, твердо стоит на ногах, она с удовольствием пощупала свою крепкую шею и послушала, как перекатывается голос, она надела короткое свое платье и кофту, тщательно заплатанную, и заштопанные чулки; перед сном, когда она штопала, сама не помнила, как была раздражена. И все Вавилов, она поняла, что он обогнал ее, и он оказался ловчей.
Пришла мать, Марина Ни[китиш]на, нежно ее любившая и ею довольная, она понимала, что дочь выдумала новый фортель и что старики не понимают, как можно покинуть такой крепкий, непьющий дом, единственный во всем поселке, и она, задумчиво ей подмигивая, сказала:
— Не пора ли?
Ее больше всего возмущала придвинутая к кровати швейная машинка — символ собственности.
— Нет, не пора, — ответила Зинаида и крепко поцеловала мать.
Вавилов сказал Зинаиде:
— Странный народ, привожу для ребят землю, хочу насаждения сделать, только положу — а они землю растащат. Для цветников. А сходить-то всего только верста. Нет никакого чувства общественности.
И она, хотя была согласна с ним, но высказала, что тут дело не в озорстве, а хорошо, что люди таскают землю и любят цветы, они томятся, им тесно жить в каморках, а не несут землю сами потому, что не верят, что принесут землю ту именно, которая необходима для посева, они выгоняют слово «земля», потому что мужик может видеть солнце, и ему в лицо дует ветер, а тут дуют машины, и люди не могут привыкнуть, чтобы испытывать радость от машин.
Вавилов с этим не согласен. Люди глохнут, и они любят свой труд. Мужик смотрит с презрением и ненавистью на фабричного, тот может не скопидомничать и, получив каждые две недели жалованье или аванс, идти и стать в очередь за водкой, то есть за тем, чего человеку не хватает и что она ему дает, — довольство собой, несмелому — смелость, смелому — трусость и унижение, те наслаждения и довольства, которыми человек в трезвом виде не может наслаждаться.
VI
Агафья возмущалась Е. Чаевым, тот сшил себе новенькую сатинетовую рубашку и был доволен, что такой красивый, свежий и умный. Он все предвидел, он говорил, что не надо было брать деньги от Клавдии, не надо было иметь дело с пособниками, а устраивать через него, он восхищался своей предприимчивостью. Гурий покорно слушал его, он устал работать и наслаждался своей усталостью, он целый день метал на сеновал сено, он давно так не уставал, и Агафья ходила мимо него и приглядывалась к нему. Ей тоже небось хотелось поработать или ударить вилами. И. П. Лопта, побеждая свою гордость и победив ее, слушал больше себя и на каждое слово или каждое предложение Агафьи у него было свое, и оно ему казалось лучшим, но он молчал и наслаждался тем, что он такой послушный и не гордый.
Агафья признала, что напрасно Клавдия схитрила, притворилась и предала их Вавилову, она узнала и слабые силы церковников, и церковь Успенье передадут, конечно, где им свершить ремонт, и Кремль им дать ничего не может, коль у них все деньги идут на печатание Библии. Вавилов ловит С. П. Мезенцева, передавшего взятку, и напрасно И. П. Лопта держит около себя С. П. Мезенцева, явный провокатор, подосланный Вавиловым. И. П. Лопта возмутился, возвысил было голос и смолк, он только добавил, что на свободном рынке негде достать пряжу, а в уезде работают станки, и мы посылаем Афанаса-Царевича за сбором денег в уезд, так его будут спрашивать: есть или нет пряжа у И. П. Лопты комиссионера, и он не должен говорить, что нет пряжи.
Он замолчал. Агафья все настаивала на своем, что необходимо усилить работу среди рабочих и показать Мануфактурам, что православием не так-то легко бросаться. Гурию даже показалось, что она завидует Клавдии, она лишена презрения к людям, вот чем она берет.
Он обалдел, его цапнула за сердце эта мысль, и он понял ее силу, вот чем взяла даже Афанаса-Царевича, простая история. Она, пожалуй, может действительно взять Мануфактуры под свою соболезнующую руку, она дойдет до их сердца, она может возбуждать умиление. Гурий сказал, что он не настаивает на своем предложении об отложении [съезда мирян], но все-таки лучше подождать, она на него посмотрела грозно:
— Ты все свое. Тогда бери власть и все остальное в свои руки и благоденствуй, еще раз тебе предлагаю митру. Бери.
Гурий улыбнулся и сказал, что как же общество, он подавал мотивированную записку о том, чтобы блок с баптистами заключить. Общество этого еще не решило. На него начали кричать, он посмотрел и сказал:
— Я беру свое заявление обратно, оно несвоевременно.
Агафья подумала и сказала:
— Не пора ли тебе, Гурий, идти с келейниками, ты слаб, ты бы с ними окреп, скрывая свое лицо и питаясь боговым словом.
Он отказался и, улыбаясь, добавил:
— Или жениться. Я, пожалуй, изберу последнее, чтобы быть ближе к тому, чтобы смотреть на то, что ты делаешь и что будешь делать, Агафья.
Туда пошли Еварест, протоиерей Устин, Агафья, и там должно было произойти торжественное богослужение. Клавдия провоцировала Луку Селестенникова, который развивал обширную деятельность среди плотовщиков, и заседание было после того, как он открыл артель строительных и плотничьих работ, и консультировать их Чаев согласился.
Лука Селестенников прислушивался и уходил к мужикам, он их всячески задабривал, а они не ехали, он им искал работу и вообще делал все, что можно для них, он им открыл артель. Е. Чаева злило это и злило то, что они выбрали его, Луку, председателем, а Е. Чаев был провален и был только консультантом и на жалованье, да к тому же и совсем мелком. Он написал письмо матери, и Агафья была довольна.
Вавилов сидел в вике. Профессор З. Ф. Черепахин наслаждался своими комичными поисками и тем, что Лука Селестенников организовал артель и сам председателем, а не указал адреса. Профессор возмущался: как же тов[арищ] Старосило может принимать такие бумаги, на которых даже и адреса не указано, и товарищ Старосило, пьяный и большой, потерявший давно свою военную крепость, сказал, что в укоме он и не взял бы, но что требовать в вике.
— Со мной что произошло: приходит ко мне фраер такой, спрашивает у моих футболистов, остались у меня такие, Митя и Саша, не сокращают ли их, потому что благодаря им Кремль и может только защищаться футболом от Мануфактур, приходит и спрашивает, кто у вас тут председатель, и наклеивает мне сзади плакат, так я его в три шеи выгнал.
Вавилов улыбнулся, но С. П. Мезенцев, видимо, не оставлял своей мечты, и надо записать. Старосило яростно указал на клетушку посредине площади, и на ней стоял городской козел. Митя и Саша погнались за ним, выскочил из-за угла Пицкус и догнал козла. Вавилов с удивлением понял, насколько Пицкус проворен.
— В центре меня забыли, — продолжал тов[арищ] Старосило, — я сколько писем писал.
Профессор вернулся к своему докладу, он его неправильно разработал, на какие-нибудь пустяки обращать внимания не стоит, но он решил приняться всерьез. Вавилов сидел сам не свой, товарищ Умалишев увивался тут подле, профессор смущен, и товарищ Старосило стесняется приступать, кончив разговор о Кремле, профессор показал Вавилову открытки и сказал, что здесь будет актер императорских бывших театров Ксанфий Лампадович Старков.
— Какой же он — императорских или государственных? — сказал Вавилов. — Он у меня на Мануфактурах уже месяц или больше как кружок ведет.
Профессор жиденько помахал открыточкой и свалился легонько на пол в обмороке. Его подняли. Товарищ Старосило многозначительно постучал себя по лбу, о консультации и разговора быть не может. Вавилов даже попробовал пригласить товарища Старосило к себе, но тот мог принять это с возмущением.
Профессор что-то заговорил о звоне, который раньше не удавался, но теперь все налажено, он смотрел жалостливо на Вавилова, тому стало противно своей вялости сегодняшней, волнами его потрясало иногда какое-то просветление на минуту — и конец, а затем мучился, и ему казалось еще, тов[арищ] Старосило, чтобы он не уходил, предложит ему выступить, а здесь уж совсем конец. Помогал вести профессора, он рад был возможности покинуть вик и лысых футболистов, под столом дрыгавших и пишущих, казалось, ногами.
Вавилов шел, смутные чувства волновали его, он, казалось ему, пришел не за консультацией, а хотел спросить И. П. Лопту, сторожа Воспитательного дома, в чем и в каком одеяльце был подкинут рыжий мальчик, насколько он помнил, он один был рыжим и на него одного валились насмешки. Именно так, как он придумал, чтобы тот ему подробно разъяснил. Он остановился и даже взопрел от испуга, его окатило испугом, над ним что-то ломилось, зыкало, кололо, слагалось, он позже разобрался, что это звон, который наладил для иностранных экскурсий профессор Черепахин, и можно его по телефонному звонку заказать из вика, а где же будет база колокольного звона и можно ли это рассматривать как общественную деятельность? Вавилов забежал в подвал.
Он услыхал пение. Монахи пели. С длинными волосами стояли они у реалов, и управляющий товарищ Умалишев, с непонятными целями поощрявший это, ходил среди реалов одним боком и прислушивался весьма внимательно. Он устремился к нему с пухлым оттиском книги в руках. Вавилову показалось, что здесь он видит И. П. Лопту, Евареста, Гурия с длинными волосами и нежные, он узнал по разговорам, волосы и стан Агафьи; страх охватил его, он выхватил бумажки, то есть оттиски, и, пробормотав что-то непонятное, побежал. Он увидел на улице Афанаса-Царевича, тот шел, потерявши довольство, то, за что и почему его любили; он мог наслаждаться пустяками и быть довольным всем. Он посмотрел Вавилову в руку внимательно и сказал:
— Дай поиграть.
Вавилов, так и не посмотрев на оттиск, отдал.
Да, Агафья победила его, он ощущал страх, потрясение, колокола гудели ровно пятнадцать минут, он стремился по деревянным доскам. Агафья преследовала его, он слаб и немощен, рядом с ним бежал Пицкус, который рад был бежать. Вавилов остановился. Пицкус бежал, гребя лапками и довольный своими ногами. Хорошенькую консультацию он получил от Кремля. Тело его ломило.
«Четверо думающих» встретили его у дверей. Измаил стоял тут же. Толпа рабочих ждала от него речи. Он промолчал. Он тер себе кончик носа и боком проскочил мимо них. «Четверо думающих» спрашивали:
— Почему, рыжий, ты не получил консультации и что же надо профессору? Почему Зинаида против тебя и ты так расстроен? Что хочет от тебя Ходиев и почему бы тебе не дать работы в клубе? Почему, рыжий, Клавдия ломается и не хочет пить воды без тебя и какой в этом агитационный момент? Почему Лясных женился, а от тебя нет пользы?
Вавилова охватила злость, и он спросил С. П. Мезенцева:
— Почему ты прибил плакат?
Они были довольны проявить свои дурные наклонности, и С. П. Мезенцев заявил, что любит и будет красть, Колесников драться, Пицкус бегать и подслушивать, П. Лясных — промолчал. С. П. Мезенцев добавил за него, он будет плавать в твоем клубе, так как церковь тебе не дадут.
Глава седьмая
I
В комиссии началась брань Зинаиды. Все были рады тому, что можно было свалить вину на какого-то человека и на то, что она надавала обещаний; она никаких обещаний не давала, а предложила приложить все усилия, а этого-то, именно всех усилий, кроме нее, никто не прилагает. Она поступает именно так, как обещала. Люди приходили болезненные, усталые, их надо понимать. Зинаида их хорошо понимала. Она выслушала их и предложила следующее:
— Научены опытом, будем думать всю зиму, а пока у нас на квартиры, которыми надо удовлетворить в первую очередь, имеются три тысячи, я предлагаю удовлетворить пока тысячу. Каким образом, как? Вселить не в квартиру по семье, а в комнату по семье, конечно, это будут почти каморки, но что же делать.
Она сидела после заседания в каморке, пришел пьяный Колесников, который стал хвастать тем, что был у «пяти-петров», требовал долг.
Зинаида не понимала, в чем дело, Колесников стал упрекать, что коня изъездила отцовского по ночам, должно быть, на свидания к П. Ходиеву, «недаром он приходил к тебе просить легкую службу». Он опять закричал, что она ему не жена и что он подарит ей кольцо, он действительно протянул ей кольцо, и она сказала, дразня его, ей было забавно, что теперь, когда она от него отказалась, он несет ей кольца.
— У Ольги кольцо-то бирюзовое, Милитон.
Он рассвирепел, поднял кулак, она взяла ножницы, он повернулся и ушел, уходя, он сказал:
— Эхо возвышенностей Рог-Наволог еще будет повторять наши имена, левым берегом владеет он, правым — я до первого снега, и моя жена не будет ездить к нему!
Он еще раз повторил слова С. П. Мезенцева:
— Не доверяй жене, не выручай бедного родственника!
Пицкус сопровождал Вавилова. Он ходил по берегу и смотрел на Кремль, Вавилов ждал переправы, он шел в Кремль, и Пицкус сопровождал его и вел прямым путем, где П. Лясных должен их перевезти. Вавилову хотелось осмотреть скорей церковь, не годится ли она на самом деле, он и ходил по берегу. Над ним издевался М. Колесников, Вавилов быстро разделся и попробовал было плыть. П. Лясных смотрел на него с любопытством, но Вавилов действительно боялся воды, он окунулся. Он плавал с боязнью, потому что его рыжую голову топили часто в воде, он редко мылся и, стыдно сказать, даже в баню не любил ходить и, по возможности, окатывал голову кипяченой водой. Конечно, стыдно, но что поделаешь? Он постоянно боялся заразиться и ходил в баню пореже.
П. Лясных гулял со своей женой, они стояли на берегу, он сводил ее в кусты, переспал с ней, они вернулись обратно, и Пицкус быстро побежал, П. Лясных не мог оставить жену, ему скучно здесь, но он выдумал — возможно влюбиться, и тогда человек может жить хорошо, и он должен жить хорошо, и он постоянно выдумывал себе дела, потому что ему было скучно без работы. Он говорил жене, что на Россию надвигаются болота, что Сибирь скоро будет сплошное болото. Жена смотрела ему в рот, ей было холодно, он ее уморил своей специальностью, она хотела домой.
Вавилов слышал его разговор, хотя между ними текла река. П. Лясных тоже подал заявление, спешно женившись для того, чтобы жена М. Колесникова среди всех остальных людей, охваченных жаждой жилищ, дала ему. П. Лясных заикнулся было о «тайных гостях» С. П. Мезенцева, но М. Колесников цыкнул на него, а П. Лясных тупым голосом требовал от М. Колесникова, чтобы тот взял у «пяти-петров» деньги, ему надо жене хоть бы по случаю свадьбы ботинки купить, а то странно — без подарка. Если он имеет силы достать в долг, то надо действовать, и П. Лясных поручит Пицкусу поднажать. Они шли переругиваясь.
Вавилов вошел в храм, им владело опять то чувство страха, которой владело им в Кремле, но выйти он не мог.
Храм был переполнен. Уже с утра церковники разносили слух, что приедет протоиерей Устин и что после того Е. Чаев, секретарь общества будет говорить речь. Вавилов испытывал недовольство тем, что он сейчас может понять, ценно ли это для будущего, то есть потомки будут ли их благодарить за то, что они оставили такую красоту, или будут ругать?
Ему было стыдно, но он вспоминал опять детство и те чувства, которые ему прививал Воспитательный дом. Он даже не мог смотреть на Агафью и думать, что такая красавица воспитана и могла воспитываться там. Она скромно стояла в притворе, здесь стояли почти все, которые ему почудились сегодня в типографии, он так не мог понять, что они там делают, очень у них там хозяйственный вид был.
Она стояла теплая и большая, окруженная друзьями, а у него не друзья, у него странные «четверо думающих», тени Воспитательного дома, ворвавшиеся в его жизнь и наслаждающиеся этим, ибо зачем же он им иначе нужен? Вот и в борьбе за храм он должен действовать осторожно, никаких инструкций даже нет на этот предмет, уже и инструкции ложились ему на голову, он смотрел на церковников, они стояли молча. Служение кончилось. Голые мальчики, он считал в детстве у них носы на лепном потолке, и что надо с ними делать?
Заговорил молодой голос. Агафья стояла довольная, и покорный Гурий за ней, и И. П. Лопта, старичок, притворявшийся потерявшим гордость. Вавилов понял, что боится женщин. Он ушел и у корпуса встретил Клавдию.
Она созналась ему, что довольна своим любопытством, которое удовлетворено, и что им неужели не владеет любопытство, она понимала, что все это глупости и что ей кружку носить глупо, и на нее стали меньше обращать внимания, но она хотела знать, что же произойдет дальше?
Она была довольна своим любопытством и даже тем, что отдала последние червонцы Агафье, она поняла ее, и ей не хотелось к ней возвращаться. Она вся горела, он пошел и яростно удовлетворил ее любопытство, но чтобы она не навязывалась к нему, он отделался испуганными словами. Она ушла и напилась, он направился к своей березе, и с тоской ободрал четвертый сук, и пытался устало понять что-то.
Так ему трудно было, да и к тому же надо было разработать тезисы к предстоящей борьбе за храм Успенья. Он двухэтажный, на бумаге мысли его улаживались легче, он разметил, прочел, но было даже самому не ясно, как же можно было так разметить. Он возмущался своей бестолковостью, он поискал инструкции, перерыл кипу союзных газет: все писали, что сделали то-то и то-то, но как поступать со старинными храмами — неизвестно. И вообще в газетах уже результаты, и видно, как люди захлебываются от удовольствия, а у меня еще суки;´… и тяжесть непосильная.
II
Вдоль леса расположился цыганский табор. Цыгане спускались с вершины Рог-Наволог и остановились только потому, что, во-первых, их желал видеть С. П. Мезенцев, который имел к ним предложение, а об их приезде должен был ему сказать А. Сабанеев, которым он должен был сдать медведей, потому что он оказался глупым мальчишкой, жил в Кремле, никуда не шел и все, что зарабатывал выкаткой бревен на берег, скармливал на медведей, он жил у сторожа все у тех же огородов, и сторож жаловался на него, что и спит плохо, и денег не платит.
Цыгане желали только одного, чтобы получить медведей, и желание, высказанное им о встрече с С. П. Мезенцевым, заинтересовало их, и они остановились на берегу у опушки втайне. В то время как они раскладывали табор, С. П. Мезенцев был доволен своей выдумкой и тем, что приехали цыгане. Он пытался усмирить Колесникова, но он пожелал пойти цыганим навстречу.
— Безрассудно, — говорил Колесникову С. П. Мезенцев.
Но он скоро понял, что М. Колесников жаждет мести. П. Лясных требует от него денег, и ему стыдно.
Он еще раз пошел во двор к «петрам», увидел, что во дворе бегает ребенок, его возмущало крепкое хозяйство, а каких-то сорок рублей не хотят отдать, и возмущало то, что он боялся, не проболтали ли те что-либо Зинаиде.
Он смотрел долго на мальчонку, затем пришел к С. П. Мезенцеву и отказался пойти с ними в табор. С. П. Мезенцев был возмущен.
Милитон Колесников пошел на луг, где, пася своего коня, грустно спал Измаил. Он выкрал коня, подъехал к дому «петров», уронил плеть и попросил мальчишку поднять ее, и тот поднял и отдал ему. М. Колесников вдруг наклонился, и поднял его за шиворот, и положил поперек, и поскакал, и все видели, как он скачет. Он окрасил коня в белый и черный цвет. Одна половина видевших говорила, что он на белом коне, а вторая — на черном.
С. П. Мезенцев, которого он догнал шагающим по шоссе, удивился, увидев и коня и ребенка. М. Колесников объяснил, что сделал это с целью мести, и что С. П. Мезенцев должен его подержать у цыган, и что цыгане должны согласиться.
Мальчишка был чрезвычайно всем этим заинтересован, он с удовольствием ехал на крашеном коне. М. Колесников был тоже доволен выдумкой, которую он соорудил из рассказов О. Пицкуса. С. П. Мезенцев сказал, что можно самую оригинальную выдумку испортить с такими дураками. Шоссе спускалось под гору. Они вышли к табору. Их окружили цыгане. Цыганам было скучно кочевать, потому что их усиленно ловили и сажали на оседлую жизнь. Им нравилось переезжать с места на место, и ловить ярмарки, и гадать, и вообще жить моментом, почему человек не может иметь передвижную дачу? Они довольны были, что А. Сабанеев предложил им хлебное дело, хоть сам не пришел.
С. П. Мезенцев задумчиво сказал, что приезд их надо бы отмечать в рике или в соответствующем учреждении, а они не отметили. Цыгане увидели в этом ловушку. С. П. Мезенцев сказал, что у него есть дело секретное.
Подошел А. Сабанеев, с ужимочками, и сказал, что медведи в полной исправности и что он не ехал только потому, что они вместе с С. П. Мезенцевым подготовляли это дело, и предлог жить медведями отличен.
Цыганам чрезвычайно не понравился вертлявый человечек с опрятным брюшком, но они его внимательно слушали.
С. П. Мезенцев, во-первых, попросил исполнить его просьбу, отвести; и выкупать коня, во-вторых, подержать несколько дней ребенка.
Цыгане стали у него выспрашивать дальнейшее. Проект С. П. Мезенцева несколько встревожил их, но М. Колесников подхватил с энтузиазмом и восхищенно похвалил С. П. Мезенцева, что голова и что с плакатом здорово отведены глаза кому угодно.
М. Колесников вернулся домой в хвастливом настроении духа. Он рассказал П. Лясных, как он здорово придумал и что ему мгновенно отдадут ребенка.
П. Лясных был обеспокоен. Он жене рассказал, та побежала и сообщила своим родственникам, и те сообщили «пяти-петрам», а «пять-петров», встревоженные тем, что как бы не пострадал ребенок, направились к Зинаиде, потому что она одна могла как-то усмирить Колесникова.
Она не поверила такой нелепой истории, но М. Колесников был пьян и сказал, что цыгане решили держать испытание. Можно ли на них положиться? Зинаида сказала, что он подводит и себя и цыган под самосуд. По поселку бегает Измаил и кричит, что украли его коня, и загвоздка только в том, что одна половина поселка говорит, будто конокрад ехал на белом коне, а другая — что на черном. И в этом они столковаться не могут.
Зинаида почему-то сразу подумала, что проделка Вавилова, но затем опомнилась. Ей не хотелось сообщать в милицию о пьяной шутке. Цыгане предупредили Колесникова, чтобы он не проболтался, так как только ради него они согласны держать испытание.
Зинаида цыкнула. Он требовал отдачи денег. Деньги вернули ему немедленно. Он сказал, что снимает клятву, и когда указал, где стоит табор, все кинулись туда и встретили мальчика на пути, тот говорил о крашеной лошади, о вывесках и веселых медведях. Все это напел ему в уши С. П. Мезенцев. А кто-то успел предупредить цыган. Табор скрылся.
С. П. Мезенцев вернулся только через день, когда деньги уже были пропиты и «тайные гости» исчезли.
П. Лясных, услышав от жены, что «петры» обеспокоены потерей мальчика, рассмеялся. Жена его спросила, над чем он смеется. Он сначала ей не говорил, но затем, взяв с нее слово, что она не проболтается, сказал. Она дала слово и сразу же, в тот же день, проболталась родственникам.
— Разве это порядок? — сказал он. — А если бы, допустим, я вздумал подряд взять пруды осушить?
П. Лясных ударился в амбицию, что жена как вода, нельзя ей доверять тайн, он наслаждался и ломался и доволен был тем, что такие ловкие у него товарищи. Он пришел с женой вместе к ее родственникам.
П. Лясных сказал, что живущая с ним в кровати мелет ерунду и ему стыдно иметь такую жену. Те согласились, что такой жене нельзя доверять, и они ничего не имеют, если П. Лясных разведется. Вавилов уже видел, как М. Колесников развалился и смотрел на него, наслаждаясь своей силой и своей умной женой и тем, что она от него для вида только ушла.
Зинаида была расстроена тем, что комнаты никак поделить не могли и что в день назначенного расселения обещали быть и остальные две тысячи стоящих на очереди, которые вообще могут разнести все корпуса.
Зинаида подумала, что надо бы обо всем этом донести куда следует и что это, наверное, начало. Она напрасно обидела Вавилова. Она подумала, не хочет ли Вавилов тем, что он так подстроил с добычей денег у «пяти-петров», не хочет ли Вавилов для четырех мошенников взять с церковников взятку и ускользнуть.
Она пошла в уком, настояла, чтоб заявление Вавилова рассмотрели спешно, и на митинге даже согласилась выступить. Ей не стоило большого труда уговорить, чтоб назначили опытных людей, а не одного Вавилова, как думали раньше. Дело это важное.
С ней согласились.
В тот вечер Пицкус, всегда недовольный страхом, который владел им, отдал Вавилову револьвер. Вавилов был изумлен, что его предложение принято, пошло по цехам, сама Зинаида ходила, агитировала по уборным. Он узнал и о том, что она спасла мужа и вместе с тем агитирует за его, Вавилова, предложение.
П. Лясных и Пицкус заигрывающе посмотрели на него, но он их обидел и не обратил на них даже и доли внимания, потому что ему казалось, что сук шестой ему пора оглодать. Оглодать! Он уже нашел слово, и вообще все идет хорошо. Он понял, что тут неладного. Клуб его обрадовал. Дело понеслось, но уже вышло из его рук. И приходилось ждать, когда оно обойдет всех.
III
В воскресенье производилось вселение в свежеотстроенные корпуса, их закончили с великим трудом. Накануне Вавилову удалось устроить митинг в клубе о церкви и о жилищной кооперации. Озорство овладело им, он даже велел послать повестку в Религиозное общество с просьбой прислать оппонента.
На митинг пришло много ткачей. Говорили о боге, все слушали внимательно. Выступали сектанты, которые говорили о морали и милосердии, страсти разгорелись, и Вавилов впервые был доволен.
Ему показалось, что он даже видел Ложечникова, но сам он не выступал и был очень доволен, что ему не удалось, хотя и лежало у него много записочек с цитатами и он понимал, что если их цитировать, то весь вечер займешь. Он их подбирал всю ночь, но они разбежались у него в голове.
Он направился наблюдать вселение и понял, что агитирование Зинаиды надо рассматривать как ее трусость. Огромные здания с балконами-лоджиями, соединяющими две квартиры, о которых ему хвастал архитектор. Газоны обнесены решетчатой изгородью — тоже плод вымыслов архитектора; нашли в Кремле огромный склад палок от ручных гранат или бомбометов, архитектор и спроектировал изгородь. Проходы и проезды между сараями забиты людьми с корзинами, сундуками, козами, ребятишками, поднятыми еще с рассвета. Бабы бились к дверям, потрясая ордерами. Они отталкивали друг друга, ссорились — много здесь в этот день родилось многолетних судов. Совчиновники несколько испуганно дрожали, прижимаясь к своим гардеробам, недавно купленным и советского производства массового, с какими-то зелеными стеклами, и кроватями с никелированными шишками — мечтой каждого гражданина.
Милиционер Зиновий Петров взгромоздился на нелепого розового коня. Он смотрел с него величественно, мечтая о Силезии и одновременно о том, что вот они, «пять-петров», могли возрубить пять домов.
На углу Зинаида с портфелем под мышкой. На холме показался было Измаил верхом на коне, милиционер тронул к нему своего, и Измаил увернулся не потому, что он трусил, а потому, что ему приходилось три раза в день навещать своего больного сына.
Толпа устремилась, размахивая бумажками, к Зинаиде. Она подняла руку и, любуясь своим голосом, крикнула на всю площадь. «Все успеют», но предварительно она желает осмотреть ордера, и желательно, чтобы от каждого этажа и от каждого корпуса выбрали делегаток, она передаст им ключи.
Она презирала эту демонстративную затею вселять всех в один день. Хотели еще музыку пригласить. Есть чему радоваться! Она прижимала портфель с ключами к груди и твердо стояла на своем.
Люди быстро разделились по корпусам.
На месте осталась толпа, которая желала занять квартиры явочным порядком. Они кричали, озлобленные, оборванные. Зинаида, не дав им опомниться, — она презирала и отвергла желание милиции помочь ей, — пошла одна и одна желала справиться.
— Товарищи, пришедшие сюда для самовольного вселения, прошу не примешиваться к корпусным, а встать здесь на холме в очередь, и я буду записывать, с тем, чтобы…
Вавилов не разобрал ее слов.
Она выбрала несколько делегаток, которые тоже пошли и стали разговаривать с теми, которые желали вселиться самовольно. Стали говорить быстро, горячиться. Зинаида сказала:
— Мы придем с добавочным обследованием, становитесь и высказывайте мне ваши мысли по анкете.
Она выкрикнула анкету.
В то время получившие ключи переносили в квартиры вещи. Совчиновник или разжившийся и непьющий рабочий со своей мебелью, рядом с босяком, только что втащил громадное количество скопленных вещей, подобных декорациям, которыми в жизни пользоваться нельзя. Мосдрев, тебе подражает вся Россия, оглянись!..
Мальчишки из подвалов несли щепы, лягушек, ободранных кошек, цыплят и вообще «хозяйство». Сначала, оцепеневшие от грязи и бессонной ночи, квартиранты молчали, но затем началось. На лоджию положили сушить матрац, измоченный мальчонкой, и сама хозяйка пошла за щепой раздувать самовар, и пока она ходила, самовар и матрац исчезли. Она пошла через лоджию, в соседнюю квартиру, и немедленно сцепилась, а там сидела гостья, началась драка, а выяснилось, что с верхней лоджии хулиганы удочкой стащили. Экая чепуха! И в то же время — жизнь.
Сняли самовар и матрац и кинули на пол. Воришки, нахлынувшие уже, тащили самовар. Хозяйка кинулась драться наверх; она била щепой хулиганов и сама норовила выкинуть самовар. С балконов улюлюкали спортсмены. Все искали Зинаиду, и целый день носилась она, и вечером ее взял к себе чай пить Ложечников.
Г. Селестенников встретил Вавилова подле этого, он тоже пришел и сказал, что Зинаида справится сама, он был из тех современных и молодых инженеров, которые довольны, и ему трудно было не быть довольным, он вырос и воспитался в каморке в корпусах, окончил рабфак и учился в Ленинграде. Он был только недоволен отцом, который давно ушел и сбился с истинного пути, работал по хлопку, затем завертелся, охотился, написал даже книги, его признали большим специалистом, он тоже рос в каморках, он был страшно любопытным. Он был ли коммунистом, он сторонился партий, а искал сам для себя какую-то отдельную тропку, жена его все терпела. Сын получился суховатым, но простым. Он пригласил Вавилова посмотреть рабочие силы, актер хвастается, но говорит, что нельзя показывать иностранцам спектакль.
Актер действительно трусил и отказывался, он смотрел испуганно. Вавилов должен сопровождать и смотреть, как иностранные инженеры будут высказываться против рационализации, а Т. Селестенников и сам понимает не меньше, но это его проект пригласить иностранцев, они пусть нашим разъяснят, а затем я им покажу планчик, и посмотрим, насколько мой разнится от ихнего… Вавилов слушал, как он кидает слова, и он нашел третий свой сук, он боится машин, он мучительно завидует людям, которые так ловко ходят среди машин и так действуют здорово, они довольны своей жизнью, и ему что же и о чем говорить, он понял, что его пугало, что машина не любит человека недовольного.
Он, Трифон Селестенников, пылал, и еще отец его смеет упрекать, что он влюбится в какую-то кремлевскую раскрасавицу, и он, конечно, не влюбится, но Вавилову-то не легче, ведь он подкидыш буржуазии, не правда ли?
Подошел архитектор А. Е. Колпинский. Он упарился, но нахвалиться не мог Зинаидой и рабочим классом, который все-таки хвалит и строит свою жизнь. Груша была хороша, она была довольна своим слабоволием и как бы говорила: да, я слаба, но, пожалуйста, не смейтесь надо мной.
Она понравилась Вавилову и поняла это, но она старалась не смотреть на него, сказала: «Да, он ничего», и сердце ее, как и всегда, замерло, и она подумала, что ее опять ждет какое-нибудь безобразие. Так, значит, надо идти обдирать сук. Третий. Вавилов устал. Он не может. Хоть отдохнуть, он пошел домой, и разговоры прервались, и А. Е. Колпинский сказал:
— Обычный утомленный и неуравновешенный тип, помяните мое слово, кончит он пулей в лоб.
Груше его стало жалко, и она простила ему рыжие его волосы.
IV
С. П. Мезенцев зачастил к И. П. Лопте. Он предложил ему — так же, как подкупил плотовщиков оставить и не переносить пристань, и пристань не перенесли, и дело теперь заглохло, — подкупить Вавилова с тем, чтобы агитация за Кремль не удалась. Кроме того, вооружить реставрационную комиссию соответствующими справками, он берется помирить профессора З. Ф. Черепахина с Кремлем, и пусть Е. Дону извинится перед профессоров за нанесенную обиду. Надо мобилизовать общественное мнение Мануфактур, чтобы безобразие не повторилось, и он готов даже выяснить, за какую сумму можно купить Вавилова, причем, если И. П. Лопта согласится распространить слух, что Вавилова подкинули в Воспитательный дом и сама Мургабова может сознаться в своем грехе, и тогда будет все отлично, есть у него в Мануфактурах, сидит в архиве такой симпатичный старичок, сонный, зайти будто покурить и сунуть ему в архивные дела соответствующий документик о том, как и когда поступил в Воспитательный младенец Вавилов, незаконнорожденный и второй владелец Мануфактур.
Он сыпал планами, оглядывался и весь пылал от восторга своих выдумок. Многое, конечно, было брехней, и так ли виноват и так ли ценен, усумнился И. П. Лопта о Вавилове, и С. П. Мезенцев немедленно начал расхваливать организаторские таланты Вавилова. Он уже, действительно, начал ценить его, его только смущало, что просился на переговоры Пицкус, а он не сказал, а сказал, что идет поговорить с соответствующими ткачами на кое-какие темы о пряже и краже. Он ушел в надежде получить сразу некоторую мзду, он видел, что и ростовщик тут, и в связи с печатанием библии деньги есть у общины, да и почему же отремонтировал И. П. Лопта свой каменный дом, в котором раньше, говорят, жить нельзя было, и отдали его ему за ненадобностью, и он в нем теперь как застройщик в собственном доме, на сорок лет право застройки.
И. П. Лопта согласился, так как он пожертвовал собой, и ему нравилось и доставляло огромное удовольствие желание выставлять себя, он хвалился осторожно перед С. П. Мезенцевым, и тот видел, что старикашка и гордый и чванливый, но дело свое ведет очень здорово. С. П. Мезенцев отнесся к нему с уважением и видел, что дело можно сделать, он сказал, что никогда не обижал и никогда своих клиентов не обманывает, но желал бы, так сказать, на предварительные разведки, смету он представит поздней, когда расследует Вавилова и когда нити власти и нити планов захвата церкви Успенья будут у него в руках, И. П. Лопта дал ему три червонца и взял расписку.
С. П. Мезенцев возмутился, что как же в таком деле, совершенно уголовном, надо давать расписку, и тогда И. П. Лопта предложил ему вообще прекратить разговор. (…) Тот стоял на своем, С. П. Мезенцев желал получить деньги, ему хотелось и кутнуть и пойти к Клавдии, он запросил пятьдесят рублей, И. П. Лопта согласился, но только чтоб расписка.
— Пятьдесят пять! — воскликнул С. П. Мезенцев. — И сумма эта последний раз.
И. П. Лопта заартачился и дал только пятьдесят три. С. П. Мезенцев написал расписку, вздохнул, подпись размазал, но И. П. Лопта, с наслаждением любуясь его переживанием, заставил его переписать. И С. П. Мезенцев переписал. Он вышел, оглушенный своим поступком и глупой своей мыслью, которая ему совершенно не нужна и даже противна своим отвратительным любопытством, он не любил любопытных людей. Он пошел, и он боялся, что как бы Пицкус не попытался его найти, он решил обойти по Ужге и если встретит какого рыболова, тот его перевезет на ту сторону. Он шел и был чрезвычайно задумчив, разве тем можно объяснить то, что он, увидав Измаила и милиционера Петрова, шагавшего рядом с ним и разговаривавшего с капитаном Б. Тизенгаузеном, кинулся бежать.
Они отгоняли Измаила, милиционер водил в поводу свою лошадь, после события со срубленной березой ему было поручено время от времени объезжать Ямской луг. Он разговаривал тоскливо с капитаном Тизенгаузеном на немецком языке о Германии, и капитан Тизенгаузен все твердил о своем. Измаил рыскал, разыскивая врага. Увидев бегущего, он счел его нужным остановить, он устремился. Милиционер предупреждал убийство, так как обеззаконить человека и отнять у него пожалованную саблю, хоть он будь и сумасшедший, не считал себя уполномоченным, и соответственно запрошенный центр еще не отвечал.
Милиционер поскакал за ним. Разглядев красную шапку, С. П. Мезенцев совершенно растерялся, ему почему-то подумалось, что И. П. Лопта уже передал в соответствующие инстанции все документы, и он побежал. Тяжело было бежать С. П. Мезенцеву, он берег свое здоровье, все же он бежал.
Он пересек луг, он бежал через овраг, по кустарникам, они преследовали, спутались и не знали, где он, он не мог вернуться в Кремль, так как там видно — луг, он устремился к горам. Он вспомнил, что там озеро с кочками, он вспомнил и понял причину того, что Измаил принимает его за убийцу своего сына, и теперь он понимал, что останавливаться поздно. Он побежал и успел кинуться к камышам, когда выбежал Измаил, размахивавший саблей. Он все-таки побежал за ним.
V
Достоверно наконец стало известно профессору З. Ф. Черепахину, что Лука Селестенников сидит со своими плотовщиками в чайной, разрабатывая и собирая подписи под уставом артели. Профессор, развивший усиленную деятельность, поиссох, изнеможился и потерял всякий облик, так что жена даже испугалась и ходила к доктору, — профессор не любил докторов. Е. Чаев и А. Щеглиха тихо разговаривали, когда профессор стремительно ворвался в чайную «Собеседник» и пошел было к Луке Селестенникову, который весело и как-то обреченно встал ему навстречу, профессор, увидав А. Щеглиху, не имея сил, опустился на грязную табуретку. Он только имел силы сказать:
— Актер… актер Старков посетил, изволите видеть, Мануфактуры!
А. Щеглиха совершенно опешила и смотрела широко раскрытыми глазами. Е. Чаев, чрезвычайно заинтересованный смущением, которое явно скользило в решительных чертах Луки Селестенникова, подошел поближе. Профессор накинулся на Е. Чаева:
— Ваша бездарная, несомненно бездарная, миниатюра ходит по Мануфактурам, и если она попадет в руки актера…
Е. Чаев совершенно ничего не понимал:
— И даже если она попадет в руки Вавилова, не говоря уже о «четыре» думающих», то известно ли вам…
Лука Селестенников прервал его:
— Как же наконец, Зоил Федорович, звали вашего сына?
Профессор З. Ф. Черепахин ответил убиенным голосом:
— Его звали Донат.
Е. Чаев, имевший некоторую память и видевший открытки, которые таскал в руках профессор, спросил:
— Извините, но тут я должен вмешаться, вы его постоянно звали Игнат.
Профессор сказал, совершенно убитый:
— Но теперь я вынужден сознаться, что его звали Донат.
А. Щеглиха была совершенно убита, она переспросила, точно ли она слышала, что Донат, и профессор подтвердил, что точно. Ее мощное тело осело.
Е Чаев забыл, что он должен был посоветоваться, как ему быть с поступком Агафьи по отношению к Афанасу-Царевичу и как же относиться к предложению Гурия о продаже и взятии задатка от сектантов, который они предлагают под печатание Библии, и даже в случае чего — что власть к ним относится снисходительнее, чем к церковникам, — что не передадут ли они дело печатания «первопечатной» Библии в руки их, сектантов. Чаев хотел также похвастаться своим успехом речи в Мануфактурах, и что там дело налажено и, возможно, будет дача или что-либо подобное, место на курорте, натурой, так сказать, — все складывается чрезвычайно сложно, но удачно. Многие в Мануфактурах записались в Религиозно-православное общество, и миниатюра, за которую так обругал его профессор, весьма успешно ходит по рукам в больнице, где лежит Мустафа Буаразов. Он может делать финифть и быть великим художником церкви, многие честолюбивые мечты волновали в тот день Е. Чаева, но его не слушал приглядывавшийся ко всему необычайно внимательно Лука Селестенников. Они стояли трое, и начался даже такой разговор. Профессор сказал:
— Теперь, как известно, вы должны сознаться, Лука Семенович.
Лука Семенович молчал, пытливо вглядываясь в них обоих. А. Щеглиха только имела силы махнуть рукой, что да, мол, говорите, Лука Семенович. Она, мощная женщина, не имела даже сил для разговора, и это больше всего потрясло Е. Чаева, и он устремил свой нюх, но Лука Селестенников пошел уже к выходу, и профессор устремился к нему вместе со стулом, на котором он сидел и с которого он встать не мог, видимо. Он закричал:
— Вот вы опять уходите, и вас не найти!
Лука Селестенников сказал:
— Вам прекрасно известно, Зоил Федорович, что меня можно и довольно легко найти, и вы сами сознательно забываете тот способ, которым меня можно найти очень легко, и когда у вас хватит смелости употребить этот способ, вы встретитесь со мной и откроете меня и спасете, кого вам нужно, и вообще придет то, что и должно было прийти и что должен разрешить актер Ксанфий Лампадович.
А. Щеглиха только махнула на его слова: плотовщики направились за ним, он отстранил Е. Чаева, сказавши, что занят, самоуверенность вновь вернулась на его сухое и пылающее лицо. Афанас-Царевич уходил, и Е. Чаев забыл о нем. Афанас-Царевич нес кружку и ел огрызок грязной морковки. Он пел руками, и А. Щеглиха, которой трудно было быть постоянно в горе, обратила на его плетение внимание и спросила, как она спрашивала его редко, потому что сама была довольна жизнью, и Афанас-Царевич был указом того, что и в таком падении, как у него, он может и быть довольным человеком. И вот почему его любили. А. Щеглиха спросила:
— Чего ты плетешь, Афанас?
Он поднял заскорбевшее лицо, которое быстро приняло восторженное выражение, и ответил:
— Веревочку.
Ему понравилось, и он повторил:
— Или ты не знаешь, что плетешь, Афанас-Царевич? Веревочку.
Он шел и, выходя на дорогу, размахивал кружкой, на которой было написано: «На печатание Библии», повторяя: «Что же ты плетешь, Афанасий? Веревочку». То ли луга перед ним, то ли деревня, то ли Агафья, пославшая его с кружкой, одним словом, она махнула рукой и сказала:
— Иди в деревню!
И повесила ему кружку на шею. Он и пошел.
VI
Е. Бурундук нес несколько сорок, и кузнецы и угольщики, стараясь разогреться, было холодное утро, начали над ним шутить. Е. Бурундук шуток не понимал, хотя иногда и смеялся, когда люди смеялись, то есть раскрывал огромный свой рот и гоготал, пока не говорили: перестань, и он утихал так же мгновенно, как начинал. Они смеялись, что нет дичи, что он начал стрелять сорок и его видели ощипывавшим перья. Они шли за ним, чтобы размяться и пока подручные убирали инструменты.
Он подошел к Ужге и стал кидать в реку перья, и те следили за его занятием задумчиво. Перья подхватывал ветер, и река их тихо несла. Е. Бурундук следил за ними внимательно.
Е. Бурундук сказал, что уже собирается лед и надо есть мед, и он ухмыльнулся своей шутке, потому что весь день думал о меде, и они встали, и собрали по пятаку, чтобы купить меду и бутылку-две водки, и Е. Бурундук зашагал в слободу Ловецкую, где были пасечники, сбиравшие ульи и ставившие, и у него были знакомства и несколько способов собирать мед. Есть и дикий мед, он его найдет, только не свежий, все это сложно.
Он упомянул о кулачных боях и о том, что ему трудно теперь спуститься, так как его прирежут узбеки, и он желал бы подраться, он должен всех переждать и пережить. Он хотел двигаться, и мед был ему предлогом. Он шел и размахивал палкой, а кузнецы и угольщики вернулись к своей работе и стали его ждать.
VII
Агафья одобрила манеру Е. Чаева и только предложила им больше говорить и опираться на то, что в Мануфактурах есть необходимость в жилищах, также и надо инструктировать Мануфактуры, и это может оказать известное давление. Она обратила внимание на Афанаса-Царевича и сказала что безумного напрасно содержать при Соборе, и, передав ему кружку, сказала:
— Иди по деревням и проси на Библию. Понял — на Библию! Полную кружку!
И. П. Мургабова сказала, что не будут же большевики убирать сумасшедшего, хотя бы ему и принадлежали все Мануфактуры. Агафья ответила, что неизвестно, вдруг скажут, зачем вы его держите сейчас; ткачихи, наполненные завистью к людям, готовы на все. И. П. Мургабова сама же старается не ходить на собрания, и тому есть какая-нибудь причина, она даже отклоняется от бога во имя спасения своего тела, мы на тело не должны обращать внимания и должны поступать с ним жестоко.
Торопливо вкатилась в Собор А. Щеглиха, которая сразу же предложила пойти Агафье на Мануфактуры и пленить актера с тем, чтобы он не болтал глупостей, он трепло. Агафья не понимала ее, да и все не понимали, а слушали ее внимательно. А. Щеглиха сказала, что не может стоять и пока продавать свечи, она так расстроена, она думала, приезжает отдохнуть, а теперь что же такое? Господи, церковь не дает ей покоя.
Гурий утешил ее и сказал ей задумчиво, что все мы грешны, но Господь присутствует с нами и прощает нас, надо ему покоряться. А. Щеглиха сказала, что актер будет болтать о Неизвестном Солдате, а все даже не знали, кто это. Она смотрела на них изумленно: они, действительно, не знают о Неизвестном Солдате, и Гурий добавил, что все мы неизвестные солдаты господа бога. А. Щеглиха возмутилась этому разговору чрезвычайно, со всем тем она ждала еще решения.
Все вернулись к вопросу о печатании Библии, все были рады заняться своим довольством и тем, в чем они находили довольство собой и миром: давно уже должна была прийти комиссия для обследования типографии, и уже напечатано двадцать пять листов, добрая четверть Библии, а комиссия все не идет, и вообще неизвестно, когда она будет, и Мануфактурам не до Кремля, они заняты устройством ткачих; все стали рассказывать с презрением о том, как ткачихи въезжали в новые дома, уже передавалось, что произошла огромная драка, были чуть не убитые, и сама Зинаида Колесникова оказалась раненой. Где там комиссии принимать типографию!
Агафья похвалила Е. Чаева и, стоя за ящиком со свечами, сказала, что не лучше ли будет, поскольку он секретарь, то и передать ему казначейские обязанности, он ходил опрятный и пришел с бумажкой, которая подтверждала лишний раз, что Мануфактуры понятия не имеют о работе, производимой церковниками, они отсрочили производство ремонта на небольшой срок, да и действительно, где теперь взять материалы, надо их запасать в течение зимы. Собор еще не садится и великолепно просуществует до зимы, к тому же за зиму, действительно, он, как специалист и будучи теперь связан с артелью, которую организовал Лука Селестенников, он лучше сможет собрать материалы. А. Щеглиха стояла растерянная, пришли ее прислужницы спрашивать что-то по хозяйству.
Шурка Масленникова говорила и посматривала на Е. Чаева, он ходил стройный и красивый. А. Щеглиха ее ущипнула, Агафья это видела, она чувствовала презрение к Еваресту и понимала, что его красота может и прорваться чувственностью, ей хотелось узнать, в чем дело, она подошла ближе к А Щеглихе, и та сразу обрадовалась возможности сводничать и возможности того, что Агафью можно будет уговорить пойти в Мануфактуры, и она сказала, что надо бы следить за парнем, он сегодня девку щипнул, и Агафье это стало неприятно, и А. Щеглиха заметила это и сказала: «Не подумайте, девка у меня не хуже вас, девственница».
Та стояла с подозрительно синими глазами и подозрительно и сладострастно раскачивалась. Агафья ушла, удовлетворенная тем, что она так поглощена богом, что не способна ревновать, и следовательно, как она и предполагала, она ничего не чувствует к Е. Чаеву и держать его на расстоянии будет способна долго.
Несколько плотовщиков вселились в дом, надолго. Домника Григорьевна ставила им чай и ухаживала за ними, постоянно пропадал среди них сухой и резкий Лука Селестенников, и сухой голос его часто разносился по дому. Агафья старалась обо всех думать хорошо, и даже Гурий иногда своей осторожностью и манерой тереть слова возбуждал в ней любовь, но Лука Селестенников, и, особенно, его голос, удивительно раздражал ее.
Она вышла на стену; по реке плыли перья, она выходила каждый вечер, и на закате река приносила перья, они были разных цветов каждый день и иногда очень красивы. Агафья улыбнулась, прошла по стене до Девичьей башни и обратно до церкви Алексеевской и вернулась, среди бойниц трава уже засохла, она вернулась с засохшей травинкой, и все еще раздавался голос Луки Селестенникова, и главное, — никак и никогда не скажет, чего же он желает на земле и во что верует. Верует ли он в Бога? Едва ли.
VIII
С. П. Мезенцев был сластена, когда он, охваченный страхом, полез в камыши от сумасшедшего Измаила Буаразова, он, однако, имел смелость подумать, что конфеты и мед — сахару не было в стране — могут намокнуть, он их поднял высоко в руке. Он влез на островок, но по перешейку уже, по гати, раздался шлепающий топот, и он вынужден был, прыгая по кочкам, слезть с холмика, с которого он увидал теплые Мануфактуры, он сел на пенек, все погрузилось в тишину, и раздался голос Измаила.
С. П. Мезенцева пригревало, но он стучал зубами со страху. Он стал есть конфеты, банка меда отягощала его карман, он ее поставил на пень рядом с собой. Он съел одну конфету, и ему показалось тяжелей, он думал, что сможет с ним разговаривать, но он явно боялся. К липовому меду и конфетам устремились шмели, они жужжали, и вначале это было приятно, но затем быстро надоело, и к тому же Измаил вел совершенно непотребные разговоры. Измаил сказал:
— Я слышу, как он сопит. Я выеду и зарублю его, если бы я не боялся потопить в болоте моего коня.
— Надо поступать по закону.
— Это ли не закон — уничтожать ослепителей моего отца и полуубийц моего сына? Я не знаю, счастье отвернулось от Мануфактур. Может быть, это произошло оттого, что в день приезда… А есть такое поверие, что если в день приезда на новое место произойдет гроза и тогда надо поймать такую молнию, которая бы пересекала все небо, и сказать про счастье: «Вселись в меня». Меня настолько удивило здесь, что Кремль, я стоял и смотрел на Кремль и сказал, перепутав: «Вселись в Кремля». Ах, окаянные. — Он поймал овода, и милиционер сказал, что они даже пытаются сбирать сок с болотных цветов, потому что все кончилось, осень.
Измаил продолжал:
— Я должен поступать по закону своей сабли, милиционер.
Милиционер слез с коня, опутал его по островку. С. П. Мезенцев, пригретый на пне, дремал.
Измаил боялся ходить по кочкам, попробовал, но не осмелился:
— Он проворнее меня, убежит!
— Несомненно, — подтвердил милиционер.
Кочки зыбились. Камыши под водой были как вода. Милиционер, чтобы оттянуть Измаила на другое, сказал:
— Отличный конь, тысячу небось стоит.
— Он человек, а людей теперь запрещено продавать.
Милиционер устал и задремал на солнце, потому-то он и сказал, зевая:
— Известно, кто же продает людей?
— Сам я родился в Туркменистане, на границе Персии, и когда в Персии запруживают реку, чтобы нам мало попало воды.
— Мельников, что ли, там много?
— Дабы перевести воду на свои поля, — иногда жадность овладевает ими, или в горах мало воды, нам грозила опасность остаться совсем без воды и также без хлопка, мы оседлали коней, я был впереди, и побежали в набег, чтобы, так сказать, винтовками указать им смысл, я был еще не просвещен революцией и не уважал международные договоры. У меня был отличный конь. Мы по очереди пасли наше стадо, и я видал, как одна паршивая жеребица ожеребилась и жеребенок перепрыгнул через стадо, и так прыжок через мать он повторил несколько раз.
— Прыткий, — сказал милиционер.
— Я понял, что жеребенок не простой, и поменял на своего коня, сказав, что это в память моего первого набега, — и владелец паршивой кобылы согласился, удивленный достаточно. Жеребенок вырос и совершил много со мной революционных подвигов, он был со мной на империалистической войне, — и однажды в Карпатах я его потерял, в горах.
— Какого полка?
— Сорок второго самаркандского…
— Не приходилось встречать из этого полка. Значит, отважился ради коня от полка отлучиться.
— Я искал его, и ночью в горах я зашел к вдове. И так как все время я думал о коне, то, чтобы развлечься, я стал приставать к вдове, она мне и говорит: «Нехорошие у тебя мысли, что ты от коня идешь спасаться к женщине». Я настаивал и трижды отрекся от коня. Я полез к ней. Она играла моей плеткой. «Я забыла уже заниматься тем, что ты хочешь», — сказала она. Она вынула котел, и я увидел в нем голову своего коня. Она голодала и зарезала моего коня, и страсть так потрясла меня, что я ее не убил, а все-таки полез, и тогда конь из котла сказал ей: «Ударь его плеткой». Она ударила меня плетью и превратила в собаку. Она повесила плеть на потолок за матицу, я прыгал и не мог достать этой плети, она мне бросала остатки своего ужина, и я его ел, хотя мне и было противно, но во мне был собачий инстинкт. Вдове того же хотелось, и она разозлилась, что послушала конскую голову, она била меня палкой. Она была противна чрезвычайно, и я понял, почему она ломалась вечером, ей подольше хотелось почувствовать себя красавицей. В то время в горах появилось много волков. Волки истребляли стада. Я был злобен. Слух о моей злобе проник всюду. Пастухи попросили меня у хозяйки, дабы я был предводителем собак, которых пошлют истреблять волков. Хозяйка мстила мне еще и за то, что, сказав слово «забыла», она, действительно, забыла самое главное наслаждение нашей убогой красками жизни. Я истребил волков, так как чувствовал большое негодование и желал смерти. Волки валялись на поляне, куда мы их загнали. Пастухи пришли и стали спорить, чья собака уничтожила волков, ибо они, как и их собаки, струсили.
— Всегда так…
— Вот в том-то и дело, гражданин! Я поставил волков на ноги, — и тогда собаки пастухов разбежались. Пастухи сказали: «Он». Я пошел вперед. Они направились за мной. Я привел их в дом вдовы и указал им на плеть. Они подали мне плеть, и голова моего коня, валявшаяся у двери, сказала: «Ты много страдал, и тебя надо вознаградить, но я умер, так как, побуждаемый плотью, пошел искать в горы кобылицу, и волки задрали меня, и вдова нашла только мою голову, но она должна быть наказана, так как при ее некрасоте чересчур долго ломалась, отчего и произошли досадные недоразумения. Ударь ее плетью». Я ее ударил. Она превратилась в коня, которого ты видишь перед собой и который зовется «Жаным».
— Превосходно, — сказал милиционер, — но коли конский язык даже в Германии, где я просвещался, еще не известен, то со вдовой ты на каком языке изъяснялся, так как мне известно, что ты не понимаешь?..
— Я объяснялся знаками. — Измаил вскочил, ему показалось, что в камышах захохотали, он потряс саблей и закричал: «Вылазь, падаль, я покажу тебе не верить!» — и он разрубил шмеля на лету.
Измаил переменил разговор:
— Вот агитируют за храм, что же ты думаешь об этом?
— Я думаю, что Вавилов просто ищет хлебного места и не революционер. Что ж, это видно по тону, которым он разговаривает с нами. У меня мысль: не женить ли его на младшей [дочери] Колывана Петрова, он может оказаться работником, я к нему приглядываюсь. Рыхлый очень.
— Я так и знал, что Вавилов — предатель, я почувствовал это еще у Гуся-Богатыря. Не похитить ли мне жену для Мустафы, если уж к Кремлю повернулось счастье, — Агафью из Кремля? Пора уж действовать и жить по твердому закону.
— Зинаида лопнет со своими общественными стремлениями и вернется в наш дом, а мне не попасть в Германию, я забываюсь в работе, в службе, и ничего не выходит. Мы даже будем участвовать в драках, в «стенке», так как хотим приучить Колесникова к себе. Это редкая сила, и нам жалко отдавать ее Мануфактурам. Мы думаем с весны начать корчевать лес, и участок нами уже подсмотрен, и, если приучить Вавилова к корчеванию, у нас большие планы, у нас главное — Ложечников, вот бы нам кого прикарманить, — он человек культурный и великолепно, как я понимаю его, мог бы поставить дело. Около них кружок сведущих людей, которые прикарманили Зинаиду, черт их знает, что они могут выдумать, там можно собрать молодежь, они избегают Вавилова и работают среди своего цеха, в вавиловскую культработу Ложечников не вливается, и это самый показательный факт того, что Вавилов ни черта не стоит.
— Я здесь уже давно, я привык разбирать хороших людей, все у вас инструкции, а вот вам Дом узбека — послали нам узбеки учиться своих сынов, а чему вы научили моего сына? Как только он будет способен выдержать переезд, я положу его на седло на колени к его деду и уведу их под уздцы обратно в Самарканд.
IX
С. П. Мезенцев пригрелся на солнышке, задремал, ему снилось, что он решил утопиться и его радует, что вода в реке отличная, а не тина, как сейчас. Гудение аэроплана разбудило его. Он проснулся. Шмель, осатанелый от жажды меда, носился мимо рук. С. П. Мезенцев схватил его и смотрел на заржавелую воду с росинками, шмель выскальзывал, С. П. Мезенцеву стало скучно, это заняло довольно много времени, и шмель норовил его укусить. Он ему воткнул в зад соломинку, тот взмахнул, метнулся и взвился над камышами. Монотонный голос Измаила прервался, затем раздался хохот, и С. П. Мезенцев услышал развеселый хохот милиционера и голос Измаила:
— Я тебя узнаю — это может сделать только Сережка Мезенцев, и разве ему поднять моего мальчика на вилы, он шмеля только поднять и опозорить может. С. П. Мезенцев, ты там, в камышах?
— Я, — ответил С. П. Мезенцев, несясь, визжа и ругаясь, по кочкам.
Милиционер стоял, хохоча.
— Я узнал тебя еще и потому, что только ты можешь пугаться так погони, и не чувствуя за собой вины.
— Напрасно я не дослушал рассказа, но что же будет дальше и как тебе, если кто и взмахнет плетью?
— Я кобылу свою не бил ни разу!
С. П. Мезенцев приобрел сразу двух друзей. Он шел и рассказывал им о том, что, возможно, Вавилов сын офицера, нам всем в интересах уничтожить его. Мы должны только объединиться. Измаил быстро впал в мрачность свою обычную, он не поддерживал разговора, и С. П. Мезенцев быстро от них отстал, милиционер вспомнил, что они не догнали капитана Тизенгаузена, потому спешить некуда. (…)
Глава восьмая
I
Так С. П. Мезенцев вернул себе утерянную было самоуверенность и довольство. Вавилов пришел усталый, подготовляя митинг, на котором и сам собирался участвовать, второй митинг, он думал, что на первом ему помешали какие-то превосходящие условия, он был свидетелем, как архитектор, шедший с ним рядом и уже пришедший в волнение оттого, что это — левый поступок, — ужасны эти интеллигенты, восхищающиеся всем левым, — взять под клуб церковь, он заглядывал, казалось, всем в глаза, и завтра он будет восхищаться самым гадким, подумал Вавилов, и все-таки не мог отделаться от архитектора, и ему было приятно, что он проводил его и сказал, что Груша ему кланяется, черт его знает, какими он гадостями наслаждается и куда прет.
Они увидели в Мануфактурах в окне универмага, недавно открытого по требованию ткачих, чем архитектор тоже не преминул восхититься, как стоял младший из «пяти-петров», и два брата были с ним. Младшего готовили, видимо, к свадьбе, ему выбирали рубашку. Старший брат хотел попестрее, а младший — поинтеллигентнее, невеста — ей было все равно, она смотрела довольно тупо — деревенская, и взяли ее, как корову, за вымя, вымя у нее действительно было огромное. Очередь и старуха в очереди возмущались, что задерживают, приказчик всячески старался.
— Белые рубашки покупают только мастера, — сказал приказчик.
Они остановились на белой. Они долго выбирали галстук, каждый галстук примеряли, завязывали, продавец становился к зеркалу, накидывал на себя галстук, рубашку. Они совсем было отошли, но продавец, вошедший в раж и, видимо, чрезвычайно уважавший «пять-петров», воскликнул:
— А прибор у вас есть?
Тяжелое недоумение отразилось на лицах их.
— Какой прибор?
Приказчик вытащил запонки. Они примеряли и вынимали.
— А задняя запонка? — всполошился продавец.
Стали выбирать заднюю и выбрали красную. Продавец писал, упаренно вытирая пот, чек, они направились в кассу. Архитектор восхитился:
— Видите, начали с запонки, но красной, обратите внимание, — красной, а кончат красными автомобилями и двухэтажным домком с черепичной красной крышей.
Спор и восхищения С. П. Мезенцева, рассказавшего свое замечательное происшествие со шмелем, отвлекали внимание Вавилова, в клубе было неимоверно холодно по вечерам, ремонт производился зря — высыпали сто одиннадцать пудов песку в подвалы, а ручейки все стремились, и ничего: по подвалам можно было только разъезжать на плоту, начались дожди.
— Как же вы раньше сидели? — спросил Вавилов у сторожа.
— А так и сидели, что в шубах, — ответил тот меланхолически.
— Пришли парни — те, которых Вавилов тщетно желал привлечь в спортивный кружок. Вавилов уговаривал и прельщал их многим; на фабрике процветал только один футбол, и потому что это превратилось в азартную игру. Вавилов не хотел их упрекать и притворился спящим.
Они говорили, что скоро упадет снег, так как есть уже холодные росы и предвидятся заморозки, и они попробовали купаться, но вода дико холодная. С. П. Мезенцев подтвердил, что вода холодна. М. Колесников понимал, зачем они пришли, и ломался. Один из парней сказал:
— Мы тебя ждали семь лет, Милитон, а ты ломаешься.
— Вот покажите, как вы в мое отсутствие научились играть, кроме как на кулачки и футбол, и тогда я пойду драться.
Один из парней сказал:
— Бей в грудь, вот моя новая игра, а затем я тебя ударю, ты думаешь, у нас грудь слаба и на тебе одном поедем. Нам надо начинать.
М. Колесников привстал, но С. П. Мезенцев прервал их:
— Нет, плохая игра, давайте лучше сыграем в двадцать одно.
С. П. Мезенцев сказал, что так как нет ни у кого денег, то будут играть так: вы пойдете за мной целый день и будете отвечать на те вопросы, которые вам будет задавать М. Колесников. Он знал, что никаких вопросов задавать Милитон не может. Он был доволен своей силой и мог спрашивать:
— Отчего это у меня в животе бурчит сегодня и отчего это я такой ленивый?
С. П. Мезенцев рассчитывал их обыграть и так провести по поселку, чтобы вознаградить себя за поражение от Измаила.
Милитон Колесников положил ножницы в карман и так заинтересовался и даже ногтей не остриг.
Они начали играть, все это раздражало Вавилова, но он понимал, что сделать он ничего не может, и бессилие это угнетало его. С. П. Мезенцев сиял, у него были какие-то планы. Вавилов увлекся и стал смотреть на игру, забыв и учение.
Парни начали проигрывать.
С. П. Мезенцев несомненно был шулером, но Вавилов понимал, что ему его не поймать, и С. П. Мезенцев, понимая, что он следит, играл ловко. Карты мелькали у него в руках. Вавилов боялся, что здесь опять будет глупая история, вроде той, которую так удачно распутала Зинаида, а эту он распутает сам. Он привстал.
Он следил за концом игры и за тем, что же придумает С. П. Мезенцев, самый хитрый и ловкий из всех «четырех думающих» и самый ехидный его враг. Он желал также защитить парней. Они покраснели, хорошие парни. Один из них сказал М. Колесникову:
— А мы тут думали, что умер ты, Милитон.
— Умерли мы с ним в один день! — воскликнул С. П. Мезенцев. — Умерли и вспомнили мы с ним, что не побывали на родине, и попросились мы обратно, но бог и говорит: «Как же вас пустить, тогда все покойники попросятся». А я ему и говорю: «Не попросятся». Бог мне и отвечает: «Изобретай такой способ». Вот мы и подковали своих коней подковами, в обратную, чем обычно, сторону и поскакали. Слышат покойнички топот и восклицают: «Так, значит, с этого места выпускают», — и кинулись они к воротам, а там видят: «Нет, это к нам».
Парни были обыграны. М. Колесников встал. Вавилов устремился за ними.
— Работай, пиши, — сказал ему С. П. Мезенцев, — мы твоего счастья разрушать не будем.
Но пока они играли, новая мысль блеснула у Вавилова, и он молча пошел за ними. С. П. Мезенцев, видимо, был сконфужен его присутствием и озадаченно не знал и не исполнял того плана, для которого он приготовлял и обыгрывал парней.
— К Ужге, к Ужге! — закричал С. П. Мезенцев.
М. Колесников послушно шел.
С. П. Мезенцев остановился на берегу и воскликнул:
— А вот, Милитон, не был ты еще с ними в реке и не спрашивал там.
Он сам рассчитывал, зная, что Вавилов боится воды и ненавидит его, но не рассчитывал своего сегодняшнего обстоятельства и того, что он боится воды, и ему действительно трудно было лезть в воду. М. Колесников уже шагнул, новая мысль осенила С. П. Мезенцева, он воскликнул:
— Да ты их спроси, Милитон, насчет ножниц.
М. Колесников вытащил ножницы и, тупо смотря на них, спросил парней:
— Когда мне, ребята, удобно обрезать ногти?
Они ответили со смехом, что когда угодно. Он раскрыл ножницы и стал медленно остригать ногти. Вода была холодная.
С. П. Мезенцев, очевидно, зная отлично все броды, вывел парней и Милитона к родникам.
Они были ниже его ростом значительно и быстро замерзли. Они посинели. Они стояли бодро. Пицкус и П. Лясных заливались смехом. Парни вначале стояли поодиночке, а затем стали смыкаться друг с другом. Лица их приобрели грифельный цвет. Один из них наконец не выдержал и упал. М. Колесников сказал:
— А еще драться при мне хотел!
Он вышел на берег и пошел быстро. Все торопились за ним. Парень упавший и тот опешил. М. Колесников чувствовал себя героем.
Они шли по шоссе. Вавилов тоже шел. Они увидали угольные ямы и избушки, мимо которых он гнал волка. Они пересекли шоссе.
У кузнецов было много работы, так как мужики везли хлеб с возвышенности на мельницу при Мануфактурах и при проезде сделали кузнецам работы. Скрипели телеги. Великаны-кузнецы и угольщики рады были посмеяться. Они смотрели на дорогу.
М. Колесников пришел к ним, потому что рассчитывал встретить здесь Е. Бурундука. Измаил их остановил и сказал, что едет с ними к кузнецам, где, по слухам, как ему сказали мужики, Е. Бурундук покупал в слободе водку и мед для кузнецов. Он всем рассказывает, что сегодня он все-таки добился у сына, кто же его запорол, и тот сказал по секрету, так как не желает это дело выводить на суд, иначе плохо отразится на его карьере. Дымящиеся кучи угольщиков похожи на вулканы. М. Колесников который день искал свою жену Зинаиду, чтобы сказать ей слова, но не заставал. Он желал прославиться. Он шагал быстро. К нему присоединялись. Пар шел от шагавших. Великаны размахивали молотами и кричали:
— Дешево куем, дешево!
Они увидали водку и мед на столе. Измаил спросил, где же принесший мед. Кузнецы сказали, что убежал в лес за странной птицей, удода решил убить, — красивое, видишь ли, оперение. Е. Бурундук сошел с ума. Один из парней, тот, который упал, показал финку и сказал, что если не дадут выпить, плохо будет. Один из великанов пригласил их пить чай. Все было сильно красиво. В избушке-землянке было темно. Великан поставил мед на горн и принес ковш. Он вытащил скамейку.
Вавилов сидел и не пошел пить чай, и ему было странно, что великаны его так уговаривают. Он уставил для гостей скамейку и выплеснул на нее мед, они сели истово, сразу. Великаны хохотали, бежали угольщики, и великан сказал:
— Он мне хотел, видишь ли, финкой грозить.
Они пытались оторваться, но на всех были праздничные штаны. М. Колесников и опрятный С. П. Мезенцев были встревожены. Великаны ушли. Опять загрохотали их молоты. Парни кричали, что кузнецы здорово научились играть, не в пример С. П. Мезенцеву. Они все перессорились. Вавилов взял тот же ковш, набрал в него кипятку и плеснул на лавку. Он некоторых ошпарил, но парни готовы были терпеть, они требовали сразу. Вавилов плеснул, он понял, что ему сразу же лучше убраться, пока на него не успели обидеться. Он убежал. М. Колесников выбежал за ним. Стояли у дверей избушки кузнецы и великаны-угольщики и хохотали. С. П. Мезенцев остановился и сказал:
— Вот я чего не понимаю: почему это советская власть обидела кузнеца и поставила в герб молот, а забыла наковальню и щипцы.
— Потому что наковальня — ерунда, — сказал молотобоец.
— Вот именно, а щипцы? Изобрести молот не беда, вот и дятел владеет молотом, а вот щипцы — это рука.
— Наковальня поддает и звенит, и, кроме того, на ней гнут.
Они начали кричать друг на друга и наконец тот кузнец, который умело так защищал наковальню, сказал:
— Вы лентяи и держите, сказали, меня из жалости.
Они подрались, спор разгорался, они лихо дрались, сверкали развороченные избушки, прибежали угольщики, драка разгоралась, они вступились за родственников.
II
Вавилов решил зайти к рабкорам, чтобы они его поддержали в работе по занятию церкви. Рабкоры ему не понравились, они ребята молодые, но страшно самоуверенные. Они согласились поддержать его кампанию при условии, если и он свою компанию разгонит — они явно намекали на «четырех думающих», — что они сами, будучи не ангелы, — Вавилову всё казалось странным. Ясно, здесь, как и всюду, ему казалась какая-то рука.
Они стали говорить о происхождении какого-то рабочего, который был из кремлевской мелкой буржуазии, и в этом Вавилов рассмотрел намек на то, что он тоже того же происхождения. Они хорошие ребята, и ему зря мерещится его происхождение и все, что связано с этим; но тут дело вовсе не в этом, и это легко можно было опровергнуть.
Он опять чем-то сбился с пути, и, правда, они обещали ему поддержку. Но дело, поскольку оно уже тронуто, появится в стенной газете и в том органе, что переходит уже в уездную газету, и этому придавали много значения, [рабкорам] просто было некогда, они превращались в заправских уездных журналистов, и затем, чем черт не шутит, если пройдет рационализация и удастся поднять производство и выстроить еще пары три фабрик и поднять производство хлопка, то и до губернского или областного центра им тогда недалеко.
Они очень довольны, и вот к этим-то довольным людям, понял Вавилов, ему нет доступа. Он услышал, что раньше его на полчаса сюда приходила Зинаида, которая просила от имени укома и даже обещала написать статью. Вот пишет почти неграмотная ткачиха, и все дело в том, что надо иметь смелость, а он сам, Вавилов, ведает просвещением масс, а статей не пишет.
Парни разговаривали значительно снисходительнее, чем раньше. Зинаида рассказала многие данные, собранные, когда ходила прорабатывать вопрос о церкви в уборные цехов.
Надо приготовить лозунг.
Он стал клеить, и ему не работалось, он вспомнил опять Зинаиду и то, что она всегда успевает и вперед и лучше сделать, чем он, а он, мужчина, умеет только обтачивать сучки, и хуже всего, что ему пришла в голову мысль, что он должен обточить сучок пятый, и обточить немедленно. Он видел военные сны, видел — людям рубят ноги, и они лезут, теперь уже ясно он видел всегда, что рубят им ноги на березах.
Он направился к архитектору А. Е. Колпинскому. Тот горячо обсуждал вопрос о ремонте церкви; у него сидел Трифон Селестенников, который ездил к отцу и хотел бы, чтобы тот поговорил с инженерами-иностранцами о рационализации, а тот устраивает кооперацию с сомнительными плотовщиками, и что у него на уме, понять невозможно. Он устал и прокатился на коне, который принадлежал И. П. Лопте. Что Вавилов так долго не катался, коняшка отличный, хотя и не верховой, у него кровь молодеет.
Вавилов категорически отказался, сказав, что во все время работы он не имел возможности отдохнуть и купил было коня, когда скучал и работал на Мануфактурах, но конь заболел от стояния в конюшне, настолько дело было развито и столько было заседаний. Он вспомнил, как он заступился за «пять-петров»: он молчал.
Архитектор был подвыпивши, Т. Селестенников слушал его внимательно. Вавилов посматривал на Грушу довольно внимательно, и она от него не отворачивалась. Архитектор А. Е. Колпинский подвыпил. Груша после того, как Вавилов придумал историю с церковью, почувствовала к нему внимание, и стала этому чувству поддаваться, и старалась идти по нему скорей до конца. Поэтому она даже не оттолкнула коленку Вавилова, а сама прижалась.
Архитектор А. Е. Колпинский смотрел на все это со странным наслаждением, он и тут пытался восхищаться чем-то. Архитектор спросил у инженера Т. Селестенникова, который отказался в тот день от отца и пытался напиться, он слышал, что это помогает, но это не помогало. Он любил отца, и тот любил его. И так еще не случалось никогда, чтобы отец не пытался объяснить сыну причины и что тут выплыли новые, чрезвычайно тревожные обстоятельства. Он знал, что отец не любит врать и что это, возможно, его и тревожило, но помочь он этому никак не мог, так как был занят по горло. Архитектор слушал [его] восклицания и пил рюмку за рюмкой и, видя, что колени рыжего движутся, сказал: «Поди ты туда же». Тот сказал спокойно:
— Да, да, я вас слушаю.
— Я говорю, что советская власть может с интеллигенцией ошибочку совершить, такую же, какую я совершил с собакой моей Валеткой. Вы слушаете, я, возможно, и восхищаюсь этой ошибочкой, и это идет на пользу кое-кому, но я желал бы предупредить, да, предупредить, но не пресечь.
— Какая же ошибочка? — спросил Вавилов.
— Очень простая. Шел я этим летом в жару, — день был невероятно жаркий, — устал я дьявольски, вижу, холмик некий, на нем бревно полугнилое, и капает с него по капельке вода вниз. Сучочек такой, и капает себе и капает. Была со мной дорожная кружка, подставляю я ее под это капанье и жду. Собака, — чудесный был понтерок, — стоит смирно и наблюдает, как капает эта самая вода. А в небе ни облачка, и жара как в котельной. Но когда воды набралась полная кружка и я хотел взять ее, подходит моя Валетка, и что вы думаете: носом выбивает из рук моих кружку. Выбила и отошла, а вода, естественно, пролилась. Отошла Валетка и легла. Подставил я кружку второй раз, — и второй раз та же история. Ставлю третий, но от жары я мог ждать только, полкружки пока накаплет. И что же думаете? Она пролила у меня и эти полкружки. Возмутился я страшно. Я взял палку, отогнал Валетку и поставил кружку. Стоя, наблюдаю с напряженнейшим вниманием, как капают капли. Слышу, шипит, возможно, что от жары у меня начались галлюцинации или что-то такое, что даже утка всколыхнула где-то крылом. Я отвел глаза от кружки, привстал осмотреться, и в это время пес третий раз опрокинул мою кружку. Я сознаю, таких охотников надо судить. Я поднял ружье и застрелил собаку.
— Свинство! — воскликнула Груша, но восклицание это относилось к тому, что Вавилов прижал крепко ее ногу.
— Понимаю, свинство!
— Я не вижу аллегории между советской властью, то есть вами, видимо, и собакой, то есть интеллигенцией.
— Очень просто почему. Вы, Трифон Лукич, не прослушали конца моего события, а не аллегория, это истинное событие было-с. Поднимаюсь я на холм, куда, по-видимому, Валетка убегал, я же не мог подняться от и усталости и изнеможения, — а там на бревне три гадюки лежат. И вода через их тела сочится. В кружку ко мне капал яд. Вы понимаете, яд.
— И опять не понимаю, что это за яд капает в советскую кружку.
— Яд самоанализа, которым заражена интеллигенция, которая не верит ничему, и потому от нее не убережешься, она страшнее наших купцов и аристократов, которые погибли, потому что умели находить везде довольство, а эта интеллигенция, проскользнув, ко всему прилипнет и во всем начинает сомневаться: ах, возможна ли пролетарская культура? Невозможна или возможна, и сидит такой очкастый червь и, придумав формулы, следит, чтобы по ним исполнялась пролетарская культура, и яд самоанализа капает, и они ищут там, где и помину нету. Сидит такой профессоришко и придумывает пролетарской культуре свои формулы, академики, черт вас дери. Собака — это и есть та собака, которая и должна спасать от яда, она и спасает, и рачительный хозяин ее бьет и убивает, но самое главное-то то, что вода-то капала по нижней части ствола и сия собака, которая предупреждала о яде, не знала, и профессора ущемляют в уклоне, он и сдохнет на своей ошибке. Но страдает от яда этой интеллигенции техника и та часть, которой прививают так называемые левые фронты, я сам начинен левым фронтом и не знаю, как от него освободиться, мне сунуться некуда, формулы профессоров, их яд собачий, я сожрал, и вот постоянно следим друг за другом.
Он был здорово пьян. Т. Селестенников следил за ним внимательно.
— Нашими женщинами, мы за ними следим, питаются рабочие, ибо их женщины слабы, и нам надо терпеть от наших женщин и ради них всевозможные унижения. Мы и терпим. Мы их пустили вместо Клавдий по сорок пять рублей, а тут и честь, и бесплатно.
Т. Селестенников смотрел на него с омерзением. Он сказал жене его Груше:
— Вы тоже с нами пойдете прогуляться?
А. Е. Колпинский спал или притворялся спящим, он крикнул ему вслед:
— Но я восхищаюсь, я, не забудьте, восхищаюсь героической смертью собаки.
Груша сказала, надевая шубку:
— Это было бы страшно, если б была правда, но Валетка сдох от старости.
Т. Селестенников, выйдя на улицу, сказал:
— Ну, а мне направо, прощайте.
И сказал Вавилову:
— Я рад, что вас встретил тут, видите ли, инженеры будут, так вы обязательно должны видеть их и все осмотреть вместе с ними.
Вавилов вспомнил, что он боится машин, треска их и воя, и сук ему надо очищать тот, который связан для него с машинами. Селестенников распрощался. Груша сразу сказала, что холодно и что жаль, что у них нет отдельной комнаты, где бы они могли встречаться.
Вавилов привел ее в клуб, сонный сторож не удивился почему-то, а даже заулыбался. Вавилов провел ее в комнату, где спортсмены собирались столь неудачно и инструктора даже не могли найти, а учил их красноармеец, тот, который учил на стрельбище.
Он понял, что привел с злорадством именно в ту комнату, близ которой возвышалась дамба. Она начала твердить, что не надо делать больно, и почему, и кто ей последний причинил боль, но Вавилов не понимал. Она подчинялась и легла на скамейку. Она соскальзывала и просила все:
— Вы осторожней, осторожней, муж боится детей.
Все это было чрезвычайно омерзительно в конце концов. Вавилов проводил ее, и сторож, запирая дверь, сказал:
— На чаек бы от вас.
Вавилов со стыдом дал ему полтинник. Она стояла, готовая на все. Черт знает, какая мерзость! Зачем?
Он встретил Клавдию. Она пила воду и наблюдала с любопытством, что из того получится. Она шутила, что все было ошибкой и что она напрасно ходила в Кремль и напрасно думала найти что-то особенное. Она ко всему миру приглядывалась чрезвычайно внимательно, как будто ей надо еще жить какую-то особенную, кроме этой, жизнь. Она расспрашивала обо всем подробно и подробно все помнила.
Она сказала, что девка испытана ею и, действительно, может быть, святая, очень чудно. Вавилов спросил: ходит ли она в церковь. Она сказали пренебрежительно, что черт с ними, с церквами, ей надо жизнь, но какую жизнь — она и сама не знала. Он видел, что ей надоело смертельно ходить и пить воду, но она ходит, потому что слово дала.
III
И. П. Лопта был огорчен тем обстоятельством, что увидал, как пришел из деревень Афанас-Царевич с кружкой, а дело происходило в соборе. Агафья смотрела, как блаженный сдавал кружку, она подошла к нему, он мешал ей в чем-то, и пятаки считать было трудно; она сказала, что надо было не медных денег, а серебряных, дурак. Он надоел ей зловонным дыханием своим и стремлением наклониться поближе. Разве он виноват? Нет, он не виноват.
И вправе И. П. Лопта огорчаться. Афанас-Царевич исхудал, он огорчен, он с трудом осиливал свою мысль о подвиге, и едва только ее понял, он ушел, потеряв все свое восхищение миром, и наблюдать это было тяжело. О его подвиге и о том, как он ходил босой и оборванный под осенними дождями и слякотью по лесам и оврагам, не разбирая дороги, — говорили все деревни. И знала ли такие разговоры Агафья? Знала.
Второе то, что как будто не волновало его и что он старался забыть, — но утром к его постели села его жена Домника Григорьевна, и он категорически отказался разделять с ней ложе, она и присела-то не для того, но он опасался ее требований давно, и он опасался потому, что тело его само больше требовало, чем ее тело, и он рад был придраться. Она так и не провела того разговора, который хотела, он же накричал на нее, что жертвует всем ради Библии и Бога, и еще совершит большие жертвы, но пусть она не пристает к нему!
И. П. Лопта давно уже привык, — когда его охватывала злость — уходил рыбачить. Поплавок плавает, куда ему далеко уплыть. Рыбка его спрашивает: куда ты плывешь, поплавок? Он вспомнил песенку Афанаса-Царевича: «Что ты плетешь? Веревочку».
Роща одним концом уходила в горы, а другим упиралась в конец луга, посреди нее было озеро, покрытое камышами, с маленьким островком. Одним концом оно упиралось в заводь, где некогда была мельница, принадлежавшая отцу П. Ходиева, она давно разрушена и сожжена фабричными во время голода.
Остался один омут. Заводь как бы замыкала рабочий поселок, были тут следы лав, но их всегда размывало, и люди искали броду. В рощу ходило всегда много народу гулять, и от дамбы выезжали лодки, и перевозчики на этом зарабатывали, перевозя барышень, а кавалеры шли пешком вброд.
В роще постоянно валялись бутылки. Теперь, из-за холодной воды и темного, пасмурного неба с постоянными дождями, надо было думать, что рабочие не распугают рыбу и можно было поудить, река Ужга была рыболовна, много было в ней плотвы. Он старался утешить себя: теперь отдохнет, так как все хозяйство в доме забрал Е. Чаев, и не надо ему заботиться. Не надо! Надо бы, пора бы тебе заботиться, И. П. Лопта, о будущей жизни, и он старался сидением за рыбкой как-то соединить свои мысли.
Часто сюда приходил Л. Ложечников, в одни годы он был судьей, но затем отошел от дел и опять появился на противоположном берегу. По холодному воздуху легче говорить, они иногда обменивались словами, и тот всегда сидел, довольный жизнью и своими поступками, а И. П. Лопта, сколько бы ни помнил себя, все на что-то негодовал, он рассчитывал, что и после суда, а не на суде, увидишь мерзости человеческие, Л. Ложечников придет хмурый, но он пришел восторженный.
И. П. Лопта сидел молча всегда, а затем начинал подсмеиваться. Л. Ложечников раздражал его. Он спросил:
— Знакомец, через свое общество получил бамбуковое удилище, — дали за то, что церковь поручили безбожникам отнять?
— Выдали, как же, они добрые, — ласково улыбаясь одним глазом, а другим хитря, сказал Л. Ложечников. Они давно знали истинные имена друг друга, но притворялись, что не знают.
— Помнишь, знакомец, лет пятнадцать назад, сидели мы здесь и проходил мимо епископ, вечная ему память, и благословил нас, и рыба не шла, а он благословил, и рыба пошла. А вот с того времени и рыба-то не клюет, разве что поймаешь две-три за весь улов.
— Да, наловили тогда много.
— Вот видишь.
— Сознаюсь, что много наловили. Скрывался у меня тогда ссыльный один, и не было чего нам есть, я пошел, половлю, думаю, рыбки, авось ушицей угощу. Наловил, накормил ссыльного, а он теперь председатель в одном из центров союза безбожников и весьма активно мощи уничтожал. Он набрался сил и побежал дальше. Выходит, что святитель о безбожнике заботился.
— Святитель все живущее способен благословить, а вот ты не благословишь, ты ведь, кажись, и добрый, а не благословишь.
— Не благословлю, знакомец. Ты меня судом думал поймать, я там видел, что и в суде человек свое право защищает, тоже в восторг пришел.
И. П. Лопта пришел в ярость. По лугу, — он сидел на пригорочке, — ему было видно, как выехал Измаил, он привстал на стременах, рыская смерти. Он оглядывался. Ярость, которой он мучился и от которой, думал, освободился, вновь овладела им. И. П. Лопта посмотрел: сверху, среди сосен, шел, размахивая веревкой, высоко по гребню холма, Афанас-Царевич. И. П. Лопта понял, почему рыскает по лугу азиатец, искавший смертей, он бросил удилище и воскликнул:
— Больше я с тобой, Ложечников, судья неправедный, рыбачить не буду.
Тот посмотрел на него с восхищением и ответил:
— Старый, а крепкий какой, как вскочил! Мне бы так, право слово, не вскочить. Сильно сдали мы на войнах, Иван Петрович.
IV
И. П. Лопта устремился к Афанасу-Царевичу. Лицо его небритое не узнало его. Оно было торжественно, и И. П. Лопта пропустил его мимо себя, окрикнул, но он не слышал. Его брили бесплатно религиозные парикмахеры в Кремле, и теперь он потерял всякое восхищение миром и был просто усталый тридцатипятилетний человек, которому надоело и тяжело было нести вериги, тяжелые цепи, на теле. Он повторил:
— Что же ты плетешь, Афанасий? Веревочку.
Она была расплетена несколько раз и промаслена. И. П. Лопта не считал возможным ему мешать. Афанас-Царевич искал на уровне поднятых рук такой сучок, на которой мог бы накинуть петлю. Сучья были гладкие и приспособленные, но как он только подходил к деревьям, они вскидывались кверху, и он не мог до них достать, они убирали свои сучья. С радостью смотрел на это И. П. Лопта и потому не спешил с его спасением. Благость овладела им, гордость исчезла, он способен был наблюдать чудо. Как будто он жил для того дня и для того часа, чтобы видеть это.
И. П. Лопта бросил удилище. Оно поплыло. Л. Ложечников тоже смотрел с восторгом. Пришла его племянница, показала книгу, которую она взяла читать. Он одобрил ее, восхитился, сколько ума и добра существует на свете. Она сидела рядом.
Стало тепло, подходили фабричные, и он любезно указал брод, и все с ним любезно раскланивались. Он был человеком словно с другой планеты. Он восхищался всем. Восхитился, глядя на чахоточное дитя, он нашел, что у него отличный рот, восхищался невестами рабочих, он был ото всего в восторге. Ему трудно было сидеть на месте, он нарвал травы, чтобы скрыть волнение, пробежал по лугу. И тогда только сел и успокоился.
Он похвалил жизнь и похлопал племянницу по плечу, осведомился, каков был обед, не перепрел ли, он находился в отпуске, он сам готовил, она сказала, что нет, он сказал, что время тяжелое — готовят клуб и надо будет наблюдать и сесть для этого в столовую. Она спросила его о Вавилове. Он задумался.
И. П. Лопта способен наблюдать чудо. Афанас-Царевич старался обмануть деревья, он наклонял голову, им, видимо, было трудно держать так сучья взметенными, они их опускали, но едва он к ним оборачивался, они все мгновенно взметывались вверх. Афанас-Царевич любовался этой игрой, любовался ей и И. П. Лопта. Афанас-Царевич шел, и деревья выпрямлялись перед ним. «Да, азиатец, — воскликнул И. П. Лопта, — где же жало твое, где смерть!» Он шел просветленный и радостный, он нашел себя и свое довольство, и ему сделан знак с неба. Афанас-Царевич вскидывал ветви и поднимался на цыпочки, чтобы их достать; они прыгали.
Он бежал, в теле его виделась необычайная легкость. И. П. Лопта увидал овраг с крутыми склонами, и по нему стремился осенний ручей. И. П. Лопта не предвидел осины. Афанас-Царевич остановился на краю оврага, и осина блистала своими влажными с пушистой подкладкой листьями, необычайно желтыми, ехидными и мертвыми, она упала, ни один сук не мог бы выдержать его тела, и сучья ее тоже, наверное, поднялись бы кверху, но она легла поперек оврага, Афанас-Царевич кинулся на нее, закинул петлю.
И. П. Лопта тоже кинулся за ним, но поскользнулся и упал в овраг. Когда он встал, осина закрывала от него небо, и большое тело трепетало и билось среди желтых и осыпающихся листьев. И. П. Лопта стал карабкаться по склону. Он слышал топот коня и свист проносящегося мимо Измаила-азиатца, который рыскает и чует смерть, но он упал и покатился по оврагу. Он ослаб. Он наконец вскарабкался. Ему важно было, чтобы над телом Афанаса-Царевича не надругался азиатец. Он прошел по осине.
Он поднял с трудом тело и грыз веревку, так как с ним ничего не было, кроме банки с червями, он высыпал червей и перепилил консервной банкой веревку. Тело тяжело рухнуло в овраг. Он прыгнул за ним. Он лежал среди червей, ползавших по нему.
Измаил носился по лесу, и весь лес наполнен был его голосом. Лопта послушал сердце Афанаса, оно не билось. Он стал рыть пальцами легкую и сырую землю, и количество червей прибавилось еще больше. Он не хотел, чтобы тело было обнаружено Измаилом, он не хотел, чтобы Агафья копала ему могилу и хоронила.
Он не даст. Он услышал голоса рабочих. Возглас:
— Сабанеев с медведями, начиналось, стало быть, гулянье!
Он заплакал. Лопухи раздвинулись. Раздались крики разбегавшихся рабочих. Хорошо бы ему иметь лапы медведя и его силу. Показался огромный медведь с перевязанной мордой и с цепью на шее. Крики погонщиков и улюлюканье мальчишек слышались за ним. Медведь, гремя цепью, стал работать. Он греб быстро, И. П. Лопта пытался было помогать ему, но скоро отстал. Медведь раскидывал землю, цепь мешала ему, он ее мотал, и И. П. Лопта стал держать ему цепь. Он уже слышал голос Измаила:
— Умри, последний русский дурак, последний счастливый обыватель, умри, твои братья и сестры ослепили моего отца, месть моя пройдет по тебе, и счастлив ты, что нет у тебя потомства и что Агафья отказалась поцеловать твой гноящийся рот!
И. П. Лопта очнулся, холм был сготовлен, он кончил работу, медведь исчез в лопухах, и он закидал могилу листьями лопухов и вышел из оврага, чтобы подъехавший Измаил не догадался, он сделал непристойный жест и оправился. Измаил смотрел на сломленную осину, на ее желтые листья, сыплющиеся в овраг, как водопад-листопад. Конь его настороженно смотрел, поводя твердыми и крошечными ушами.
V
Клавдия тоже пришла в лес. Измаил повернулся. Ему хотелось перед тем, как его примут у сына, похвастаться портретом Агафьи. Она сказала, что идет к кузнецам искать бойцов. Она выбирала кого получше. Ей стало скучно. Вавилов раздражал ее, она искала человека, он был однообразен, его не слушали.
Измаил увидал, что Клавдия идет по тропинке, осторожно и весело, с любопытством смотря на рощу. Она стояла около коня, он видел ее груди, от которых, казалось, шел пар, и игла с сосны упала на них. Измаил (…) показал ей берестянку, у сына ее украли, он очень горюет, Е. Чаев быстро ему накидал [новую]. Он сказал:
— Игла упала.
И она ответила величественно:
— Пусть ее.
Эта величественность поразила больше всего Измаила. Он сидел с трудом. Мокрый повод скользнул у него из рук.
— Коня отдам за иглу! — воскликнул он.
Она спокойно сказала:
— Когда твой сын оправится достаточно для того, то спроси его, не отдал ли он уже твоего коня Еваресту Чаеву за тот быстро накиданный портрет Агафьи, не есть ли второй знак того и то, что он у тебя не взял денег?
— Нет, не взял, — ошалело сказал Измаил. — Так вот. Сын мой не может продать коня, невозможно.
— И, кроме того, ты обещал думать только об одном, чтобы мстить за отца, а о чем же думаешь ты, думаешь ли ты о народе!
— Разве мой народ без меня не обойдется и не обойдется ли мой отец? Я сейчас думаю о том, что ты хорошо умеешь делать, и о том, что ты отказала сделать со мной в Карпатах.
— Разве мы там с тобой встречались? Ко мне много приходило. Карпаты — это столовая.
— Карпаты — это война.
— Женщины твоей родины ничего не стоят, видно, если ты на войне, думаешь, встречал меня.
— Карпаты — это империалистическая война, женщина, и женщины моей родины действительно ничего не стоят.
Он сильно возжелал. Она взяла его шашку:
— Грязная, плюнь и вытри, я ее хочу приложить к щеке и узнать, остра ли.
Он плюнул. Она взяла шашку в руки:
— Я буду играть, пока ты слазишь с коня.
Он соскочил быстро:
— Скажи, как быстро, значит, тебе не мешает сильное твое желание.
Она добавила:
— Я не рассчитывала, что так быстро, и любопытство еще не разгорелось во мне. Отдай мне подаренную тебе миниатюру.
Он отдал. Она посмотрела на осину, пошевелилась и кинула ему миниатюру.
— Застегнись, старый дурак, и опомнись!
Она ударила саблей коня. Конь отпрыгнул и понесся.
Она побежала:
— Афанас-Царевич повесился, ребята!
Измаил просрочил и не пошел к сыну на свидание. Он стоял на крупе коня, которого он держал в поводу и ловил так долго, потому что коня никогда не били, и он был оскорблен. Застывал иней. Медленно на его глазах покрывалась им заводь и остатки мельницы, печь, долго стоявшая, которую в этом году разобрали «пять-петров», какие-то гнилые шесты. Затем на реке начал появляться легкий ледок, конь переступал и старался согреться. Измаил все не имел сил встать и пойти. Конь его ржал, он ступал отуманенный, конь его трогал в плечо. Он смотрел на лед.
На фоне гор показались огни Мануфактур. Он увидал лесные склады, цистерны, было тихо, и медленно из-за цистерны вылез дракон о семи головах. Измаил не удивился ему, он ждал его, и он знал, как надо поговорить с драконом.
Дракон шел, пощипывая траву, он ступал неслышно, как верблюд по песку. Шерсть на нем была серая, казавшаяся дымчатой, так чтобы сливаться с туманом, головы его имели хитрое и веселое выражение, когда он подошел ближе. Он раздвигал кустарники, ростом он оказался меньше, чем вначале думал Измаил: выше коня раза в три-четыре. Стал падать снег, дракон мотал головами, отрясая снег и щурясь, он обошел и сел на пригорочке, подогнув пять голов под крылья, покрытые мягкими перьями, он был весь мягкий, и только клыки упирались в нос и язык путался среди них Он задремал и, поворачивая головы из стороны в сторону, совершенно намеренно не обращал внимания на Измаила. Измаил закричал:
— Кто же это тот, совершивший все семь смертных грехов, так что ты, Магнат-Хай, веселый дракон, решился вылезти? Хай его, хай, дракон, Магнат!
— Мне, собственно, Измаил, неоткуда было вылазить, я давно хожу. Я начал ходить еще с империалистической войны, и всё продолжаю сейчас, и доложу тебе, что после того, как люди уничтожили последних моих богов, данных им, я понял, что совершил ошибку, дав им богов.
— Так я тебе и поверил, ты слишком весел для того, чтобы говорить правду.
— Ну, честное слово, давно. Да вот возьмем, скажем, сегодняшний случай: ты предал родину, отказавшись от нее и от женщин ее, ты предал сына, отдав его подарок.
— Но сын же обещал украсть моего коня.
— Обещал, но не украл. Дальше, ты изменил ради девки, которая из любопытства променяла задачи своего класса на проституцию. Ты плюнул на свою саблю, подаренную тебе многими полками, которыми ты имел честь командовать.
— А если я никем не командовал?
— Тоже лежит на твоей совести. Одним словом, дорогой мой, я сплю.
Сон, что ли? Он слышит голос:
— Роща, позади залива, там у меня в песке нора, и мне ее рыть довольно долго до рассвета. И, кроме того, ты должен был сказать слово над последним из умерших аристократов и буржуев Мануфактур, ты прозевал. Ты воин, ты бегаешь за портретами девок и продаешь своего коня, не зная сам, что делаешь! Их!
— Нет, это ты мне подсунул духа, и я убежал от вас, и таким образом, вы вылезли мстить мне. Девка — это некий подосланный вами дух.
Дракон Магнат-Хай высунул все семь голов и закурил каждой по папироске. Все головы блаженно закрыли глаза. Курили они отличный табак. Измаил пошарил в карманах, табака не было, он выронил его, когда неловко слезал с коня.
— Уходи! — воскликнул Измаил. — Стыдно с тобой спорить.
— Зачем же? — ответил дракон. — Мне этот мир понравился. Я люблю пиво, воблу и сосиски с капустой, люблю кино с идеологическими картинами, люблю цирк… Художественный театр… ревю…
Падал снег.
Измаил взмахнул саблей и понесся сквозь снег на дракона. Дракон был готов к сражению, но снег помогал Измаилу, он удачно орудовал саблей. Дракон сначала хохотал и пробовал уговорить Измаила, но затем вырвал дерево и стал размахивать. Чем он больше махал, тем ему становилось трудней, так как со снегом вместе он поднимал и пыль.
Измаил отрубил ему голову, другую…
Дракону мало выгоды быть такому широкоплечему, и он влез в речку. В заводь одна за другой падали головы. Заводь кипела. Измаил кричал:
— В твою голову набьются раки, и мы ее вытащим, когда она уже разложится!
Он прыгал, и конь его прыгал выше деревьев, и ему было легко.
Наконец дракон вздохнул и сказал:
— Я извиняюсь перед вами, Измаил. Конечно, шутки мои были неуместны И вы вправе обладать дерзостью большей, чем напостовцы. Ты не можешь бороться за революцию, но предупреждаю тебя, что при самом благоприятном случае я вылезу. Что же касается срубленных голов, то это даже удобно, меньше табака потребуется, а то сам знаешь, какой табак сейчас отвратительный вырабатывают, не додерживают, с пылью. Всего вам доброго, и еще раз извините за беспокойство.
Он нырнул, посыпался песок, он зарывался в землю, там он не мог зарыться — торфяное болото.
Затянуло льдом заводь. Лед поколебался последний раз. Дракон вздохнул, засыпая, и чему-то весело, во сне, рассмеялся!
— Я желал уничтожить телесную силу Клавдии, а затем захватить Агафью. Она открыла бы мне, в чем сила Кремля, как спасти моего сына, — услышал сам себя Измаил.
VI
— Варварство, варварство! — кричал Вавилов, но все-таки пошел на первую стенку.
Он пошел один и отлично поступил, так как когда шел, то услышал разговор, что нашли труп Афанаса-Царевича, последнего владельца Мануфактур. Его хоронила сама Агафья и вырыла ему яму. Он повесился на осине.
Вавилов понял, что ему не с пути вешаться и что едва ли он теперь пойдет к березе. Образ блаженного преследовал его. Он вспомнил, что может еще покончить с собой револьвером, возвращенным ему О. Пинкусом.
Утро было морозное, и не хотелось думать о смерти. Кора соскабливалась с трудом… Общее собрание удалось, и рабочие голосовали за передачу храма Успенья под клуб. Церковники, говорят, собирали какие-то подписи.
Все это он услышал на лугу, перед заводью, затянутой молодым льдом. Там показывали медведей и шел разговор, что произойдет стенка. Опасались, что придет милиция и что П. Ходиев, которого хотели подготовить кремлевцы, не придет.
Ходил по заводи кругом М. Колесников, хвастался, что вот он приехал возобновить стенку, а никто не хочет.
Вавилов смотрел на все это с холма.
Собрались все парни, которые были у него в спортивном кружке. Он-то думал, что народу соберется мало! Странное волнение владело им. Он боялся того, что знал по войне, — он боялся и трепетал крови.
При виде крови и первого удара у него болезненно защемило сердце, и он ослабел. Он чувствовал, что не мог ничего сделать, и даже то, что общее собрание рабочих, где он осмелился выступить и сказал бессвязно несколько слов, приводя какие-то никчемные доводы, — все это повело к тому, что он все-таки не преодолел себя.
Когда вышли плотовщики, и он увидел высокую фигуру Л. Селестенникова, и плотовщики пошли, и пошел П. Ходиев и Н. Новгродцев, он узнавал их по возгласам мальчишек, и мальчишки не так, как прежде, начинали драки, а народ сразу озверел, и все кричали. Тряслись по холоду! И у Вавилова не было сил воскликнуть о варварстве даже и тогда, когда П. Ходиев поразил великана М. Колесникова, и тот упал, и кровью его окрасился истоптанный снег, и извозчик С. Гулич вез его в больницу, и за ним устремился архитектор, к которому Вавилов не подходил, и архитектор побежал в больницу и обмывал и всячески ухаживал за Колесниковым и «трое думающих» были смущены и задумчивы, все это не поразило Вавилова.
М. Колесников лежал, стиснув зубы и со сжатыми кулаками все еще в приемном покое, и надо было его отвезти, но С. Гулич уже распряг коня, и видно было, что им не хочется переносить его гнев на себя, и они опасались его.
VII
Хоронили Афанаса-Царевича тайком от И. П. Лопты, ему сильно не здоровилось. Он бормотал что-то и о том, что он сам его похоронил, и не хотел верить тому, что говорили при нем. Агафья сама обмыла и сама убрала в гроб Афанаса-Царевича. И. П. Мургабова плакала сухими глазами, она готовилась к смерти, которую, как ей сказали, несет актер. Л. Селестенников грубым и сухим своим голосом пытался ее утешить, пытливо всматриваясь в нее.
В Кремле уже знали об общем постановлении рабочих по поводу храма Успенья. Все понимали, что какие-либо меры бессильны.
Гурий чистил конюшню, пришел Е. Чаев, одетый в теплую одежду Гурия. Е. Чаев сообщил, что плотовщики объединены, и теперь есть от них некоторая защита и благословение церкви, и что если они пойдут подраться за святой Кремль с Мануфактурами, то это только соединит их на деле веры.
Гурий молчал и ковырял вилами навоз. Он понимал, что косвенно Е. Чаев пришел за советами. Он слегка растерян захватом храма Успенья, хотя печатанье библии уже идет к тридцати листам. Скоро установят две смены наборщиков, которые не успевают спускать [набор] в машины. Неплохи, если и мнихи-наборщики подерутся, ненависть к Мануфактурам должно быть подогреваема.
Гурий понимал, Чаев хочет, чтобы он уговорил мнихов подраться, Он понимал, что Е. Чаеву лестно будет покрасоваться и быть некоторым образом не только водителем духовных, но и телесных чад церкви. Гурий почтительно, но крепко отказался.
Агафья ходила крепкая и опрятная, она не пошла на кулачный бой и была недовольная, что пошел Е. Чаев. Беспокойство овладело ею. Она осмотрела все. Она искренно плакала об Афанасе-Царевиче.
И. П. Лопта смотрел на нее хмуро, хотя и старался выражать покорность. Еварест и на самом деле мечтает об епископстве! Лука Селестенников оправился, но скрывается от профессора, который несколько раз пытался пройти даже в Мануфактуры, — но дойдет до столба, изрешеченном пулями, и вернется!
Надо бы профессору ехать в Москву или Ленинград в Институт искусств, кафедра его ждет. Даже и А. Щеглиха выражала беспокойство и передавала какой-то артели свою чайную, предлагала даже церкви. Лука Селестенников сказал ей строго:
— Ой, не пущу тебя, мать, не удерешь.
Она и села.
VIII
П. Ходиев и Н. Новгродцев были вместе в кавалерии на фронте. Они были друзьями. П. Ходиев видел, что народ уже стал забывать войну, появилось хулиганство, драки, он всеми силами скрывал свою силу, он хотел тихо жить с женой своей Ольгой, она любила пышность и требовала, чтобы он поступил в церковь, он и поступил. Он был горяч и боялся выдержать стенку, Достаточно было одного слова, чтобы превратить его в бойца. Он жил шитьем хомутов, а Н. Новгродцев поставлял ему кожу, стоял в очередях.
Н. Новгродцев поехал за сеном для коня общественного, который обслуживал общину. Они работали в очередь. Сено застряло в грязи. П. Ходиев выпряг коня, втащил сани на холм и еще раз просил никому не говорить о [его] силе. Где здесь была правда — неизвестно!
Новгродцев проболтался. Ему показалось, что Агафья относится несколько благосклонно к П. Ходиеву. П. Ходиев спросил:
— Не измените ли вы мне и не предадите ли вы меня, если я буду драться с Колесниковым, который больно хвастается женой и прочим, и вообще ревнует?
Они поклялись. П. Ходиев смотрел со злобой на своего родственника и ждал, чтобы пришел Е. Бурундук. Но перья его прекратились. Река замерзла. П. Ходиев смотрел, как Колесников хвастался на базаре, что он приехал на коне Измаила, и Ходиев шел рядом и сказал:
— Разве можно ездить на таком коне?
Толкнул его и чуть не задавил шагавшего с конем рядом С. П. Мезенцева.
И вот они встали друг против друга, М. Колесников обошел вдоль всей кремлевской толпы и ударил первого — П. Ходиева.
— Я тебе покажу, на каком коне ездить к чужим женам!
Ходиев опешил и упал, но вскочил. Спортсмены и футболисты дрались обширно и крепко.
Е. Чаев красовался в поддевке, очень манерный и красивый. Выглянуло солнце. Драка разгорелась еще быстрей. Измаил поддакивал и кричал:
— А где же у вас Ефим Бурундук? Дайте нам Ефима!
Колесников ударил. П. Ходиев чувствовал, что в нем нет уверенности, и упал. М. Колесников стал бить лежачего. Подбежал Е. Чаев и стал поднимать — «не так бьетесь», — и он положил П. Ходиеву в руку что-то твердое.
[П. Ходиев] ударил М. Колесникова, тот изумленно открыл глаза и рухнул со сжатыми кулаками. Мануфактуристы побежали. М. Колесников лежал неподвижно. С. Гулич подал ему коня.
IX
П. Ходиев понимал, что сразил М. Колесникова подло, но был доволен, как встретила его жена Ольга, которая его редко хвалила и мало на него надеялась и все ставила ему в пример М. Колесникова, отважного родственника — они были троюродные братья.
П. Ходиев разозлился, и злость в нем не утихала. Он торопил Н. Новгородцева ехать за хворостом в лес. Н. Новгродцев тоже не желал упускать ему Агафьи, его она попросила. И тут же стоял и слушал П. Ходиев, который тоже согласился ехать для церкви и ради церкви, хотя и спешная работа у него, но раз необходимо, и он поедет.
Н. Новгродцев был веселый и задорный парень. Он любил подзуживать, а П. Ходиев был мрачноват.
Они ехали, и Н. Новгродцев постоянно перегонял, он дразнил, лошаденка у П. Ходиева была неважная.
П. Ходиев думал, что ему пора бежать из Кремля и что мануфактуристы теперь не простят ему поражения своего Колесникова, и больше всего его поражало то, что он поступил плохо.
Затем П. Ходиев стал рубить, и хотя он был сильнее, но Новгродцев взял ловкостью. П. Ходиев стал рассказывать о войне и как полк его устоял на польском фронте, а полк, в котором служил Н. Новгродцев, бежал. Н. Новгродцев стал спорить, и П. Ходиев сказал, подходя к нему сзади с топором:
— А ты вот скажи, раз ты больше моего знаешь стратегию и тактику: как считается в армии — лучше рубить или колоть?
Н. Новгродцев устал, но он ответил:
— Трус колет.
П. Ходиев точил огромный кол, и он сказал:
— Заточи и ты кол, Никита, не будем трусами.
Н. Новгродцев струсил и стал отговаривать. Тот точил топором, он наклонился, чтобы подобрать брошенный кол, и, когда он наклонил голову, кровь ударила в голову П. Ходиева, он не стерпел и ударил в плечо Н. Новгродцева. Тот упал и, сжимая плечо, смотрел в небо. П. Ходиев понял, что поступил инстинктивно, словно ждал того момента, (…) но злость его против Никиты, который толкнул его на драку, не проходила, и он подошел к нему:
— Плачешь, брат? Умирать не хочется? Агафью боишься бросить?
Н. Новгродцев, зажимая рану, сказал:
— Я плачу не о том, что бросаю Агафью, а о том, что ты обманул меня. Люди подумают, что я сам себя зарубил.
П. Ходиев вернулся в дом. Одна его жена и Агафья знали, что он ездил с Н. Новгродцевым по дрова.
Н. Новгродцева привезли с разрубленным плечом, и по всему было видно, что парень заработался и топор соскользнул. Милиция опросила, съездила на место происшествия, снег повалил, все замерзло.
П. Ходиев гнал коня, ему было стыдно, он мчался в метель. Он прибежал к Агафье, она сказала сурово:
— Ради библии и собора приходится нам молчать и нести испытания, иди.
X
Тело Н. Новгродцева лежало в горнице. Плотовщики рыли ему могилу. Могила была рядом с могилой Афанаса-Царевича. Агафья устала, и ей было трудно сдерживаться. Гурий читал псалтырь над телом. Горели свечи. Они вышла на Кремлевскую стену. Шел лед по Волге. Ужга была занесена крепко.
Она знала, что общее собрание, назначенное на завтра, после похорон Н. Новгродцева сильно напугается и даже вздумает переизбрать правление общины. Никто не думает, но Лука Селестенников хитро улыбается. Или ей чудится? Страх владел ею.
Она торопилась печатать, но не хватало денег, и опять Гурий повторил свое предложение о блоке с баптистами, и опять община отвергла его уже после обширных доводов Агафьи, которая понимала, что призови баптистов — это значит, что в общину вольется контроль: баптисты — люди практичные, а не изуверы.
Да, тропки ее разбились, и плохо она держит свое обещание о вырывании жала у смерти, и недаром Гурий не намекает об этом, но он знает. Она будет печатать библию.
На крыльце разговаривал народ. Форточки были открыты, и сквозь незамазанные окна доносился высокий и торжественный голос Гурия.
Еварест Чаев имел с ней после заседания продолжительный разговор, глаза у него стали масленые, он округлился и был страшно самоуверен.
Он вилял и не то соглашался, и не то спорил, как ему быть. Он страшно занят в артели на заседаниях вместо умершего секретаря и казначея Н. Новгродцева. Лука Селестенников выдвигает его, так как сам Лука куда-то сбирается.
Ее встревожило сообщение об отъезде Луки еще потому, что Еварест Чаев стал отменно ласков и внимателен, погладил волос выбившийся и мгновенно отдернул руку. Она поняла, что значит это поглаживание и что пока она еще не нашла никакого способа, чтобы его к себе привязать. Затем он выразил желание стать по возможности скорей епископом, разозлился и стал кричать.
Он подбежал к ней, размахивая руками, как бы нацеливался в ее голову, она взяла со стола ножницы и смотрела на него спокойно, он успокоился и стал хвастать тем, что он побеждает и что помимо Шурки Масленниковой на него заглядываются еще и Даша Селестенникова и Маша, сестра «пяти-петров». Он приглаживал волосы.
Льдины похожи на перья. Надо бы послать за Е. Бурундуком, так как нет свидетелей ранения Мустафы, а тот, узнав, что Агафья по-прежнему одна, отказался от первых своих показаний и сказал, что был выпивши и, должно быть, сам напоролся на вилы, вот почему так поспешно и сделал и повторил ее портрет Е. Чаев.
Баня покрыта снегом. Она опустила тяжелую сахарницу так, что сахарница раскололась, и сказала:
— Подбери сахар.
И когда он наклонился, она ударила его ботинком в лицо. Он встал, щека у него горела. Он сказал:
— Извиняюсь.
И стало для нее несомненным, что она должна с ним сойтись.
XI
Агафья говорила со стены. Она знала, что ее слушают. Она заплакала.
— Вставай, Агафьюшка, пойдем! — сказала Домника Григорьевна.
— Заботилась о вас, и не подняться мне, Домника Григорьевна, с белой снежной лавочки, как не увидать нам Никиту Новгродцева. Не встать мне, Домника Григорьевна, на резвые ноженьки, на сапоги мои любимые, московские, на строченые каблучки и на гвоздики в каблучках златоустовские, нет у нас и Афанаса-Царевича. Не встать мне на бумажные мои чулки, не подойти мне к печке и не спросить, кто огню вздувателем и для каких путей приготовлена еда, — умер наш Хлобыстай-Нетокаевский… Не подойти мне к лампе и не спросить: кто керосину был зажигателем? И лампе, и печи, и керосину строго приказано молчать, Домника Григорьевна! Подойду я к старухам, которых я защищала и кормила у собора и на площади; старух моих клеветники обкормили пирогами, опоили квасом. И подруги не защищают меня; любовники их чаем опоили и кренделями окормили. И спрашивает меня из неизвестной могилы моя неизвестная мамонька: «Всех ли ты собрала, Агафья, на собрание, прежде чем православным и прежде чем деятелям библии отчаиваться?» И поднялась луна — волжское солнышко, и обращаюсь я к ней: «Я собрала всех на думу и согласилась пожертвовать всем. Я возвысилась, моя мамонька, я шла и не испугалась. Я, во имя бога и своего бедного и убогого тела, не побоялась, не побоялась ни жен законных, ни сестер, ни матерей. Ты скажи мне, братец, волжское солнышко, про чужую сторонушку, так ли там трусят, и так ли там смелы Агафьюшки, и такая ли у них дума — вековая болезнь о боге? Не вместе ли вы, православные, которые теперь от меня отступают, не вместе ли приходили в поздний вечер на всенощную в собор, не вместе ли по иконам ставили свечи, и не вместе ли поднимали трудные работы, и не поднял бы работы Никита Новгродцев? И вспоминаете ли и будете ли вспоминать, плотовщики, как мы ничего не побоялись и ничего не устрашились во имя бога? У веселых гуляний, березы, меня охватите. Кололи меня, мамонька, когда я выгоняла коров и когда тихо зажигала ночь. Тополь, под которым я купалась, споет мне: «Не ходить тебе больше, Агафьюшка, поймала тебя на чужой стороне сила звериная, выдержка у тебя не лошадиная и скачки у тебя не серого зайца, не поворачиваться тебе, как горностаю, не верим мы тебе, на лавках надо сидеть смирно и в окна не подглядывать, когда мимо идут, — приготовлены тебе высокие кресты и дубовые гробы в тесных могилах…»
Стоит недвижно пароход «Полярное сияние». Агафью охватил трепет. Народ сбегался. Ее спустили под руки. Многие старухи плакали. Она билась. И. П. Лопта вышел из своей каморки и поклонился ей смирно.
XII
Вавилов был огорчен своим поражением и тем, что он так боится крови. Он ходил из угла в угол и повторял раздраженно: «Рыжий». Тощее зеркальце отражало его искаженное лицо.
Он удивлялся силе М. Колесникова, и была мысль, что теперь, после поражения, ему лучше всего уехать, «четверо думающих» будут на нем отыгрываться.
Он видел, как шел и прокладывал себе дорогу огромный и розовый Колесников и как валились кремлевцы.
Он открыл дверь, он думал, что пришли уже «четверо думающих», и он не мог выработать плана защиты, он мог только содрогаться от крови и от своей мысли и оттого, что он должен написать все своему будущему заместителю. Ему странно не хотелось отдавать свою работу, к тому же он знал, что его заместитель не станет читать его записки.
Баба в платке вошла к нему. Она раскутала платок и сказала:
— Закрой дверь. Подумают — пришла хахалица, а мне и так трудно было к тебе прийти.
П. Ходиев снял платок. Он сказал:
— Видишь ли, я, как бывший кавалерист, должен сознаться, что поступил неправильно. Но моя жизненка вообще не удалась. Не сразу на ту тропу свернул, как-то подумал, что и отдохнуть можно, а тут баба, а там и пристрастился, что ли, я, как к меду, к бабам, и пошло, и всю жизнь поковеркало, да и вот теперь пришел конец мне.
— Но ведь ты его не убил?
— А это неважно, я тебе говорю, что конец. И я рад, что ты никого не любишь. В наше время беда как вредно, совершенно вредно любить, — сказал он убежденно и сам улыбнулся унылости своих слов. Он был очень белобрыс, и кофта шла к нему, только странные молодые усы.
— С Колесниковым отвадились, — сказал он. — Пойдем к нему быстро.
Они шли по дороге, и М. Колесников все еще лежал, и вокруг суетился один Пицкус. П. Ходиев пошел и взял щипцы и сказал:
— Нажми-ка на руку.
С. П. Мезенцев сказал, что позовет милицию, тот погрозил ему кулаком. Рука Колесникова была разжата. Он лежал. Он нашел пятак, да еще подточенный и склеенный для игры в орлянку на месте боя. П. Ходиев завязанный вышел на улицу. Вавилов боялся этих людей, как силачей, — а они, оказывается, просто жулики.
П. Ходиев, должно быть, понимая его мысли, сказал, что это часто бывает, что люди, пока не разодрались, то себе, для смелости, пятаки берут, вот жалко, что он не захватил в свидетели кремлевцев, было бы лучше, и разбили бы на следующее воскресенье наверняка.
— Все это так вредно, бросьте, зачем и кому нужны эти драки? Это глупо и, вдобавок, бесчеловечно, — сказал Вавилов и сам понял, что сказал нравоучительно, что так можно писать в книжках, а в таком деле так не говорят.
П. Ходиев улыбнулся и понял его. Он сказал:
— Смешно и мне, а приходится вот женино платье надевать, но от драки мне теперь где отойти, теперь я пойду. У нас в Кремле болтают, что воспитывался ты в Воспитательном доме, но будто сын генерала, и с крестиком бриллиантовым на шее туда попал, и будто Лопта тебя таким видал, но мне все равно, и Ленин был дворянин, дело не в этом, а в том, что ты стал важен и опасен для Кремля, и кто знает… если бы знали, что ты идешь или иду я к тебе, не поручили ли бы мне тебя хлопнуть, или, если ты на стенке был, то невзначай будто бы забежал к зрителям, потеснили нас, и стукнули тебя, вот ты бы церковь-то Успенья не отнимал.
— Рабочие отнимают.
— Сам знаю.
Он был огорчен, он ушел.
Вавилов пришел к архитектору, тот открыл ему дверь, пьяный, и сказал:
— Занят, извините, рандеву или как там, но, в общем, жена моя, если интересуетесь, так она на время побыть уехала к тетке в Ярославль или в Нижний.
Он горел от восторга и был небрежен. Вавилов подумал: хвастается и придирается к возможности намекнуть на недобросовестное его, Вавилова, поведение. Он был отчасти даже доволен, что Груша уехала.
Она приходила к нему, думая, что делает ему добро, а он ей? Это непонимание или, вернее, неподыскание смелости и слов раздражало их, и он говорил с ней грубо, то есть так, как многие.
XIII
Архитектор не хвастался: к нему пришла Зинаида. Как это случилось? Отдаленным поводом, если к этому можно подыскать поводы, было лестно, что такой красивый человек, с изящной бородой, им восхищаются многие на строительстве, он читает книги. И затем она была молода. Ее растрогал М. Колесников, она видела, как его везли в больницу с окровавленным лицом на извозчике и голова у него болталась.
«Пять-петров» тоже по первому снегу торопились строить и рубить дом, дешевле было подвозить по снегу лес. Она поговорила с Колываном. Он ее возвращаться не упрашивал, но усиленно рассказывал, что и как они строят и как будут женить младшего из «пяти-петров», какая ему заказана из какого материала тройка, и какое пальто, и на каком меху, с каким воротником.
Тоже ее волновал и Вавилов. Она выступала на митинге и очень устала за последние дни. Она зашла к Л. Ложечникову в корпус, где он жил, и ее немного покоробило, что он восхищался тем, что она неплохо и много работает, и она подумала, что он с таким же восхищением и довольством может присутствовать на ее похоронах! Он считает, что жертвы необходимы, и он сам собою жертвовал неоднократно — у него контузия в плечо и левая рука плохо слушается.
Племянница [Лизавета Овечкина] готовилась к урокам, она читала и упрямо смотрела в пол, она несколько сторонилась так называемой общественной деятельности, и Л. Ложечников не настаивал на этом. Он верил. У него огромный запас веры, и Зинаиде казалось, что запас этот превышает ее, и ей было приятно, она ушла успокоенная, но ненадолго.
Был свободный вечер. Она пошла в кино одна, подруг не было, надо было читать бумаги, и слегка шумело в голове от утренних разговоров, от вчерашнего митинга на дворе, где ей впервые пришлось выступать перед огромной толпой и говорить о церковниках и боге, то есть о том, о чем она меньше всего думала и что меньше всего умела ненавидеть, так как у них, в доме «пяти-петров», к религии относились спокойно. Но она посмотрела на толпу, почувствовала негодование. Она смотрела на недовольное лицо ткачихи, которая была религиозна, и бранила власть, и рассказывала всяческие ужасы про безбожников. Она смеялась и старалась ее убедить. Ткачиха ушла.
Архитектор встретил ее на улице. Он ее пригласил, хотел было сказать, что жена уехала, но не сказал, она просто, даже как будто не думая, повернула в переулок и пошла с ним. Он рад был, что купил вина и печенья сразу же, как уехала жена, после проводов ее на вокзале. Он даже и не готовился встречать гостей, но думал, что надо ознаменовать.
Он болтал без умолку, налил вина. Зинаида выпила и смотрела на все спокойно и как бы ждала. Он восхищался и много говорил, ее не раздражало. Он положил ей руку на колено. Она вяло улыбнулась. В квартире было тепло, и ей было приятно думать, что все-таки надо добиться, чтобы у каждого, кто работает, были такие опрятные и веселые квартиры. Он ее тискал и гладил шею и упрашивал, но она подумала, что не все ли равно, раз ему хочется.
Он с неудовольствием поймал себя на том, что у нее грубое белье, отличные ноги: и что ему стало восторженно, что это первый дебют с фабричной и какой фабричной! Она встала недовольная, у нее на глазах были слезы, и она сказала полупрезрительно:
— Оправьтесь.
Она сразу же почувствовала, что зря, здесь-то и позвонил Вавилов, и она сказала:
— Ну, я пошла.
Архитектор чувствовал усталость и легкое опьянение и довольство собой, что он так здорово может устраиваться, всегда брать влево. Он спросил:
— Когда же увидимся?
Она сказала:
— Увидимся.
Она ушла, и ей хотелось даже, чтобы ее встретил выходивший Вавилов. Она вышла на улицу, оглянулась, и никого не было. Она на другой день все забыла. Она посмотрела на архитектора с удивлением, когда он попробовал было на другой день пожать ей руку, — и ему стало обидно и было обидно долго. Он чувствовал смущение, и она даже как будто не скрывала, она раз на заседании комиссии сказала:
— Вот такая, как у вас, квартира, всем бы рабочим такие!
XIV
П. Ходиев — жена его ушла к подруге — окончил работу, мучился и ждал конца и понимал, что на этом остановиться невозможно. Он не мог дольше ждать, пошел в дом И. П. Лопты.
Старуха Домника Григорьевна перебирала, посыпая травой, Агафьино белье, и П. Ходиеву было стыдно, что он, такой отличный мастер, стоит и ждет, когда девка его позовет.
Домника Григорьевна сказала, что они ушли на собрание в чайную к плотовщикам. Она говорила пренебрежительно. Он, чтобы досадить, стал выспрашивать про Вавилова и про то, зачем этот воспитанник Воспитательного был у вас. Она его не помнит ли. Она пренебрежительно сказала, что помнит слабо, но подкинут он был даже с «бриллиантовым» крестиком на шее, то есть то, что уже П. Ходиев слышал неоднократно. Она стояла, наклонившись, и его брала злость, что его хотят тоже угробить. Она стояла у знаменитого дедовского сундука, и он подошел и сказал, что стыдно ей на старости врать, она разозлилась и крикнула, чтобы он шел своей дорогой.
Тогда он подошел к сундуку, отпустил крышку и сказал беспощадно:
— Говори, как перед крестом: богатый был подкидыш или бедный? Тисну слегка, а подумают люди: крышка упала.
Она прохрипела испуганно и гордо молчала. Он медленно стал опускать крышку. Она задрыгала ногами, гордая ее порода — и он смотрел с негодованием на рваные ее ботинки. Наконец она прохрипела:
— Да бедный же, тебе говорят, бедный.
Он откинул крышку, она опустилась на пол, бледная и схватившись обеими руками за шею. Он ушел.
Он застал, как они стояли у чайной и ждали плотовщиков. Тут же стоял привязанный к сосне медведь, и А. Сабанеев нежно ворочался подле него. Пицкус тут же крутился, и П. Ходиев понял, что он уже донес, и ему стало не страшно, а то понял, что он обречен. Он почувствовал, что теперь уже не выбраться из этого омута. Они ждали чего-то и говорили тихо.
Гурий стоял с папкой корректур. Плотовщики не шли. По шоссе было плохо видно. Они боялись, как бы и их не соблазнили Мануфактуры. Л. Селестенников гордо говорил, что не соблазнят.
Жена Ходиева постоянно занималась сравнениями, она выспрашивала и сравнивала. И он подумал, что она и его с кем-нибудь может сравнить, Он был рад, и она была рада, что он побил М. Колесникова.
П. Ходиев сбросил полушубок и сказал А. Сабанееву:
— Давай посмотрим, не идут ли плотовщики и кто на сосну скорей влезет.
Он явно хотел покрасоваться перед Агафьей, и А. Сабанеев не имел сил, он посмотрел, как тот ловко лезет. Агафья смотрела хмуро и гордо, она почти не смотрела на Е. Чаева, который к ней прилизывался, и на Гурия, который принес на собрание Религиозно-православного общества новые доводы по поводу блока с баптистами и утверждал, что они на Мануфактурах имеют успех, успех их ширится, и это никому не известно. Это действительно поразило всех. «Пять-петров» — знаменитые баптисты и прочие тоже… А. Сабанеев сказал:
— Ты здорово дерешься, но лазишь не так.
Он отпустил медведя, и медведь полез на соседнюю сосну. Медведь был рад побаловаться, он откидывал ветви, и все стали смотреть на медведя и на П. Ходиева не смотрели, медведь лез все выше и выше, и Е. Чаев просил Сабанеева, чтобы тот его забрал, а Сабанеев, чувствуя себя героем, не соглашался. Медведь быстро обогнал П. Ходиева, и тот отстал и, забыв посмотреть, идут ли плотовщики, слез. Его взяла за рукав Агафья, отвела и сторону и сказала:
— Надо тебе посильней драться, да смотри, лучше как-нибудь уйди из общины или перейди в Мануфактуры.
Он спросил: что ж ему, умирать переходить в Мануфактуры?
Она молчит о его посещении Мануфактур, и это значит — конец. Она выдаст его тихо.
Она сказала спокойно, указывая на старуху:
— Вот видишь, пришла и спрашивает, что с И. П. Лоптой и не влюбился ли он в меня? Я думаю, не влюбился и по-прежнему ревнует к церкви.
— Кровавое печатание библии должно продолжаться?
— Да, должно.
Гурий подошел и спросил, удачно ли идет у нее борьба и ловля смертей и кто намечен дальше, и она сказала, что только что спасла от смерти человека и она довольна, с людьми надо ласково обращаться.
Они почти приучили О. Пицкуса, он ходил и ушел. Она сказала, глядя вслед О. Пицкусу, что вот душа легкая, вот хорошо, он восхищается только ногами.
Гурий сказал, что Е. Чаев страстно желает епископства, но не знает, как к этому приступить, и что дева должна хранить свою девственность.
Она посмотрела вслед уходящим П. Ходиеву и О. Пицкусу и сказала, что это и без того ясно, и как странно, что она тоже о том думала, (…) она еще будет успешнее бороться против того, чтобы не жить с Е. Чаевым.
XV
Вавилов получил ключи: из церкви выселили попа. Сама Зинаида передала ключи и от квартиры попа, куда поселили служащих клуба, и открывшейся столовой и заведующего кухней. Она дала комнату самую большую — Вавилову. После того, как пожила с архитектором, ее отношение к Вавилову стало ровней. Он стоял, держа в руках ключи, и спрашивал:
— Что же, целую комнату мне? А как же «четверо думающих»?
Ей стало неприятно, что упомянул про Колесникова, который оправился и готов был возобновить свои битвы и ходил, хвастаясь, что угробит П. Ходиева и всех остальных. Хулиганство развелось. Она умолчала, что в комиссии Совета настоял на даче ему комнаты Л. Ложечников, который вошел в комиссию по столовой и которому предлагали уйти из каморки и который предложил и привел доводы, чтобы дали Вавилову, который все-таки кое-что сделал и которого пока убирать нечего, а как подыщем подходящего заведующего — вот и будет постоянная комната при клубе. Вавилов стоял и говорил:
— Вот и не знаю, как быть с «четырьмя думающими», я один в комнате не умею.
Зинаида похвалила. Ей было приятно сделать добро, и она сказала, что в комнате все удобно, есть прямо дверь в ванную, и был там у попа кабинет, так как приход был богатый и купцы строили церковь со всеми удобствами, что и квартиру сбоку.
Он сказал еще более смущенно:
— Конечно, все это странно и смешно, но я ни разу не был в ванной и вообще даже и у моря был, но купаться не любил.
Он с ней желал поговорить, но она ушла, и ему стало грустно.
Пришел Т. Селестенников и сказал, что Вавилов должен сопровождать инженеров-иностранцев, и пришло то, чего боялся Вавилов, но чем он был потрясен больше, чем тем, что он ожидал от митинга и чего он боялся, он понимал, что третий сук — это боязнь машин, и ему надо б его оголить, но он боится. Он почувствовал энтузиазм, тот, который ему давался трудно.
Иностранцы-инженеры пришли, и надо было сменить много станков. Они шли и осторожно все осматривали.
Вавилов перед тем решил взять к себе только одного П. Лясных и предложил ему туда переехать, и тот согласился с восторгом, и в каморке, таким образом, остались О. Пицкус и М. Колесников. Они убрались потихоньку и оставили им только записку.
П. Лясных пришел в совершенный восторг оттого, что есть ванная, он сказал:
— Ты сопроводи их, иностранцев, а сам приходи ровно через час.
Вавилов шел со странным чувством. Он теперь понимал, почему он боялся. Он завидовал ловкости, все крутилось бешено, и рабочие работали, как заведенные машины, хлопок и машины крутились, и банканброши были, словно идет метель и крутит поземка, а иностранцы шли тихо.
Шум и гам. Вавилов чувствовал, что ему надо подтянуться, он и шел такой подтянутый, как вся фабрика. Он чувствовал себя убежденным, как и все тоже убежденными, что совершают правое дело и что так и надо поступать, как он поступил. Другой рабочий, значительно легче и ловчей, чем он, распаковал тюки и бросал хлопок.
Иностранцы хотели осмотреть сейчас бегло для того, чтобы потом приступить к детальному осмотру и тогда консультировать. Они были трое молодых и один пожилой, пожилой был много раз в России, но он плохо владел русским языком.
Он осторожно спросил о хозяевах, но все они смотрели в сторону, и переводчица перевела «блаженный» как «медиум», а так как все четверо необычайно увлекались спиритизмом, то им хотелось посмотреть, и они сказали, что можно ли посмотреть сеанс. [Переводчица] не знала, как тут поступать, что спиритизм разрешен или нет, и все на фабрике недоумевали, к тому же и директор и все остальные впервые слышали слово «спиритизм».
Иностранцы все были чистенькие, то есть такие, какими они кажутся и России, совершенно ненужные. Это все равно что одеть бы их в болоте или в море в воротнички. Особенно многих поражали короткие штаны, и Вавилов подумал, что и при Алексее Михайловиче было не лучше.
Они выразили желание осмотреть Кремль и все прочее и там нельзя ли посмотреть Афанаса-Царевича? Им сказали, что он недавно умер, и они поняли так, что его от них скрывают, и они решили, что им хорошо бы задержаться и переночевать в Кремле. Профессор Черепахин должен был их сопровождать и Вавилов давать разъяснения по культурно-просветительной деятельности.
Все были чрезвычайно переполошены тем, что они давали отчет иностранным пролетариям, как и каким образом у нас строят социализм. Иностранцы обошли все и сказали, что на таких станках могут работать только герои и что тут нужны не инженеры, а полководцы, но тем не менее рационализировать и указать, какие и где надо заменить станки, они согласились.
Их кормили стерлядями и икрой, которую они кушали с заметным удовольствием, и вообще деньги любили и выразили к деньгам большой интерес. Они спрашивали о деньгах и о мистике, они спрашивали о баптизме. Милиционер из «пяти-петров» сопровождал их и объяснял все «на религиозной почве».
Они выразили искреннее презрение, и стало стыдно, что перед такой сволочью люди подтягиваются. Они жалкие и на родине пресмыкались, а тут чувствовали себя героями, и все, даже гнусные портсигары их и плохой табак, хвалили инженеры фабрики! Тьфу! «Ну, подождите, мы вам еще покажем!» — подумал Вавилов.
XVI
Вавилов понял, что он шкурник и пустяковый человек, который даже не имеет сил написать, чтобы приняли его отставку. Он решил прийти домой, прекратить обдирать сучья и попытаться еще раз, если выйдет, стать таким же ловким, как и те рабочие, которые были там. Он вспомнил, уже подходя к корпусу, что переехал и что М. Колесников и О. Пицкус могут встретить его не особенно ласково.
У противоположного корпуса впервые за все время встретил Зинаиду. Она ласково ему улыбнулась и спросила, что он, не переехал разве?
Он поспешил домой и вспомнил, что П. Лясных просил его прийти скорее. Он увидел большую светлую комнату, мешали только несколько березы клуба, и он подумал, что надо бы посоветовать срубить сучья.
В комнате сидел встревоженный актер. Он сразу спросил:
— Что иностранцы, об К. Л. Старкове не справлялись?
Голос его показался Вавилову странным, и он подумал: как это он не обращал на актера внимания, насколько же он захудалый и седой какой-то линяющей сединой. Ему стало жалко его. Вошел П. Лясных и сказал, что вода давно кипит.
— Поскольку постольку ты хозяин, то вот тебе полотенце, я уже напустил воду.
Вавилов услышал шипение воды. Актер смотрел испуганно в пол. Вавилов потянулся к воде, к ванной. Она была светла, широка и лучше, пожалуй, комнаты. Вавилов огляделся с удивлением и сказал:
— Как в музее, право.
Он пощупал воду ногой и спросил П. Лясных:
— Садиться, что ли?
Тот, как и во всех делах, касающихся воды, сказал покровительственно и оживленно:
— Садись.
Вавилов стоял с полотенцем в руках и сказал:
— Стыдно сказать, но в Воспитательном доме мамка меня, что ли, топила, но у меня страх всю жизнь перед водой, ты помнишь, как я на стену от того страха полез?
Актер показался в дверях, он ничего не видел и сказал:
— Лезьте, что вы стоите, а я пока вам скажу и должен исполнить завет Неизвестного Солдата.
— То есть, собственно, что же это за Неизвестный Солдат? — спросил Вавилов, боязливо опуская в ванну одну ногу.
Он вдруг быстро сел, так что на актера брызнуло, и сказал:
— Прямо должен сознаться, отлично, оказывается, черт возьми! — Он поворачивался с боку на бок, намыливая голову: — Так вот, что ж такое Неизвестный Солдат, вот мне все твердите, а я так занят, что некогда было и подумать, ну-с?
Актер сказал:
— Вот вы руководите культурно-просветительной деятельностью сорокатысячного города, первый раз лезете в ванну и не знаете, что такое Неизвестный Солдат.
Вавилов мыл голову:
— Стыдно сознаться, но с превращением церкви в клуб и прочее я уже недели две не просматривал центральных газет: опять наши что-нибудь выдумали?
Он сказал, потягиваясь:
— Ей-богу, хорошо! Вы вот мне скажите, что по совести ванна у рабочего и теплая и горячая вода утром и вечером!..
Актер сказал:
— Я вам говорю: приехали за мной. Они гонятся за мной, и его высокопревосходительство Пьер-Жозеф Дону приказал им.
Вавилов сказал:
— Войдите в нашу комнату и обратите внимание, сколько света у попа было, а я сейчас оденусь и выйду, и я вас прошу сегодня же рассказать, в чем дело, и про вашего Неизвестного Солдата тоже.
Он с неудовольствием посмотрел на свое рыжее тело, он оглянулся на воду. Он не чувствовал того страха, который владел им раньше, когда он подходил к воде. Он победил воду, то есть то, что не записано и ради чего не оглодана кора на семи суках, на одиннадцати суках. На всех суках. Он с трудом всегда отводил глаза от воды, с таким трудом, что его начинала сжимать тошнота, а он стоял и смотрел и вдруг бежал. А теперь он чувствовал себя легко. Он вспомнил, что приехал к морю и вынужден был уехать, так его манила вода. Вавилов с удовольствием обтерся, покряхтел, а когда он вышел, актер сказал:
— Иностранцы приходят только к победителям. Уверяю вас, Вавилов, и спрашивается: во имя личного возвышения должен я предавать друзей или не должен, иностранцы побуждают меня на возвышение, и я предлагаю вам, Вавилов, поскольку вы слабы и беспомощны, перейти со мной в Кремль, я вам благодарен, вы один поняли причину моего бегства.
XVII
Инженеры осмотрели с холодным любопытством все древности, и профессор Черепахин признал, что без освещения дела историей и без того, чтобы не подогреть его, ни черта не получится. Инженеры очень хотели бы всё видеть, они сидели долго, один вынул походную корзинку с ликером и выпил и предложил профессору, тот очень любил ликер и поблагодарил, те сказали, что они понимают, как трудно теперь добыть ликер, но они желали бы немногого, только остаться и переночевать в Кремле и чтобы им был показан Афанас-Царевич.
Профессор почувствовал себя успокоенным, это пришли, в сущности, культурные люди. Его долго никто не посещал. И он рад был услужить.
— К сожалению, Царевич недавно умер.
И он отвел их даже на могилу, они постояли, посмотрели грустно и разговора о ночевке не поднимали. Они стояли в Соборе Петра Митрополита, и И. П. Лопта, его сын Гурий сопровождали красивую женщину с огромными косами и медленной походкой. Иностранцы выразили восхищение такой русской красавицей и поинтересовались — кто она, и профессор объяснил, что это руководительница религиозного движения в Кремле.
Ее сопровождало несколько человек. Она плыла, не поднимая глаз, профессор, как и на все с недавнего времени, стал смотреть на нее с презрением. Иностранцы указали на сопровождавшего шествие П. Ходиева, белокурого и идущего, — он не заметил иностранцев, — они спросили:
— Это он?
Бутылочка была зелена, как изумруд, и профессор мечтал ее попробовать и пригласить к пробе И. Л. Буценко-Будрина и еще кого-нибудь, он спросил:
— Почему не сопровождает их Вавилов, который должен дать политические объяснения?
Ему ответили, что Вавилова, видимо, скоро переизберут, так как он даже и вообще не справляется, — обеспокоен, надо сдавать спектакль, а актер скрылся из Мануфактур. Все это чрезвычайно встревожило профессора Черепахина, и он покинул осматривавших сам не свой и не поговорил даже как следует и как ему хотелось. Иностранцы любезно хвалили все, объясняли, что сюда, в Кремль, приедет масса туристов, как только появится возможность приехать.
П. Ходиев устал. Должен ли он еще человека убить или признаться в прежнем убийстве? Он достойно отплатил М. Колесникову за его хвастовство, и он понимал, что то, что он намерен был уехать, — едва ли удастся. Он не пошел опять к Агафье, он хотел с ней поговорить, но ей было не до него. Он понимал — дело печатания библии шло удачно, но не хватало бумаги и не хватало, видимо, денег.
Приближалось воскресенье.
Он метался.
И Кремль и Мануфактуры, по всему было видно, чрезвычайно волновались предстоящим кулачным боем. П. Ходиев надеялся, что поможет милиция, но из-за милиции могли перенести бой в другое место. Жена его сказала, что встретила на рынке в городе М. Колесникова, и тот посмотрел на нее наглым и тихим взглядом, и ей был, видимо, приятен этот взгляд. И П. Ходиеву было все равно, он не дотрагивался до нее, она же думала, что он не дотрагивается потому, что не желает убивать свои силы.
Он ждал, что придет Агафья для того, чтобы более вежливо повторить то приглашение, которое она высказала кратко. Он хотел бы отказаться, но подумают, что он испугался, он не знал, что делать и как поступать.
Она пришла вместе с Е. Чаевым, который держал себя чрезвычайно нагло, он пришел якобы за тем, чтобы пригласить его в артель, и он понимал, что старуха все сказала, и он им мешает, и он не имел сил, чтобы злиться на нее. Он странно в эти дни надеялся на бога и на то просветление, которое ему придет и которого никогда не было, он сидел тихо, он пробовал молиться, но не мог.
Агафья сидела лениво, властно — сняла платок и обнажила две свои белые косы, которые как бы колоннами обрамляли ее нежное — таких не бывает — лицо.
Е. Чаев в конце разговора сказал, что ему удалось уговорить драться во славу Кремля для закрепления его веры мнихов-наборщиков, и даже исходатайствовать Лимнию прощение, и его чтобы приняли обратно на службу. Не согласится ли П. Ходиев участвовать, так как в прошлой встрече он показал себя отчаянным бойцом, у нас нет ни кино, нет ничего, и подобные битвы очень здоровы и очень сближают людей, к тому же, раз они начались, зачем мы их будем останавливать?
Агафья сказала только одно слово «просим» и с таким выражением, что Ольга посмотрела встревоженно, но сразу же успокоилась, получилось, что она приказывает. П. Ходиев смотрел на Е. Чаева, не его красивое лицо, и хотел бы вызвать в себе к нему такие чувства, которые бы — «живет она с ним или притворяется» — заставили его полезть на сосну — в пику А. Сабанееву, но ему было все равно, он думал о спасении.
Он даже хотел съязвить: «Что ты, братец, не скрываешь ли своей силы бойца, поскольку ты гнал медведя, и не помериться ли нам на палках?» — но не сказал.
Он пошел к следователю, тот был перегружен работой, и, кроме того, он третий день заседал в доме вика у товарища Старосило, Их заседание было посвящено изысканию средств для МОПРа, и они не знали, что делать. Их упрекали. С Мануфактур пришел инструктор, молодой человек, и товарищ Старосило должен был выслушать от него нагоняй.
Они сидели, смотрели друг на друга выпученными глазами. Была метель, кончилась, наступило затишье, и все застыло, а они все заседают.
П. Ходиев хотел пройти к товарищу Старосило, но сторож и два футболиста не пустили его, и он подумал: действительно ли стоит сознаваться и не просто ли убить человека, если человек стосковался по смерти и лезет на кулак?
Внимание к Агафье заметно возросло. Про это сказали ему футболисты. Они сказали, что иностранцы похвалили Агафью. Кремль волнуется за нее. П. Ходиев смотрел на них: они тоже возымели желание и тоже спросили его, как и курьер у сторожа, — придет ли П. Ходиев на стенку?
Он шел мимо исправдома. Он смотрел и думал, что если бы он совершил какое-нибудь гражданское преступление, то это было б хорошо, он бы сел и сидел бы тихо, и ему подумалось, что тогда и в тюрьме он бы подыскал себе друзей и страх, который им сейчас овладел, прошел бы, и этот страх еще потому, что слишком много у Агафьи возлюбленных и тех, которые хотели бы быть мужьями, но только один Ефим Бурундук согласен и прямо сказал ей бесстрашно, что хочет быть ее мужем, а остальные боятся это сказать.
Он увидел актера К. Л. Старкова. Тот шел потихоньку и сказал так тихо, что [П. Ходиев] вздрогнул:
— Я узнаю слабых людей и ослабевших по запаху даже, извините. Не подумайте что-нибудь дурное. По цвету их кожи и по легкому трясению век — я по всему узнаю! Я скрываюсь, скажу вам откровенно, от иностранцев, которые поселились в Мануфактурах и гонятся за мной. Но поскольку вы слабый человек и можете приютить слабого, не откажите дать или указать ночевку.
П. Ходиев спросил:
— Имеет ли право человек убивать другого, если тот просит или ищет смерти?
Актер ответил ему вопросом:
— А я вас спрошу, имеет ли право человек ради своей карьеры, когда известно, что у него таланта нет, — да, соглашаюсь с вами, у меня нет таланта, — предавать другого?
Они стояли друг против друга, исступленно смотря друг другу в лицо; дула поземка, и было холодно, страшные казались в сумерках вечера Мануфактуры, и вышел смотритель и комендант исправдома и сказал:
— Граждане, разойдитесь. Я сказал твердо, что посадить вас не могу и местов по гражданскому отделению нету и, возможно, что освободятся недели через две, тогда и сядете, много воруете, много воруете, — вот если по уголовному вас привели, — пожалуйста.
Актер воскликнул:
— Через две недели бывает поздно иногда человеку.
Комендант ответил нравоучительно:
— Тюрьма, она и десятилетия ждет.
Актер вздрогнул и оттащил ошарашенного П. Ходиева.
XVIII
Вавилов видел, как на носилках вынесли ткачиху и что начала работать третья смена. «Вот вам результат, это уже не первый случай смерти, оттого что люди живут в отвратительных квартирных условиях, им негде даже погулять и отдохнуть, и ему надо напрячь свои силы». Он слышал, что Зинаида в профсоюзе высказывалась за его увольнение, потому что прошли слухи, он-де вместе с другими ходит к Гусю-Богатырю и пьянствует. Он все развалил и смеется над нашими жилищными затруднениями. Они у Гуся-Богатыря-де справляли переезд в церковь и в помещение попа! Вавилов был возмущен, что она так думает, и он, подумав, решил, что ей не было повода думать иначе. Ничего он не предпринял, и вот завтра начинается второй кулачный бой, а он?
Необходимо прочесть лекцию, на это люди найдутся. Всегда в таких случаях читают лекцию. Приходят слабые, которые на кулачках и ни драться, и ни стоять не могут. Посидят в тепле, поулыбаются над лектором и разойдутся.
Он решил организовать кружок боксеров. Во двор силами исправдома был выкинут дорогой деревянный резной иконостас из икон восемнадцатого столетия. Кружок безбожников сделал клозет, и все возмущались этим. Вавилов наблюдал, как пришли рабочие и как выламывали иконостас и выкидывали на слом паникадила. И ему на это было приятно смотреть. Пришел кружок безбожников, и на веревках и на крюках, к которым был прикреплен иконостас, прикрепили чей-то портрет. И на все это странно было смотреть. Еще уставляют леса для того, чтобы зарисовать хотя бы по бокам фрески в стиле Васнецова псевдорусские, а на потолках херувимов решили оставить. Мальчишки кричали, и безбожники перестарались, изрезали очень дорогую плащаницу для того, чтобы достать оттуда куски бархата; и в суматохе, когда с постройки пригнали много рабочих, потому что они были свободны, и кружок безбожников устроил субботник, и Вавилов очень устал, работая в этом кружке бестолковых молодых людей, которые и сами не знали, что делать дальше, когда они отреклись от бога Ненавидеть то, что люди заблуждаются, им казалось возможным и нужным, в поселке их особенно не любили баптисты, и им, например, хотелось бы подраться, но они боялись и думали, что церковники могут их изувечить.
Но Кремль и все кругом было спокойно, а религия отжила. Им было видеть это обидно. Они старались сделать что-либо такое, что помогло бы их поступки рассматривать как поступки героические, за которые они могли бы и хотели пострадать.
В ванне дома, где Вавилов поселился, уже устроили стирку, и туда невозможно было попасть, и ему предстояло много ссор и разговоров по квартире. Обычный ужас россиян. Он пришел в клуб и ночью зажег электричество. Сняли люстру, и она еще лежала на полу и оказалась не серебряной, а бронзовой, и это было обидно, ее и бросили.
Он повесил подле клироса свои «упражнения» и начал упражняться с куклой у икон. Все это было странно и смешно. И тут его застали «четверо думающих». Ввалился огромный М. Колесников и стал орать и спрашивать:
— А скажи, рыжий, что же дальше с Лукой Селестенниковым, если ты полезешь выше?
— А скажи, рыжий, как же нам быть, когда тебя уберут?
— А скажи, рыжий, как же теперь, если актер сбежал и у тебя нет преподавателя?
Он решил преподавать бокс сам по книжке и пригласить инструктора. Инструктор обещал быть.
П. Лясных смотрел на Вавилова и один только не спросил, так как спрашивали «четверо думающих», и Вавилов понял, что он к нему чувствует нежность. П. Лясных сидел на люстре, и «четверо думающих» ушли, думая, что ничего не вышло. Вавилов по-прежнему бил в куклу. Он наносил удар и воскликнул:
— А вот этим ударом, обрати внимание, Колесников, сшиб тебя Ходиев!
М. Колесников сказал:
— Сшиб, а есть ли кто сильнее меня и есть ли у кого жена красивее моей?
Он ушел.
П. Лясных сказал, что он хотел бы поехать на Кубань или в какие-нибудь болота поработать по ирригации, а здесь толку нет никакого. Вавилов давно решил уже записывать для будущего, и он должен бы составить по главам, а он составляет по сучьям.
Пришел Трифон Селестенников, торжествующий, и сказал, что пришел посмотреть на огонек. И он показал несколько ударов и, главное, глубокое вздыхание. Он наполнил грудь Вавилова воздухом и разъяснил, что делать, сказав:
— Неужели вы работаете и ночью?
Вавилов подумал, что надо настаивать на ночных работах.
Трифону Селестенникову хотелось похвастаться. Он всему поселку показывал свой проект, который в главных пунктах признали германские инженеры и даже преобладающий тип станков «N-64» советовали поставить. Они отстаивали интересы своей фирмы, а Трифон Селестенников [думал, что] предугадал.
С. П. Мезенцев смотрел на Вавилова заискивающе и возвратил ему котомку, сказав, что «действительно пора тебе, Вавилов, уйти, ибо болтают, что твое происхождение неподходящее, и не пора ли тебе отдохнуть и пройтись по Руси?». Он с радостью решил отдать ему котомку.
Селестенников сказал, что его проект пройдет, теперь мы прочтем доклады о рационализации, и он закричал:
— Товарищи!
Раздалось эхо, и П. Лясных вскочил.
Зинаиду разозлили, и она нападала на Вавилова и вообще на всех мужчин. Подошел к ней архитектор, который был удивлен тем, что произошло, и сконфужен. Он сказал, что раскаивается и рад жениться на ней, если она ничего не имеет против. Она посмотрела на него удивленно, словно припоминая, что произошло, и сказала:
— Дурак.
XIX
По городу ходили странные слухи. Говорили, что Старосило, возмущенный выговором инструктора, созвал ячейку и предложил изыскивать средства. И сразу же кто-то предложил устроить маскарад. И над ним посмеялись, попросили чаю, и кто-то вынес предложение, закурили. И они сидели до поздней ночи и по каждому пункту спорили, и товарищ Старосило не говорил, что пора идти домой, и возникало много сомнений, и они стали говорить о рационализации и о том, что пора бы посмотреть, как в самих-то Мануфактурах работает ячейка, и они сами едва ли сделали больше, чем кто-либо, и хорошо бы посмотреть, как иностранцы осматривают древности кремлевские, и вопросы перекидывались, вплоть до того, что коснулись жен и кто с чьей женой жил, и они смотрели друг на друга откровенно и были довольны, что можно так разговаривать, и спал курьер, и неподвижный заседал товарищ Старосило, и он председательствовал.
И вот курьер стал разносить странные записки по учреждениям, по этим запискам выдавали [вещи], и затем стали изумляться все больше и больше, и эти посылки лежали, одна записка была в склад: «Выдай палатку», другая — к коменданту: «Пришли пулемет». И тот подумал, что это надобно для учебных занятий, прислал, и принесли еще рояль, и весь коридор был завален, и вещи прибывали, и наконец товарищ Старосило сказал:
— Все ложь и заседания! В книгах прочитаешь романы о любви, но не может этого быть, так как сидим и работаем по восемнадцати часов, и до любви ли тут?
И еще послали записку: «Выдайте пятьдесят орденов всем курьерам и низшим служащим».
В кооперативе удивились, когда поступило это требование, написанное двумя карандашами разного цвета. Постучали, а там не слышали, и тогда взломали двери и вошли в страшно прокуренную комнату, и там спал на столе, положив голову на чернильницу, товарищ Старосило, а остальные сошли с ума и в том числе следователь, которому должен был признаться П. Ходиев, который не уважал ничего и презирал суд и все прочее, то, что он отвергнул и что вновь заняло все помещения.
Товарищ Старосило признал, что хотя люди и сошли с ума, но первое их предложение было внесено еще тогда, когда они здраво заседали и когда им не казалось, что они летят в дирижабле к Северному полюсу завоевывать для советской власти Северный полюс. Товарищ Старосило много писал в центр. Он считал, что районирование произведено не с целью, конечно, его унизить, но что оно произведено неправильно, это факт, он любил думать об угнетенных и думал, что и его угнетают. (…)
Он видел на морозе, как наборщики подле типографии меряют кулаки и один из них говорит:
— Тут дело не в объеме, а в весе удара.
У него стояла кровать красного дерева, о котором он даже не подозревал. Он из тумбы, тоже красного дерева, достал водку и соленый сморщенный огурец, он выпил и сидел с огурцом, тесно сжатым, но тот так засох, что и вода из него не капала.
XX
Ясно, что Кремль готовился к стенке и к смерти П. Ходиева, как хулигана, который не может защищать дело святой церкви. И бог отказался от него.
П. Ходиев ходил со всеми прощался. Он увидел Гурия и предсказал ему многие мучения, и Гурий тоже не мог его остановить, и жало он не мог выдернуть. Он повстречал и приехавшего П. Рудавского, который мимо проезжал, но задержался, взяв птицу, не посмотрев, но стало ему стыдно, и он задержался на денек. Теперь он смотрел ласково на П. Ходиева.
Е. Чаев признал, что поход Вавилова не удался и что бессильно против него направлять орудие клеветы, что его убирают. Однако участок этот сильно важен, вот почему Еварест и преподал П. Ходиеву несколько советов.
Гурий и его отец были грязны, а им даже не топили бани, они сидели на кухне. П. Ходиев надеялся, что выйдет Агафья, но она не вышла. Гурий только сказал:
— Похоже на то, что наша библия печатается кровью.
Баптисты прервали с ним переговоры, не видя за ним авторитета. Дело не в Вавилове, выяснил совершенно точно Е. Чаев, и не надо никого ни подкупать, ни убивать.
На «стенку» вели, как всегда, медведей, день был солнечный, яркий.
Кремляне забавлялись. Медведи ходили с бубном и с утомленным Л. Сабанеевым. Он отощал, но не уходил. Кто-то держит в своих руках все пружины любви, думал П. Ходиев, он чувствовал просветление. Его жена с ним поссорилась, она все сравнивала, и он разозлился на нее, не сказал, правда, ни слова, но она поняла. Она осталась сладострастно смотреть в окошечко, она что-то, наверное, говорила уже с М. Колесниковым.
Вавилов напряженно наблюдал за Колесниковым. Вавилов не хотел было идти, но С. П. Мезенцев принес ему котомку, и он пошел, — «последний раз». Он чувствовал себя более свободно. Он ждал, что к нему зайдет П. Ходиев, но тот не пришел. Он ради него встал рано и просил старушку, которая постоянно в коридоре стояла, сказать, что и где он.
Сначала кинулся драться Е. Дону, затем монахи-наборщики кинулись на «пять-петров» — баптистов. Весь поселок Кремлевский спешил к заводи Дракона. Группа боксеров целиком присутствовала на сражении, «пять-петров» побежали, чего не мог вынести М. Колесников.
Мануфактуристы остановились. П. Ходиев скрывал себя в толпе, но вот выступил он. М. Колесников вытянул к нему руки, кулаки были развернуты, и у П. Ходиева тоже. П. Ходиев быстро налетел и посыпал ударами. Он пробивался к М. Колесникову. Удары сыпались. Люди падали. П. Ходиев прорвался наконец. М. Колесников крикнул ему:
— Не смотри на небо, родственник! Драться еще долго, солнце высоко, и не вытирай пот со лба!
Ходиев не думал ничего этого делать, но как только М. Колесников крикнул это, он решил поступить наоборот, он вытер пот и взглянул на небо — Милитон ударил его в висок. Он встал, взмахнул рукой и повалился, стал кататься по снегу. М. Колесников устремился на монахов.
— Кого боитесь? Бога боитесь, не отца ведь!
Монахи дрогнули. Мануфактуристы гнали кремлевцев до самой стены. М. Колесников исчез, они решили, что он ушел пить чай в чайную. Они разошлись с хохотом. Поднимали стонавшего П. Ходиева и повезли в больницу, сказали, что и нос сломан.
П. Ходиев, идя на сражение, встретил актера, который его отговаривал и говорил, что ему негде ночевать, актера взяли за рукав, он увидел Луку Селестенникова, и сказал тот ему:
— У меня переночуете.
И профессор тут же подскочил и сказал, что у вас у самих-то нет квартиры, он был одет в пальто с барашковым воротником, но вид у него был дрожащий. Подошла Клавдия и сказала:
— Здравствуй, Лука Семеныч, подлец ты и негодяй.
Она ему плюнула в лицо, ударила было его, но отобрала руку.
— Не буду рук марать!
Профессор был в ужасе, но Лука Селестенников с серым лицом взял под руку актера, и тут подвернулся Пицкус и увертливый Сенечка Умалишев и сказал, что профессор приглашает всех: он назвал фамилии (актер только вздрагивал) прослушать нечто в чайной у А. Щеглихи. Актер было замахал руками, указывая на профессора, но тот отмахивался, и они друг на друга смотрели с ужасом, но Лука Селестенников повел их. Лука Селестенников сказал Клавдии:
— Можешь и ты пойти.
Она только плюнула и сказала:
— Все наслаждаешься своим падением.
После драки пришел Е. Бурундук, но он не пошел на стенку, а только взмахнул колом, побил несколько человек, мимо него бежали от Вавилова кремлевцы, и Е. Бурундук кинул кол и ушел. За ним мчался, увязая в снегу, И. Буаразов. Вавилов шел грустный и усталый.
Ольга, жена П. Ходиева, ждала его со сладострастием, она любила всякую кровь, у нее была странная истерия — М. Колесников решил свою победу довести до конца. Начиналась метель, и дула поземка. Было холодно, кровь замерзла у него на руках.
Она сидела у крыльца. Она сидела и сравнивала, кто и как может курить, и странное чувство владело ею, она мало работала и была сладострастна, а муж не удовлетворял ее, и она томилась, но не знала, как можно ему изменить; кругом лежали хомуты, и дым стелился через них, она курила много и пропустила дым через нос, и ей стало как будто легче.
Муж засыпал быстро, а ей хотелось позабавиться, и он смотрел на это не как на развлечение, а как на печальную необходимость, и это ей казалось странным, да и всем в Кремле, кого она знала, любовь казалась такой, даже и Агафье, которой она не верила, и чтобы досадить, ей показалось, что в окно смотрит Агафья, она так и посмотрела на М. Колесникова, но, с другой стороны, она верила своему Прокопу, и ей казалось, что он биться идет потому, что она стремится к хорошей жизни и желает, чтобы П. Ходиев одерживал победы, и чтобы он не трусил, и чтобы о нем так же много говорили, как и о Колесникове.
Она сидела у окна, и странное томление, связывавшее ее, нравилось ей, и она не думала, что его можно будет когда-нибудь ощущать, какое-то забвение битвы: она видела ворота, перекатывающийся снег, и по нему бежали мальчишки, и она знала, что П. Ходиев должен победить, так как ему достаточно лишь поверить в свои силы и подумать, что он тут сделает, с таким же упорством, как делал он хомуты, и хотя теперь Н. Новгродцев умер, и П. Ходиев, никогда раньше не достававший кожи, стал теперь эту кожу доставать, и это злило его, потому что ему казалось, что Н. Новгродцев существовал неправильно и на его шее. Вошел в ограду М. Колесников со своими красными руками. Она смотрела оцепенело и восторженно, как он сорвал вывеску у ворот, на которой было написано мелом «Делаю хомуты», сердце ее захолонуло.
Она подвинулась по лавке и перекрестилась, слабость, владевшая ею, не покидала ее, а еще брала глубже, она знала, что хорошо бы закричать, но кричать она не могла, он вошел, и она увидела окровавленные его кулаки, он одной рукой положил ее на лавку, а другой скинул с себя чрезвычайно легкую одежду; дверь так и стояла открытой, а они оба не замечали.
Он упал на нее.
Потом встал и снял с ее руки бирюзовое кольцо, и лицо у нее было блаженное. Он плюнул ей в лицо; она не шевельнулась.
М. Колесников пришел к Зинаиде. Она читала книгу. Он сказал:
— Нет человека сильней меня и храбрей тоже.
Он кинул ей на колени, куда она положила книгу, бирюзовое кольцо и сказал:
— И жена его не красивей тебя.
Она сказала ему, перелистывая книгу и отдавая кольцо:
— Я тебе не жена, Колесников, тебе присылали повестку на суд, и суд признал, что ты ведешь себя недостойно гражданина СССР, и развел нас, а что касается кольца, то мы, коммунисты, кольца, ни свои, ни чужие, не носим.
Лука Селестенников просил Пицкуса и Умалишева собрать всех в чайной, но затем он закрыл перед их носом дверь и сказал:
— Поминки будем справлять по П. Ходиеву. Вот вы — представители общественности, а как вы смотрите на то, что у вас под носом драки по кварталу длиной. Стыдитесь.
И он захлопнул двери. Профессор кинулся было улаживать, но оттолкнул его и сказал:
— Так-с, мы вас ждали много лет, пора вам рассказать. Вы нас старались запугать, и даже Клавдия по вашему заказу плюнула на меня. (Актер испуганно замахал на него руками.) Вот мы собрались и требуем, чтобы мы рассказали все, и про Неизвестного Солдата и даже то, что коренится в ваших тайниках и во всем, не стыдясь и не боясь, и то, чего мы сами трепещем и стыдимся, все. Как звали Неизвестного Солдата?
Актер сказал слабым голосом:
— Да, я сознаюсь, но его звали Донат.
— Донат! — воскликнул профессор утомленно. — Не может быть, убейте меня, вы клевещете.
Актер было оживился, но профессор быстро оправился, и актер сказал испуганно:
— Нет, нет, я расскажу, Лука Семеныч, только не бейте меня, как вы меня били. Я все расскажу. — Он испуганно оглянулся и начал дрожащим голосом: — Что есть неизвестный солдат, граждане? Есть ли это фикция, мечта, нечто трансцендентальное или это был человек?
— Как его звали? — прервал Лука Селестенников. — Его звали Донатом.
Все посмотрели на профессора. Он ринулся было сказать, но Лука Селестенников махнул на него раздраженно и уставился на актера. Профессор замолк. Актер присел и сказал:
— Это был человек, а не гуммоза и краска, и он был солдат французской армии, как и я, и вы знали это, а я знал его.
Глава девятая
Подлинная история Неизвестного Солдата, спасшего Францию
— Граждане, я возмущен, я много лет возмущен, и сегодня, да откровенно сказать, уже давно, я почувствовал, что возмущение и желание изобличать доставляет мне неизъяснимое удовольствие. И сегодня я должен в этом сознаться, потому что вы все, как увидите из сказанного ниже, чрезвычайно заинтересованы в моей истории, и то, что я про себя скажу, вы это пропустите мимо ушей, так же как вас мало интересует книга, которую вы взяли в общественной библиотеке, — сколько лет она проживет. Да, я имел чин — за этот чин и за красование материей, основа которой имеет несколько серебряных и золотых нитей и которая лежала у меня некоторое время на плечах, — я понес достойное и тяжелое наказание, и об нем я рассказывать не буду.
С этим чином я помогал привезти на французский фронт русских солдат, потому что в начале войны я записался добровольцем, так как жил долго во Франции, не эмигрантом, а возмущенным актером так тогда называемых императорских театров. Я и тогда обличал, я и тогда возмущался, я требовал обновления новыми талантами, и мне говорили: «Дайте нам такой талант, чтобы мы могли спасти положение». Я им такого таланта дать не мог. Но буду говорить о фронте, впрочем, мы начнем с другого, оставив историю на позднейшее.
Сознаюсь, я со злорадством наблюдаю эту кашу, которая заварилась в России. Я хотя и Францию тоже, сознаюсь, презирал, хотя и получал установленную пенсию, так как сражался с большим успехом и даже некоторым образом обратил на себя внимание верхов, но тем не менее я жаждал работы, мне хотелось приехать в Россию, указать, возмутиться. Я бы никогда в нее не приехал, если бы не одно возмутительное обстоятельство, которое пробудило во мне страх и которое говорит мне, что там не немцы приехали, а французы, и приехали они вот за чем.
Я сижу вечером… в кафе, пью ликер — зеленый, тот шартрез, который вам привезли немцы, подходит ко мне некий человек и шепотом говорит, что по делу чрезвычайной важности и по делу Республики меня просят в комендатуру. Я пошел. Я солдат — и доброволец, не забудьте. Одним словом, мне дали в зубы пакет и направили в Верден, там я получу нужные сведения, а в Вердене я пришел к генералу П.-Ж. Дону.
Я вижу по вашим лицам, что имя это вам знакомо, а если кому не знакомо, так я скажу, что этот молодчик был инструктором, что ли, как это теперь называется, в типографии Кремля и ставил здесь машины, и сейчас произведите движение и сбегайте за его сыном с тем, чтобы он узнал историю или, вернее, некоторые биографические данные из жизни своего отца, небезызвестного французского героя, много прославленного знаменитыми фотографиями. Я понимаю, почему он меня вызвал, едва ли это был у него сознательный поступок, вернее, то, что называется мучениями совести, всплыло или начало всплывать и все то, что привело его к страшной катастрофе, о которой полезно будет узнать его сыну. Он посмотрел на меня с каким-то темным сладострастием и сказал:
— Солдат, на нас выпала великая честь, мы должны выбрать среди многих трупов труп одного француза из полков, которые погибли на девяти секторах верденского сражения, будет взято по одному телу, все это уложено в гроба, и тогда выберется один, которого и похоронят под Триумфальной аркой в Париже, вместе с сердцем Гамбетты.
Он испытывал странный восторг. Он, видимо, и меня хотел подцепить на этот странный восторг или, вернее, чтобы я сказал, что знаю его тайну, я сразу все понял и сразу узнал его тихое лицо и медленные движения, те, которые я видел на том участке фронта в тот памятный вечер, о котором вы узнаете ниже. Он, видимо, хотел преодолеть себя, но разве можно преодолеть огромную силу Доната Черепахина, который и мертвый звал к себе и который оставил мне свое завещание — я его еще вам скажу.
Мы ехали по полю, разыскивая стоянку того полка, из которого решено было взять тело. Мы видели огромные однообразные поля могил и много крестов, чрезвычайно однообразных. Я знал, какого креста боится П.-Ж. Дону, но я к нему не шел, потому что я и сам боялся тех чувств, которые во мне бушевали, — не скрою и не боюсь скрывать своей трусости и некоторой, скажем, подлости, — пришел с нами комендант кладбища.
Нас было трое, из уполномоченных старых бойцов. Генерал остановился. Сторож смотрел меланхолически. «Которую из этих могил разрыть, герой?» — спросил генерал чрезвычайно напыщенным голосом, в котором скрывалась явная трусость, чтобы не открылась та могила, на краю оврага подле желтого камня, похожего на трубку, и тот камень, о который споткнулся П.-Ж. Дону, тогда веля его убрать солдатам, — а они, потрясенные его великим злодеянием, не убрали. П.-Ж. Дону весь трепетал.
Я чувствовал сладострастие. Да, я должен сознаться, я подлый трус, и больше зловредного созерцания во мне, и где мне совесть предсказывает действовать, я трушу и замираю, а затем начинаю страдать и страдаю долго. Так случилось и на этот раз: генерал из всех, кто там стояли, несомненно, меня не узнал, но он чувствовал, что я знаю [его] какое-то тайное отношение к могиле Доната, и он думал, что если один из нас выйдет и покажет на одну из могил и покажет тело Доната, а если выйду я, жалкий Старков, то я не осмелюсь показать тело Доната, и я не вышел, в этот раз трусость сослужила мне хорошую службу, потому что и генерал, видимо, и я смотрели на могилу Доната, и тот солдат, который стоял рядом со мной, подошел к могиле Доната и сказал: «Этот».
И таким образом гроб Доната попал в число тех восьми гробов, которые отправили в Верден.
Я сидел в солдатском вагоне. Мы смеялись и шутили, что теперь едва ли мы узнаем те гроба, потому что перенесут тела в новые гроба, но судьба меня вела уже до конца — мучая и заставляя быть свидетелем мучительства других, правда, это мне доставляло большое наслаждение, и я был твердо убежден, что П.-Ж. Дону будет наказан достойно, раз началось уже наказание. Я от злорадства спал плохо. Мы подъезжали к Вердену. Мы все время играли в карты, я не люблю этого развлечения, но день был ветреный, и когда показались крыши Вердена, ветер унес наши карты, и мы хохотали, так как они попали кому-то в лицо.
Была у нас в лазарете, — я уже переношу действие к тому, как очутился Донат Черепахин в могиле подле желтого камня, похожего на трубку, и о котором все думают, что он лежит для дела, настолько у него деловой вид, — была старшая сестра милосердия И. П. Мургабова, женщина, которая несла свою девственность и верность, и ее все уважали, хотя я и про остальных ничего не скажу плохого.
Наша дивизия воевать сомневалась, потому что произошла революция, и мы все митинговали. Так как я считался великим патриотом и героем, награжденным орденом, то меня отправили уговаривать бунтующую дивизию. Я и приехал, откуда и узнал Доната и все страшные вещи, которые произошли в этой дивизии. И. П. Мургабова относилась к Донату с большой, непонятной для меня нежностью, тем более и парень-то не отличался особенными заслугами, хотя и был красив, но знаменитые роды презирал и в прапорщики идти не хотел, хотя и готовился сдать экзамен, но не сдал, так как усумнился — имеем ли мы право воевать.
И так как должен вам сказать, что оратор я плохой, несмотря на все свое дарование, хотя я и заучивал почти все речи Керенского и говорил его речами наполовину, но толку от этого было мало, и тогда к нам прислали П.-Ж. Дону, лейтенанта и тоже добровольца, из контрразведки, — нет ли каких шпионов, у кого какая профессия, тот то и видит.
Одним словом, П.-Ж. Дону пришел ко мне в гости, я с ним разговаривал хорошо, мало понимая, что он ищет самый корень заговора. Они обрадовались друг другу. Донат искренне, так как они подружились потому, что П.-Ж. Дону был коммивояжером типографских машин, и, надо сказать, всучил нам довольно гнусные французские машины и — жил долго, потому что и он понимал тоже, в чем дело, и пока, мол, не наладится машина, то мы вам и авансы не оплатим.
Тут же они вспомнили приятеля своего Людвига-Ивана Зюсьмильха. У них много было совместных воспоминаний, но П.-Ж. Дону сказал, что Зюсьмильх, наверное, жулик и пускает против нас газы. Донат, с присущим ему благородством, надо сказать, больше от усталости, когда так трудно гневаться, защищал немца. П.-Ж. Дону не спорил, хотя лицо его и покрылось отвратительными пятнами. Донат был растроган еще тем, что мужики с верховьев Волги, которым надоело рассказывать похабные сказки, начали вспоминать о родине, и тут произошел разговор, из которого было видно, как любит отец Доната и как страдает по нему, если мимо двух кремлевских рвов ведет третий, глубже всякой старины. Очень разговоры эти растрогали сердце Доната, и он сказал: «Милый мой отец».
Ему еще больше захотелось идти на родину. П.-Ж. Дону ухаживал также и за сестрой милосердия И. П. Мургабовой, а полковник Л. К. Скорняков, что, что называется золотопогонник, [ревновал ее] в тот вечер. П.-Ж. Дону решил испытать на них свое средство, то есть пустить, как он мне открыл, на них газы, потому что немцы, чувствуя в них своих союзников, по ним не стреляют. Сердце у П.-Ж. Дону, надо сказать, было не из мягких, мне было тяжело слышать, когда он мне это сказал, и не мне, а на совещании офицеров, которые представляли Францию в дивизиях русских. Положение на фронте было напряженное, и П.-Ж. Дону можно было многое простить.
Немцы отчаянно перли. Пахло Седаном. И французы были готовы землю грызть зубами.
В тот вечер, когда я вошел, Скорняков ревновал не только к настоящему, но и к прошлому: он кричал, что не сознавалась ли ты, что спала с отцом Доната, и та созналась. Л. К. Скорняков был задушен газами, и, чтобы его состояние улучшить, он потребовал свадьбы. Вот я и шел на эту странную свадьбу. Пот лил градом. Было душно. Французы начали обстрел тяжелыми снарядами. Я жил в трактирчике. Там думали, наверное, гнездо. Я присутствовал при родах. Рожала трактирщица.
Раздалось характерное свиное хлюпанье — и я подумал, что если они ударят, то по тому месту, где больше могут собрать людей. Я выскочил, бежала и бабка, кинув на руки роженицы ребенка, который только открыл глаза. И тяжелый снаряд превратил маленький трактирчик в развалину, а плита, на которой роженица велела кипятить воду, а также разогреть для деда красное вино, которое он любит подогретым, все запылало.
Л. К. Скорняков мучился от ревности и требовал, чтобы к обряду венчания, который будет происходить в кровати, был приглашен Донат Черепахин. Крисп Бесфамильный, кроткий денщик Л. К. Скорнякова, увидал газы. Он их страшно боялся. Все поспешили надеть маски. Мы сидели за столом в противогазах.
Была странная свадьба. И жених, и невеста, и поп, главное, в ризе, сидели в масках. П.-Ж. Дону на свадьбе не присутствовал. Донат Черепахин, который, надо полагать, догадывался, почему его позвали на свадьбу, сидел бледный и неподвижный. А жених лежал, вытянувшись на кровати, с торжественным лицом и на голове с золоченым венцом, который поп почему-то привез с собой на фронт.
Крисп Бесфамильный выскочил и сорвал противогаз, подле палатки, подпрыгнул — его бедный мозг устал от всего, и теперь, когда ему казалось, что Россия кончила воевать, он видит в жаркий и неподвижный вечер, что его начали травить, дышать ему было тяжело, и он сорвал противогаз. И. П. Мургабова, я ее понимаю, она очень сочувствовала людям, и ей было тяжело видеть, как страдает Л. К. Скорняков, она была готова пойти и не на это.
Здесь мне бы и надо было все рассказать Донату, и я предупредил бы многие кровавые события, но я с присущей мне трусостью не сказал и вернулся домой, в палатку, и так как мне не хотелось обижать полковника Л. К. Скорнякова, он лежал весь желтый, преисполненный непонятной для меня ревности, то хотя Донат и хотел возвратиться, но я его уговорил.
Я думаю, что П.-Ж. Дону потому не пришел на свадьбу, что помимо его распоряжений, которые стоили многих жизней, он еще и брезговал тем, что полковник настолько поддался вредной революционной агитации, что приглашает на свадьбу солдата, простого русского солдата.
Был туман, розовый, отвратительный газ. Грохотали снаряды. Состояние духа у всех было подавленное, но ожидаемого негодования против немцев у нас не было. П.-Ж. Дону был очень сердит — и хмурился, когда к нам пришли французские офицеры. Но он не потерял надежды, и, как мы увидим, его изобретательность была весьма остроумна.
В этот день я понял, что дух французской армии упал зверски. Мы им отомстили! Я чувствовал злорадство. Французские генералы оказались плохими изобретателями. То, что предлагали маршалы, которым сейчас в аллеях от Дома инвалидов уже приготовлены места для памятников — стыдитесь ходить мимо. Вы предполагали, не так ли, а немцы вас били… Немцы оказались более изобретательными. Но я вас прощаю, так как вы достойно отблагодарили Доната, который вас спас.
Были тогда, если вам известно, в армии такие передвижные бардаки и бардак Щеглихи, которая возила тренированных девок, которые выдерживали даже темперамент зуавов, в то время как ни один европейский бардак туда не заезжал.
Я вспомнил тоже рассказ Доната Черепахина, который говорил, что когда Аляска еще принадлежала русским, то там тоже не хватало девок, и генерал-губернатор Аляски приказал выписать девок из Владивостока и приписать их к аптеке и отпускать как лекарство по рецепту врача. Ну так тут было нечто похожее. Было устроено нечто вроде двух кабинок, в одной она лежала с солдатом, а в другой раздевался следующий из очереди, она переходила к раздевавшемуся, а в освободившуюся кабинку приходил следующий. Было много хохота, но было и много молчания и печали — и надо сказать, что Щеглиха хорошо платила девкам.
Самое вредное качество — это не думать о завтрашнем дне, и мы только сейчас начинаем учиться этому, и если удастся научиться, то кончено. Донат и тогда, видимо, чувствовал себя не в себе. Он злился и на то, что приехал бардак, который выписал П.-Ж. Дону, так как не без основания думал, наверное, после сумасшедшей свадьбы, что кровь у русских застоялась, иначе трудно было б понять, почему так быстро приехала знаменитая Щеглиха.
Шурка Масленникова работала знаменито. Все в лагере смотрели на нее с удовольствием. Она вышла гулять, так как не боялась ничего, ведь она — жена почти всей французской армии, и армия ее защитит. П.-Ж. Дону, увидев, что Донат не лег с Шуркой, не без основания решил, что тут-то в Донате вся запятая. П.-Ж. Дону был патриот, во-первых, службист, во-вторых, — и негодяй, в-третьих.
Донат Черепахин в эту ночь, как он потом мне рассказал, пережил страшную драму. Он чувствовал, что должен был увлечь Шурку своим нарядом. Он был несколько наряден и любил переодеваться и с любовью и умением носил одежду. Да что вы там мне ни говорите, а он был, я утверждаю это — великим актером.
Я смотрел, как он лениво шел вдоль укреплений, он трусил, но он сказал, что хочет прогуляться. И за ним шла Шурка, увлеченная его нарядом и щегольством. Мне ее было немного жалко.
И там, как мне позже разъяснили, произошло следующее. Она сказала:
— Возьми меня в жены, ты у меня еще не был, иначе я бы тебя запомнила, может быть, на неделю.
Донат ответил, глядя в небо:
— Хорошо, ты будешь моя невеста.
Он ответил, чтобы отвязаться, но посмотрел в ее глаза, — они были наивны, и сказал, целуя ее:
— Здравствуй, моя невеста.
И он впервые заплакал. И тут они услыхали тоже плач из-за куста. Они подошли ближе и увидели заросшее волосами худое лицо немца в каске. Он шепотом сказал им:
— Я знаю, вы меня не убьете, раз вы жених и невеста, и поэтому я осмелился заплакать.
Донат посмотрел на него и сказал:
— Ты еще можешь заплакать, потому что видишь перед собой Доната.
И они обнялись, и Донат сказал, что только недавно они вспоминали с Дону об Иване-Людвиге Зюсьмильхе, знаменитом типографском мастере. Донат чувствовал, что стало значительно светлее, и он спросил немца, в чем же его секрет — и тот ответил:
— Видишь, я сидел и чистил свою каску, и когда ты взял ее в руки, то ты увидал свет. Ты можешь держать ее спокойно, так как я лежал много часов совершенно голодный, и ты можешь считать меня другом, так как произошла революция, я чистил свою каску, она сияет как солнце и может спокойно сиять. Мы больше воевать не будем, но я боялся вылезти, я пополз, я пришел с тылу первый — и пополз, чтобы сообщить о своей радости. Я полз — и очень устал и думал, что меня убьют, а я не успею крикнуть: «У нас революция, и мы не будем воевать!» — но, к счастью, ты вовремя меня увидал и вовремя поцеловались жених и невеста. Я только возьму с тебя слово, чтобы ты дал мне самому сказать о том, что произошло, и ты не предавай меня, да я так и не думаю.
Донат дал слово, что не выдаст, и пошел. Зюсьмильх остался с его невестой, и так как он был растроган тем, что уже не враг теперь, чтобы доказать это, он взял Шурку Масленникову за руки и сказал растроганно:
— Шурка, Шурка, сколько времени я не держал в руках руку приличной женщины, а то к нам привозили грязные дома — и я не хотел там развлекаться.
Шурка была растрогана, и ей стало его жалко, и она гордо о себе думала, и ей не хотелось возвращаться в лагерь, и она, обняв его, воскликнула:
— Я целую не тебя, а немецкую революцию.
И поцелуй их длился слишком долго, настолько, что когда И.-Л. Зюсьмильх опомнился, то он вспомнил своего друга и заплакал и сказал:
— Я поступил неблагородно, соблазнив невесту моего друга, но я буду и должен быть благородным — я разведусь со своей женой и женюсь на тебе, — и он игриво улыбнулся, — и кто его знает, может быть, он будет благодарить меня за то, что я женился на его невесте, а моя жена в России, давно мне изменила, наверное, и вышла за русского. Но сейчас я не могу смотреть на моего друга и прошу тебя поэтому, Шурка, покинь мое логовище, я должен обдумать мысли, которые я должен сказать Черепахину.
Он сидел и думал. Он сидел, склонив голову, и услышал шаги, он воскликнул: «Слушай, друг!» Он вскочил и увидел перед собой французского лейтенанта с саблей в руке. Он поднял руки вверх — и тогда лейтенант отрубил ему голову и поднял начищенную каску и, любуясь отражением своего лица и своей груди, пошел к лагерю русской дивизии.
Нет, ни черта не стоили французские генералы, им бы лучше бардаки держать, а не хранить гробницу Наполеона. Все, что они предполагали, провалилось, немцы их теснили по всем швам. В войсках росла растерянность, цветные оглядывались, пулеметы были должны обрушиться на Париж и на заседавших министров, седая голова Пуанкаре понюхала бы дуло и чем оно пахнет, и увидела впервые с настоящим интересом, как продвигается патрон и как заряжается ружье! Дети Франции!
Только этим и можно было б объяснить, что Дону решился убить немца. Позднее он говорил, что пришел шпион, но сам он всегда говорил, что надо посмотреть, как дерутся за каждую пядь земли и за каждый холм французские лавочники. Дерутся они хорошо, может быть, я не видал, но П.-Ж. Дону был трус. Он поступил так, внимательно выслушав рассказ Доната, и, выслушав, даже выразил удовольствие и нетерпение видеть немца и поторопился вперед, сказав, чтобы Донат подождал его, и Донат ему поверил и только лишь сел, как подумал, что слишком подозрительна эта торопливость П.-Ж. Дону, но он так устал и вдобавок взволнован встречей и, главное, известием о немецкой революции и планами, которые надо было обдумать.
Он, наверное, спешил ко мне, так как он всегда делился со мной, и во мне он находил друга, и я единственно кого не уличал во лжи, так его. Но он устал, а шел если он к кому, так шел всегда с планами, уже достаточно разработанными и достаточно обоснованными, на которые он уже заранее видел возражения.
Он увидал, что с холма спускается по запущенному окопу с каской в руке П.-Ж. Дону. Он заметил вначале каску, а затем уж саблю в крови. П.-Ж. Дону был доволен, он убил шпиона подле самого русского лагеря, из этого поступка было ясно, что русские сносятся с немцами. Донат не поверил такому ужасному предательству, он побежал в ложемент. Шурка встретилась и кинулась к нему. Он ее не видал, а посторонился, как бы упал в сторону. В лагере стоял гомон. Все потемнело, потемнела и каска, которую пронес П.-Ж. Дону мимо него.
Он прошел мимо трупа, не останавливаясь. Он крикнул только неимоверно громким голосом:
— Немца убили!
Он не чувствовал даже подлости, которую совершил П.-Ж. Дону, он услышал голос, который крикнул: «Немца убили!» Он сидел на холме — и солдаты на него смотрели со страхом.
Он видел, как укатил автомобиль П.-Ж. Дону с ядовитым хохотом, по моему определению. Я был растерян, я думал, что он помешался, и поэтому был так невнимателен к нему, но только на другое утро я понял, какой это великий актер. Он сказал мне только, чтобы я выпросил каску у П.-Ж. Дону, и именно эта-то просьба мне показалась чрезвычайно странной. Затем он мне сказал, что, несомненно, П.-Ж. Дону увезет его невесту и ему теперь не подойти, пока весь свет, заключающийся в каске, не будет похищен.
Я думал, что это временное потемнение ума, это, знаете ли, бывает при мгновенном психозе. Я смотрел на него с жалостью. Он поворачивал лицо, выспрашивал у меня дорогу сумасшедшим голосом — и я, дурак, причем тут же рядом были свидетели, я подробно рассказывал ему дорогу и расположение частей, которые я знал, так как меня часто выдавали за русского посла, и я по долгу службы своей должен был разъезжать и делать доклады о русской революции, и таким образом я не знал, что Шурка тоже нас слушает, не осмеливаясь показаться, чтобы ее не сочли за предательницу, ибо она отдалась немцу и, мало того, отдала ему свое целомудрие…
Весь этот ужас выяснился потом, потому что Щеглиха вдруг, несомненно, не без распоряжения П.-Ж. Дону, сняла свои кабинки, погрузила на грузовики, в два ряда так, как теперь в автокарах возят американцев по полям сражений, — увезла девок. Я еще имел глупость утешать их и мало обратил внимания на то, что Шурка поднялась неподалеку от меня. Затем приехала машина, так как оказалось, что одного доклада П.-Ж. Дону мало и что часть можно считать почти разложившейся, и только меня, специалиста-агитатора, хотели спросить и знать мое веское и окончательное мнение — разложилась часть или нет.
Весь этот день наполнен был моими глупостями, надо сказать откровенно: я имел глупость сказать, что часть вполне надежна, и этим моим уверением закончилась моя карьера.
По телефону сообщили, что солдат Д. Черепахин произнес речь немедленно после того, как уехали представители французского командования, в этой речи Д. Черепахин утверждал, что произошло перемирие и послали делегата, который предательски убит французским командованием. Часть наша была расположена в лощине, там стоял домик для офицеров, легкий, фанерный, окрашенный под цвет зелени и декорированный очень здорово; я сам занимался и вообще интересовался искусством декорировки, о котором я еще вам сообщу в дальнейшем.
Одним словом, пока Д. Черепахин говорил речь, полковник, который ненавидел Черепахина, по обстоятельствам, которые здесь неудобно рассказывать, но о которых упоминается в его завещании, — полковник Л. К. Скорняков, мужественный человек — и можно будет простить ему эту вспышку, схватил револьвер со стола и через окно, перегнувшись, выстрелил в Черепахина. Он был отравлен газами, газы повлияли на его грудь, он кашлял, как я уже вам сообщал, — и он кашлянул в тот момент, когда целился, рука его дрогнула — и он промахнулся.
Пуля убила стоящего рядом с Донатом солдата. Солдаты вскочили в землянку, убили Л. К. Скорнякова, который защищался отчаянно, надо отдать справедливость, убили попа и выпороли сестру милосердия Мургабову.
Вам теперь смешно, но неприятно лежать на скамье под прутьями, когда тебя порют солдаты и рядом лежит тело мужа. Вообще все это было страшно, но самое страшное было в том, что Д. Черепахин — сын профессора, не остановил солдат, а сказал, что у него похищен свет и дорогая невеста и он пойдет их ловить. Он пошел по заброшенным траншеям, под возобновившимся огнем — и его не смогли остановить.
Но тут расправились. Тут за свою потерянную карьеру я им дал. Пулеметиками начали чистить. Мы — сообща. Я очень доволен.
Здесь я возмутился, и здесь я потерял свою карьеру, и смею вас уверить, что в дальнейшем меня преследовала мысль не столько поймать Д. Черепахина, — это, я сознаюсь, было у меня вначале, но затем исчезло, — уже на втором секторе войны, все было перерыто и испорчено, я понял, какой великий артист Д. Черепахин, и я захотел быть его помощником, но отнюдь не ловцом. Но я не мог отказаться от своего чина и от своей возможности продвигаться.
Я мчался вслед за Донатом. Он прошел из своего ложемента, и так как рядом с ним стояли негры, то тут только я понял, какое великое дарование актера у него было. Он сделал что — он увидал убитого негра, он взял его одежду, его документы, — а негра одел в свое — и, таким образом, похоронили Д. Черепахина.
Война нас сделала одинаковыми — и негра нельзя было отличить от белого. Д. Черепахин прошел в лагерь — и там, собрав негров, произнес им речь о том, что война кончилась, что немцы отступают. Он искал каску немца, он исполнял свой обет, и когда мы примчались в негритянский лагерь, Донат уже ушел среди пуль в соседний лагерь.
Там были зуавы, он, наверное, поступил так же, но мы не могли обладать такими способностями, которыми обладал он, а именно, способностями перехода: там, где он переходил, мы должны были обходить — и пока мы объезжали на своем автомобиле вокруг проволочных заграждений и наглых взглядов солдат, — он успел получить волшебный клубок бреда от умирающего негра.
Он должен [был] поднять тяжелый камень, который упал на негра с разрушенного здания. Он с трудом задержался, он торопился, но он взял оглоблю от сломанной повозки и поднял камень, подкатив под рычаг колесо. П.-Ж. Дону говорит, что невозможно пройти этими полями. Тогда умирающий негр просит Доната оказать ему услугу, прежде чем он передаст ему свой клубок. Д. Черепахину было жалко на него смотреть, он спешил — но ему надо было переодеться, а он не желал раздевать раненого, а раненый это понимал, а потому и задерживал его своими просьбами. Донат же исполнял их потому, чтобы легче было усидеть — и не так скучать. По долине ходило стадо кобылиц, которые страстно хотели жеребца. Как их было устеречь. Жеребец был убит. Кобылицы подходили к жеребцу как бы прощаться. Донат освободил его тело и запалил его шерсть; они отошли, он их спутал уздечкой, они стояли и не могли затоптать раненого, потому что тут один проход. Он воздвиг другой проход, он отгонял кобылиц и поднял тот прут, которым отгонял их раненый, — и пока кобылы обнюхивали коня — он сделал перегородку, баррикаду от кобыл — раненый успокоился. Ом велел разжать ему руку и, счастливый, сказал, улыбаясь:
— Ты получил волшебный клубок бреда, а мне он не нужен — я и так умираю, — и он умер.
Донат усмехнулся, но ему стало лучше, он как будто услышал последние слова негра: «брось», он кинул клубок на землю, переоделся, оттянул тело; кобылицы ринулись в поле — он увидал, по какой линии стреляют, — и взял влево, кроме того, он увидал, где секреты.
Он сказал речь, и так как торопился и ему засветло хотелось прийти к прожекторам, чтобы они бросили светить. Он чувствовал себя великолепно. Все удивлялись, откуда в этом простом солдате такой великий талант оратора, и только потом не могли соединить эти два лица. Солдаты все удивлялись, но он услышал знакомый гул «Мерседеса» зеленого — и пошел дальше, прежде чем его успели остановить.
В полуразрушенной кирхе он увидал пленного старика — эльзасца, которому грозил расстрел, так как его обвинили в шпионаже. Его забыли. Часовой был убит. Здесь побывали немцы, которые отступали. Его могли убить свои же бомбы. Он освободил пленного — и пленный передал ему карту, наполненный благодарностью. Донат работал целых три часа, освобождая его из плена. Он узнал много полезных сведений от пленного, в частности, как он может узнать о том, как едут члены контрразведки.
Пленный передал ему наперсток бабушки и письмо к телеграфисту. Наперсток — это амулет от смерти, бабушка носит его сто лет. За этот наперсток телеграфист скажет все, что угодно. Донат так и поступил. Телеграфист в полуразрушенном здании, с ним его молодая жена, которую он больше всего боялся потерять. Они очень удивились такому смельчаку, который осмелился прийти так, — и телеграфист сказал:
— Просите, что хотите, у меня.
Д. Черепахин сказал:
— Я знаю, что прошу у вас очень многого, но вот я смотрю на вашу молодую жену и вижу, что вам ее жалко потерять, а между тем я уже потерял свою невесту и, мало того, что ее увлекли, ее еще могут обвинить в шпионаже, и я ее могу потерять навсегда.
Молодая жена телеграфиста заплакала от умиления и сказала:
— Он сделает все, просите.
Черепахин сказал:
— Я прошу вас сообщить мне, когда мимо проедет на сектор зеленый «Мерседес» контрразведки.
Телеграфист грустно сказал, что это он едва ли может сказать, но тут его товарищ — который может знать шифры.
Пришел товарищ, молодой священник, который сказал:
— А, это тот молодой человек, который помог мне выбраться из пруда.
В пруд солдаты его столкнули, Черепахин возмутился, но спас.
— Я знаю слегка это дело, так как до ранения работал по шифру сектора «А».
Они сказали: через час под расщепленным дубом Дону будет принимать доклад, так как идет необычайная слежка за каким-то бежавшим солдатом. Он поблагодарил его. Он пришел к расщепленному дубу Подошел шпион. Черепахин залез на сук — и с сука, когда шпион закуривал, наставил на него револьвер, затем крепко связал, одел в свою одежду, выспросил, что надо, предупредив, что первая пуля будет в сучья, закурил и сел ждать.
— Как хорошо получить наперсток, — сказал телеграфист, — а священник шел, прихрамывая. Донат был очень доволен.
Я ехал в автомобиле к этому злополучному дубу. Я не говорю, что Дону преисполнился негодования после происшествия у знаменитого расщепленного дуба, нет, к тому, что было ему бесполезно, он мог быть даже нежным и внимательным. Он не особенно верил, что идет вдоль окопом Донат Черепахин. Тело Доната нашли, но он думал, что тут работает целая организация, и потому надо спешить, чтобы эпидемия солдата-невидимки не распространилась на весь фронт.
Должен сказать, что и я так думал, и последующие события достаточно сильно разубедили меня в этом. Но вернусь к моему рассказу. Дело разведки, которое вел Дону, было столь деликатно, что он не доверял даже шоферу, я же попал с ним случайно, не подумайте, что я был связан с контрразведкой, я уже тогда сложил свои полномочия, я уже убедился, что ловил великого актера, так как на подобные перевоплощения, которые я увидел у Доната, мог быть способен только великий актер, мировой актер. Этому свиданию Дону придавал важность, так как в этот район должен был спуститься Донат, и нам казалось, что мы определили его, Дону сам правил машиной.
Он остановился подле дуба, подошел солдат и, отдав честь, вдруг со всего размаха влепил пощечину лейтенанту. Надо сказать, что я обалдел, да и Дону растерялся совершенно. На солдате была каска, лицо у него было темное, волосы выбивались из-под каски, — я узнал Доната по волосам. А надо сказать, в этот район я рекомендовал Дону приехать, так как и думал, что мы здесь можем опередить Доната с его возгласом:
— За кого воюете, ребята, с кем воюете!..
Я, таким образом, подвел Дону, и из-за меня он мог быть убитым, только этим и объясняется мой поступок, который я совершил с Донатом. П.-Ж. Дону быстро опомнился, он полез за револьвером, но Донат не был дураком, он, видимо, не хотел убить Пьера, но у него были свои намерения, он ударил П.-Ж. по руке, тот выскочил и кинулся на него драться. Они покатились. П.-Ж. Дону был настолько оглушен ударом, который ему нанес Д. Черепахин, что обалдел и покатился под крыло машины.
Донат, не обращая на меня внимания, пролез в машину, схватил мешок, по которому видно было, что там лежала знаменитая каска Л.-И. Зюсьмильха, и выскочил. К тому времени П.-Ж. Дону оправился и смог, насколько я понял, продолжать борьбу, — но и не в интересах Доната было умирать, они дрались, он сорвал пояс с лейтенанта, — вообще было много хамства, — и бил его этим поясом по лицу, а затем, вы заметили, какое презрение ко мне — и что я должен был терпеть от этого человека ради искусства, он бросил револьвер в кобуре к моим ногам.
Он избивал Дону нещадно, все время стараясь бить по правой руке, той, которая зарубила Людвига-Ивана, настолько, что вскоре рука у того повисла, как плеть, и, надо сказать, что П.-Ж. Дону был крепок, но и он закричал:
— Во имя отца пощадите!
Я думаю, что Донат вспомнил своего отца потому, что опомнился на минуту, и тут я понял, что Донат может убить Пьера-Жозефа, а бил он его уже теперь немецкой каской и кожаным футляром, которые продавали предприимчивые американцы в тылу. Каски были нечто вроде скальпов. Он бил его, и чем больше он его бил, тем я сильнее испытывал страх. Он наклонился над ним, а я его схватил сзади за волосы. Он поднял ко мне сумасшедшее лицо, он смотрел на меня изумленно: что, дескать, за человек, здесь внезапно появившийся, который осмелился взять его за волосы. Он отошел от П.-Ж. Дону, которому я незаметно передал кобуру с револьвером. Я давно мог бы убить Доната, но я не хотел стрелять, да, кроме того, при моей дурной руке, я мог бы убить и Дону, и тогда мне бы не развязаться с моим начальством, а законы, знаете, на фронте строгие, я уже утверждал раз, и повторяю это вновь, что Донат совсем не хотел умирать, что и видно было из того, что он отпрыгнул, когда П.-Ж. Дону поднял на него револьвер, тот, который я ему передал.
Надо сказать, что рука правая у лейтенанта была перебита, и он целился левой, и хотя Донат уходил медленно, размахивая кожаным футляром, но П.-Ж. Дону расстрелял все патроны и не мог его достать, он только попал в ногу своему шпиону, и на нас вдруг, на кузов автомобиля полилась кровь сверху — и мы все удивились — и я полез наверх и оттуда спустил шпиона, который и рассказал мне все, что он мог рассказать. Пока П.-Ж. Дону смог провести левой рукой свою машину к необходимой нам части, Донат уже сказал там речь, ту, которую он должен сказать, и мы в бешенстве должны были слышать расспросы:
— А правда ли, что произошло перемирие, и не приехали ли вы сообщить радостную весть, что у немцев произошла революция?
Затем подле траншей нашли труп человека; я узнал на нем тот костюм, в котором Донат дрался с лейтенантом.
Мы стояли.
Пред нами было огромное поле, усаженное смертельными минами, и действительно, только человек с клубком волшебного бреда мог пройти мимо и, главное, невредимым среди всех этих мин. Все это казалось мне похожим на бред; в машину наливали бензин, стучали провода, сообщающие приметы Доната. П.-Ж. Дону ходил с перевязкой и изрыгал ругательства.
Затем все это было похоже на бред, не могли же мы идти по отвратительным дорогам, мы побежали в обход, и когда я пытаюсь теперь вспомнить это, мне не верится. Мы декорировали поспешно нашу машину, мы превратились в другую, у нас было много препятствий, в то время как Дону шипел, что не так важен Донат, как поймать ту шайку, которая ему помогает. Он почему-то решил, я думаю, что это вследствие той паники, которая овладевала союзными войсками, — он думал, что в армии существует огромная организация дезертиров, и Донат нечто вроде коммивояжера этой организации, и так как П.-Ж. Дону самому очень хотелось в тыл, но он был беден и ему невыгодно было уходить без ордена и без денег в тыл, то он мучительно завидовал этой организации и тому, что люди наживают на этой организации дикие, огромные деньги.
Я и сам тогда отчасти так думал, мне трудно было разубедить его, да я и чувствовал, начинал чувствовать великий актерский и ораторский талант Доната.
Мы чрезвычайно торопились, и мы помчались, теперь у нас была машина, так как П.-Ж. Дону не мог править левой рукой.
Счастливо разделавшись с Дону и добыв волшебную каску, которая и ночью ему показывала путь и с которой он нашел запас фонарей, Донат пошел через ложементы и видел в темноте так же, как и днем. Все ему стало легче. Он шел ночью через парк. Здесь некогда был пруд, теперь залитый бензином, статуи были исписаны и исчерчены, и на колоннах испражнения. Он был огорчен. Парк обстреливали. Он увидал кролика, и так как он шел целый день, то ему захотелось есть. Но он посмотрел на природу, и ему стало лень разрушать природу, как это уже проделано, ему не хотелось, он раскрыл капкан и выпустил кролика. Лежал раненый, которому страстно хотелось кролика, но он не мог до него доползти. Донат перевязал раненого, но кролика ему не дал, но тут-то его и спасло. Кролик спешил от войны, он чувствовал секреты. Донат бежал за ним. Он видел декорации, он видал многое, но кролик сворачивал — среди кустов мелькала его шкурка, а когда Донат засыпал, ему казалось, что кролик лежит подле него. Конечно, можно было бы разоблачить всю эту идиллию, но времени было мало и не так-то важно, кролик ли провел Доната среди секретов и ввел в некоторый тыл, где было много солдат, которые объединялись вместе и которым было что сказать.
Донат увидал на площади характерные четыре кабинки, раньше их было шесть. Девки шли из автомобиля с чашками какао в руках к своим кабинкам, солдаты стояли строго в очереди, переступая с ноги на ногу и обмениваясь шутками насчет погоды. Тогда Донат встал, прислонился плечом к кабинке и начал посмеиваться над солдатами.
Щеглиха бежала, сообщила по телеграфу, чтобы захватили ее собачку, она всюду ездила с собачкой, и эта собачка сидела в автомобиле, она сначала бежала по следу, а затем мы ее посадили в автомобиль, и она поворачивала нос, и достаточно было этого, чтобы мы ехали на автомобиле по кроличьему следу, а значит, и по следу Доната. Сначала к Донату теснились те, которым долго стоять в очереди, но затем, когда он сказал, что есть достоверные сведения, что у немцев произошла революция и теперь воюет республика против республики, спор разгорался.
Солдаты с замиранием сердца ждали конца спора, и вскоре выяснилось, что к спору присоединились и капралы. Донат уже руководил собранием. Он говорил. Они с замиранием сердца следили за тем спором, который происходил, и Донат вел его: они не знали французского языка, но видели, что бандерша суетится и часто смотрит на часы, уже должно было пройти через кабинки пятьдесят солдат, а не прошло и одного.
Два богатыря спорили об условиях наслаждения и что нет ничего позорного, если вся нация любит эту женщину и они гордятся возможностью ее любить. И тогда Донат возразил, что пусть он попробует поставить на место этой женщины свою мать, или свою сестру, или свою жену. Но женщины, наконец, получают хорошие деньги, им платит правительство. И тогда Донат крикнул им:
— Отказываетесь ли вы от своих денег! Надо или нет деньги?
И девки закричали в голос:
— Не надо денег, уйдите!
Солдаты стояли опешенные. Тут, к сожалению, дискуссия должна была оборваться, потому что мы ворвались с нашей собакой. (…)
П.-Ж. Дону уже торжествовал. Собака вела нас отлично по следу, и, главное, она перепутала следы и уже искала не следы человека, а следы кролика. Здесь было ясно то, что как указал раненый, спасенный Донатом, — собака выбрала Доната, и мы завели машину, а собака неслась стрелой к лагерю. Но тут произошло странное явление — во Франции волк, огромный серый волк наших богоспасаемых равнин, — он выбежал из-за угла, собака обалдела от инстинктивного страха, она никогда не видала волка.
Волк на нее метнулся, это продолжалось одно мгновение. Волк взял ее отличным рывком за горло, слегка подбросил. Это был, так сказать, его жест перед тем, как скрыться от людей, — и он сделал великолепный прыжок в кусты — всем этим я как актер не мог не любоваться.
Мы приехали в лагерь вдвойне посрамленные — не могли найти следов Доната, так как свои мысли растеряли и всецело надеялись на собаку, а во-вторых, своеобразное спасение Шурки произошло, мы дали ему ее спасти, так как он не мог ее похитить из толпы, да и невозможно было, но он своими разговорами довел солдат до человеческого отношения к жизни — и очередь распалась. Самое отвратительное зрелище — это была Щеглиха, гнусящая о погибающих процентах. (…) Отвратительный вечер, отвратительные жалобы. Да, война — ужасная вещь!..
Мы уже миновали пять секторов французской армии, наше движение было вдоль реки, нам показалось, что это будет легче, потому что тут скрыться тяжелей. Теперь мы гнались и за солдатом и за волком. Но это было трудно, то, что случилось с кроликом, могло случиться и с волком, если уж верить тем странным событиям, свидетелями которых мы становились вольно или невольно.
Донат не пошел вдоль реки, ему надо было переправиться на шестой сектор французской армии. Волк мчался вдоль берега. Торговцы везли рыбу, щук, которые были плохо просолены и воняли невыносимо. Донат лег на дно лодки. Мы же мчались по берегу, и нам надо было попасть на мост. Мы подъехали к лодке. Рыба невыносимо воняла. Донат лежал на дне лодки.
Он подошел и просто сказал, что идет по фронту, сообщая выкраденную у правительства весть, что у немцев произошла революция. Молодые рыбаки, которые ожидали призыва, взялись перевезти его, они сказали, что лодку обыщут, но можете поместиться. Лодку сильно несло.
Это блестела каска, а я говорил, что это щука, ибо мальчик стоял и действительно тащил и не мог дотащить щуку — и она все время вырывалась у него, а рыбаки его учили и не хотели брать рыбы. П.-Ж. Дону хотел выстрелить, но я его предупреждал, что ему чудится и что не лучше ли нам следить за волком, который бежит в прибрежных — узкой полосой — кустарниках, подле шоссе, отвратительно испорченного войной. Но П.-Ж. Дону, кажется, перестал доверять мне, тогда я ему сказал:
— Но не будет же француз стрелять в мальчика, если он заботится о своей карьере?
Он опустил винчестер и сказал:
— Вы правы, сотрудник.
Щука давно издохла. Это Донат делал в воде рукоплески, а мальчик любовался плесками, оными плесками Донат закрывал свое лицо и каску. Так лодка благополучно дошла до следующего берега, и Донат нырнул, а в это время П.-Ж. Дону мог обследовать лодку и даже щуку, и еще раз обернулся ко мне и повторил:
— Вы правы, Ксанфий Лампадович.
Донат был очень опрятен, великолепно брит и одет. Все хорошо и в то же время незаметно, Донат шел по кустарнику, великолепный клубок бреда вел его, он очень устал в воде, но, выйдя на берег, ощутил жажду и напился.
Рыбак рассказал о необычайной смелости этого человека, так как сам был недостаточно смел, (…) а жена его мечтала о смелости. Она спросила: почему вы оставили солдата некормленым и непоеным, в то время как он с вами подшутил, и он герой и не дезертир, а может быть, у офицера отбил возлюбленную и спасается. Она, видите ли, была воспитана на дешевых кинематографических фильмах, и ей простительно рассуждать так, но законы войны гораздо суровее и не столь упрощенны, как думала симпатичная жена рыбака.
Надо сказать, что рыболовство там больше мечта, чем ловля, и то, что мальчик рыбака поймал щуку, то, должно быть, ее оглушили тяжелыми снарядами, которые случайно падали в реку, и рыбак промышлял этой оглушенной рыбой. Рыбак был доволен, ибо ему война нравилась, его не брали, так как он был слаб здоровьем, и он оказался действительно рыбаком — так с детства влекло его призвание и деньги. И когда жена начала его упрекать в скаредности, он, раньше скупой и жадный, сказал снисходительно: «Да, хорошо бы покормить бойкого солдата, такой именно способен отбить у офицера его возлюбленную» — и все захохотали, как дети, так они были довольны.
Тогда жена рыбака, вообразите себе, взяла хлеба батон потолще и мяса с костью и все это понесла навстречу солдату. Она остановила Доната на тропинке и сказала:
— Я принесла тебе самый толстый батон хлеба и кость с мясом, оно совсем красное и свежайшее, не похожее на те консервы, которыми питали тебя.
И он ее погладил по щеке и сказал:
— Такое же свежее, как и ты, молодка.
И она заплакала.
Солдат ее гладил, и чем сильнее и дольше он ее гладил, тем она сильнее плакала, и наконец он спросил ее, почему ж она плачет, никак перестать не может, и тогда она сказала:
— Может быть, мы присядем, и вы будете кушать сидя, а затем расскажете мне про свою смелость.
Донат вздохнул и сказал:
— К сожалению, ты только одно из многих препятствий, и я должен пройти мимо тебя, как мне ни хочется не только рассказать, но и показать тебе мою смелость.
Она вздохнула и ответила ему:
— Ах, не говорите, я знаю, вы ищете свою невесту, но уверяю вас, что ваша невеста, может быть, и целомудренна, что не проверено, и вы ей должны верить на слово, а мой муж (…) за проявленную смелость будет вам, возможно, весьма благодарен и вознаградит вас так, как вы желаете.
— Хорошо, — сказал Донат, — но уверены ли вы, что, вознаграждая мою смелость, он сможет пройти со мной вдоль всех оставшихся пяти секторов французской армии, возвещая им великую радость о немецкой революции?
Рыбачка захохотала.
— Нет, несмотря на вашу смелость, воображаемую, он не может этого сделать.
Они пожали друг другу руки, и рыбачка пошла, вздыхая, домой с пустыми мисками.
Донат произнес речь на 4-м секторе. Успех ее был огромен. Уже многое предчувствовалось. Орудия немецкие перестали грохотать. Здесь были части героические — они даже не подали паровоза, когда к ним подъехала Щеглиха со своими девками. Щеглиха избила девок и повезла их дальше. Нас возвратили с дороги. Волк увлек нас куда-то к черту на рога.
Солдаты нас встретили хмуро. Опять мы нашли у сектора труп, и опять Донат Черепахин шел по другому сектору, пятому по счету. Девки понимали — что-то неладное, но П.-Ж. Дону не мог, конечно, мчаться, как дурак, приезжая только к результатам, — он пропустил один сектор — шестой и прямо привалил к седьмому, здесь же мы переоделись в простых солдат и стали ждать Доната.
Он задержался долго. Шурка испытывала странное волнение, так как не понимала, почему к ним не идут, и, представьте, господа, что вы торговали бы отличными товарами, а вдруг их не стали бы покупать. Естественно, что жена французской армии обеспокоилась, а от беспокойства до странностей недалеко.
Случилось так, что Донат проскользнул и через седьмой сектор. Мы узнали об этом только потому, что переоделись солдатами. Он действительно, видимо, приобрел сторонников, хотя и агитировал в одиночку. Он нашел огромную немецкую простыню и еще подальше — перину. Какой-то мародер, видимо, отнял перину у немцев и бросил ее. Донат устал. Он, смертельно утомленный, стоял подле огорода.
Был солнечный день, в комнате был накрыт стол, дело в том, что на лугу вдруг поднялся туман, и его приняли небось за газы, и семейство бежало. Он зашел, закусил, он стоял перед периной, и ему смертельно захотелось спать, он отходил, делал шаг-другой и готов был свалиться. Но он должен был сказать еще речь восьмому сектору, а затем девятому, и тогда он может уснуть, хотя бы навсегда, он не мог отойти. Он отошел в огород, прилег на грядку — и смотрел на перину и вспоминал свою родину.
Под руки ему попал лук, он вырвал и съел одну луковицу, протер глаза и понял, что все это оставлено П.-Ж. Дону, и точно: не успел он отойти за огород и спрятаться в бурьяне, как уже подъехал П.-Ж. Дону, но пища уже съедена. Дону проехал впереди в 8 сектор, и Донат, понимая, что он должен вернуться, но и должен идти в 8 сектор, несмотря на то, что туда проехали его враги, но он будет говорить — и он действительно говорил.
Надо сказать, что Шурка уже была горда, и позориться со своими кабинками в 8 секторе она не желала, и они поселились подле колодца в полуразрушенном здании. Щеглиха ее попробовала бить, но внезапно Шурка ответила ей тем же, произошла некоторая драка, и Щеглиха дала некоторое отпущение.
Мы с П.-Ж. Дону обошли солдат, и я было начал говорить, что мы беспокоимся напрасно, но П.-Ж. Дону, желавший разоблачить дезертирскую организацию, предложил мне идти к Шурке. Мы пошли, и там П.-Ж. Дону рассказал ей, в чем дело и почему солдаты не идут к ней, а если не идут, то зачем ей здесь жить.
Соображения его показались мне верными.
П.-Ж. Дону сказал ей, что это он — распространяющий сведения и ведает на 8-м секторе агитацией. Она очень этому обстоятельству обрадовалась и благодаря человеческому отношению солдат чувствовала себя как бы невестой. Она обрадовалась ему, поцеловала его, — она была совершенно помешанная, П.-Ж. Дону с его всегдашней жаждой денег и способностью француза продаться любой бабе за деньги, — начал ее выспрашивать, много ли она сохранила денег на книжке.
Да, граждане, я вам расскажу странный и страшный вечер. Представьте себе — обычное французское кафе в провинции, сарай, маленькую уличку, тщательно вымощенную — и мы сидим перед проституткой и перед бандершей Щеглихой, которая играет роль матери, надеясь, что, потакая дочери, ее тем самым вылечит.
Постепенно в кафе стекаются усталые солдаты восьмого сектора, уже среди них распространился слух, что к солдату, чрез все заграждения и окопы, пробрались его невеста и его будущая теща. Граждане солдаты почувствовали восхищение, и надо сказать, что в этот вечер мы с П.-Ж. Дону чувствовали себя героями. П.-Ж. Дону влез на стол и начал было произносить речь, но тут он увидел священника, медленно с ковшиком святой воды приближающегося к нам, и П.-Ж. Дону воскликнул:
— Обратитесь и спросите святого отца, должны ли мы продолжать войну, и он ответит вам и с Писанием и со святой водой.
Священник подошел к колодцу — и вдруг уронил в колодец ковшик со святой водой. Солдаты, естественно, должны были ожидать, что священник или пожертвует ковшичком или же попросит слазить солдата, но произошла странная история, священник задрал рясу и полез в колодец сам. Это было дико и превосходно задумано. Солдаты 8-го сектора покинули нас и устремились к более интересному зрелищу: как лезет в колодец священник. А священник, как выяснилось потом, стоял по пояс в холодной воде, держа в руках ковш, и говорил:
— Французы, с кем вы воюете? У немцев произошла революция! — И все подобные фразы, которые могут недостойной болтовней своей волновать солдат.
Солдаты отходили опешившие — тут было много из колоний, вообще номер был воплощен и сделан довольно удачно. И когда многие солдаты выслушали речи у колодца и колодец был, так сказать, использован, — священник вышел и подошел к столу.
Несомненно, что внимание было на его стороне, но и он ошибся, он все осматривался, и ему хотелось объяснить Шурке, так как он был человек благородный, чтобы она ехала и что он освобождает ее от звания невеста. (…) Он был странный человек и жизнь свою закончил странно.
П.-Ж. Дону по изменившемуся тону солдат понял, а я гораздо позже понял, но теперь надо было его задержать, и Дону понимал, что, не поговорив с Шуркой Масленниковой, — Донат с 8-го сектора Верденского сражения не уйдет. В нем было какое-то странное благородство — и эта русская способность жертвовать собой по пустяку. Он волновался, ждал Дону.
И тут-то П.-Ж. Дону испытал себя. Он стал сомневаться и стал загадывать загадки, дабы оттеснить от Доната солдат. П.-Ж. Дону с общего согласия предложил пищу. Они выбрали еду. Они ели рис. П.-Ж. Дону был хитер, его трясла лихорадка, ибо неизвестный солдат, речь о котором уже шла по всем секторам армии, был в его руках. Как Донат был голоден и как он жрал. Он съел больше всех и думал, что привлекает благодаря этому еще солдат, которые не распропагандированы голосом из колодца. Они съели рис. И тогда Донат предложил ему самую странную баню. В печь положили раскаленное ядро, не взорвавшееся, но которое могло взорваться. Они подошли. И Донат влез. Я видел страх П.-Ж. Дону, потому что к чертовой матери вообще бы разнесло все кафе. Солдаты выражали восторг — священник мылся.
Тогда П.-Ж. Дону, видя, что Шурка уже идет к священнику, предложил ему игру в прятки, надеясь, что, если Донат пойдет прятаться, он дойдет до первого места и позвонит в отдел — и кончено, солдат будет арестован или все [это] место вместе с солдатами почистят пулеметами. Священник воскликнул:
— Хорошо, я иду прятаться первым, — он остановился. — Но я уже спрятан лучше всех. Вы не понимаете, солдаты, так я тот Неизвестный Солдат и оратор, которого ищут по всем 8-ми секторам французской армии.
Девка закричала: «Донат!» — и бросилась к нему на шею.
Ах, это подлое французское командование, которое награждает негодяев и не могло наградить меня, искренно преданного делу французского народа, они и тут подвели меня.
Солдаты страшно взволновались, когда оказалось, что Неизвестный Солдат на 8-м секторе и это он будет говорить с ними. Но тут-то вполне проявился талант П.-Ж. Дону, который протянул руку через стол и воскликнул:
— Я председатель лиги дезертиров!
Донат не выразил никакого восторга, тогда он исправился:
— Я председатель дивизионных и полковых комитетов, тайно выбранных, и мы с тобой, друг, должны составить прокламацию к солдатам о прекращении братоубийственной войны.
Донат здесь потерял всякую осторожность, потому что он слепо верил духу солдат и не знал, что следы его усеяны трупами и расстрелами П.-Ж. Дону. Он пошел за П.-Ж. Дону. Они поднялись во второй этаж. П.-Ж. Дону поставил охрану, чтобы не попали следопыты. Донат шел смертельно усталый. Он вяло улыбался мне:
— Хорошо б соснуть полчаса, я не спал пять ночей.
Он никого не узнавал. П.-Ж. Дону отстранил Шурку, пропустил Доната в комнату, дал ему лист бумаги, тот наклонился, и П.-Ж. Дону сказал:
— Вы устали, товарищ, вам трудно сочинять. Я диктую. Пишите. «Французские рабочие…»
— Французские… — повторил устало Донат, и тут П.-Ж. Дону выстрелил ему в затылок.
На выстрел побежали люди. П.-Ж. Дону прыгнул в окно. Его ловили, а еще немного — и застучал пулемет. Солдаты вошли, кто-то из них сказал:
— Он умер и будет похоронен неизвестным.
Я пополз за ними, я стоял над ним, я вылез из-под стола. Они сказали:
— Правильно, надо ему поклониться перед смертью.
Донат, когда наклонился, схватил конец той бумаги, с написанными им словами, и так повалился на пол, сраженный пулей подлого контрразведчика. Да, многие из нас так умерли. Он лежал — с каменным лицом и вытянув крепкие руки. Волосы у него отросли и закрывали каменный лоб.
П.-Ж. Дону вилял среди сада, я думаю, он убежал, ни капли не задумавшись предать меня, и в то время как я дрожал под скатертью, думая, что с минуты на минуту какому-нибудь солдату придет в голову мысль заглянуть под стол. Нет, война — страшная и утомительная вещь. Там стучали какие-то части. Какие-то люди стонали, солдаты, оказывается, арестовали офицеров и готовили баррикады. И вот мне суждено было участвовать в последней комедии этого Неизвестного Солдата.
Солдаты решили похоронить труп Неизвестного пока в общей могиле подле камня, об нем вспомнили, когда только поспешно был начат разговор о могиле. Они решили закопать его временно — и бывают же странные улыбки истории — его могила оказалась действительно временной. Они, может быть, и хотели сохранить его могилу.
Они отрыли могилу, положили тело во временном гробу и сделали отметку, принесли гроб — дескать, место занято. Могильщик спал и, наверное, едва ли удивился, что одного креста не хватает. Была лунная ночь, я как сейчас помню, и так как я по разговорам с П.-Ж. Дону приблизительно знал дислокацию, по которой будут наступать на восставших солдат 8-го сектора те части, которые их будут подавлять, то я устремился в ту сторону, которая была противоположной, и, таким образом, счастливо избег и участи подавленного восстания, и участи победителей, что тоже весьма неприятно.
Победители!.. 9-й сектор фронта, на что обращаю я ваше внимание, не упоминается, чьи трупы попали в Верден. Я думаю, это был тот сектор, который не посетил Неизвестный Солдат. Вам, конечно, трудно выслушивать все это, но уверяю вас, что это полезно. Французское командование, не доводя до солдат известия о немецкой революции, двинуло туда войска, немцы, растерянные, дрогнули. Первые сведения о волнениях среди немецких солдат принес П.-Ж. Дону. Конечно, он был достойно вознагражден, ему не поверили, но войска дрогнули, а солдат, который сообщил о немецкой революции, только помог, потому что горячие головы, которые ему были рады и которые ему сочувствовали, — их всех скосили пулеметы учреждения, в котором служил П.-Ж. Дону, а в девятом секторе шло внутреннее брожение, которое и послужило ему слабостью — солдаты еще не знали силы своих винтовок — и двинули вперед.
Французское командование было спасено от винтовок своих солдат смертью Доната Черепахина — чудовищный клубок его бреда продолжал катиться и после его смерти, что я увидел в Вердене, в крепости, куда привезли трупы с восьми секторов фронта. П.-Ж. Дону, видимо, в чем-то видел мою вину, и он смотрел на меня, и мне казалось, что я должен подойти к тому гробу, я подошел и положил венок. У меня больше всех был потрясенный вид, поэтому седой генерал и сказал мне:
— Ваш солдат.
Тогда приоткрыли гроб, и я увидел остатки бумаги и сжатые кулаки Черепахина, и я увидел его искривленное лицо и смертельный испуг [П.-Ж. Дону], и я почувствовал, что, несмотря на все его повышения, мне нечему ему завидовать. [Донат] лежал, но кусок солдатской бумаги с зеленой пушкой среди цветов и луга бросился мне в глаза. Мы отлично и оба помнили, как Донат перечеркнул эту пушку и зелень и слабо улыбнулся.
П.-Ж. Дону хочет мне отомстить и гонится за мной. Я не мог больше тихо сидеть в кафе, я признал Россию, но немедленно их посольство поселилось в N-ском переулке, и какие-то странные люди приходят на те спектакли, в которых я играю. П.-Ж. Дону знаменит, но он думает, что я это сделал нарочно, — я не забуду его глаза, и я перед смертью должен сказать вам то, что бормотал умирающий в те минуты, когда нас оставили одних в комнате и когда я, как в глупом фарсе, сидел под столом. У меня нет сил, но если попробуют разжать кулак, то увидят — и я буду требовать, чтобы разжали этот кулак, — и вы посмотрите на этот крестик.
Глава шестьдесят первая
— К актеру, — сказал профессор, — мне и подходить стыдно, и тем более верить тем сказкам, которые он распространяет.
Кто как ему верит, но жена профессора попросила крестик, который он привез от сына, и все посмотрели.
— Крестик, действительно, тот, — сказала мать Доната, — который подарил ему отец.
Но профессор отказался от крестика, и тогда жена сказала:
— Значит, и ты отказываешься от сына.
«Почему же актер сказал, что рассказ этот надо рассматривать как предупреждение — в нем его никто не увидел, и все прослушали рассказ молча, все это кажется очень странным, если не более, и актер мне кажется странным, и невозможно узнать: коммунист ли мой сын и почему действительно немцы подарили мне бутылку ликера, а может быть, они не немцы, а действительно французы».
Шурка, слышавшая их спор, подошла и сказала, сияя глазами, что всё, что рассказал актер, — действительно правда и рассказывает он очень складно и знает гораздо больше, чем знаю я. Профессор посмотрел с презрением на вялую фигуру наглой девки, повязанной черным платком, подумал, что многие узнают, в частности, то, что он жил с Мургабовой — главное, здесь много было правды. Его жизнь налажена, ничего нового актер к тому рассказу, который он произнес, добавить не сможет. И профессор торжественно сказал:
— Подите вон! Все это жалкая спекуляция, я давно получил сведения, где похоронен мой сын, но я не верил, как и со всяким отцом может случиться, этим сведениям из французской армии, а теперь вижу, что на моем сыне спекулируют, и я отказываюсь, я не знаю вас, актер.
— А вы не признаете меня?
Актер обходил всех — и когда дошел до Шурки, то та не признала его. Актер сказал:
— Видно, действительно, и вы запуганы, если решаетесь на это, и вы не желаете слушать, отец, то завещание, которое мне прошептал ваш сын?
Старик разозлился:
— Не мог он такому дураку шептать завещаний, не желаю я вас слушать, извольте пойти вон!
Актер сказал:
— Хорошо. Напрасно я надеялся на вашу помощь и думал, что вы сильны, так как осмеливаетесь не только бороться с Мануфактурами посредством богородицы, но и на кулачках побеждать их.
Спор разгорался. Актер приводил мелочи. И Щеглиха, и даже Шурка отреклись от него.
П.-Ж. Дону замучает меня жестокой смертью, он заставит играть меня в революционных спектаклях, будет ходить, зная, что я за каждый спектакль должен ответ дать, не только перед собой, но и перед властью, — как же вы, мерзавец эдакий, можете играть вождей и играть похоже, когда вы служили в контрразведке? Выходит, что каждый из наших вождей может служить в контрразведке. Да будет вам стыдно. И мне станет стыдно — и я зальюсь слезами, и не посмею я изобличать даже самого себя. Вы правы, что не признаете меня, и даже Шурка права в своем презрении, не говоря уже о профессоре.
Актер умолк — и все вместе с профессором негодовали на него. Но профессор заметил, что и к нему стали относиться подозрительно. Кто бы мог подумать, что история с Мургабовой всплывет и может служить поводом для неудавшегося шантажа. Жена ему верила, она без лишних слов поверила ему и на этот раз. Но он потерял оптимизм — и законный пессимист в ту ночь долго не спал, ему то казалось, что актер подослан, то, ради своего благополучия, а не ссор, он предал память моего сына, и то непонятное волнение, которое ощущал он, когда по приезде в Париж вышел из подземной железной дороги неподалеку от площади Этуаль, и как все двенадцать улиц, выходящих на площадь, ринулись на него, — он не мог поступить иначе, иначе он не попал бы на площадь второй раз поклониться своему сыну — и имеет ли право он поклониться ему теперь, когда отрекся от него? Жена его тихо расспрашивала о Триумфальной арке, что если это доказать, — то французское правительство не отказало бы в пенсии, но наше бы не дало, и даже для нас могли бы произойти какие-то неприятности. Они с любовью смотрели на поддельный шартрез. Это им казалось даром французского правительства, и он не протестовал, когда жена, строго глядя на бутылку, закупорила ее и поставила на божницу и затем вздохнула:
— Ну вот я не поняла, хотя это и похоже на Доната, он что же — шел по побуждениям общечеловеческим или же в конце концов к отцу, когда узнал, что отец роет такой ров? Я хотела об этом спросить актера, но ты смотрел на него так грозно, что я и не осмелилась.
— Ты — дура, — ласково ответил профессор. — Как он мог не идти на призыв моего рва, когда он знал, что это наука? Он уважал науку, Донат.
Старик был расстроен, и жена не возражала ему, хотя ей и хотелось сказать, что, по всем данным, Донат мало уважал науку, он уважал людей науки, друзей отца, но её самое…
Плотовщики смотрели. Они складывали дрова в поленницы. Многие не пошли драться за Кремль, им надо было поспешнее работать. Агафья прошла мимо, а затем засеменил подле нее Е. Чаев, льстиво заглядывая ей в лицо. Плотовщикам не понравилось, как она самонадеянно прошла мимо, их это обидело, но хотя Агафья и чувствовала себя гордой и гордилась тем, что Кремль побил Мануфактуры и божеская слава Кремля возрастает. Е. Чаев говорил, что пришел какой-то Неизвестный Солдат германской войны со своими сказками, и что он очень подозрителен и не мешало бы его убрать, и что Е. Дону очень возбужден — и что надо бы парня умирить, — Милитина Ивановна, жена немца, тоже поссорилась и избила Шурку Масленникову, вообще он ввел много ссор, и что П. Ходиев умирает, он, оказывается, дрался уже совсем больным, простуженным, а жена его сидит на лавке, и когда вошли, дверь в избу была открыта — и вся изба выстужена. Агафья сказала, что придет к П. Ходиеву, а тот пожелал попа.
Плотовщики сбросили поленья — и им было холодно. Они стали играть, баловаться, подталкивая друг друга. Все больше и больше они подталкивали. Жалкий актер стоял у дверей чайной и посмеивался. Они крякали, подскакивали от земли, бодро вскрикивали, и затем одному из них показалось, что кто-то толкнул более сильно, чем нужно. Злость кипела в них давно. Они не пошли драться, потому что не пошла Агафья смотреть, так она была убеждена в том, что они пойдут и без нее. (…) Тот, которому показалось, ударил другого. Они еще по инерции, по разгону подпрыгивали, но уже дрались. Актеру стало страшно. Полетели полы полушубков, разорванные шарфы, метель моталась подле них. Они схватили поленья, и один из плотовщиков повалился с окровавленной головой. Кто-то стонал. Улица огласилась криками. Плотовщики дрались и дрались. Они кусались, рычали. Актеру было страшно — и он крестился мелкими крестиками.
Глава шестьдесят вторая
Угрожающие события в Мануфактурах выразились в захвате храма, но, несмотря на то что ячейка обещала поддержать, все-таки не собрали достаточно денег для того, чтобы можно было отремонтировать храм. Рабочие боялись, но обилие храмов в Кремле утешало их; все это заставило Агафью настаивать на том, чтобы устроить уездный съезд мирян и членов двух религиозных обществ. Приезжавший епископ Варлаам из губернского города всецело одобрил ее начинания. Он трясся на телеге и говорил, поглядывая на Евареста, что давно Кремлю пора и интересы православия требуют возобновления епископства в Кремле. Агафья так и поняла. Она гордилась деятельностью Е. Чаева и чувствовала в этот день какое-то странное волнение, о котором мы уже упоминали, да и напор мужской, да и зима, когда от нее требовалось много деятельности. О. Гурий вел себя чрезвычайно странно и даже не появился при приезде епископа, — все это волновало ее, и она в тот день, когда предполагалось сражение с мануфактуристами, утром подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Она значительно располнела, груди у нее напряглись, она поспешно оделась. Поэтому она и посмотрела несколько пристально на Е. Чаева, когда она шла мимо плотовщиков, и этот взгляд-то и обеспокоил их. Она думала, да, наверное, так думал и Еварест, что через месяц можно созвать епископию, выдвинуть Евареста и даже, если будет ребенок — она шла и рассуждала совершенно умом, будучи совершенно уверенной в своей силе, да иначе и быть не могло; она, несомненно, продержит Евареста в своих руках, выдвинет его на место епископа, а затем — женится он или не женится, да даже, на худой конец, младенца можно свалить на все семейство И. Лопты и окончательно убить тем смирение о. Гурия, из-за чего, собственно, теперь на нее смотрят косо, а тогда, если он ее изнасиловал или опоил, то все поверят — и не будут же из-за ребенка поднимать шум во всей епископии. Ей надо было б пойти, но она не пошла ко смертному одру П. Ходиева. Все из дому ушли в гости. Она сидела у окна, а Е. Чаев говорил нечто вроде доклада и делился своими впечатлениями о том, как он провожал епископа и как тот вновь повторял ему свои мысли об епископии: ему надо действовать — до съезда мирян или же после съезда: но, кроме того, необходимо тоже до съезда напечатать библию, потому что «когда я выйду с библией на съезд, мое владычество будет обеспечено, и я думаю, что епископ, собственно, сегодня потому и дал такого крюка, чтобы узнать, как у нас идет печатание, в каком оно состоянии».
Он говорил чересчур много, сидел от Агафьи на почтительном расстоянии и тихо смотрел в окно, на Волгу, туда, куда смотрела она. Если бы он сейчас положил ей руку на руку, она оттолкнула бы его и сказала б, что пора, действительно, попрощаться с П. Ходиевым, а то гляди: не сегодня завтра человек умрет. Она так и думала, но, с другой стороны — мягкость и тишина старинного дома сегодня пленили ее, ей захотелось, чтобы ее приласкали и утешили, не все же ей утешать других. Она положила руку на руку Евареста, она давно и много раз так делала, когда хотела его как-то ободрить, — и сначала это волновало его, а затем он привык.
Он не думал никогда, что будет любовником Агафьи. Он просто верил в свою звезду, потребность в женщинах у него была слабая. Он погладил ее по рукам, она положила ему руку на шею, и тогда он осмелел, и хотя потребность у него была малая, но он был смел. Он ее обнял, она потянула его на себя, лицо у нее было серое, решительное и строгое. Она командовала им и ласково сказала: «Не туда, дурак, не туда». Она, видимо, не испытывала никакой страсти, а все холодно, властно наслаждалась своей властью, лицо ее пылало, но Е. Чаев почувствовал восторг и наслаждение.
Она сказала:
— Ты сходи к П. Ходиеву, а я устала, я лягу спать, — а ему скажи, что нездоровится.
Она не чувствовала никакой слабости, но, чрезвычайно гордая, легла и тотчас же заснула. Разбудили ее шаги, и она увидела Л. Селестенникова, она впустила его, и он сказал:
— Весь вечер сижу и жду, когда можно поговорить. Все, что ты слышала о Неизвестном Солдате, это все для тебя и ради тебя. Я хочу сказать, что ради тебя готов на все.
Агафья, зевая, села на лавку и сказала:
— Хорошо, что готов на все, вот и помирись с Отцом, а там и жди.
— Но долго ли ждать придется? Мне уже много годов.
— Собственно, не стоит тебе ждать. Вот возвысилась и не знаю — девушки, видевшие мое возвращение сегодня, будут умней.
Л. Селестенников:
— Ты приносишь мне убытки, моя чайная прогорела, я всю ночь ходил и думал: за что бы мне приняться? Я готов пить воду с твоих сапог, чтобы ты только не уставала. Они тебя надуют, они подлецы — и твой И. Лопта и Е. Чаев, они предадут тебя.
Она посмотрела на него и строго сказала:
— Пополощи ступай рот. Стыдись. Ты согласен примириться. Я забуду.
Он сказал, что готов ее увезти, если ее не отпускают, украдет; он, должно быть, был пьян. Она чувствовала усталость и какую-то смелость. Она поставила таз, наклонила ему лысую голову и стала лить холодную воду, она хохотала, а он подвзвизгивал — и кричал:
— Ей-богу, снесу, снесу!
Он согласен предать старика, войти к нему в добрые, обокрасть и сделать все, что хочешь. В дверях стоял И. Лопта и его сын. Она сказала:
— Лука пришел просить у тебя прощения, а я испытывала — трезвая ли у него голова.
И. Лопта подошел к нему:
— Отец о нас заботится, я повинуюсь ему, я продолжаю смирять свою гордыню так, как Он требует.
Глаза у него бешено и злобно сияли, а сын его о. Гурий стоял подле него, худой и тощий, тоже испытующе смотрел на Л. Селестенникова. Тот чувствовал, что ему трудно их обмануть.
— С истинным ли ты смирением глядишь на мир? — спросил И. Лопта.
Тот ответил, что с истинным. Агафья была недовольна, она поняла взгляд И. Лопты — почему она вдруг решила унизиться до того, что стала объяснять причины, почему она льет воду на голову Л. Селестенникова. Она подумала, что их надо выдвинуть обоих — и Е. Чаева и Л. Селестенникова, — чтобы они, следя друг за другом, доносили, и, таким образом, обнаружилась бы подлинная истина. И И. Лопта поцеловал Л. Селестенникова.
Глава шестьдесят третья
Вавилов после схватки кулачников — он не был на виду, он прятался, но ему страшно хотелось [вмешаться] — почувствовал себя разбитым больше, наверное, чем разбитые кремлевцы. Он стоял у крайней избы, замерз и возвратился в клуб поздно. Он чувствовал себя и огорченным, ему казалось, что кремлевцы бы разбили, тогда было бы легче. Он не разделял общего мнения, что надо бить кремлевцев. Он сидел долго, зашел в редакцию стенгазеты, клеил ее — ему не хотелось возвращаться домой. Клуб запирали поздно ночью, в час, иногда — в два. Он решил заночевать. Он думал, что вот ему уже нанесено второе поражение, сначала — машинами, затем второе — вот этой дракой. Но шло все нормально, и это было самое страшное, потому что эту нормальность нечем было побороть. Он хотел культурного строительства, а получалось черт знает что такое, но он не решался спрашивать, «а что же для себя лично ты хочешь?».
У него было много записок на заседания, на которые он должен был попасть, и так как он учился, то обязан был верить в силу этих заседаний, а в них был только один смысл — люди, чужие друг другу, учились дружески относиться — вот и весь смысл и все задачи. Утром он увидел, что пришел актер — вид у него был замерзший и достаточно отвратительный, и Вавилов спросил его: что он, напился, что ли? И актер подсел к столу, на котором он спал на бумаге для стенгазет, придвинул табуретку и сказал, что был в Кремле и его не поняли, но «насколько он понял из намеков, предложили мне подкупить вас, чтобы вы не производили давления на церковь, иначе будет разоблачено ваше происхождение».
Актер врал, он не мог сказать истины и того, как к нему относились, но ему хотелось хоть как-нибудь отомстить, и Вавилов понимал, что тут что-то не то.
— У вас есть свидетели, которые подтвердят истину того, что вам предложили в Кремле?
— Свидетели? Нет. Кто же такие вещи говорит при свидетелях? Но у меня есть деньги, которые я могу вам передать.
Актера возмутило такое холодное отношение; он возвратился в самое пекло сражения и, может быть, на смерть от французских агентов, и он говорил уже и сам верил тому, что говорит. Он убеждал принять деньги. Вавилов может приобрести квартиру, мебель, он может спать спокойно, а не сокращать своей жизни спаньем на столе и на грязных бумагах. «Не говори, что умен, — найдется умнейший; не говори, что хитер, — найдется хитрейший».
Он лукаво подмигивал, и Вавилов понимал, что, может быть, денег-то у актера и нет, но ему важно только душевное падение Вавилова — и ему самому было важно это, потому что ему трудно было преодолеть эту жажду к деньгам. Он понимал, что если он уличит актера, то тот впадет в отчаяние, откроет ему нечто более важное, в то же время он и боялся попросить его показать эти деньги, так как знал свою жадность и то, что ему не удалось сразу ее преодолеть. Он пошел бы всюду, куда бы ему актер теперь ни предложил.
В это время пришел курьер с папкой и с большим пакетом от горкомхоза, — там лежали ключи и бумажка, что, согласно известному постановлению №…, клубу препровождаются ключи от храма. Актер грелся у печи, ехидно посматривая на пакет.
— Видите ли, теперь мы созовем некую комиссию, которую вы поручаете мне, — он уже врал, так как ему не было выбора, и он, теперь начав, должен был довести свою ложь до конца, то есть осмотреть церковь, предполагаемую под клуб, — а что же комиссия, ей не трудно, она признает, что ремонт столь труден и ответственен, что церковь, в гаком ее положении, мы принять не можем — и я с победой возвращусь в Кремль.
Измаил вез своего сына из больницы. Слепой дед встречал. Это было трогательное зрелище. Там шли молодые узбеки с горящими глазами и беспричинным смехом. Актер отделился от Вавилова, и они начали оба жестикулировать. Актер убеждал его, что главные враги его — иностранцы. Измаил указал на гору и сказал:
— Вот гора, с которой мы с тобой можем увидеть рай. Мальчик мой вскормлен ледяными грудями такой же горы.
Актер бормотал:
— Чудесное сравнение, чудесное. Вы не можете предать друга. Мы поднимемся сегодня же на эту гору, найдем там кусок неизвестного дерева и обрывок красного знамени, которое висит там еще с времен Стеньки Разина.
Мустафа застенчиво улыбался. Узбечки встретили его в праздничных платьях. Он посмотрел на Кремль. Вавилов подумал, что хорошо бы ему иметь такую восторженную девушку с налитыми жизнью глазами, а еще он думал, почему актер страшно беспокоился и искал какого-то убежища, и ему стало страшно, что он мог думать и на какие-то минуты верить, что кремлевцы могут доверить актеру деньги, но с того момента, как он подумал так, он решил, что он не взял бы денег от актера, — но все его размышления убедили его в том, что уже одно то, что он поверил актеру, который теперь будет говорить, что это глупая шутка, — он должен признать, что побежден деньгами. Он хотел было идти за актером, и уже когда шел, он придумал предлог, почему он придет в Кремль, — навестить умирающего П. Ходиева. Измаил нес нежно на руках своего сына. Вавилов смотрел на него с завистью.
Весь день он чувствовал уныние. Он положил ключи, и все, в том числе и «четверо думающих», кроме Колесникова, смотрели на ключи. Они были ржавые, старинные. «С такими ключами и силу надо неторопливую иметь».
Вавилов вспомнил, как в субботу по-особенному пели колокола — это прощался Колыван Семенович. Вавилов знал, что никакой физической мести ему не будет, все это маловероятные крайности, но самое главное — это не опозориться. Вавилову в клубе рассказали многое. Он был очень расстроен весь вечер.
Он был трус и боялся смерти — и вдруг на него напала слабость, он подумал, что его последний друг, который к нему пришел, умирает. Он едва досидел до конца заседания, ему подумалось, что плохо он может формировать друзей, а еще хуже — заседать.
Глава шестьдесят четвертая
П. Ходиев умирал. Его широкая грудь хрипела. Он просил жену созвать своих приятелей, и та, вечно с ним спорившая, послушалась его. Раньше это показалось бы ему подозрительным, но теперь ему было все равно. Они собрались трое. Ходиеву по всему было видно, что это были те соперники, которые, по его мнению, могли завладеть Агафьей. Он ждал еще двух и все спрашивал: «Когда же они придут?»
Он смотрел на них хитро, и они думали, что он им откроется, что жил с Агафьей, и они знали, что не поверить человеку умирающему нельзя, они трепетали. Он попросил карты и сказал:
— Вы думаете, я смерть хочу отсрочить? Ну, так и думайте!
Он смотрел на них с насмешкой — и они так и думали, хотя ясно было, что он сбирает все свои силы. Карты держала его жена, он смотрел на ее унылый и разбитый вид и улыбался, но тотчас же ловил себя.
Дверь раскрылась. Он открыл глаза — и, увидев Вавилова, снова их закрыл. Слабость овладевала им все больше и больше. Он ждал. Двоих искали. Должен был прийти Е. Чаев. Жена подошла и сказала:
— Муж мой отстал от меня, как красивый, но слабый конь. Разве я виновата? Не старая я, а уже сегодня похожу на труп больше, чем он. Не в тюрьме я, а Мануфактуры сделали из меня узницу.
П. Ходиев, видимо, не хотел, чтобы Вавилов о чем-то его спрашивал. Когда [тот] наклонился к нему, он закричал:
— Ничего не знаю! Ничего! Сдавай!
Жена его сдала карты. Вавилов попытался несколько раз говорить.
Ходиев чувствовал свою слабость и боялся проговориться. Он требовал еще карт. В веках у него билась какая-то мушка, он не хотел показать, что боится смерти, и потому долго думал над картами и в то же время боялся, что думанье это будет рассматриваться приятелями как его слабость. Он вспомнил Вавилова, тоже, наверное, из желания занять его и показать, что в нем достаточно силы, он сказал:
— Вавилов, у меня жена, как и у тебя, уходила к другу.
Вавилов ответил:
— У меня нет жены.
П. Ходиев улыбнулся:
— Уходила, брат. А потом и вернулась. Я ее принял и наутро проснулся поздно. Выхожу из горницы, а мать мне и говорит: «Кабы б… долго так не шаталась, ты бы и совсем из спальни не вернулся». А я ей отвечаю: «Потому что она долго шаталась, я и не могу наглядеться на нее». Вот какой я был удалой. Сдавай, жена.
Он сказал, чтобы пригребла деньги. Он хотел сказать, что деньги нужны, сгодятся на похороны, но промолчал. Вавилов вдруг почувствовал жадность к деньгам. П. Ходиев сказал раздраженно:
— Вавилов, я тебе и про твою жену рассказал, а ты бы ушел отсюда. Что тебе здесь делать? При смерти должны быть только врачи и попы.
Он вдруг ощутил необычайную слабость в ногах и сказал:
— Свету.
Ему придвинули керосиновую лампу. Он озлобленно вскричал:
— Опять керосину не налили. Где поп? Где Гурий?
Дверь распахнулась — и вошел отец Гурий. Все они вежливо и сдержанно поклонились. Необычайная радость охватила П. Ходиева. Он сожалел, что не мог выразить все то, что хотел. Он сказал:
— Поп, каюсь…
И махнул рукой, чтобы скинуть лампу, и жена кинулась предупредить это движение, но рука ослабела, и он промахнулся. Он, наполненный огромной радостью, видел, как сшиб лампу, как распространилось пламя на полог и на избу — и как соперники его сгорели вместе с ним. Дрожь охватила его. Отец Гурий сказал грустно, глядя в землю:
— Все из-за Агафьи.
И тогда тело умершего вытянулось, и Вавилову даже показалось, что привстало. Вавилов стоял в сенях. Ему хотелось бы посмотреть, не придет ли эта знаменитая Агафья, но все вошедшие были мужчины. И все и он поняли это движение — и Вавилову стало как-то неловко, что он способен был прийти к такому человеку, дабы выпытать у него перед смертью: хотят его, Вавилова, убить или нет?
Хотят его убить или нет?.. Такие люди, как П. Ходиев, конечно, могут убить. Но Вавилову именно хотелось, чтобы его хотели убить. Или это опять моменты желания самоубийства, которые и раньше находили на него, или из тщеславия раскрыть убийство, что он человек опасный для Кремля. Мимо него проходило много людей, многие из них казались ему знакомыми.
Он узнал профессора. Он удивился. Тот же ему хвастал, что ведет размеренную жизнь. Он на него посмотрел. Вы знаете, кто такой Неизвестный Солдат? Нет, Вавилов не был за границей. Он ответил прямо — ему доставляло удовольствие чувствовать себя героем, да и, кроме того, его самоубийственные наклонности его тянули, что ли:
— Вы знаете, меня мало интересует Неизвестный Солдат, но если я солдат революции, я хожу по Кремлю в поисках смерти, и люди, желающие меня убить, могут меня убить. Зайдемте к товарищу Старосило.
Старосило не спал, он пытался писать свои мемуары, но ничего не выходило из этого. Все его друзья говорили о том, что у него замечательная жизнь, но никто не хочет помочь ему ее рассказать. Он садится за перо — и ничего не выходит. Вавилов рассказал было о замечательной смерти П. Ходиева, но товарищ Старосило меланхолически сказал:
— Хулиганы. Давайте устроим объединенное собрание по искоренению хулиганства, а то я только заседаю, растолковывая инструкции, самостоятельного же творчества нет совершенно.
Профессор З. Ф. Черепахин все разговоры пытался свести на Неизвестного Солдата, и товарищ Старосило вдруг бодро сказал:
— Дернем, что ли, по рюмке?
Вавилов сказал, что отроду не пил, а профессор выпил рюмку и закусил жесткой, как подошва, колбасой — и когда подняли рюмки, то и Вавилову и профессору Черепахину их недоумения и их страхи показались обычной российской путаницей, когда люди не имеют ни воли, ни желания, ни веры идти по прямому пути, а непременно свернут на окольный сократить дорогу — и пойдут и в рытвины и в грязь. Все это высказал профессор Черепахин, и все согласились с ним. И это собрание, конечно, было не менее странным, чем та смерть, которую наблюдал Вавилов, и те немые фигуры в рваных тулупах и пальто с барашковыми воротниками, расходившиеся от ворот дома П. Ходиева.
Товарищ Старосило страдал, он хотел, чтобы выпили, но тут присутствовал беспартийный, и он все равно не мог высказать при беспартийном своих страданий. Он страдал молча, смотрел соболезнующими глазами на профессора — и пил. Он посмотрел на рюмку, потом на профессора: «Я не верю в возмутительную историю, рассказанную актером», опять выпил и сказал:
— Заключительный аккорд.
Глава шестьдесят пятая
Гурий подслушивает разговор Агафьи с ее возлюбленным Еварестом:
А. Намеки мои об убийстве Вавилова надо проводить в жизнь. Я ждала довольно. Я проверила и сосчитала силы, и теперь я буду действовать. Я буду просто предлагать искателям себя в качестве выкупа, если ты не примешь меры.
Е. Я думал, ты шутя. Я согласен с тобой. Тем более, что Вавилов влюбился в Зинаиду, или, во всяком случае, он закрепляет за собой коммунальный отдел, и мы едва ли выручим нашу церковь.
А. Церквей у нас и без того достаточно. Надо так убрать Вавилова, чтобы это не походило на убийство, или то, что ты задумал на «стенке», это просто глупо — и он сам хочет, чтобы на него совершилось покушение, надо убить его незаметно.
Е. Про наших кремлевцев рассказывают, что они вечером нашли сапоги, боялись долго к ним подойти, а затем решили, что это футляр от мотыги. Вот они, твои хваленые мануфактуристы!
А. Анекдотами не отделаешься. Я нахожу удовольствие в составлении планов, а ты их должен исполнять. Я мать-девственница, и ты должен меня слушать. Я обманула небесного Отца, и сейчас пойми, что если спасу Кремль и печатание библии, то это — господь простил мне мою гордыню, — и после падения это будет величайшей моей заслугой перед богом — и едва ли я не смогу получить мученический венец. Убивать омерзительно, но сократить жизнь — можно, и, кроме того, если я взяла грех на себя убрать Вавилова, то почему я не могу взять другого греха? Но нам здесь в доме опасно, и мы должны выселить отсюда стариков. Хотя мы их направили в кухню, но подобное смирение, которое проявляет И. Лопта, мне мало нравится, и надо выдумать пути, которые лучше бы мне позволяли грешить. Я за все отвечу разом — и за свою гордыню и за свой оптимизм. Какой-то линией наш Кремль побеждает уже. Я видела, как Вавилова тянет на кулачные бои, тут один шаг до того, что он откажется от своих затей.
После этого они стали ласкаться, и отца Гурия все это возмутило. Имел ли он право открывать все это теперь, когда печатание библии дошло до половины и когда Еварест должен был вместе с казначеем ехать в Москву за бумагой. Он будет считать, что ему послышалось, он старался отогнать от себя всякие нехорошие мысли.
Все это ему так казалось. Он вошел. Они сидели чинно. Отец Гурий подумал, что он плохо себя чувствует и что ему надо бы полечиться — а то он сбивается на плохие театральные эффекты.
Еварест был огорчен. Он с трудом нашел в Мануфактурах ту свою знаменитую миниатюру с Агафьи, украшенную рыбками, — отнес ее к инженерам. Они рассматривали ее долго, профессор сказал, что они много понимают в религиозном да и в таком искусстве. Еварест надеялся на улучшение своей карьеры, но отчасти думал, что и освободится от власти этой взбесившейся самки. Он должен был получить уверенность, а дальше бы он нашел, как и в чем ему работать. Иностранцы рассматривали картину внимательно, а затем один из них вернул ее и отличным русским языком сказал:
— Твердая рука, отличный копиист, но не представляет никакой ценности.
Еварест все-таки не думал, что суждение будет такое резкое, но иностранцев возмутил самоуверенный вид молодого человека, и иностранец добавил:
— Впрочем, можете мне не верить — и продолжать ваши работы. Это богоматерь?
— Да, — ответил Еварест, чувствуя страх и нежность к Агафье.
Агафья в эти несколько дней проявила энергию. Она разрабатывала план уездного съезда религиозных обществ, которые разрослись благодаря своеобразной агитации Афанаса-Царевича. Еварест чувствовал, что он тоже должен поступать более энергично словами, если не может — делом. Он поэтому и завел разговор, который удалось уловить и понять подслушивавшему Гурию. Рухнула надежда стать художником, или, вернее, зарабатывать деньги трудом, о котором он много слышал и читал.
Агафья обошла весь Кремль, вдоль и внутри самого колеса. Она чувствовала себя победительницей — и верила в то, что она может и должна поступать во имя великой церкви и во имя своей той любви, о которой она думала.
К ней подошла жаловаться Шурка Масленникова.
[Агафья спросила:]
— Участвовала ли ты в той сказке, о которой рассказывал актер?
Милитина Ивановна, жена Людвига Зюсьмильха, кричала:
— Она опозорила меня!
Агафья прошла дальше. Спорили о существовании Неизвестного Солдата. Хранитель библиотеки Буценко-Будрин:
— Клевета, это совершенная клевета на Кремль. Надо действовать, чтобы нас превратили в музей.
Она спросила:
— Буценко-Будрин, хотите ли вы меня?
Он надел галстук и вылез, поправляя очки:
— Конечно, я за вас, да и кто против вашей власти, хотел бы я видеть?
Она так прошла вдоль всей внутренней стены Кремля и затем увидела всех кремлевцев.
Она пошла поперек.
Она видела.
Она поклонилась.
Ей поклонились.
Таким образом, целый парад кремлевцев прошел перед ее глазами. Она верила в их силу, а они — в ее. Е. Чаев был в ее власти. Она была очень довольна и вышла полюбоваться на закат. Со стороны Кремля она увидела Мануфактуры, огромное снежное поле. Она понимала и поняла, насколько ей трудно и насколько неизвестны пути. Она увидела, как идет внизу, размахивая палкой, на лыжах Е. Бурундук. Она узнала его по лохматой шапке. Она крикнула:
— Ефим!.. Ефим!..
Он поднял шапку и через все рвы занесенные кричал:
— Это я, здравствуй! Посылал я тебе метели, снежные перья, а не получала. Кто тебя обижает, иду бить!..
Она заплакала. Ей стало легко. Она поняла, что сбросила свою тяжесть.
Глава шестьдесят шестая
Происходил полный разгром Вавилова. Он пытался преодолеть страх перед грозившим ему убийством. Актеру сын не верил и пытался узнать его слабое место. И вот оказалось, что тот обширный план работ, который он задумал, рушился. Пришел актер, сообщивший, что он пошел на ура — и он открыл все-таки своих врагов, и что ему скоро смерть, вместе с Вавиловым.
Вавилов кинулся в дом к узбекам, его вчерашняя победа и наблюдение над дракой, которое ему предстояло и от которого он не мог скрыться, несмотря ни на что, — угнетали. Он встретил Грушу, которая, оказывается, чувствуя что-то неладное, внезапно вернулась. Она стала быстро рассказывать, и разговор, удачно направленный Вавиловым, вскоре коснулся истории с Гусем-Богатырем. И не столько его, сколько себя думал Вавилов уничтожить в этом пороке. Он направился к Гусю-Богатырю, но Груша на мгновение задержала. Он уже не пил три месяца, он прибавил дни, но сегодняшний день не в счет, а особенно после того, что оказала ему Груша. Она стояла и плакала — итак, все его воображаемые победы, благодаря чему он мог сносить свои поражения, все полетело к черту. Его тянуло состязаться с Гусем-Богатырем. Он зашел в кооператив и купил вина.
Узбеки сидели у себя и выпивали. Гусь-Богатырь, действительно, никуда не выходил. Вавилов понимал, что узбеки хотели к нему обратиться, но теперь, конечно, после того, как видели, что он вошел с таким почтением к Гусю-Богатырю, они его по праву могут презирать. Все это чрезвычайно осложнялось и тем, что он Грушу взял как женщину — и не уважал ее, так как она хвасталась любовниками, и теперь не знает, от кого ребенок, и еще говорила, что не жила с мужем, и теперь боится, как бы ее муж не покинул, и она спрашивала.
— Я говорила, что надо быть осторожным, и муж мой был всегда осторожным, я предупреждала и вас, и его, а вот теперь пришлось вернуться внезапно от матери. У матери моей тоже нет денег на аборт, а мне нужно разговаривать с мужем. Господи, какая бедная страна!
И Вавилову было стыдно, что он не может предложить денег, — и мало того, обоим противно об этом говорить, но приходится, и Грушу возмутило то, что он (она знала) получил сегодня жалованье, а сам не может нисколько предложить, хотя бы из вежливости, он же не предлагал, потому что стыдно было, и, когда она отошла, подумал, что надо было предложить. Она сказала, уже испытывая восторг; ей так мало и редко приходилось отказывать мужчинам:
— Мы с вами, Вавилов, больше не встретимся!
Она боялась — и постоянно озиралась. Ему, несмотря ни на что, было это смешно и трогательно, ему жалко было с ней расстаться, он уже чувствовал к ней некоторое тяготение — и думал, что это и хорошо, что он уважает Зинаиду, несмотря на то, что она его ненавидит, — и благодаря этому он, так привязывавшийся быстро к женщинам, быстро отстает от Груши и будет действовать более активно с Зинаидой.
Он купил бутылки и быстро прошел мимо узбеков, в калитку к Гусю-Богатырю. Тот сидел массивный и высокий, окруженный друзьями; здесь Вавилов увидел и С. П. Мезенцева, именно того, которого он, видимо, ловил и не мог поймать, и тех, которых он [будто] победил, но не победил, оказывается, так, как ему рассказала Груша.
Он быстро напился, и ему стали открывать поражения его, ему стало грустно — и он потребовал стакан. Он думал, что пить не будет, но напился [из-за того], что ему необходимо поговорить, но поговорить не с кем. Говор и крики стояли в комнате.
Гусь-Богатырь восседал величественно. Вавилов быстро охмелел, но он слышал все-таки, как шли разговоры; все относились к нему сочувственно, как уже к спившемуся и конченому человеку; в их голосах была смягченная снисходительность и жалость, они его угощали, как будто вылечивали его.
Парфенченко, заискивающе, он, знавший многие удачи Мануфактур, которые он не хотел применить, ближайший друг Гуся-Богатыря, спивавшийся человек, чрезвычайно полезный для фабрики, но трусливый, которого нельзя исправить и которого держали из уважения к его огромному стажу, как всегда, стал дразнить Гуся-Богатыря. Гусь кричал:
— Меня почему нельзя споить! Я вот сколько себя помню, я бы стал презирать себя — и меня стали бы презирать, если бы я спился. Меня никто не видел в канаве!
— Но почему? — гремел Парфенченко пьяным голосом.
— Потому, — отвечал Гусь, — что я никогда сам не хожу за водкой. Я ее презираю — и по праву презираю, я не пил, я хворал, если брал водку, но однажды друзья ее ко мне принесли. Я выпил — на пари, и не охмелел. Они пили, да и все вы пили со мной. Хмелею ли я когда-нибудь, с кем-нибудь, друзья?
Ему все отвечали хором, что никогда не хмелел. Он смотрел на Вавилова.
— Я споил и не таких, как ты. Многие еще будут ко мне носить водку, и многие погибнут из-за меня.
Вавилов понял и почувствовал, что ему не осилить и не одолеть огромную фигуру Гуся-Богатыря и что он в погоне за тем, что Гусь — Богатырь даст ему забвение, и оно пришло на мгновение, но это мгновение дорого ему. Он страшится огромной фигуры Гуся-Богатыря, того, как он и любит только один раз вылезти из дома, чтобы посмотреть на разлив; у него огромное чрево — и он знает, что бабы привозят на базар. Он и воду узнает, ее прибыль, наверное, не хуже, чем мелиоратор Лясных. Он сидит, берет сыр огромными и толстыми пальцами и, зажмуря длинные и узкие глаза, с наслаждением опускает в рот кусок сыру. Вавилов встал, качаясь; дикий хохот Парфенченко и Гуся-Богатыря донесся до него.
Дело с обучением обстояло из рук вон плохо — и если поговорить с наркомом, изложить ему дела, изложить сносно, а главное — найти учителей, которых мог бы рекомендовать Вавилов. Ребята: Магома, Гуниб, красавица Носифата, ждали его, но, будучи обидчивыми, увидев, как он свернул, увидев корзинку с бутылками, сами пошли пить. Он узнал об этом позже от М. Н. Щербины. Ему грозил донос, и вообще дела с [Домом узбека] могли распасться. Теперь они сочтут [его приход] за подлизывание — все равно не поверят ему, и ходатайство не будет поддержано — и тем более удовлетворено. Он понимал, что они пили нарочно у самого окна, на свету, назло ему, Вавилову, и всем мануфактуристам, поведение которых могло рассматриваться как угнетение нацменьшинств и прочее, как это обычно пишется.
Глава шестьдесят седьмая
Щеголь и напомаженный А. Сабанеев, который, как мы помним, отказался подчиниться Агафье и пытался проверить это с Ходиевым на медведе и, как мы помним, с этим ничего не вышло, Сабанеев после этого происшествия струсил и, будучи человеком, который легко поддается пессимизму, забрал своих медведей и отправился в провинцию, здесь-то его и застала весть о том, что в уезде готовится съезд мирян, который он, как и все прочие, рассматривал как смотр сил Агафьи и как смотр сил ее возлюбленных. Сабанеев очень надеялся на свои силы. Он разъезжал по базарам. Медведи мало приносили ему пользы, да и вообще это была достаточно глупая выдумка ехать с медведями в глухую сторону, где их и без того было много и где к ним относились как к врагам, потому и не веселились их проделкам, а, посмотрев, отходили со словами: «Ишь, откормили его, вот он с жиру и бесится, пристрелить дурака!»
Он доехал до станции, безжалостно погрузил их в клетку и отправил цыганам, на соседнюю станцию, а сам пошел к Надежде, домовитой сестре Шурки Масленниковой, которая из презрения к сестре, зная все ее прошлое, отказалась жить в Кремле и вышла замуж за кооператора в уезде. Она была религиозна, очень уважала Агафью и стала уважать Шурку после того, как на целом годе проверила то, что она исправляется, и после того, как увидела, какой ледящий пророк направил ее на путь истины.
А. Сабанеев сказался другом Агафьи, потому Надежда и взяла его с собой, иначе муж давал ей работника, потому что путь был длинный, и двое коней были молодые и смелые, с ними было трудно справиться, а у цыганского ученика руки были, по всей видимости, крепкие. У ней был грудной ребенок и двое других — трех и пяти лет, которых она хотела показать сестре и тем доказать, собственно, что она ее окончательно простила. Она закутала детей. А. Сабанеев сел на облучок, кони рванули, она стала говорить о том изумительном влиянии, которое имела Агафья на деревни, и какие о ней идут слухи. И чем больше они говорили, тем было все меньше надежд у Сабанеева, что он сможет получить и завладеть Агафьей, и оттого что они разговорились, лицо у Надежды разрумянилось, она увидела, что с этим человеком легко поговорить, она сидела, закутанная одеялом стеганым. Это стеганое одеяло и эти разговоры о недоступности Агафьи раздражили, наконец, Сабанеева; она с удивлением увидала, что Сабанеев остановил коней, закрутил им вожжи и, грубо подойдя, сказал:
— А ну, пусти под одеяло! Будет тебе, полежала с мужем, надо и с другими полежать!
До Кремля было недалеко. Они остановились в ложбине, подле полыньи. Третий ребенок был совсем квелый. Надежда держала его на руках. Он рассчитывал, что услышит, как будет скрипеть подвода, если кто поедет, то все донесется в ложбину, так как звук хорошо идет по ложбине, он успеет оправиться, да и едва ли, раз она сказала: «Тебя всякий убоится», да и едва ли она посмеет на него жаловаться. Он стоял слишком далеко, она выскочила из саней и отошла в сторону, и тогда он воскликнул:
— Ну и пускай замерзают, змееныши! — И открыл одно одеяло.
Он кинул шубу на снег, позади повозки, так, чтобы дети не были свидетелями, и сказал:
— Ложись!
Она стояла на своем. Дети лежали все трое. Она начала его уговаривать. Он ответил, мотая головой, что он согласен умертвить всех трех, если она не ляжет, и что раз дело на то пошло, то она не должна ему отказывать, да и вообще он ее полюбил с первого раза и согласен на всё. Он повторил ей свое предложение. Она стояла в стеганой шубке, очень грациозная и очень прельстительная, и тень славы Шурки лежала на ней. Она сказала:
— Ты меня спутал с Шуркой — и пока еще можешь исправить свою ошибку, откатиться.
И он открыл второе одеяло и крикнул ей:
— Ложись!
Дети были раздеты, пищали. Он повторил свое требование, и тогда она сказала:
— Хорошо, я согласна, да покарает бог твою красоту, дай только переложить ребенка грудного и этих укрыть.
Он разрешил, так как видел, что троих детей она не возьмет. Он стоял подле облучка, чтобы она не схватила вожжи. Кони были прикручены к березе. Она схватила грудного ребенка, подбежала к полынье. Он стоял опешивший — и она со всего размаха кинулась в полынью и поплыла, а затем, прижимая ребенка, вытряхнула воду из ботинок и, ничем не угрожая, побежала к Мануфактурам. Дикий страх овладел им, так как он боялся мщения из Мануфактур, он решил сказать, что она сбесилась, он закутал детей, гикнул на коней и, проклиная свою плоть, погнал в Кремль. Он остановился на постоялом дворе, где останавливался и раньше с медведями. Он потребовал чаю, так как дети спрашивали «где мама», — чаю с баранками, и в ужасе смотрел на дверь. Хозяин у него спрашивал, в чем дело.
Вошли Клавдия и Е. Бурундук. Клавдия, не смотря на него, спросила, где дети, — и сказала:
— Пойдем к маме.
Затем она посадила по одному на руку и вышла, не глядя на Сабанеева. Он сидел за столом. Хозяин смотрел в страхе на Е. Бурундука. А. Сабанеев встал и взял в руки нож. Бурундук смотрел на его волосы. Он высморкался и пошел к нему. Не доходя двух шагов, он разжал руку и крикнул, опуская руку:
— Кинь нож!
И Алеша Сабанеев послушно выпустил нож. Бурундук положил руку ему на плечо и тихонько повел до дверей, затем спустил по крыльцу, все так же держа руку на плече, и Алеша чувствовал все увеличивающуюся слабость и то, что он старается идти нога в ногу. За воротами он ожидал увидеть народ, но улица была блестяща, морозна и пустынна. Е. Бурундук внезапно ударил его в подбородок, и Алеша упал, и тогда Бурундук взял его рукой за воротник и поволок по земле. Он волочился, и Бурундук, гикая и подскакивая, несся бегом. Он видел его подшитые валенки, огромная боль владела им. Кровь моталась в его голове. Бурундук внес его за плечи и кинул под ноги участникам суда, которые сидели под образами: Щеглиха, Клавдия, которая пришла сообщить о поражении Мануфактур и, в частности, поражении Вавилова, и разбитая Надежда билась в истерике подле кровати, на которой в жару метались ее заболевшие дети.
А. Сабанеева посадили пока в чулан — он там плакал, и Агафья, с нее требовали суда, все решила: что ж его судить — молод; пригрозить судом Кремля, пусть посидит ночь, дело было к ночи, а утром его отдадим, — да и Надежда опомнится, можно будет от нее выпытать истину. Он смирно сидел всю ночь, и, когда утром открыли чулан, он почти полысел, все волосы у него выпали, он их брал клочьями, на него смотрели с хохотом, и сама Надежда захохотала.
— Выпустите его.
Он боялся мести и не уходил из Кремля. Он стал лыс. Он стал нищ. Он стал оборван.
Глава шестьдесят восьмая
Вавилов, пораженный, с больной головой и с похмелья пришел в клуб. Здесь долго говорили о том, что надо снять крест с клуба сейчас или же несколько позже, когда все подтает. Вавилов все-таки настоял, чтобы сейчас, он понимал, почему хотят снять весной — найдется человек из своих, а здесь едва ли найдется, а из своих — это тоже имеет некоторое агитационное значение. Он хотел вырвать из рук пяти братьев Маню, которая была очень полезна, — и через нее он мог бы связаться с Зинаидой. Но он пропил, опоздал, и вопрос решили без него — снять.
Когда он шел, он видел, как человек закидывал петлю на расширяющийся книзу конус шпиля, а затем к этой петле прикреплял длинную лестницу. Народу было еще мало: видимо, в Мануфактурах об этом еще не знали; он не подходил, чтобы спросить, кого же наняли, видимо, приехали из уезда. Старичок какой-то сказал:
— Да ездит такой человек по России, кресты снимает, миллионное состояние нажил.
В клубе он увидел мирно сидевших Пицкуса и Лясных. Они играли в носы. Клуб был пуст. Они посмотрели на него с сожалением, он понимал, что всеми своими поступками он приобрел в прошлом их друзьями на всю жизнь, но этого мало, они могут только помочь в том, на что их натолкнуть, а сами же вот так будут сидеть и играть в носы. Они говорили, что Колесников совершенно не ходит в клуб, но что это не вызывает нареканий, так как думают, что только с его помощью возможно победить Кремль. Спортивный же, боксерский кружок распадется; вообще кулачники держат себя совершенно нагло, и над Вавиловым многие смеются, тем более, что услышит, что он вчера напился.
Вавилов все вынес. Он верил, что его надежда на Зинаиду спасет его. Но настроение его было совершенно паническое. Он пошел к Мане в [швейный кружок], он решил с нею поговорить, дабы она пошла и отнесла записку, что ли, к Зинаиде, — ему нужен друг. Маня, руководительница по группе, сдавала свои дела и квитанции Л. В. Овечкиной, банкенброшнице из цеха Новой фабрики. Она посмотрела на Вавилова небрежно, не так внимательно, как раньше, — и он понял, что он уже признан слабым человеком, [хотя] раньше была надежда на то, что он смог бы исправить свои дела и отвоевать ее у пяти братьев, а главное, узнать их слабость, и он решил повести разговор так, чтобы открыть слабость пяти братьев и как можно разрушить их крепкое хозяйство с тем, чтобы оно не действовало так агитационно на население поселка.
Он накинулся на Л. В. Овечкину, стал доказывать, что руководительница кружка мадам Жорж получает слишком много и что как-то странно исчезает материя, которую отпускают кружку, и что то, что они готовят для кружков, например, костюмы для хора, совершенно отвратительно. Затем он сказал Мане, что ей выслушивать [все это] не к чему, если у нее хозяйство такое сильное, она, конечно, уйдет. Она сказала, что сильное-то сильное, но распорядительность дирекции весьма странная. Если они построили дома, то рядом с их пятью домами стоят деревянные склады и лежит нефть. Это доказывает не обилие ума пяти братьев, а слабоумие, и едва ли это служит примером для поселка. Да, она любит хозяйство, и это тоже дурной признак и не агитация для поселка, если она работает, а не сидит дома.
Вавилов почувствовал, что пять братьев побеждены или будут скоро побеждены. У него меньше поводов завидовать их жадности, и он рад обратить Маню на путь истины; но из ссоры выяснилось, что Маня учит это с той целью, что хочет работать на дому, и мадам Жорж перейдет работать к ней, и они двое только и мечтали замять дело. Л. В. Овечкина, она была хорошенькая, на него кричала. Он выпускает кулаков, а на нее, она не успела взять и дела в руки, как он кричит. Она будет жаловаться правлению или же уйдет из группы.
Вавилов понимал, что ему совершенно не к чему ссориться, но он понимал, что ему остановиться невозможно, и он с ней ссорился. Она ему выболтала про Маню, что та приходила прощаться, а не доработали они потому, что жадные братья; младший Осип — взял подряд с каким-то человеком, почтальоном Байдаковым, снимать крест за шестьсот рублей — и что Осип уже полез на крест.
Вавилова опять охватила эта жадность к людям — и он понимал, что и к Мане-то он лез и расспрашивал потому, что хотел получше прикрепиться к этому дому. Л. В. Овечкина ушла, хлопнув дверью, но он понял еще раньше, чем он смог вывести заключение из того, что сказала ему Маня, он уже понял, что не может [прикрепиться к этому дому], но у него остался еще Колесников, от поражения которого зависит многое; он преодолеет эту проклятую боязнь крови, которую он приобрел на войне, и эти постоянные сны, военные, и этих мерещущихся людей, лезущих на березы, оглядывающихся которым ожесточенные кавалеристы рубят ноги. Он должен победить Колесникова, а самое главное, он должен заставить мануфактуристов бежать вперед. Он шел и не мог не посмотреть на то, что делает в комнате правления Осип. Он стоял молодой, стройный и самоуверенный. Он слез и говорил, что прикрепил лестницу. Ему стали выдавать задаток — и Вавилову опять стало стыдно — и он почувствовал тот сладкий запах во рту, который он почувствовал тогда, когда ему сказали, что выдают братьям деньги.
Пицкус и Лясных сообщили ему, что кружок собран, и что они достаточно подготовлены к тому, что им скажет Вавилов, и что оба они и слушали и агитировали, а Лясных даже предполагает для борцов бассейн такой устроить для плавающих внизу, в церковных подвалах. Он этим очень заинтересовал боксеров, но самого проекта Вавилова они им не сообщали. Он будет говорить с ними завтра, перед кулачным боем, но еще утром Пицкус обновится, сообщит, что Кремль побьет Мануфактуры, дабы подготовить почву. Он явно лгал, так как у него ложь не выходила, что отношение к Вавилову чудесное, и что ходят слухи, что ему вынесут благодарность, и если понадобилась такая ложь, то, значит, дело плохо.
Л. В. Овечкина, может быть, из-за фамилии своей возбуждающей жалость, или потому, что он со многими рвал в эти тяжелые для него дни, но она неотступно была при нем. Он думал про нее всякие гадости, пока не заснул, — он понимал, что она теперь ему подставит большую ножку — он не видел возможности спастись от нее. Он ее по-настоящему боялся. Он поискал водки, но не нашел и забылся только под утро.
Глава шестьдесят девятая
Агафья видела и понимала насмешку судьбы, что ей суждено судить людей за любовные увлечения, и потому ее так мучило и потому она так не спешила давать свое решение, хотя Надежда ей и сказала:
— Не на Шурку же мне надеяться! Вся надежда на тебя.
И было смешно, что она, имеющая такое великолепное имя, надеется на Агафью. Клавдия добавила, что Вавилов почти согласен принять деньги, те, которые вы ему обещали, и когда ей сказали, что никаких денег не обещано и даже, видимо, подумали, что Клавдия подослана для некоторых разговоров. Клавдия вела длинный и туманный разговор, весь смысл которого был тоже ясен; она думает и хочет разведать, не ходит ли Вавилов сюда ради Агафьи. Она была оптимистка и сразу поверила, что ее опасенья напрасны и что ей не надо сворачивать с выбранного пути. Она уже носила бутылочку с собой, дабы пить в присутствии Вавилова, и так как он выступал почти каждый день, то ей нетрудно было это осуществить.
Мы уже говорили, как женился Е. Рудавский; он женился на племяннице И. Лопты и получил за то, что женился на изнасилованной фабричными. Он ее вначале бил и упрекал за приданое, но затем полюбил, и так как приданое прожил в то время, когда отчаялся по поводу своей способности продаваться, то начал работать с тем, чтобы возвратить приданое. Прожить-то легко, а заработать десять тысяч дело трудное, он вернул И. Лопте пять тысяч и начал скапливать, чтобы вернуть другие, но не скопил, так как грянула революция. Лопта удивился, но деньги взял, его больше обрадовала любовь. Шла революция, и [Рудавский] страдал больше, что не может скопить деньги, но вот начался нэп, и только он скапливал было, как какой-нибудь налог, и деньги приходилось вносить. Наконец старуха его умерла, но он все-таки настолько примирился с мыслью вернуть приданое, что даже на похоронах ее сэкономил, а затем оказалось, что дом, который он завел в Москве, вовсе не надо держать, и ему скучно одному без старухи. Он жил раньше работником у И. Лопты, изредка приезжал и думал жениться на Агафье, скромной работнице. Но как только он продал дом, так и получилось, что он имеет пять тысяч рублей, и он собрался и поехал в Кремль.
Он остановился на квартире у Верки, которая много знала из жизни Кремля и которую не возмущало то, что Агафья владеет Кремлем, и ей казалось, что с того дня, как она прослушала рассказ актера, и с того дня, как Е. Дону бегал за Агафьей, [а та] ответила высокомерно, ей некогда слушать сказки, святой отец послал их участвовать в самой страшной сказке земли, и мы должны придумать ей счастливый конец. Ей подумалось, что Е. Дону, который относился к ней с такой нежностью, и любовью его к ней все любовались, — он переменил к ней отношение. Она грустила. Е. Рудавский, всегда останавливавшийся у нее, утешил ее, пытаясь ей сказать те слова, которые, по его мнению, ей не мешало бы выслушать; он не особенно торопился отнести эти деньги, так как не знал и не думал предполагать, что он будет делать теперь, двадцать лет собиравший эти десять тысяч, в Кремле, где теперь уже никто не помнит историю с изнасилованной женщиной. Ему было грустно, да и вообще жизнь закончена, он хотел начать ее снова, так как думал осчастливить Агафью, а теперь выяснилось, что Агафья вознеслась на неимоверную высоту.
Он вспомнил, как Лопта, смеясь, напомнил ему, как он внес пять тысяч. Какие странные времена были! Он шел, с гордостью прижимая к груди свои деньги. Откуда бы шум? Хрустят его кости…
Агафья была довольна, что так удачно разрешился спор между Надеждой и Клавдией. Надежда явно была довольна тем, что могла пожертвовать жизнью своих детей, но сохранить верность своему мужу, а Клавдия смеялась над ней и говорила, что глупостью своей она загубила только жизнь парня и что это не смелость, а только трусость. Она сказала, что пошлет парню адрес с тем, чтобы он пришел к ней, дабы она могла его утешить, — и она пожалела его волосы, которыми любовался весь Кремль. Агафья сказала, что это дело бога и что он избрал А. Сабанеева своей рукой — и вообще все дальше выяснится. Надежда, после слов Клавдии, подумала, почему она раньше не замечала любви А. Сабанеева и что муж, с которым она прожила много лет, едва ли достоин ее верности и того, чего она с ним перенесла. Она решила настаивать на том, чтобы он переехал в Кремль. Она искала ему заместителя, она беспокоилась.
Е. Рудавский шел и думал о своем сне, в котором он отрубил слону голову. Что бы это значило? Он отрубил голову слона вместе с клыками. Он пришел, позвал Лопту, тот вышел к нему заспанный. Он сел с ним за стол. Позвал Агафью, на которую посмотрел с нежностью, и сразу же решил, что она недоступна. Он выложил деньги и сказал:
— В 1917 году я уплатил тебе пять тысяч. Деньги, правда, пали, но все-таки не совсем; когда они падали, я ждал их возвышения и тогда хотел их полностью внести. — Он слегка врал, но он уж хотел собственного возвышения до конца. — Я теперь хотел их внести тебе до известной ценности, но вижу, что старость подходит и еще умру, а все так и будут думать, что я, Е. Рудавский, был способен жениться на испорченной ради денег. Я ее побил — и вот отдаю тебе пять тысяч.
И. Лопта посмотрел на него и на своего сына; тот кивнул ему головой, и И. Лопта сказал:
— Мы отказываемся от денег, они нам теперь не нужны, ты поздно пришел, работничек, возвращать мне деньги.
Они спросили Агафью, но та спросила, верующий ли он, и Е. Рудавский подумал и сказал, что скорее неверующий, но тут в разговор вмешался Е. Чаев, который сказал, что деньги надо принять и что хорошо бы, если Е. Рудавский вышел на минуту, пока длится совещание.
Е. Рудавский ушел. Е. Чаев сказал, что если Лопта считает себя святым человеком, то он должен принести жертву ради библии, — у него тряслись руки, и он видел возможность своего возвышения, [если] все деньги, которых так недоставало, будут внесены.
Агафья была против. Он на нее накричал; отвел ее в коридор и доказывал ей. Она заколебалась. Она никогда не видела его в таком азарте. Он заставил ее воззвать к благости всевышнего и уговорить Лопту. Она сказала просто, что в интересах общины она требует от него принятия денег. И. Лопта сказал кротко, что если община требует, то он соглашается. Она еще колебалась, но тогда Еварест открыл огромный сундук и бросил туда деньги, и сундук с чрезвычайно мелодичным звоном, похожим на звон колоколов Успенского собора, закрылся. Е. Чаев позвал Е. Рудавского, и Лопта сказал, вздыхая:
— Взял я твои деньги, работничек, взял. — И слезы были у него на глазах.
Е. Рудавский сидел еще долго, он чувствовал любовь к Агафье, а та радовалась, что «хоть этот-то не липнет». Она обращалась с ним очень ласково.
Глава семидесятая
[Вавилов] плохо чувствовал себя всю ночь. Он даже не умывался. Его друзья храпели. С. П. Мезенцев пришел подвыпивший и с деньгами. [Вавилов] думал, что он видел достаточно много, чтобы сообщить в ячейку, но видно, нужна и особая чуткость и особые люди, которые могли бы понять и рассортировать те сведения, которые он собрал. Кроме того, едва ли имеют значение эти сведения, это будет началом обычной склоки, которых он наблюдал немало. Он чувствовал с того момента, как прервался обычный его военный сон, что он сегодня будет побежден, что называется, на все лопатки. Он давно не брился, рыжие волосы отросли густо, он с презреньем сказал: «Рыжий», и хотя чувствовал, что сегодня день у него кончится трагически, он все-таки побрился и под обычную ругань ребят выбрил свою рыжую голову. Он одевался тщательно; ребята, точно нарочно, говорили о Колесникове, что он не пил целую неделю и, наверное, здорово закалился и вообще то, что его Вавилов пристроил в клуб, значительно улучшило его. Вор Мезенцев заявил: Возмутительно, что Вавилов за ним следит и хочет его уничтожить, но что сегодня после драки — у них будет с ним разговор. По жалостливым улыбкам Пицкуса и Лясных Вавилов понял, что друзья его колеблются и тоже не прочь запросить вознаграждения, особенно при ремонте клуба. Настроение его стало еще хуже. Подле клуба он встретил Клавдию, она сказала цинично, как всегда, похлебывая из бутылки, что Агафья, видимо, скоро даст Е. Чаеву отставку и тогда поле деятельности для него открыто. Ему стало стыдно, что он берет сведения от площадной девки и что, главное, не в силах победить к ней презрение. Обидно ей!.. Он старался увидеть в ней особую походку, разврат, но ничего не было. Ему стало еще хуже.
Он вошел в клуб. Спортсмены его лениво колотили в куклу, а руководитель, говорят, с утра занял лучшее место на заводи. [Вавилов] показал им приемы вместо руководителя; он подчитал некоторую литературу к тому моменту, но учение вязалось плохо, и он сказал, что он к ним относится хорошо, и по тому, что он сказал, что «он к ним», он уже понял, что все дело испорчено, — и он поправился: «они к нему». Спортсмены, особенно начинающие, более обидчивы, чем дети, и они вяло прослушали его предложение, которое, как он сказал, во многом может улучшить его расчеты, а именно: они должны драться или на стороне кремлевцев или же бежать от кремлевцев, потому что это — единственный способ прекратить этот варварский обычай калечения людей и привлечь людей к здоровому спорту. Они выслушали его спокойно, и один, возможно, ехидно, сказал:
— Не знаем, какие расчеты у товарища Вавилова, но нам драться на стороне Кремля, а тем более бежать от кремлевцев — невозможно.
Остальные, с большими или меньшими вариациями, подтвердили то же самое. Вавилов понял, что ему ничего не оставалось, как встать и уйти. Он был очень огорчен, и еще упражнения как-то тупо расшевелили его кровь. У дверей он увидел мальчишку, который сунул ему записку. Сумасбродный архитектор А. Е. Колпинский ждал его к себе. Вавилов подумал, что, видно, разговаривать по поводу жены, и приготовил различные доводы.
А. Е. Колпинский сидел грустный и плохо одетый; как всегда, А. Е. Колпинский сказал ему, что он лучше всех знает жену и закон коммунистической семьи, но получилась ерунда, кто-то сказал: он боится упрекать Вавилова, многоуважаемого, но Груша с ним одним только, кажется, и виделась, но она каким-то образом узнала, что я жил с Зинаидой. Я, конечно, жил, и, если понадобится, я могу подтвердить это, но все-таки мне не хотелось бы разрушать моей семейной жизни, к тому же я собираюсь быть отцом, а с Зинаидой — у нее молодая кровь — и я как-то удачно подвернулся; стоит ли придавать этому всему значение?
Вавилов признал, что, конечно, особенного значения придавать не стоит, но все-таки он ничего не слышал, и надо думать, что Груша просто высказала подозрения, а не уверенья.
А. Е. Колпинский оживился:
— Вы так думаете?
И ушел очень довольный.
Вавилов сказал, что вот так разбивается жизнь; написал письмо, что неизлечимая болезнь заставляет его покинуть мир, но письмо получилось длинное, глупое; он его изорвал и бросил — кому и для кого в этом мире надо разъяснять, почему покончил с собой И. Вавилов. Он осмотрелся — и решился; он достал револьвер, который некогда утащили в сумке воры, положил его в карман — и решил, что будет удобнее всего застрелиться в поле. Он вышел и сел на холмик. Было солнечно. От Мануфактур спускались люди. Они шли на кровь. Ненависть к Колесникову овладела им. Если убить этого торжествующего быка, а затем себя, то будет несомненная польза.
Он перешел на другую тропу. Колесников всегда приходил позже, чтобы это было торжественнее. Он стал ждать его. Колесников шел в голубой сатиновой рубашке, распахнув желтый полушубок, — и в обширной шапке, походкой хулигана вразвалку. Вавилов поднял было револьвер. Тот остановился, недоумевая. Вавилов вдруг отбросил револьвер и, крикнув: «Держись!» — наскочил на Колесникова. Тот отскочил, но стал защищаться. Он защищался, а затем сам перешел в наступление. Колесников понимал, что если он оттеснит его на револьвер, Вавилов возьмет револьвер — и убьет. Они огромный, ему трудно наклониться, да и вещь-то не своя. Колесников сначала израсходовал много силы, не собрался и дрался как-то вяло, но затем удары посыпались, и Вавилов скатился; все у него расслабло, но он вскочил и еще нанес удар — и тот упал. Так они катались довольно долго. Оба они давно уже забыли про револьвер. Вавилов вспомнил те удары, которые поражали Колесникова, но он одновременно и вспоминал бинокль, в который он наблюдал удары, и это несколько задерживало его, но, с другой стороны, помогало тем, что удары эти были неожиданны.
Наконец, Колесников освирепел. Вавилов боялся смотреть на свои руки. Колесников знал своих врагов, но тут неожиданность врага, который, наверное, знает или узнал больше, чем он, смущала его. Гипнотизировал его, наверное, и револьвер, но он запнулся о свою собственную ногу, — Вавилов захохотал! Он поднимался с трудом, но едва он поднялся, как Вавилов ударил его последним ударом, тем, которого он не мог вспомнить [и который] теперь только пришел на ум. Этот-то удар и поразил Колесникова. Он упал. Кровь пошла у него ртом. Он встал. Бешенство исказило его лицо. Вавилов ударил еще. Он упал. Но встал уже на четвереньки, — и вдруг побежал. Вавилов не поверил своим глазам. Он кинул ему вслед шапку.
«Если еще раз придешь!» — хотел крикнуть он, но не мог: слабость [овладела] им. Он шатался, но не падал, пока Колесников не скрылся за холмом.
Тогда он упал. Руки у него были в крови, но он был страшно доволен, тщательно протер револьвер — и пошел домой. Кулачный бой не состоялся.
Глава семьдесят первая
С. Гулич думал долго и упорно; извозный промысел приносил ему мало; он хотя уезжал в Москву, но толку от этого много не получалось: то ли бойкости не было, то ли ездок обезденежел, но он возвратился среди зимы домой. Он выпил и начал во многом раскаиваться, и, кроме того, мучила его неисчезавшая любовь к Агафье. Он уже слышал о святой жизни И. Лопты и его сына о. Гурия, и ему хотелось с ними поговорить о том, чтобы они ему дали настоящее направление в жизни и счастье. Он давно бы к ним пошел, но у него была шайка, и он привел всю эту шайку к И. Лопте, тот сидел в палатке, они его ограбили и даже пытали. Он не сказал, где спрятаны деньги, да и позже С. Гулич узнал, что денег у того не было, и пока он думал, что у И. Лопты есть деньги, ему было легче сознавать, что он водил бандитов и что тот страдал из-за своей жадности, но теперь, с того момента как не удавалась его личная жизнь, он страдал все больше и больше, и когда Е. Рудавский пришел и с обычной своей способностью приврать рассказал С. Гуличу, что он возвращал деньги и что И. Лопта отказался их принять, С. Гулича положительно обидела вся та святость, которую проявил И. Лопта.
Он оделся, собрался, чтобы сказать, что он ждет возмездия, такого же страшного, какое получил А. Сабанеев, наказанный настолько, что не в состоянии выйти из Кремля; со стонами он ходит по кремлевским улицам, и не может он найти выхода; он, Сережка Гулич, всего этого бабьего сглазу не боится, а он действительно не боялся и на А. Сабанеева, нарочно растравлявшего свою рану, смотрел с некоторым презрением.
Агафья решила теперь, что пока у нее есть то, что называется вдохновением, призвать Шурку, и И. Лопта тихо сказал, что не надо шутить с огнем и настолько надеяться и полагаться на свою гордость, Агафья вспомнила, что он намекает ей на Е. Чаева, а она так и подумала, что он слаб, и еще более резко настояла на том, что необходимо привести Шурку и Милитину Ивановну, которая даже последнюю свою ссору проявила у собора, сорвав с головы Шурки черную повязку и повторив все те позорные слова, которые она слышала от актера. Агафья не знала, что она скажет Милитине Ивановне, — и покорила ее только смелостью. Та, прачка, пришла и встала у дверей, засучив рукава и подперевшись в бока:
— Ну-с, что же? Я свою жизнь честно провела, посмотрим, вот как ты.
Агафья посмотрела на нее крепко и, действуя на ее инстинкт, сказала, указывая на иконы:
— Молись. Читай «Отче наш».
Она сконфузилась, она забыла «Отче наш», но встала на колени и понесла какую-то неимоверную чепуху; она думала тем разозлить Агафью, но та тоже поняла, в чем дело — и сказала:
— Всякая молитва дойдет до бога, лишь бы была она произнесена от души.
Прачку больше всего обрадовало то, что ее молитва, произнесенная со злости, будет ей зачтена, — и она почувствовала себя преисполненной милосердия. Она поцеловалась и примирилась с Шуркой.
О. Гурий стоял на крыльце, когда подошел С. Гулич и сказал, что желает переговорить с ним и сознаться ему во многом. Он стоял, гордо подбоченясь, среди комнаты, Агафья ушла вглубь, и перед ним сидел, глядя в пол, И. Лопта. С. Гулич сказал, что помнит ли старик, как пришли в его палатку бандиты и как пытали его и как, забрав деньги, ушли. Так вот, он хочет покаяться и сказать, — и пусть весь мир судит его, — что этих бандитов привел он и что он кается православной церкви и готов на все, чтобы искупить грех. И вдруг на пороге появилась Агафья, и не успел еще И. Лопта сказать что либо, как она сказала:
— Становись перед иконами, молись.
С. Гулич испуганно повалился, и Агафья сказала:
— Иван Лопта, именем господа, прощает тебя, от меня же и от господа Бога будет тебе дано испытание.
И. Лопта почувствовал себя очень растроганным, он подошел и поцеловал С. Гулича. Агафья еще раз переспросила Гулича, готов ли он на все, и он ответил, что готов; но он был недоволен, что его не напоили чаем, так как свое преступление он не считал столь опасным, сколько то, что он покаялся и готов на все, а он себя чувствовал действительно готовым.
Домника Григорьевна вызвала И. Лопту и сказала ему, что ее беспокоит подобная решительность Агафьи и что тут есть что-то женское и надо быть очень осторожным, дабы не впутаться в неприятную историю. И. Лопта знал и верил, что никаких историй быть не может.
Когда он вошел, Агафья сказала ему, что испытания кончились и что она думает направить С. Гулича, к тому же обиженного лично и Мануфактурами и Кремлем, на убийство Вавилова, но предварительно она желает направить его к Клавдии, дабы испытать, не проболтается ли он. Клавдия, которая еще мечется между религией и Мануфактурами, может быть весьма полезной.
И. Лопта призвал свою жену, своего сына о. Гурия и торжественно сказал, что и во имя великого дела печатания библии он не согласится на убийство человека и если мы начали с мысли, то мы же должны ею кончить. О. Гурий сказал, что не в интересах библии было вносить сейчас деньги. Агафья показала квитанцию и сказала, что введены сверхурочные работы в типографии, из уездного города приехали десять наборщиков и что уже напечатано 50 листов и печатание будет ускорено. Дело в том, что так как Вавилов ударился сейчас на сближение с массами и пока он не представляет из себя общественного лица, его можно довольно незаметно убить, и как только он возьмет силу, как только он укрепится, то появится гнойник, суд, и даже если бы мы не убивали, все равно найдутся люди, которые придерутся к нам. А пока ему не подберут заместителя, мы довершим печатание библии.
И. Лопта с грустью смотрел на свой дом. Он не согласен, но в интересах печатания божьего слова он согласится, он берет на свою душу грех молчания — и замолчит, он уйдет из своего дома и не будет здесь больше жить. Он сказал:
— Пойдем, старуха.
И жена его согласилась с ним уйти. Он поклонился и в непривычном молчании вышел. О. Гурий посмотрел на него и тоже пошел. Они пошли ночевать к соседке, старуха сказала, что если он счел полезным отдать свой дом под общину, так как возможно, что его продадут или заложат.
И. Лопта думал, как трудно ему нести свою святость, да и святой ли он действительно. Мимо проходила Шурка Масленникова с кипой дешевых свечей — это все демагогия Е. Чаева перед могилами епископов зажигать свечи. Он шел за ней и молился. На него напали святотатственные мысли. Он упал на камень и горячо молился. Она не закрыла двери подвала под собором. И святой ли он действительно, если ему приходят такие неистовые мысли, и возможно ли святотатство? Он согрешит для того, чтобы непереносимо нести свою тяжесть. Ш. Масленникова вдруг озорно улыбнулась, потому что свет скрывал ее увядание.
— Молчишь? Посмотрим, выдержишь ли ты?
Глава семьдесят вторая
Вавилов был воодушевлен своей борьбой и тем, что ему удалось победить Колесникова. Он шел к Мануфактурам, и весь мир представлялся ему по-другому. Он решил начать решительную ликвидацию своих слабостей; второй раз он начинал самоубийство в Мануфактурах, второй, и последний раз в голове его начали всплывать обрывки тех сведений, которые поступили ему в голову, и он видел, что они начинают медленно систематизироваться, и перед ним всплыла ехидная рожица непобедимого вора и мошенника Мезенцева. Его охватил страх, такой же страх, который его охватил, когда он впервые увидел «четырех думающих», двое из которых уже перестали думать, а начали действовать. Он пришел домой и знал, что если Колесников не придет, значит, он его победил. Он сидел на кровати страшно усталый, но упорный, и ждал.
Он ждал долго, но пришла Клавдия, которая заявила, что она придет еще раз для того, чтобы с ним поговорить. Она собиралась совершить преступление, а именно — убить Агафью, но видит, что все это лишнее, она разбита и думала, что есть женщина-мать, которую она ненавидит, женщина, которая вновь возродит семью и которую она ненавидела за ее удачи, и теперь видит — ерунда. Она бросила нож сапожный и острый, лежавший в сумке. Она передаст Вавилову только один секрет, в последнее свидание; она уезжает в Москву, и едва ли они увидятся, но этот секрет может быть полезен ему.
Он не верил в ее секрет, но не задавал, как всегда, своих вопросов — о различных наблюдениях, которыми она была богата — и на которые она отвечала обычно через несколько дней. Она рассмеялась и сказала, что Гусь-Богатырь спрашивает его и что она хочет дать для поощрения пяти братьям. Она, видимо, понимала, что это неприятно ему. Он взял нож. Он положил его в стол. Она, по взгляду его на дверь, поняла: что-то вышло, и, так и не сказав своего секрета, ушла. Она не хотела уходить. Вавилов относился к ней хорошо, потому что она, как и он, относилась с отвращением к машинам. Он лежал и вспоминал все плохое, что знал о С. П. Мезенцеве, о его жадности в приюте, доносительских способностях — и хорошее чувство к С. П. Мезенцеву у него постепенно выветривалось. Думать ему о нем стало неприятно, но не думать он не мог. Его выручили — сначала пришел Литковский. Он сказал, что по приезде он чувствует себя хорошо, видимо, он еще не растратил тех хороших чувств, которые питал к нему вначале. Он сказал, что Вавилов очень похудел и загорел больше, чем он Вавилову было приятно, что о нем хорошо думают, он, поборов свою слабость, предложил заварить чай. Литковский взял балалайку и, наигрывая, стал расспрашивать о положении в Мануфактурах. Он сказал, что его послали в газету. Это очень воодушевило Вавилова, и тут пришли: Щербина, который давно не заглядывал к нему, и Ложечников, человек со странно пытливыми глазами, который, как говорят, знал причины многих удач, но сам был ленив и давал только советы. Он давно мог бы выделиться до мастера, но не хотел; жил бедно и любил только курить хороший табак — и он знал о табаке очень много. Он закрутил очень искусно, он крутил папиросы различного сорта: для отдыха, для мысли, для шутки. Тут он закрутил для мысли. У него была маленькая обезьянка: он приторговывался все к попугаю комиссара охраны Мануфактур, но тот не хотел продавать, и [Ложечников] был очень доволен тем, что попугай потерялся. Он хитро посматривал на Вавилова, Щербина отдыхал, очень довольный приходом. Тихое наслаждение покоем владело всей комнатой. Ложечников вдруг сказал:
— Слышал я, слышал и даже видел, у меня есть такой бинокль удач, я завистлив, иду на удачи, так вот о твоих я слышал. Очень хорошо, но только не закуси палец, как приятельница моей обезьяны.
Он любил начинать всегда с притч, или из своей жизни, или из жизни своей обезьяны, которая, судя по его словам, была очень словоохотлива. Вавилов с тихим удовольствием спросил:
— Интересно, почему это она закусила палец?
— А вот почему, — сказал он, докуривая папиросу и выбирая бумажку, которую он мог бы закрутить. — Жила моя обезьяна в последнюю революционную войну где-то в афганистанском оазисе. Жили они тихо и мирно и услышали о войне в нашем Союзе, а рядом с ними работало стадо слонов. И надоело этим слонам работать, и захотелось им, видишь, выбраться в Советскую Россию, чтобы повоевать. Они, слоны то есть, очень преследовали обезьян, — а у одной обезьяны было много опыта, но ее в предводители не выбирали. Вот она спустилась к слонам и говорит: «Я, говорит, вас могу провести в Советскую республику». Слоны согласились, побрели ночью, посадили ее на загорбок и пошли. Идут, идут, долго ли, коротко ли, скоро ли, много ли, но пришли они в небезызвестную пустыню Кара-Кум. Оказывается, они кругом в песке и в жаре. И говорит им обезьяна: «Вот, говорит, я вас и надула, увела от своих обезьян, вы в пустыне сдохнете, а они меня предводителем выберут». Ну, слоны давай хохотать. Она их спрашивает: «Над чем вы хохочете, наконец?» Они отвечают ей: «Допустим, мы издохнем, но ты-то сама как выберешься?» И, поняв в точности свою сформулированную мысль, они захохотали с таким громом, что обезьянка от их смеха издохла.
— Так, — сказал Щербина, — а как же твоя обезьяна узнала и не можем ли мы над ней хохотать?
Ложечников закурил папироску, понюхал табак:
— Я думаю, обезьянка, как и все мы, жаждала бессмертия и перед тем, как издыхать, написала соответствующий доклад в соответствующее учреждение; он шел долго, по инстанциям, пока не дошел до теперешней цели. Я думаю, — внезапно сказал он, — пора тебе и поймать вора, поскольку ты заботишься о культурном поднятии масс и поскольку из этого можно организовать полезную для жизни кампанию.
Все оживились. Они подтвердили, что наблюдается исчезновение пряжи, и если удастся ему проследить — это хорошо. Но С. П. Мезенцев и иже присные с ним тесно связаны, и вот если пустить Пицкуса — Длинное ухо, он соберет сведения, подтвердит их — и секрет только в том, что надо Пицкуса уговорить собрать сведения о приятеле, и только Вавилов может это проделать.
Литковский понес, как обычно, что как это важно и как газета может оказать содействие, и Ложечников сказал:
— Задача газеты проверять факты строго известные, а не вводить читателей в заблуждение.
Литковский обиделся и начал спорить. Ложечников сказал Вавилову:
— Я тебя, уже если на то пошло, познакомлю с одним человеком. Я его берег для случая, он давно мне раскрылся. Ты завтра приходи к концу смены, и если ты сможешь до моего человека дойти, а также до Пицкуса, то сей известный предмет откроется тебе во всей своей прелести. Я не знаю, кто он, но он объединяет. Мы не можем обыскивать пролетария, но ты вывернись.
Глава семьдесят третья
С. Гулич согласился сходить с запиской к Клавдии, как его подсылали. Он мечтал попасть в Дом общины, который теперь принадлежал Агафье. Ему показалось мало того, чтобы сходить к Клавдии с письмом, в котором лежало только два червонца и которая из гордости поняла бы так, что хотят купить ее любовь не за пять червонцев, и хотят сыграть на ее гордости, и она взяла бы и затем, продавшись, разорвала бы деньги, и побежденный С. Гулич разболтал бы ей все, и она пришла бы, хвастаясь, и тогда бы выдала тайну. Но С. Гулич соскучился в Москве по Кремлю, он не знал, кто такая Клавдия, и думал, что его испытывают счастьем, и он, когда приятель позвал его на кулачки, присовокупляя, что из губернии приехали десять наборщиков и неизвестно, на чью они сторону перейдут, то С. Гуличу, который считал своей необходимостью теперь защищать Кремль, захотелось драться.
Е. Рудавский тоже пошел на драку, но так как он тоже думал об Агафье и ему казалось, что к запруде идут все, — он решил пойти, побеседовать и выразить сожаление, что И. Лопта не нашел в себе силы другими возможностями поддерживать общину.
Е. Рудавский, разговаривая с Агафьей, в разговоре своем упомянул о том, что С. Гулича он видел весьма оживленно размахивающего кулаками и идущего на стенку. А. Сабанеева он тоже видел — и тот тоже убитый, что не знаю, сможет ли он драться.
Агафья посмотрела на [Рудавского] пристально и сказала:
— Я век тебя не забуду и смогу вознаградить так, как ты, наверное, и не мечтаешь, — я поручаю тебе привести С. Гулича, так как он необыкновенно важен и необходим для общины.
Е. Рудавский ощутил такую смелость и легкость, каких он не чувствовал давно; он поспешил, несмотря на то, что подле Дома общины шептались старики и старухи. Драка уже шла вовсю. А. Сабанеев подначивал наборщиков, которые смеялись над потерянной им смелостью, он с ними выпил с утра — и кричал, что если бы ему оружие, он показал бы, что такое гражданская война!
Кроме того, Агафья сказала:
— Егорка Дону хочет убить актера, убийство это вредно для интересов общины, так как смерть должна быть более или менее нормальной, и убийство актера, видного человека, вызовет внимание губернии к тем событиям, которые теперь имеются и которые должны бескровно совершиться в Кремле. Актер провел совершенно провокаторский вечер, пользуясь прикрытием дома профессора, и теперь трудно уничтожить следы его рассказа. Я думаю, что Егорка Дону любит Верку, и возможно, что он перекинет свою ненависть на тебя, Рудавский, и вообще тебя ждет много ненависти, имей это в виду.
— Я не боюсь, — сказал гордо Рудавский.
— Это хорошо, что не боишься, а не откажешься ли ты совершить еще маленький подвиг. Иди к стенке — и останови. Я не знаю, как можно влиять на дерущихся, — словом, едва ли.
Рудавский отозвал Верку в сторону; неподалеку от нее стоял Е. Дону, который выискивал горящими глазами актера. Рудавский сказал, что он слышал, что Е. Дону хочет жениться на Верке. Верка мечтала о замужестве и церкви, ее этот брак прельстил больше всего — и об этом Рудавский сказал. И, воодушевившись тем, что подвиг его пошел так легко и плавно и Е. Дону мгновенно перевел на него глаза, и тем, что Верка высказала мысль, чрезвычайно ее утешившую, что Агафья — это она ее сосватала, и в голосе ее послышалось огромное восхищение пред Агафьей и тем, что его, Рудавского, ждет в конце его жизни какое-то необычайно блестящее возвышение, к которому он себя сейчас почувствовал не только способным, но и призванным, — все это заставило его схватить огромный березовый кол с корой, шелушившейся веселыми и желтыми колечками, и, махая этим колом, он кинулся в толпу и крикнул почему-то: «Тёмно!» Если бы он крикнул «Стойте!» или что-либо подобное, то дерущиеся едва ли бы остановились, но он крикнул именно «Тёмно!», и на него посмотрели, и он тогда крикнул, восхищаясь и своей смелостью и своей находчивостью:
— Агафья удавилась!
Кремлевцы остановились, дрогнули: мануфактуристы сделали было шаг, но Рудавский прорвался между ними и, протягивая к ним березовый кол, весь тряся седой бородой, закричал, вызывая удивление своим зычным и красивым голосом, среди приглушенных голосов кремлевцев:
— Вы переступите через меня, уже покойника!
Все это было необычно и показалось смешным. Впереди всех побежал С Гулич. Догонять их было поздно, драка не вышла. Колесников стоял в позе победителя, и это страшно возмутило Вавилова, и больше всего, конечно, возмутило то, что он не мог ничто придумать, а какой-то половой остановил драку. Затем выяснилось, что это хохот, мистификация; наборщики приехавшие звонили над А. Сабанеевым и остановившиеся начали с обеих сторон заводи или пруда кидать в воду, испытывая свои силы, бить камни, приготовленные для запруды. Они по очереди подходили к камням и кидали их о землю. И чиновник, вышедший из сторожки, зажимал уши от треска камней и говорил:
— Граждане, что вы делаете? Граждане!
Грохот и пар шел от ребят. Затем наборщики взяли бревно и начали, раскачивая им, бить бревном в лед. Лед гудел, — и с противоположного конца [стали] бить в лед мануфактуристы; кто пробьет первый. Чиновник сидел и пил чай. На реке стоял треск и рев толпы.
— Лед ломают, — сказал он больной жене, — лед!
— Господи, сколько же я хвораю, разве уже весна? — спросили она.
А. Сабанеев, который уже услышал ругательство со стороны Е. Дону и сторону Е. Рудавского, чувствовал к нему огромную зависть — и то, что над его лысиной смеются, и то, что старикашка до конца опередил его перед Агафьей, и то, что наборщики оттолкнули его тогда, когда он пытался подойти к ним, «ты, — сказали они, — лысый!» — и невероятное презрение их к нему услышал он в их голосах, все это заставило его купить на последние деньги четверть водки для наборщиков, и они повели его к себе, Они на мгновение почувствовали к нему уважение, и тут-то А. Сабанеев счел необходимым повторить то, что он говорил раньше: если бы оружие, он бы показал, что такое европейская война, — и один из наборщиков развязал корзинку и, показывая новый наган, завернутый в розовый платок — ситцевый, сказал:
— Вот же оружие, но где мне теперь дожидаться европейской войны?
А. Сабанеев взял наган — и пошел к дверям. Наборщик пока закрывал задвижку, вспомнил, что нагана нет, он сказал:
— Унес наган.
Другой ответил ему:
— Чокнемся, одним лысым дураком в Кремле меньше.
Они чокнулись и поцеловались.
Глава семьдесят четвертая
Всю неделю Вавилов подделывался к Пицкусу. Он не знал, как приступиться, и наконец его осенила благая мысль. Это было в пятницу. Он предложил Пицкусу сообщить сведения по Мануфактурам в губернскую газету и что хорошо бы открыть кампанию, а выход из этой кампании — борьба с замеченными кражами на фабрике. Пицкус согласился. Он немедленно выработал план.
Вавилов предложил, что лучше всего на воров должны донести люди, которые не заподозрены никогда, и что это будет подлинно пролетарское негодование, организованное. Пицкус пошел проводить кампанию, подготовлять. Ложечников встретил его на железной лестнице. Мимо катились тележки с пряжей. Он подвел рабочего. Они пошли поговорить. Вавилов выяснил, что он рыболов. Он завидовал ворам — и Вавилов, на ура, воодушевленный, сказал, что вот С. П. Мезенцев живет хорошо, а неизвестно с чего. Это и было то, что необходимо сообщить рабочему и что было его больной стрункой. Вавилову было тяжело от машин, и он отказался пройти в уборную, чтобы поговорить, и оттого едва не сорвал выступление рабочего, но выручил ленивый Ложечников, который, попыхивая папироской сказал рабочему, чтобы не обижался и что ему доверяют, он должен сказать, Мезенцев ходит часто и сегодня пришел и уйдет вместе с рабочими, дабы не возбуждать сомнений. Он жаден, ходит в пальто, и возможно, что обмотает пряжей себя. Все это было тяжело, но самое главное, что в этом цехе, где преимущественно орудовал Мезенцев, работала Л. Овечкина — и, к удивлению Вавилова, она отказалась категорически подтвердить свои сообщения, которые раньше высказывала рабочему.
Вавилов был огорчен, но дело было начато и, главное, Пицкус соблазнен вовремя, не успев поговорить с Мезенцевым и Колесниковым, который ходит хмурый, поговаривали, что в воскресенье он все-таки пойдет на драку. Вавилов боялся еще потому, что этот митинг, чрезвычайно опасный, мог вызвать самосуд как для Мезенцева, так не в меньшей мере для Вавилова.
Ему предложили охрану, — он долго мямлил, и там не могли понять: что же, давать или нет. Ему хотелось спасать на свой риск; он так и отвильнул, но ему больше хотелось, чтоб стояла охрана в соответствующих углах, но хотелось и проявить свою храбрость.
Раздался гудок; рабочие повалили. У будки стало тесно. Рабочий вдруг пролез. Он поставил табуретку и заявил, что возмущен, что пролетариев обыскивать нельзя, но тут замечена кража, и он берет на себя смелость и ответственность обвинить руководителя краж, за которым он тщательно наблюдал, — и что это, по его мнению, Мезенцев. Рабочий был потен, но странный героизм, который Вавилов наблюдал, отразился на его лице. Рабочие были, видимо, недовольны задержкой, — да и на дворе было морозно и с гор дул холодный ветер. Они переступали. Рабочий, говоривший, переступал с ноги на ногу нерешительно.
Вавилов испытал страшный страх. Он увидел сконфуженное лицо Пицкуса. Он вскочил на табуретку и вскричал, что это не только уголовное преступление, но и преступление против культуры. Это надо пресечь, и поскольку С. Мезенцев работает в его клубе, он начинает обыск с себя, а затем перейдут к С. П. Мезенцеву.
Мезенцев крикнул, что выслуживаешься перед ним. Этот намек был непонятен, но, видимо, попал в точку; толпа зашевелилась. Вавилов скинул одежду. Меланхолический сторож обыскал его. С. П. Мезенцев, вдруг, кинулся бежать — и это испортило всё. Он трусил тюрьмы. Когда его кинулись обыскивать, то на нем ничего не было. Он страшно боялся самосуда. Он указал на двух толстых ткачих, окутанных пряжей. Бабы стали его упрекать и выдали его; он плакал, — толпа гудела, но чувствовала, что все-таки воры, что называется, неквалифицированные. Ткачих и Мезенцева увели. Вавилов заявил; он понимал, что заявление его вызвано победой и может быть забыто, или он попросит, чтобы на суд послали не его, а кого-нибудь другого, что это только начало клубка и что надо принять меры, — и они будут приняты, — и суд выявит всех вредителей. Он понимал, что отношение рабочих к нему несколько изменилось, но ему необходимы свидетели и лица, которые бы смогли показать, что работал С. П. Мезенцев систематически и что даже непойманные воры знают, что их могут открыть, но чтобы не марать звания пролетария, от них ждут исправления.
Все дело было в Пицкусе, но Пицкус, наверное, очень огорченный, исчез — и не ночевал. Вавилов вздремнул только на час, перед утром, но он вспомнил, что сегодня «стенка». Он думал, что связь дойдет и до пяти братьев, но никто из пойманных не сказал о них ни слова. Он трепетал машин, и уверенная фигура Селестенникова вызывала в нем омерзение и трепет, не лишенный удовольствия. Он вскочил, умылся, он понимал, что сегодня Колесников пройдет по его трупу, его лихорадило; он едва набрал сил, чтобы окатиться холодной водой, но он все-таки встал и пошел. Он хотел не взять револьвер, но подержать его в руках и бросить. Он кинулся к револьверу, но револьвер исчез. Ярость овладела им. Он понял, что Пицкус украл его, Он негодовал и на С. П. Мезенцева. Он быстро пошел. Он стоял на пригорке, за кустом, когда на пригорке показался Колесников. Его огромная фигура была одета так же пышно; рубаха была так же вымыта. Он кубарем скатился к его ногам. Он крикнул: «Уйдешь?» — и кинулся на него. Колесников шел и оглядывался. Он вздрогнул, остановился. Они начали драться. Он ударил Колесникова в шею, подле уха, — и тот упал. Из кармана его катился украденный револьвер. Он не хотел бить лежачего. Но вид револьвера возмутил его. Он начал бить. Он бил его долго и упорно, настолько, что тот начал брыкаться огромными ногами и кусаться. Он отпустил его. Он встал. Его лицо было обезображено. Он внушал омерзение, но он вдруг собрал последние силы и кинулся. Вавилов не оглянулся, почему он кинулся так неожиданно. Он пошел к нему размеренно — и сделал только четыре удара — и в бок, в глаз, в подбородок — и когда он покачнулся, — под ложечку. Он тяжело рухнул. Вавилов оглянулся. Толпа бойцов и зрителей стояла на пригорке. Они смотрели с удивлением. Колесников бежал. Вавилов шел к ним окровавленный, разбитый, изо рта у него шла кровь, но он воскликнул: «Уйдите!»
И бойцы разошлись по домам. И великая слава пошла о нем по поселку.
Глава семьдесят пятая
Агафью очень огорчило то, что Е. Чаев осмелился оскорбить И. Лопту и тем более поднять на него руку. Она сильно поссорилась также с Еварестом, потому что он настаивал на том, что не надо никого в дом, да он и сам понимал, что эти его настаивания и смешны и нелепы, что невозможно им двоим жить в доме, когда положение таково. Но он все-таки защищал свои положения и спорил с нею, так как ему казалось, что он очень запутался в ее сетях, и, кроме того, сегодня произошел странный случай.
Подвалы собора, которые начинались под железным крыльцом собора, запирались тяжелой, дубовой дверью, похожей на ворота, окованной железом, и Чаев давно, еще с малолетства, думал, что когда подрастет, то он будет открывать эти чугунные ворота, ведущие к могилам епископов и игуменов. Эти ворота часто снились ему во сне, и, пробуждаясь, он чувствовал, что должен их открыть, но просыпается оттого, что не может. И все ему казалось, что он бережет силы, и вот прошло семь лет, и он силы эти сберег, и тогда, когда он открывал впервые эти ворота, И. Лопта видел, как он ущипнул Шурку Масленникову, и, наверное, мысль об этих воротах и о своем грядущем епископстве заставила его ввести старинный обычай зажигать свечи перед могилами епископов. Он ключи держал при себе — и любил открывать двери подвалов, а теперь он открывал и отчасти оттого, чти он открывал ночью, но не мог открыть и открыл с трудом, затем он ушел в собор, и когда служение окончилось и надо было закрывать, он прихлопнул с трудом дверь, полез в карман за ключом, и когда протянул руку, то увидел щель, и через эту щель прошла Клавдия. Она сказала: «Узнаю потерянную силу, я пролезла в щель и многих через нее могу провести, узнала». Больше она ничего не сказала, а ушла вниз через ворота, в Мануфактуры. Он пришел в дом, и все присутствующие в доме и множество знакомых и незнакомых людей, которым вдруг оказалось необходимым переселиться в дом, который, как это ни замазывай, а было ясно, что брошен И. Лоптой, — и все надеются поживиться и вырвать тот кусок, который, им казалось, захватили Е. Чаев и его друзья.
Чаев чувствовал не только телесную, но и душевную слабость, и Агафья обратила на это внимание и даже сказала ему об этом. Он засмеялся и сказал, это оттого, что вдруг обнаружилось много бедных родственников. Сюда переехала и Надежда со своими ребятами и с домовитыми размышлениями и прачка Милитина Ивановна, ловившая актера, дабы выпытать у него истину. Дом наполнился грохотом перетаскиваемой мебели, разными несвойственными звуками, и так как комнаты их были вместе и как только она почувствовала, что разговор слишком затягивается и перебранка обнаружить может, что они слишком близкие люди, — она сказала, и ей не только почудилось, но все переехавшие немедленно почувствовали что-то неладное, что их хотят в чем-то обмануть.
Агафья учитывала, но думала, что выразится это не в такой дикой степени. Кроме того, ей показалось странным, что ей мало доносят: раньше она получала гораздо больше сведений, но она подумала, что Кремль еще не узнал, что Еварест живет в конце коридора и что все в доме не чувствуют ее хозяйкой. Она набралась смелости и обошла весь дом, указывая на непорядки и что скоро придет комиссия от общины, которая и проверит чистоту дома.
Слово «комиссия» напомнило всем что-то советское и серьезное, и все начали убираться — и донесли о ней в Кремль, и тогда первым пришел за приказаниями С. Гулич. Он рассказал ей о гибели Е. Рудавского. Она выслушала его, прослезилась, сколько полагается, — и послала его с письмом в Мануфактуры.
Е. Рудавский, волоча березовый кол, но чувствуя усталость телесную, вначале хотел вернуться к Агафье, но потом пошел в свою избушку и здесь, чрезвычайно довольный, вскипятил чайник, лег на кровать из досок и, напившись чаю и ощущая легкую усталость, вздремнул. Избушка его была на пустыре. В эти дни много пили и много гуляли, и все хулиганы проходили по пустырю, мимо избушки Е. Рудавского. Он дремал и был очень доволен — он спал недолго, и когда проснулся от стука в раму, то ему тотчас пришла в голову мысль: неужели это он и неужели это он мог совершить такой странный поступок и остановить такую огромную кучу дерущихся и даже довести их до такого состояния, чтобы они смеялись. И он сам, чрезвычайно довольный, рассмеялся. Избушка слегка покосилась, и дверь откидывалась на себя. Он услышал повторный стук и крик, чрезвычайно неразборчивый, в котором по тону было можно только разобрать: «Выходи». Он посмотрел в окно. При луне было видно, как какой-то человек, взмахивая длинными руками, приплясывает на морозе. Он взял кол, вышел, держа его в руке, — и остановился перед дверью, которая откидывалась от себя. Он узнал А. Сабанеева. Тот был сильно пьян и, видимо, замерз, оттого и подпрыгивал. «Отойди-ка», — сказал Е. Рудавский, все еще ощущая в теле своем легкую радость. Но А. Сабанеев вдруг присел и, всхлипывая, промычал: «Я покажу, что такое европейская война!»
Е. Рудавский вдруг ощутил легкое и теплое колебание всего тела, необыкновенно большая волна радости овладела им. Он прислонился к двери и, почувствовав ее холод, замер. А. Сабанеев выпустил в него все патроны, а затем ушел, кинув к ногам его револьвер. Он так и остался стоять, прислонившись к своей двери, грузно опираясь на кол. Наган лежал подле его ног. Люди шли мимо, но большинство пьяные, видели грозную фигуру человека, охранявшего свой дом, и сторонились его. Прошло мимо него много хулиганов, а затем дело выяснилось только тогда, когда впавший в отчаяние А. Сабанеев, ожидавший какого-то огромного наказания, пошел и заявил на себя в милицию. В исправдоме его научили говорить, что убил он по пьяному делу, плохо помнит, а вообще он очень любил Е. Рудавского, который был хулиган и драчун и кинулся с колом на стенку. Первой к трупу Е. Рудавского пришла Агафья. Она холодно посмотрела и поцеловала его в покрытые инеем губы — и сказала: «После всего мы его похороним за счет общины», — и его понесли милиционеры.
Глава семьдесят шестая
[Вавилов] сам пришел к выводу без разговоров с Ложечниковым, что ему необходимо побороть в себе страх кражи — и он стал прилагать к этому все усилия. Пицкус, после его победы над Колесниковым, перешел окончательно к нему. Вавилов пошел к Ложечникову, но тот задумчиво раскладывал на окне листья табака, принял его сухо — и все был недоволен собой, что вот, знаю, что зимнее солнце не сушит, а все-таки сушу! Больше он ни о чем не желал говорить.
Вавилов понял, что он должен надеяться на свои силы. Ему сообщили в ячейке, что он должен выступить на показательном процессе против С. П. Мезенцева. Он зашел к Колпинскому, он его пленял тем, что все говорил о болезнях, читал какие-то журналы — опять у него сидел веселый док тор. Они говорили со странной любовью о болезнях, — и Вавилов слушал их с удовольствием и надеждой. Ему опять стало казаться, что он болен, что ему не стоит ничем заниматься и что не лучше ли ему полечиться. Он тоже, со сладострастием, проверил, что Груша очень нежна к Колпинскому.
Колпинский сказал, что с этим делом едва ли что выйдет. Рабочие опять начнут воровать. Они возвращались с катка. И гордость Вавилова слегка была задета. Они вышли на площадь перед Храмом Петра и Павла посмотреть, как Осип Петров, один из «пяти-петров», снимает крест.
Осип, чувствуя страх и омерзение, — он был даже религиозным человеком, — закладывал петлю. Ветер был холодный. Осип виден на огромном пространстве. Яркими пятнами плыли купола Кремля. Петля закреплялась; особенно трудно было завязывать веревку. Внизу стояла толпа; в первый день ему было страшно, но вот уже неделя, как он лезет по шпилю: братья хотели начать корчевание — и пригласить рабочих-сезонников. Он полз железной лестнице; вылезал на холод, и самое страшное было лезть по этой лестнице; но как только он привязывал себя, так он начинал бояться, — и самое страшное было отвязывать себя — и спускаться по лестнице.
В темноте, когда он вылезал и старичок тащил его к жаровне с углями, он чувствовал страх и тяжесть во всем теле. Он старался только усесться, дабы ощутить и пощупать пыль на доске, холодную пыль, всегда и каждый раз принимаемую им за землю. Он почувствовал озлобление — радостное, — когда железо креста завизжало под его рукой. Он пилил — он делал свои крестьянские движения и ощущал уверенность во всем теле, ту уверенность, которой у него не было и которой он не знал, получит ли когда, впервые не видя и не злясь, и только по урокам старичка актера, который искал страшно популярность и всем твердил, что это делает он, К. Л. Старков, но ему не верили и думали, что у него все выдумки, а главное выполнение принадлежит Осипу Петрову.
О. Петров прикрепил к шпилю длинный шест с блоком на конце — и в блоке уже был конец веревки, по которой он думал спускать крест. Он прикрепил, взял пилу и посмотрел вверх, как он смотрел всегда, когда начинал пилить деревья. Ветер играл снегом в горах.
Вавилову было противно, что Груша незаметно прижалась к нему, но тотчас же отошла. Колпинский пугал его болезнями, что ему не стоит идти в Кремль, дабы завязывать хорошие отношения, и не стоит готовиться к выступлению. Он его слушал с удовольствием и с неприязнью смотрел, как и лезет на шпиль собора жадный Осип Петров.
Он вдруг разозлился на себя и на то, что поддакивает всегда Колпинскому, и он вдруг, даже не зная почему, спросил:
— А как вы думаете, пройдет мой проект, если мы служащих, которые не так отстали, как рабочие, переселим в Кремль на квартиры, предварительно, конечно, произведя там соответствующее обследование?
Колпинский чувствовал здесь какую-то ловушку, так как все время направлял мысли Вавилова на выявление его желаний и боялся, как бы не проболтаться о Зинаиде, в чувствах к которой он видел себя с ним соперником, но он быстро вошел в обычный для него энтузиазм; накидывая цифры на пальцах, он стал подсчитывать:
— Вполне возможно, и почему раньше не приходило нам в голову? Груша смотрела с грустью на крест и никак не находила в себе восхищения работой О. Петрова:
— Я знаю почему.
Он посмотрел на нее испуганно. Пицкус носился чрезмерно. Вавилов побывал у Трифона Селестенникова, и так как тот был упорно помешан на том, что необходимо ввести в Кремль машины и вообще его индустриализировать, — он написал по сему даже проект, он сказал Вавилову, что, по его мнению, С. П. Мезенцев продавал пряжу в Кремль — и странный блеск ненависти мелькнул в его глазах, и он сказал:
— Дело едва ли обошлось и помимо моего отца.
Вавилов, изнеможенный припадком мнительности и тем, что не осмелился сказать архитектору того, что он хотел сказать, — вяло прослушал его и согласился идти в Кремль. Затем пришел Лясных и сказал, что мадам Жорж будет новой руководительницей кружка и что он мечтает — и сделает водопровод в клубе. Лясных сделал некоторые удачные открытия в деле расследования кражи пряж; ему, очевидно, по всей его манере разговора, помогала Лиза Овечкина, — и Вавилова это задело за живое. Писать доклад и обследовать Кремль — вот во что, несомненно, втянули бы его, и это было бы победой над его мнительностью, и он уязвил бы Колпинского. Но он не мог писать, он написал только небольшую записку.
Зинаида, получив записку, сочла это как бы за намек. Она слышала уже много о делах Вавилова, она боялась ему верить. Она уже знала, что ему известна ее связь с Колпинским, и чтобы быть беспристрастной, она сама решила войти в комиссию и сама поехала в Кремль. Дела ее улучшались, Литковский не был назначен на ее место; затея с переселением служащих была удачей.
Колесников прекратил ее посещать, она, казалось, была вправе получить наслаждение, она его и получила. Она чувствовала, что еще немного и — она перенесет свою деятельность на детей, но тут встало странное препятствие — Витя Петров, который ей очень нравился, но она смогла отказаться от него, едва только узнала, что Вавилов собирается идти в Кремль. Она не хотела ему мешать — и это было ей неприятно, втайне ей хотелось, может быть, чтобы его все-таки убили.
Она стояла на лестнице — и так думала…
Глава семьдесят седьмая
Товарищ Старосило чувствовал себя плохо; тревожное состояние в Кремле отражалось на нем, хотя он его и презирал. Он решил посоветоваться с профессором З. Ф. Черепахиным. Он послал ему бумагу — «совершенно секретно» и назначил странное место — у бревен возле сруба, который хотел купить покойный Е. Рудавский. Профессор З. Ф. Черепахин, подходя к бревнам, в которые, он видел, нырнула какая-то странная фигура, смеясь, чтобы показать, что видит всех подслушивателей, сказал:
— Надо бы осмотреть, если вы назначаете мне секретные места для разговора.
Старосило посмотрел на него тусклыми глазами и ответил:
— Что же мне скажут мои товарищи, что я не могу спокойно сидеть на бревнах? — Он сказал: — Вы — профессор, но вот скажите: если я не болен, то почему я выскакивал на каждый крик «караул!» и почему меня религиозные дела не касаются, меня раньше тянуло к Вавилову, но я простил бы его высокомерие, если бы меня призвала партия, но партия меня не зовет. Я боюсь, что в ней слишком много людей успокоившихся и тихих.
Профессор сказал:
— Я уезжаю на несколько дней в Москву. Я ваше состояние понимаю, близость Агафьи и меня тоже тяготит, я поеду, произнесу речь, восхваляющую государственный оптимизм, отдам, так сказать, дань — и возвращусь.
Товарищ Старосило сказал:
— Раньше я боялся беспартийных, а теперь зову и беспартийных. Я одинок.
Он тяжело встал. Профессор сказал ему, зачем же он вызывал его совершенно секретно, можно было б зайти, а то перепугал семью. Товарищ Старосило щелкнул пальцами:
— Экскурсию, понимаешь, хочу, походить по храмам, никогда не был, хотя и ненавижу их с детства. Мне не скучно, потому что скука бывает у сытых людей и признак сытого общества, а я хочу заседать в Мануфактурах, а не в волости, а там выдвигают других, а не меня.
Он пошел. Ему не стало легче, потому что, едва лишь сел рядом с профессором, он почувствовал к нему враждебность. Тотчас же, кривляясь и ломаясь, выскочил из-за бревна С. Гулич и пошел за ним, кривлялся, твердо убежденный, что товарищ Старосило не обернется. А он точно — не обернулся. Жена у него где-то служила, он ей писал письма, похожие на отчеты, убеждая ее поступать так-то, а не иначе. Она ему отвечала такими же письмами.
С. Гулич вернулся и остановился против профессора. Вид у него был гнусный. Он, глядя прямо ему в глаза, сказал:
— Видишь, нашего бога все, даже коммунисты, признают, а ты, сколько хочешь, живи здесь, но не поймешь. И сыном твоим ты хвастаешься, но совершенно зря.
Он широко перекрестился. Профессору стало страшно. Он, в данный момент, именно хотел быть государственным оптимистом, но он собрал последние силы и сказал:
— Видите ли, если вы на меня кинетесь бить, то я с вами не справлюсь — ясно, но сопротивляться я вам буду, и, кроме того, — он приходил в ярость и поднял указательный палец нравоучительно, — не запугаете, не запугаете, я не уеду — и материалы соберу.
С. Гулич, видимо, струсил. Его напугало слово «материалы». Он развел руками и, пытаясь понять слова профессора, вдруг почувствовал усталость. Он сел на бревна. Профессор стоял перед ним на фоне Кремлевской стены. Подошел Е. Дону. Он сел рядом и сказал:
— Ты с профессором не спорь. Ты его оставь, ты поди лучше в Мануфактуры и позови сюда актера для окончательных разговоров со мной, о чем они говорили с профессором?
С. Гулич сказал, злясь:
— Вот он на меня не хотел посмотреть, он в смелости своей видит наслаждение, а я вижу в том, что он на смерть свою оглянуться не хотел, а со смертью лучше не шутить.
Он с удовольствием вызвался поговорить и привести актера. Его спрашивала Агафья, отнес ли он письмо. Он сказал, что отнес, но что ответа не будет, так и сказали. Агафья ничего не понимала, но, занятая устройством дома, не придала этому значения.
Клавдия вела себя странно, она пришла в церковь позже, всю вечерню, но в церкви было много народу. Е. Чаев ходил между народом, собирая в кружку и высматривая людей; некоторых людей он отводил в сторону и сообщал им что-то.
Вечером было собрание общества хоругвеносцев, и ночью С. Гулич привел с Мануфактур Клавдию на Волгу смотреть крестный ход в метель. Крестный ход состоял из двадцати пяти человек, они прошли узкой улицей к проруби — и впереди шел протоиерей Устин, за ним женщины в белых клобуках и повязках, затем Клавдия увидела лицо И. Лопты, изможденное и с горящими аскетическими глазами, более тонкое — его сына, все высматривающего и идущего почти неслышными шагами. Она не утерпела и взяла его за рукав. Он вошел. Он не знал ее, и она сказала ему с ненавистью:
— Искушение несет, не возьмет меня твой бог, не завербует в свою общину.
Он переложил икону на другую руку — и свободной рукой благословил ее. Она плюнула ему в руку. Он, не вытирая руки, взялся за икону и пошел. С. Гулич извивался подле:
— Совершенно верно, я агент Щеглихи, может быть, и хочу завербовать тебя к ней на службу. Щеглиха скучает служить кассиршей, она привыкла деньги класть к себе. Я сегодня с профессором разговаривал, тот выстукивал сегодня товарища Старосило и признал, что он накануне смерти. Клавдия, чего ты хочешь: ты хочешь предать Кремль или сыграть роскошную игру? Но ты должна завидовать — тебя, несмотря на все дары, не пригласили в церковь, про тебя открыто говорят, что ты агент.
Она посмотрела на него спокойно:
— Давай молиться.
Они слышали доносящееся из метели пение. Было страшно и грустно. Она встала на колени и вдруг заплакала. Она стояла у крыльца и плакала горько. С. Гулич вспомнил тоже все свои подлости — и тоже заплакал. Так они плакали, держа друг друга за руки, а затем она ударила его рукавом в рот, встала и сказала:
— Ну, бей, ну, бей меня, шпион. Закричу, завизжу, прибежит товарищ Старосило и спихнет весь ваш крестный ход в прорубь, и товарищ профессор будет жалеть лишь о том, что утонули старинные иконы.
С. Гулич сказал:
— Зачем же резать, вот ты ударила меня, а сама на такую штуку напоролась, что теперь всему Кремлю страшно будет. Хочешь, приведу к тебе товарища Старосилу за утешением; он придет к пролетарской б(…), не побрезгует.
Она захохотала:
— Ну, приведи, бог даст, тогда мы и выпытаем друг у друга, что мы за люди и чего нам ждать на земле и чего земля от нас ждет. Пойдем, я провожу тебя спать.
Она проводила его и, идя одна в Мануфактуры, так думала: зачем ее С. Гулич приводил смотреть странный крестный ход, крадучись, и ей подумалось, что если — жалость, то жалость он у нее вызвал, но в то же время умиление перед Агафьей, которого раньше у нее не было. К Старосило она чувствовала симпатию, и хорошо б, если б она к нему сходила.
Глава семьдесят восьмая
Рабочие, оказывается, не знали ее слов — он должен был разведать о пряже. Задания, записанные им, требовали всего этого. Кроме того, Вавилов думал, помимо своей мнительности, создалась у него мысль о Кремле, что это место, откуда его преследуют. Там у него были постоянно неудачи, и ему очень не хотелось туда идти, но он все-таки пошел. Он набрался наглости для разговоров с Витей Петровым. Тот создавал какие-то странные проекты, и Вавилов подумал, что, действительно, Зинаида может им увлечься. Он стал говорить о кражах и что ему необходимо узнать, кто здесь покупает.
П. Голохвостов рассказывал, что идут рассуждения о том, что чучело голубя над алтарем — деревянную скульптуру — делал знаменитый богобоязненный актер, игравший в религиозных спектаклях Христа. Экскурсия осматривала, и кто-то шутя щелкнул — а чучело и улетело. Он вспомнил, что И. Лопта видел, как С. П. Мезенцев поймал зайчонка и сказал: «С такой ловкостью долго не проживешь» и сломал ногу ему. Конечно, с С. П. Мезенцевым надо быть осторожным. Ему очень и больше всего из разговора понравилась идея переселения служащих — и что Вавилов уже член комиссии по обследованию квартир в Кремле.
П. Голохвостов (один из его подчиненных) улыбнулся:
— Агафью пойдешь обследовать? Сахар, говорят, взял сладость — с ее слов; слепые отказываются от посохов — и идут на ее слова; когда она пьет, то горло ее столь прозрачно, что видна идущая вода.
Он захохотал, но Вавилов почувствовал, что вся его мания преследования, пугавшая его, прошла, и он посмеялся вдоволь над словами П. Голохвостова и от него пошел к профессору З. Ф. Черепахину, который рассматривал с Буценко-Будриным фотографию. Он сказал:
— Это хорошо, что вы все зафотографируете, это необходимо для потомства, ибо выходит так, что нам необходим кирпич, по весне, и мы начнем разбирать Кремль.
Профессор З. Ф. Черепахин спросил:
— Кто же выдвигает такой чудовищный проект и кто его будет поддерживать?
— Я, — ответил Вавилов тихо.
Минутная слабость овладела им. Теплые волны как бы проходили через его тело. Он сидел, и почему-то вспомнились те планы агрономической сети, которые ему развивал Петя Голохвостов. Он сказал:
— Посмотрите, дорогой профессор, поднимаются массы, огромные массы, вам необходимо переменить тактику хотя бы до того времени, пока эти массы не научились думать. Вы человек умный.
— А к тому же времени поднимутся другие массы.
— К тому времени и вы полюбите свою работу.
Он вышел воодушевленный, профессор З. Ф. Черепахин посмотрел ему вслед:
— К сожалению, ткачихи берут верх в совете. Мне кажется, дорогой Буценко-Будрин, что спор о бессознательном в философии, покинутый, казалось бы, со времен Шопенгауэра и Гартмана, весьма реально возник в Советской России. Российские люди, весьма слабовольные, творцы бессознательного, захотели волю, а воля, обманывающая себя, всегда хочет оптимизма Надо им отпустить известную долю оптимизма. Я наблюдаю и ту и другую сторону и думаю, что бессознательное, то есть то тайное тайных, все чувства, вселяют в человека и взамен стараются всучить ему государственный оптимизм. Есть ли воля? Вавилов вам яркий пример. Он сейчас отказался от мнительности. Смотрите, какие у него сумасшедшие глаза!
Вавилов увидел Агафью. Он подошел к ней прямо и сказал:
— Я — Вавилов, вы небось слышали, не знаете ли, кто здесь пряжу прячет?
Она улыбнулась гордо и сказала:
— Вас тоже в комиссию по обследованию?
Он кивнул головой. Она сказала:
— Дом мой принадлежит общине. Хорошо бы, если бы комиссия прошла мимо, потому что это будет мешать религии, а вы ведь, кажется, не хотите мешать религии?
Он кивнул:
— Зачем вам мешать? Так, по-вашему, у кого пряжа?
Она посмотрела вдоль улицы и сказала, открывая калитку:
— Идут ко мне. Что хорошего, если они увидят меня с вами? Мне трудно вам указывать, но я все-таки думаю, что у Луки Селестенникова, да вам, наверное, и сын его сказал уже.
Она вяло улыбнулась и ушла. Он пошел. В переулке он встретил Е. Чаева. Он сказал ему:
— Вы бы ко мне зашли.
Тот испуганно посмотрел на него — и Вавилов подумал, что наглость его совершенно беспредельна, тогда он сказал:
— Простите, но я вас принял за другого, — и вежливо снял перед Е. Чаевым кепку.
Он почувствовал, что как ни странно, но профессор своими не совсем ловкими ответами лишил его мнительности и мании преследования; нелепо было думать, что тихие кремлевцы могут его убить, когда даже недоступная Агафья и та была слишком вежлива. Но он подумал, что он может сыграть на том, что был все-таки слух о том, что его хотят убить, и Агафья имеет какую-то злобу против Л. Селестенникова. Он прошел в чайную.
Л. Селестенников лежал на кровати. Вавилов в этот вечер чувствовал себя почти пьяным. Он спросил:
— Что, убить меня хотите?
И Л. Селестенников злобно ответил:
— Все сынок вам мой, все сынок подсылает. И убью. Вот как встану, так и убью. Девка меня околдовала, — сказал он горько. — Плохая или хорошая девка.
Он сказал, что на суде С. П. Мезенцев едва ли скажет, кому он продавал, Он не боится, тут дело хуже. Он наклонил голову и тихо сказал:
— Не выселяйте Агафью, тогда и скажу, тогда и признаюсь — и людей найду; и самому мне семьдесят лет, зачем меня на суд таскать?
Вавилов понял, что он сможет уничтожить С. П. Мезенцева и что визит к Л. Селестенникову был удачен. Он выходил. В сенях он увидел Дашу. Она его спросила:
— Какой человек Борис Тизенгаузен?
Он ответил ей вопросом на вопрос:
— Какой человек Лука Селестенников и не подкупил ли или, вернее, не приходил ли к нему С. П. Мезенцев с пряжей?
И она ответила со злобой:
— Надоело, всё про Агафью, весь Кремль про Агафью, наверное, и хуже ходили? Хромой? Ходил.
Вавилов ушел очень довольный. Он сказал, увидя, что Даша смотрит ему вслед:
— Тизенгаузен — хороший человек — и если жить с ним, лучше где искать?
Она и сама так думала. Она просияла.
Ему грозили Гусь-Богатырь, Зинаида, «пять-петров», машины и Т. Селестенников. Бодрость его исчезла. Он оглянулся со страхом. По мосту, не видя ничего, ехал Измаил.
Глава семьдесят девятая
Неукротимую гордость Агафьи радовало то, что испытание, которое она на себя наложила, вполне ей удавалось, и столько женщин погибло из-за мужчин, а она ничего.
В Кремле, вначале, после ухода И. Лопты, ей, должно быть, не поверили о ее невинности, или это ей казалось, и ей, как ни противно было самой, но приходилось обманывать кремлян, и только один Гурий смущал ее, но она хотела сослать его после съезда мирян и после того, как будет напечатана библия. После того, как люди обжились несколько в доме и почувствовали уважение, хотя и сопровождающееся слежкой, но она не считала это обманом, потому что думала, что это дело бога — и вообще она старалась меньше думать, а больше действовать.
В Кремле ощущался голод, уезд был из беднейших. Она шла и видела, что женщины выставляют на подоконник горшки, перевернутые вверх дном, в знак того, что им больше нечего есть. Она не испытывала беспокойства, потому что голод укрепляет веру.
Товарищ Старосило по тому, как посмотрела на него Агафья, уже понял, что ей донесли, и так как он не допускал мысли, чтобы его могли подслушивать, значит, даже профессор, человек, обладающий образованием и более или менее разумным взглядом на жизнь, поддался этой болтовне, этому гипнозу огромного количества храмов, этой старине — и отвернулся, и, значит, вчера он не желал разговаривать. Товарищ Старосило сидел у себя в канцелярии. Он слышал, как в соседней комнате рассказывали про охотника:
«Вот и пошел он на него, а медведь отвернул ему голову, а охотник идет. И тогда товарищи спрашивают жену: «Да была ли у него голова?» Жена отвечает: «Не знаю, но помню отлично, что шапку ему в кооперативе брала каждый год».
Товарищ Старосило понимал, что дисциплина вместе с уменьшением количества служащих в учреждении падает с каждым днем. Он достал бутылку. Он выпил. Тоска грызла его. Он услышал крик: «Караул!» Он выскочил на улицу сквозь насмешливые взгляды служащих. Все было обычно и противно. Он увидел малолетнего сына Милитины Ивановны, который смотрел на него. Несколько мальчишек стояло поодаль. Он спросил мальчишку:
— Это ты кричал караул?
И мальчишка ответил ему:
— Я желал тебя видеть.
Дети, в играх, пересмеивают его!.. Ему стало грустно. Дети, подпрыгивая и крича «караул», побежали дальше. Он смотрел на свои сапоги, перенесшие так много войн и так обильно смазываемые салом. Он возвратился. Он сел у окна. Он вспомнил сражения, так, как их рисуют на плакатах, ибо так, как это происходило на самом деле, было совершенно некрасиво и даже отвратительно. Он шел, убивал. Он, например, каждый сотый труп офицера ставил вверх ногами, а теперь и подумать об этом противно. Теперь его считают за пьяницу, за сумасшедшего, его ссылают черт знает куда, и он должен мучиться и сидеть с чиновниками. Ради того он воевал и убивал, чтобы вот напротив вика стоит полусгнившая избушка, вся в подпорках и покрытая дерном, на котором даже нагло выросли две березки по пол метра высотой, — и что же, сколько изведено бумаги, какие старания сделаны для того, чтобы горкомхоз убрал эту отвратительную избушку, а недавно товарищи прислали бумажку — с написанной сбоку резолюцией синим карандашом: «Товарищи, прекратите бюрократическую переписку». И сейчас ему подсунули эту бумажку. И сейчас подслушивают его разговоры и устраивают нелегальные крестные ходы в Крещенье, на Волгу.
Он выпил стакан водки! Ему стало трудно жить. Он еще выпил. Но ему не было легче. Он верил в революцию, он желал революции, но он чувствовал, что его жизнь бесславно сгниет в этих душных комнатах с розовощекими канцеляристами, Митей да Сашей, занимающимися футболом и прическами. Он вскочил, снял сапог и вошел, прихрамывая, в соседнюю комнату. Митя и Саша сидели смирно. Они сидели смирно, хотя, наверное, уже сочинили анекдот, который можно было б рассказать про него.
Он поставил сапог подле высокой папки с делами и сказал, поднимая руки:
— Довольно для вас, дураков, и подчинения старому сапогу.
И он вышел на крыльцо. Он понимал, что ему возвращаться незачем. Он вскочил в избушку, выбил оставшимся сапогом дверь. В избушке обдало его гнилью и плесенью. Крыса кинулась. Обломки каких-то ящиков валялись по углам. Он крикнул в пустынную улицу и пустынные окна вика, потому что канцеляристы смотрели на сапог и, видя в этом выговор начальника, а не обиду, строчили. «Коммунисты!» — крикнул Старосило. Площадь была пустынна. Он посмотрел на балки, на жалкий дерн избушки, зажег спичку, вспомнил легенду о Самсоне, и ему стало жалко себя — и ему захотелось, чтобы пришел какой-нибудь разумный человек, но не жена, — она чересчур разумна, — и сказал бы ему: «Что ты делаешь, веселый окурок, Старосило, опомнись, поди съешь соленый огурец». Но никто не приходил. Он зажег сложенные доски, сунув туда свой платок и клочки бумаги, которые нашел. Он ожидал, что нелепый костер не разгорится, но он разгорелся. И тогда он начал раскачивать подпорки — и подпорки качались исправно. И он закричал, высунувшись последний раз:
— Коммунисты, прощайте! Я вам нужен! Я вам нужен? Нет! Я приду, когда вы почувствуете во мне нужду!
Балки затрещали; на него посыпалась земля; ноге было холодно; он закрыл рукой глаза и сжал губы. Сырой треск охватил его. Так умер товарищ Старосило. Фитиль упал, все хорошо завершилось.
Даша, сестра Л. Селестенникова, пошла сообщить о болезни своего брата Агафье. Она признавала ее виноватой. Она присутствовала на том, как вынимали труп товарища Старосило. Все в толпе упоминали имя Агафьи. Ей стыдно стало идти к ней на поклонение. Так ее и понял А. Харитонов из кооператива. Он сам давно хотел пойти к Агафье, но боялся Старосило, но теперь он хотел опередить всех. Он сказал ей: «Не ходи». Глубокое убеждение слышалось в его словах. Выдвиженцы ничего не стоили, но для честолюбия было б хорошо к ней. Даже если бы и судили! Даже если б он и растратил. У ворот он увидел футболистов — Митю и Сашу. Они тоже пришли, после смерти товарища Старосило, записаться в Религиозно-православное общество или Общество хоругвеносцев. Они постучали в ворота. Шурка Масленникова, сложив руки на груди, скромно впустила их.
Глава восьмидесятая
Вавилов решил проверить свою болезненность на архитекторе Колпинском, ему казалось, что он имеет право. Клавдия пришла к нему и сообщила о критическом положении Зинаиды, и Вавилов подумал: почему же он так, если уж он получил способность анализировать свои поступки, почему он не любит Клавдию и так боится ее прихода и в то же время радуется ему.
Он понял, что ему необходимо и правильно бояться Клавдию, но что она была ему другом, но все-таки он не имеет возможности взять ее, а она ищет в нем огромную волю — и тогда, когда он приобрел ее, она ее не видит, ему стало грустно и жаль ее, но как можно разубедить человека, когда она видит свое и только своими глазами. Но она неправильно толковала Зинаиду, впрочем, он и сам не понимает, чего он хочет и почему его ненавидит. Она к мужчинам, несмотря на свою общественную работу, относится плохо. Они беседовали с Клавдией тихо — и она, уходя, сказала, что пришла, собственно, открыть тайну и что ему полезнее порвать с архитектором Колпинским, потому что тот только притворяется обладающим волей, а на самом деле не имеет ее и на волос; он прикрывает отсутствие воли великой восторженностью и оптимизмом, который сейчас почти повсеместно принимается за признак воли. Она открывает ему секрет мнительности и уходит. Она действительно ушла.
Вавилову было жаль потерять ее, он разозлился — и хотя в этот день чувствовал себя совершенно больным, он перед процессом, когда, собственно, надо было бы собрать огромное количество полученных сведений ни бумажку, — оделся и пошел к архитектору. Он пошел к архитектору, сам еще не зная, что и как он будет говорить и как откроет секрет мнительности, но он притворился, что у него в боку колет, — и он увидел, что это тихий маньяк, который даже не понимает, что через каждые пять минут у него спрашивают то одно, то другое, а он лезет в домашние аптечки и в домашние самоучители. Он возбудил в нем жалость и презрение. И у него Вавилов хотел учиться воле? Его Вавилов принимал за авторитет — и боялся, что его жена сломает ему жизнь. Он захохотал, хлопнул архитектора покровительственно по плечу и пошел в клуб. То, что он чувствовал себя больным, то, что у него кололо в груди, — все это прошло, едва он вошел в помещение клуба, душный зал для представлений, где судили несчастного хромого мошенника. Ему было жаль топить С. П. Мезенцева, но тот чувствовал себя героем — тогда Вавилов почувствовал негодование против него. Свидетельскими показаниями выяснилась огромная мощь Кремля — нигде, ни словом, как ни ловила его Зинаида, [Мезенцев] не обмолвился о Кремле. Вавилов понял, что главный враг там, там сидят кустари. Многим казалось подозрительным, что он так часто ходит в цех; выяснилось то, что у нас называется преступной расхлябанностью. Вавилов выступал свидетелем; выступил свидетелем и Колесников. Вавилов сидел в первом ряду, Колесников постоянно оборачивался к нему и смешивался, видя сияющие глаза и рыжие волосы, которые уже успели отрасти.
Колесников постепенно, под опытной рукой судьи, как по мосту, перешел на сторону Вавилова, — он, Колесников, даже предал С. П. Мезенцева — и Вавилов приписывал все успехи Пицкусу, который звонил по заводу о многих сведениях. Вавилов говорил многозначительно, перед ним лежала толстая тетрадь, но Кремль, которого боялся он, но пять братьев, которым завидовал он, — все же висели над ним. Колесников, усталый от попыток думать и от попыток сознавать себя гражданином, в коридоре первый увидел Вавилова и подошел к нему. Он сказал о жене П. Ходиева, что «она по ночам вынимает труп мужа из погреба и оплакивает его, а жилище ее забросано снегом до трубы — и никто не приютит ее».
Вавилов предложил ему записаться в кружок боксеров: того, наверное, поразило такое упорство — и он согласился. [Вавилов] узнал, что пять братьев благополучно провезли мимо снятый крест — и огромная толпа в зале кинулась к окнам. Братья взяли второй участок, он подумал, что они берегут Маню для него, он еще может раскаяться. Здесь Ложечников зашел послушать и сказал:
— Вот ты припугнул месяца на три, а затем еще изобретай, твоя профессия тяжелая. Ты достал мне Жар-Птицу-Агафью, теперь ты должен победить серебряное царство и достать мне Гуся-Богатыря и уничтожить или, по крайней мере, обезопасить «пять-петров», совершенно необходимо.
Зинаида по-прежнему избегала Вавилова. Но тут, видимо, для того, чтобы показать, что она не стыдится, она подошла и начала язвить — о его пьянстве и его жадности к деньгам. Она сказала, что рядом за клубом растет целый буржуазный поселок, «пять-петров» забрали участок на горе; «пять-петров» агитируют, он отдает им снимать кресты церкви. Она разозлилась — и сказала, что она, хотя и согласна с его работой и с его проектом переселения в Кремль тоже, но надо действовать сильнее. Он обиделся. Он уже приобрел гордость. Он закричал, что бросит все и не будет дальше работать. Она сказала, что, пожалуйста, едва ли рабочие будут грустить о таком работнике. Кто-то недовольным голосом сказал: «Это ее индивидуальное мнение». Они хотели сказать не то, но так и разошлись. И ей, и ему было стыдно. Она считала, что поступила правильно, чтобы не задирал носа. Он понимал, что, говоря, что с ней все порвано, этой ссорой еще больше связывал себя с ней. Он был сердит — и даже недоволен тем, что победил и уничтожил Мезенцева. Ему казалось, что он не уничтожил свою страсть к кражам и боязнь. Он оставил окно открытым, положил даже штаны на стул — и спал спокойно, и хотя понимал, что выходка у него мальчишеская, но был ею очень доволен — и тем, что спал не просыпаясь, а раньше все ссорился с сожителями из-за открытого окна. Он пошел было к Клавдии, но опомнился, ему было скучно, но он вспомнил Ложечникова. Он должен уничтожить Гуся и «пять-петров».
Глава восемьдесят первая
Е. Чаев ощущал трусость. Он проклинал все, что его понудило к происшествию в Кремле, но в тот момент, когда он внес пять тысяч рублей в окончательный расчет за печатание библии, он почувствовал себя окончательно связанным, и в этот момент он себя искренно считал верующим и искренно радовался тому, что, кажется, несмотря на различные кризисы, кое-кому удается достать коленкор и часть библии выпустить в переплетах. Над ним в типографии подсмеивались, что у церковников Мануфактуры отняли церковь, но, как к влиятельному заказчику, к нему относились весело и хорошо. Он, наполненный гордостью и тем превосходным ответом своим, который, небось, перейдет в потомство: «Одна напечатанная библия — суть десять тысяч храмов», но он этого ответа не сказал, а даже вымолвил, что человек из губернии удивляется, что они так дорого заплатили за печатание. Его волновало и то, что он согласился или, вернее, дал себя уговорить Агафье устроить крестный ход в метель, но сейчас действительно, как говорила Агафья, имелась нужда несколько скрепить верующих, особенно после страшных смертей, которые совершились недавно в Кремле. Он все же, несмотря на шутки и на веселую, несколько грубую манеру разговора с о. Гурием, чувствовал беспокойство, и он, как бы заботясь о религиозных книгах, которые удалось бы увезти из церкви Мануфактурам, пошел справиться. Он увидел тес (много теса) и озабоченного Вавилова. Паникадило и иконы были отодвинуты в стороны; он увидел изрезанную бархатную плащаницу, из которой вырезывали бархат. Он постарался, чтобы Вавилов не заметил его. Стояли леса, и рабочие замазывали фрески. Он увидел, что в ограде стоит Вавилов и говорит с каким-то бойким рабочим, указывая на крест. Крест сиял неимоверно высоко и достаточно ехидно. Паникадила сияли, и темны были лики икон.
Е. Чаев увидел, что на веревках между колонн спустился подвешенный портрет Ленина, за столом и с газетой в руке. Он как бы царил и плыл над щепами. Е. Чаев не был мистиком, он, как и все теперь, искал нечто в себе, но его охватила дрожь, он вспомнил, что не так давно — он говорил здесь, утешенный, речь, и все в отделении общества утверждали, что все совершенно благополучно. Он почувствовал себя неблагополучно и возвратился во двор И. Лопты. Уже по-весеннему пригревало солнце — кое-где показывались проталинки. «Ранняя будет весна, ранняя», — подумал он.
Агафья давала коням сено; она разрумянилась и, видимо, была довольна своей проделанной грубой работой. Она позвала Е. Чаева на сеновал под предлогом посмотреть, что там мало сена. Сена было много, и она начала его катить. Затем она сказала, что надо бы скидать снег с крыш. Она соскучилась по своей работе и стала, казалось, с радостью проделывать все то, что проделывала всегда весной.
Двор, как и при И. Лопте, и в этом-то, наверное, заключалось очарование Агафьи, являл полное благополучие, и она схватила, играя, Евареста за плечи, и он сказал, отклоняясь: «Будет. Увидят», — она рассердилась и, как всегда при противоречии, хотя ей и не хотелось, повалила его на себя и сказала: «Скорей». Когда он услышал эти слова, то в них показалась ему окончательная гибель, и то, что она поступает безрассудно, валяется по сеновалу, он отстранил ее. Она не сказала ни слова, поднялась и спустилась вниз. Она провела коня под уздцы, затем схватила и вспрыгнула на коня и понеслась, присвистывая, по ограде. Еварест побежал и закрыл ворота. Он подбежал и закричал на нее:
— Слазь!
Агафья ответила ему:
— Достань мне до колена.
Он подошел и взял коня под уздцы, но руки у него тряслись, он не мог держать коня, и Агафья сказала ему презрительно:
— Разве ты можешь исполнять супружеские обязанности?
И в ворота стучали. Она сказала, не слезая с коня:
— Это Ефим Бурундук. Я узнаю его по стуку. Их трое гнались за мной. Один был на серой лошади и отстал; второй был на соловой — и отстал, а мчался всех быстрей, третий — и я повернула в последний раз, третий тоже отстал. Е. Бурундук остановился и крикнул:
— Расскажи мне, в чем дело, и я покину тебя. — Я промолчала. — Открой ворота, теперь я расскажу.
Е. Чаев думал, что покорил ее, но она опять сбила его с мыслей, и он послушно открыл ворота.
— Рассказать тебе, Бурундук, почему ваши три коня тогда, когда вы гнались за мной, отстали?
Е. Бурундук часто видел ее во сне и часто рассказывал ей сны; он подумал, что она хочет рассказать ему толкование одного из его снов и что во время рассказа он вспомнит свой сон; он воскликнул:
— Расскажи!
Она сказала:
— Первый конь отстал, потому что у него были слабые копыта, а я повернула на каменистую почву. Второй конь отстал, потому что я повернула против солнца, а у него было слабое зрение. Третий конь, твой конь, Бурундук, отстал потому, что я повернула против ветра, а у него была густая шерсть и большие грива и голова.
Е. Бурундук согласился с ней, что она правильно предвидела, и сообщил, что председателем вика Кремля выдвинут из Мануфактур товарищ Петя-агроном, молодой паренек и приятель Вавилова, он не опасен, он увлекается колхозами и только делает, что разъезжает по уезду. Но необходимо одернуть Е. Дону, который опомнился было и известил о женитьбе на Верке, но после смерти Е. Рудавского отказывается. Он, главное, совращает С. Гулича, извозчика. Бурундук покачал головой и сказал, что на всякий случай он их пригласил сюда.
Егорка Дону вошел развязно и с криком: «Что они с него спрашивают? Он всегда может из общества выйти».
Он наскочил на Е. Чаева, и тот быстро смолк — и вообще он был пришиблен. Его послали поговорить с Агафьей. Она уже сидела за книгами. Он бойко подсел к ней, и так как он вызвал актера и так как он отказался от Верки — и вообще он себя чувствовал победителем. Он схватил Агафью за груди так внезапно, что она онемела и подумала, что все-таки община на ней и необходимо ей сохранить верующих и что если б в общине был страх, то Егорка не позволил бы себе того, что он позволяет себе сейчас. Она вдруг протянула руку и схватила его за горло — он посинел, язык у него прилип к гортани, — она отпустила его и затем, смотря в книги, сказала:
— Надо чаще ходить в церковь, а в таких верующих церковь не нуждается. Я тебя вычеркнула. — Она поставила крест и сказала: — Бог простит, иди!
Когда он вышел, ей стало дурно, она плевала на руки, она ощущала слабость и тяжесть. Она встала на молитву. Она просила защиты Отца. Она молилась долго, она требовала, чтоб с нее сняли ее гордыню, но она встала такая же тяжелая. Благодать не находила на нее — и в тот же день она заявила Е. Чаеву, что то, что было между ними, — ошибка и они расходятся.
Е. Чаев ответил только одним словом:
— Отлично.
Ей стало еще тяжелей. Но Е. Чаев плакал один.
Глава восемьдесят вторая
Вавилов понимал, что откладывать дальше невозможно и что он должен приступить, если хочет быть целым, к борьбе с пятью братьями, которые неслышно, но верно сводят на нет всю его работу. Он послал Пицкуса собирать сведения. Пицкус поставил рекорд своими длинными ногами, но видно было, что это не всё. Многое бы могла сделать Овечкина, но едва Вавилов заходил в кружок, как она принимала недоступный вид. Он пошел к пруду; там оттаивало — и его два сука-победителя, блистая своей белизной, указывали еще на пять. А если победишь пять голых, там еще четыре ждут — неочищенных. Да, ему трудно. Пицкуса надо натолкнуть, но на что натолкнуть — неизвестно.
Он прошел мимо домов. Он увидел двух братьев, Веру и еще человека. Они шли в чайную. Вавилов пошел за ними. Там было душно; стояли пальмы. Они доставали из-под полы водку и угощали человека, — это был адвокат Буценко-Будрин. Они спорили и наседали на Веру. Вавилов мучительно страдал, но не мог узнать, в чем дело. Его одно утешало, что они наседают на Веру. Он подождал, когда братья ушли, — и тогда подсел к Буценко-Будрину. Тот смотрел тупо, устало и сказал:
— Наша профессия трудная, мне же в книгохранилище ничего не платят; а вот люди разводятся со своими женами, дабы жены могли вести самостоятельное хозяйство. Риск, пиратство. Благоразумная Вера отговаривала их, но разве их отговоришь, существуют тайные кассы ссуд, ростовщики, так они готовы все заложить под известную гарантию, но начать корчевание.
Вавилов узнал, что они получили делянку по склону горы и готовы начать.
— На делянке, конечно, камни, но хорошо то, что течет поток и делянка орошается. Вся надежда на поток, с этим делом, конечно, можно заработать — они хотят посеять квалифицированное зерно, отличиться — и закрепить свое хозяйство как чрезвычайно полезное для Советов. Они хитрые. Это, конечно, жульничество, но такова жизнь…
Вавилов сказал:
— А кто же, по-вашему, такой взаимодавец и ростовщик?
— По правде сказать, не знаю, да если бы и знал, не сказал. Человек вы хороший, должно быть, и любопытный в некоторых отношениях, но донесете. Я не меньше вашего интересуюсь удачами и причинами удач других, но объяснять их секреты мне не дано, да я и отказался, чтобы не расстраиваться. Бабец у нас есть! — воскликнул он с неожиданной злобой. — Великолепный бабец сидит в некоем заросшем саду, и протоптали мы к бабцу тому много троп, и на чью она тропу свернет — неизвестно. Игра-с, пиратство-с… Наши наборщики, не побрезгуйте, они монахи, но, конечно, как все бывшие монахи, циники, как все бывшие меньшевики — подхалимы и самые левые, — в пределах директив, конечно, — вы, часом, не бывший меньшевик? Весьма рад.
Монахи попросили чаю. Они говорили, что им защищать неудобно, но все-таки они лишаются работы, если отказаться печатать библию, да и глупо, сколько бумаги перевели. Вавилов обрадовался, видимо, его предложение [о прекращении печатания] удалось, он писал и делал даже соответствующий доклад, и всегда приятно сознавать, что несколько твоих докладов не прошли даром.
— Вот и они тропы прокладывали! — воскликнул адвокат. — По примеру коммунистов был воскресник, — но как… — Он запел фальшиво: — «Позарастали стежки-дорожки…»
Монахи смущенно захохотали.
— Конечно, она возвышенный человек, — сказал один из них. — Вот именно, вот именно, мы, преисполненные негодованием, хотим ее снизить, а она возвышается гордо. И мы возвышаемся до нее!.. Тянемся!
Он был сильно пьян. Он крепко пожал руку Вавилову и многозначительно сказал:
— Бодрствую.
Вавилов, узнав о прекращении печатания библии, пошел в коммунотдел; тут он прошел в комнату к Колпинскому, и по тому, как он поздоровался с ним, и некоторому подобострастию, проявленному им, он понял, что Колпинский совершенно обезоружен. Он понял, что если Зинаида хочет подчеркнуть свою гордость — и то, что она нимало не дорожит мнением Вавилова, она должна прийти. Она, действительно, пришла. У нее был враждебный вид. Она сказала Вавилову:
— Мы создали комиссию, мы переселили служащих, но разбирать Кремль мы сочли пока не важным, положение с квартирным вопросом не столь напряженно, как вы думаете.
Вавилова она разозлила. Он воскликнул:
— Черт возьми, вы меня принимаете, кажется, за прожектера, который пишет заявления и предположения, а вы их кладете под сукно, ограничиваясь самыми легкими.
Она возразила:
— Вы прожектер и есть! — Но, увидев торжествующее лицо Колпинского, сказала резко: — Простите, я не так сказала. Ты мечтатель и карьерист, Вавилов. Мы здесь, четверо, — люди свои. Вот Витя всецело присоединяется к твоему протесту и твоей кампании о печатании библии, но то, что ты предлагаешь, — прости — вздор, мы должны просить ассигнования строить кирпичный завод, а не разбирать церкви.
— Посмотрите в окно! — воскликнул Вавилов.
Петя Голохвостов остановился на пороге.
— Уже оттепель. С каждым годом все больше и больше разливы Волги затопляют низину. Ткачи живут в отвратительных хибарках, их сносит. Ваш коммунотдел тоже затопит, разломает ваши столы и пишущие машинки разобьет о ваши головы, если вы не будете принимать мер.
Вавилов догнал П. Голохвостова и сказал, чтобы он нажимал на прекращение печатания библии — он сдал уже в набор газету. Газета, может быть, не пойдет — да и Литковский должен бы сделать ее погрубей и поинтересней, но он чиновник и будет уделять время только производственной работе — и получится технический листок, а надо сатирический.
Вавилов чувствовал воодушевление, П. Голохвостов понимал, что его можно и ненавидеть и любить, — и Зинаида была права, что пожертвовала им. Она ему рассказала о странном своем чувстве, которое она хотела переключить на Колпинского, но получился анекдот. Вавилов подождал Зинаиду. Они стояли друг против друга, преисполненные любовью и ненавистью. Он вспомнил то, что она сказала, и она понимала, что была неправа, но не имела сил в этом сознаться. Она хотела поблагодарить его за Колесникова, но сказала только:
— Приходит к вам Колесников?
— Изредка, — ответил он.
Она, собственно, шла перед ним извиниться, сегодня ее подруги были заняты — и вечер у нее был свободный, и можно было б его пригласить к себе к чаю, но злость охватила ее, едва лишь эта мысль сформулировалась в ее сознании. Она представила, как сидит он, самодовольный победитель, самовар и его волосы одного цвета, — и злость охватила ее. Она сказала:
— Да, Вавилов, еще раз тебе говорю: с Кремлем и с церквами ты не прав. Пока!..
— Пока, — ответил он — и вышел.
Она вошла в кабинет и, обращаясь к женщинам, сказала:
— Кто следующий?
Глава восемьдесят третья
Когда ушел Е. Дону и когда Е. Бурундук пришел с докладом, что наконец С. Гулич ушел из Кремля за тем, чтобы совершить убийство и он только хочет зайти попрощаться, тот зашел и прощался чрезвычайно напыщенно; он был очень огорчен — он думал, что его расстреляют, — и только чтоб не выдавали, что он бандит, чтобы не по совокупности, если он засыпется, — и когда он ушел, и Е. Чаев и Е. Бурундук с тревогой проводили его до ворот, Агафья поняла, что она действовала неправильно и что С. Гулич не убьет, а если кто убьет, так убьет Клавдия, у которой, наверное, какие-нибудь гнусные расчеты на этот счет, и что самое главное, — она хотела поговорить с Е. Дону ласково, польстить ему, похвалить его, что он хороший мальчик — и как это хорошо, что он так любит отца, а он действительно был хороший, но замученный вечной дразней — «францужонок», «брошенный» мальчик.
Агафья чувствовала, что начала зазнаваться и что ей необходимо приобрести несчастия, и она решила их приобрести. Она пошла, очень расстроенная, она видела, как закрывал ворота совершенно ослабевший Е. Чаев; она себя нервно чувствовала, да и все нервно себя чувствовали, понимая, что дело неладно, и, хотя она не верила, что С. Гулич — убьет Вавилова, но все-таки ей хотелось, чтоб тот умер.
Она вспомнила, как Е. Чаев рассказывал, как Клавдия надсмеялась над ним по поводу того, что он не мог открыть и закрыть ворот, — и Агафья увидела щель, которую он тщетно старался закрыть, — и она была довольна, что он не может закрыть, тем более, что она сегодня чувствовала к нему омерзение, так как он семенил и старался влезть в добрые. Ее у собора встретил Устин, протоиерей, он ласково улыбнулся и сказал, что возвратился из уезда о. Гурий и что съезд мирян состоится через две недели, самое позднее — через три — к тому времени будет напечатана библия: можно даже слегка подзадержать печатание библии, но лучше съезда не отсрочивать, так как, не говоря уже о скопившейся массе вопросов, возможна ранняя весна, и если будет распутица, а уезд велик — то съезд может задержаться, что не в наших интересах, ибо нам требуется епископ. Зачем о. Гурий ездил, кто его посылал? Она не была на этом собрании, ей нездоровилось. Она почивала с Еварестом. Она с ненавистью смотрела, и туда же смотрел протоиерей Устин. К нему спустилась Даша, а протоиерей Устин, как бы утешая Агафью, добавил, что за последнюю неделю наблюдается приток верующих в общины, священники уже не пойдут скоро за подаянием по прихожанам, да и библия несколько вознесет наш приход. Он с гордостью сказал, как он сам правил корректуру, да и вообще — она действует правильно, что на съезде необходимо настоять — и надо думать, что голодающие батюшки города будут за нее, или, вернее, за предложение Евареста, чтобы подальше от смущения мирян увести о. Гурия. Агафья взяла с собой Дашу, которая сообщила, что Л. Селестенникову плохо. Он вызывал сына проститься или помириться, но сын теперь на Мануфактурах и дрожит — как бы его не уволили за происхождение. Она спустилась, сопровождаемая Дашей, вниз по горе.
Б. Тизенгаузен вычищал лед вокруг своего парохода и сказал, что получил новое распоряжение — приписать пароход к Мануфактурам.
— Нелепость! Неужели он настолько плох — и нельзя установить: пароход это или плот? Вот я очищаю лед.
Он стал рассказывать, что он подал заявление, что пристань необходимо перенести к Мануфактурам, а он от Мануфактур будет возить пассажиров, неужели пароход не может служить местным сообщением. Приходят комиссии; машины, говорят, не могут работать, а он говорит — могут, а попробовать и дать нефть никто на себя ответственности не берет. Вот сколько лет он бесцельно ждет возможности пуститься в плавание.
Он показал бумажку о каких-то полярных путешественниках. Он заботливо звенел по льду железной ногой. Он пристально посмотрел на них.
— Я знаю, зачем вы ко мне пришли. Вы пришли затем, чтобы обращать меня в православие. Что же, я согласен. Я, кажется, не уеду из вашей страны, а кроме того, вы делаете большое культурное дело. Я имею команду, но он православный.
Агафья удивилась, что это тоже так легко и хорошо. Она выдала ему квитанцию — и он внес вступительный взнос в полтинник. Затем он пригласил их пить чай. Его слуга, его команда, разогрел чайник. Старику было скучно — и он, собственно, видимо, вступил только для того, чтобы поговорить. Он сожалел весьма, что не слушал истории Неизвестного Солдата, — и задумчиво сказал, что в этом много правдоподобного, затем он показал открытку из Марселя от некоего капитана и потешил их историей попугая Мазепы. Он проводил их до горы, показав на свою ногу: «Дальше не могу, все это, конечно, удивительно — но я ни разу не был в Кремле, ибо не верю во власть из феодальных замков, помимо того, что высоко».
Он задумчиво посмотрел на Дашу и сказал, что если бы был пароход и соответствующая команда, а не это подозрительное корыто, которое он красит и чинит сам, и если бы не его возможность и сила владеть пером, то его давно бы разобрали — и он бы, право слово, присватался бы к Даше. Та ответила игриво: «Кто бы за вас еще пошел?» — но в голосе ее чувствовалась тоска — и, возвращаясь, Агафья должна была сбавить с себя гордость и признаться, что Даша пошла к капитану с известными намерениями, и тот православие принял тоже до странности скоро, и по всему Агафья заключила, что она, должно быть, невольно сосватала одну пару, — первую, кажется, за все это время, которую она не разъединила. Ее надежда, странная, на то, что Б. Тизенгаузен может сообщить ей какие-то несчастья, ее рассмешила; все устраивается — и она успокоилась как нельзя лучше. Но она подумала, что если теперь она проведет Е. Чаева в епископы, и что все для этого налажено, он едва ли не предаст ее и струсит, пожалуй. Но все равно: кому-то будет приписана честь печатания библии, и не дураку же Еваресту! Она спала плохо. Е. Чаев пришел рано — да и весь дом лег спать очень рано. Она вспомнила счастливое лицо Даши, которая прекратила даже разговаривать о болезни брата, — а счастливое все оттого, что немец хотя и урод, хотя и безногий, но человек, на которого можно положиться, который не побежит и за которым не побежит любая девка; есть какой-то намек на успокоение и надежда на тишину.
Глава восемьдесят четвертая
Измаил нежно ухаживал за своим сыном. Тот лежал в кресле плетеном, покрытый ковром. Измаил сидел на полу, на седле — и любовался им, он говорил:
— Да, у меня много уже накоплено воспоминаний. Я многих убил во славу революции — и очередной войны, мне кажется, не дождаться.
Они сидели на веранде. Был виден дом Гуся-Богатыря. Остановился Вавилов. Он долго смотрел в окна. Казалось, что там промелькнула тень Гуся. Измаил сказал, что, может быть, он ради сына помирится с Вавиловым, он простит ему офицерское происхождение, но подозрительно то, что он зачастил в Кремль, он прекратил печатание Священной книги русских, дабы девка пришла и отдалась ему. Мустафа сказал:
— Это не победа над Гусем, а размышление, так как денег нет — и не на что выпить, а он, Вавилов, гордый, хотя и пьяница. Я не магометанин, но я презираю пьяниц. Я против Вавилова.
Насифата тоже ухаживала за Мустафой; она поправила ему подушку — и принесла каши. Они смотрели на солнце сквозь веранду. У всех у них была мысль, что пора бы поговорить с Вавиловым относительно школы. Вошел монах, он пробовал ухаживать за Насифатой. Он показывал им типографию, и там они познакомились. Он сказал, что Вавилов хотел что-то предпринять против пяти братьев, но похвастался — они его, видимо, подкупили. Монах был сплетник, болтун, кого бы он ни видел, он говорил, что человек этот ничего сделать не может. Его обидело еще то, что Вавилов отнесся к ним в чайной как-то непочтительно, он мало расспрашивал — и никаких обещаний не дал, что на газете они будут зарабатывать столько же, сколько они зарабатывали на библии. Он сидел на полушубке, смотрел на девку и, просунув руку в карман дырявого полушубка, начал подрагивать. Лицо его приняло идиотское выражение, как говорила Насифата. Он мысленно раздевал ее. Измаил в этом таянии сына видел его гибель. Он должен был увезти Агафью, но не увез. Он должен и понимал, что у него нет таких слов, которые могли бы Агафью заставить прийти и поговорить с его сыном.
Вошел Б. Тизенгаузен — единственный человек, который любил и истинно верил Вавилову. Он ходил к Измаилу, так как был страстным рыболовом; он расспрашивал — и все собирался, сделав карьеру, когда тронется пароход, поехать в Среднюю Азию, где он бы мог на полной свободе заняться полным рыболовством.
Чем дольше продолжалась зима, тем длиннее оказывались рыбы у Измаила-рассказчика и тем больше их ловилось, и капитан Б. Тизенгаузен не уставал повторять, грохоча ногой:
— Да неужели это правда?
Он сочувственно обращался к узбекам, и те, кивая головой, говорили ему:
— Правда.
И тем грустнее делались их лица. Он спрашивал у Измаила:
— Почему же вы не едете обратно?
И тот отвечал гордо:
— Я поселился здесь у Волги, потому что могу поить в ней моего коня. У меня волшебная шашка, которая притягивает ко мне все смерти от оружия и стали. Я сброшен с высоты берега. — Он грустно смотрел на сына. — Я получил десять ран, но остался жить, так как узнал, что у меня родился сын.
Мустафа молча смотрел в окно. Но узбеки, все же, несмотря ни на что, [даже] на разговоры капитана Б. Тизенгаузена, отказались идти к Вавилову. Они долго размышляли, и теперь только, так как ему все придавали больше значения, чем они думали, они решили написать жалобу — и Мустафа, очнувшись, согласился составить ее, он считался самым талантливым из всех.
Ему трудно было думать, тяжело, он опустил бумагу и сказал:
— Тяжело. Жаль, что ты, отец, не убил его.
— Убью, — сказал Измаил тихо, но сын не слышал, он задремал, и бумага выпала из его руки.
Пятеро братьев совещались о том, почему их подслушивал Вавилов. Напрасно он думал, что они не видели его. Они решили чрез посредство П. Голохвостова, который был в хороших отношениях с Верой, предложить Вавилову хорошее место, — один из братьев улыбнулся, — со взятками, самое выгодное, пожалуй, по теперешним настроениям, — в Кремле и уезде. Вавилов, ясно, жаден и завистлив к деньгам. Он их хочет уничтожить. Они в один день трое развелись со своими женами, хотя те и обиделись, оставив жен пока только старшему и младшему. Было такое своеобразное соревнование. Жены даже предполагали жить в одной избе, но братья их отговорили от этой затеи.
Опять разгорелся спор — старший и младший были против того, чтобы брать гору — и сеять там квалифицированные растения. Они пригласили Е. Чаева. Тот сидел. Из намеков можно было понять, он был в связи с ростовщиком; ростовщик под известное обеспечение и гарантии мог им дать большие деньги. Когда Е. Чаев уходил, его видел Пицкус, который быстро шел мимо. Он пропустил его, затем подошел — и он мог удивительно настраивать людей на разговоры; тот все старался отвильнуть от причины посещения пяти братьев. Вернемся: разгорелся спор, он был ничтожный, но Е. Чаев им очень понравился своей обходительностью и деловитостью.
Маня тоже смотрела на него одобрительно. Е. Чаев насиловал себя. Он думал о Кремле. Он пришел, собственно, расспросить, как рабочие отнесутся к прекращению печатания библии и нельзя ли тут воздействовать по профсоюзной линии. Он думал, что вот ему надо заработать пролетарское происхождение для того, чтобы он мог так легко и, одобряя власть, жить. Он спорил только, чтобы не огорчать хозяев. Его удивляло то, что некоторые из них одобряют советскую власть, но в чем их секрет? Их секрет в разделении труда — и как только Вавилов уничтожит три секрета, пять домов у братьев распадутся. Они пили чай и рассуждали о горе — и Е. Чаев всецело одобрил их. Они бы могли взять некоторые строительные работы, у них есть связи; двое братьев — за строительство в уезде, за доставку кирпича и выработку его в горах, вместо угля и кузнечного дела, но трое — против. Они, видимо, с радостью взяли бы подряды, но Е. Чаев опасался. Он, чувствуя нежные и домовитые движения Мани, ее нежный стан, который надо было б ласкать не столь часто и не столь утомительно, — с сожалением покинул дом гостеприимных братьев. У них секрет — гостеприимство, и это тоже уничтожит Вавилова. Гостеприимство уничтожается жадностью, которая в них вспыхнет, едва лишь они останутся одинокими.
Глава восемьдесят пятая
Измаил, после всех происшествий и разговора с Мустафой, решил лучше уж похитить Агафью, но лишь бы спасти своего сына. Сын ему так и сказал, лежа на кровати, сам бледнее стены и делая мало движений:
— Я хочу лечь с нею и сделать эту девушку женщиной.
Отец ему ответил:
— Ты и будешь лежать.
Он приехал в Кремль и привез в седле актера, который страшно трусил. При этом разговоре присутствовала домовитая Надежда, которая одна усмотрела в движениях Измаила осмысленность и которая одна могла спасти его от полного безумия. Буценко-Будрин, тоже вошедший в поклонники Агафьи и тем нанесший ей большое огорчение, он приходил ее просвещать и уговаривать с книгой, он принес из склада инкунабулу — первую печатную библию: его умиляла такая культурная деятельность, и он почел своим долгом направить ее в нормальное русло. Он вышел оттуда, не достигнув цели, но пытаясь разобраться в том, что она из себя представляет. Он сообщил ей кратко, как произошло падение С. Гулича, который вместе с Клавдией предал ее и даже выступал на собрании наборщиков против печатания библии.
Буценко-Будрин пришел посмотреть на Агафью, а она, прослышав разговор о предательстве, закричала на него. Он обиделся на ее циничные слова, но сказал, что с такими воззрениями, конечно, трудно завершить свое дело, но он считает необходимым съездить и поговорить с Вавиловым, чтобы он посодействовал если не печатанию, которое они обязаны завершить, то переплету, потому что переплетчики отказались переходить служить в кремлевскую типографию. Буценко-Будрин стоял у ворот с Агафьей, и актер, сидевший на крупе коня Измаила, сказал:
— Она!
Измаил посмотрел ей в лицо — и должен был сознаться, что вкус у его сына недурен, что нежность кожи и мягкость форм, заметная даже в очертаниях тулупа, изумительны. Он подъехал у Буценко-Будрину, он уже ревновал его к жене своего сына, он поднял саблю и сказал:
— На клинке изображение зверя — обезьяны маймун. Эта обезьяна перехитрила стадо слонов… Ночью шашка темная, а днем горит. Она поражает врагов хитро… Я, вздумавший объехать вокруг города страдания, — уже заморил коня. Раньше я мог убить человека, даже не полюбопытствовав, кого убиваю, а теперь я посмотрю в его раскровавленное лицо, ибо он из тех, которые ослепили моего отца. Существует одна женщина, необходимая для моего сына, иначе я причиню ему своими руками смерть. Я стоял в больнице за десятью его друзьями. Он и тогда увидел меня и сказал: «Отец, ты стоишь и ждешь меня, а меня ждут сани — дровни, мое тело; ты стоишь и ждешь меня, как матка, у которой умер жеребенок, как жеребица с невысосанными сосками. Оставь себе мою длинную рубашку, три моих серебряных жетона и ряд революционных пуговиц на бумазейной рубашке…» Я прервал его: «Сын мой, она будет верна тебе три года, пока ты выздоровеешь, закрой глаза и жди». Мои враги, ослепившие отца, были так богаты и могучи, что конец табуна не только входит в воду, добегает до воды, когда начало табуна уже напилось…
Он взмахнул шашкой. Библиотекарь поднял книгу — и книга рассеклась пополам. Буценко-Будрин рассмеялся и сказал, глядя на Измаила и подавая ему шашку, которую тот выронил:
— Много потрудившись, мне удалось умертвить плоть, и тогда я открыл в книге грядущего иной смысл и иные письмена, старик. — Он подобрал остатки книги и пошел. — Ты разрубил коран.
Актер, увидев поражение Измаила, вскочил на круп его коня и торопил его ехать. Подошел Е. Дону. Агафья чувствовала, что надо бы защитить парня, но она понимала, что сегодня, после того, как на нее накричал даже о. Гурий, упрекнувший ее в малограмотности и невежестве, тогда, когда она, послушавшись Евареста, сказала, что в библии много ошибок, о. Гурий, видимо, перестал уже сдерживаться — и ей стало страшно. Этот страх ее приобрел конкретную меру, и злость ее на мальчишку овладела ею. Она с омерзением подумала, что когда-то Е. Дону мог ей понравиться. Измаил вскричал.
— Этот!
И Е. Дону бросился бежать с криком, приседая среди сугробов, а Измаил джигитовал, гикая, — и вообще здесь он проявил все свое искусство перед будущей женой своего сына. Он уронил саблю. Е. Дону, не знавший всех тонкостей, остановился было, но тот опять подхватил саблю, и клинок завизжал над головой мальчишки. Актер был чрезвычайно доволен, хотя и боялся убийства, он визжал и подпрыгивал:
— Так и надо, так и надо, не продавайся империалистам!..
Он наслаждался этим омерзительным зрелищем. Многие стоявшие на улице, не любившие Дону, смеялись над мальчишкой. Наконец, Измаил пригнал его к крыльцу, — и, откинув саблей шапку, отрезал ему чуб, и, потрясая чубом, — «я тебя узнаю по волосам, когда надо!» — подхватил актера на круп коня и помчался по улице. Два обличителя соединились.
Агафья сказала это о. Гурию для того, чтобы ссорой проверить — насколько его поездка по уезду имела характер замысла или же она была случайной, — и то, что он вначале не ответил ей, указало ей на то, что тут не все благополучно. Она тогда сказала насчет ошибок, Еварест сказал: «опечаток», но она забыла сказанное им слово и то, что о. Гурий резко ответил ей, наверное, — как она позже думала, — и потому [показалось] ей особенно страшным, что она настаивала на том слове и на тех недосмотрах, точно назвать которые она даже не умела. Наружно она всегда гордилась своим невежеством и тем, что в ней иногда говорило то, что она любила называть «духом», то есть строптивость, смешанная с пониманием причин, по которым действуют люди. Но внутренне она предпочла бы иметь невежество, уже вызванное тем, что она знает то, что знают ученые люди, то есть она не верила, что их знания истинны или в какой-то степени законны, но, попирая их так же, как она попирает человеческие страсти, она знала бы, как и куда можно было бы направить людей. Например, ее сегодня потрясло то, что слабый человек, у которого дикарь разрубил над самой головой толстую книгу, смог одним словом, — по торжествующей улыбке Буценко-Будрина она поняла, что слово это было случайным, — усмирить и устыдить настолько этого дикаря, что уважай этот Буценко-Будрин свое тщеславие, он смог бы заставить дикаря просить прощения и извиняться.
Но и тут ей пришло в голову, что все эти размышления ведут только к тому, что она в себе подавит веру, дабы вернуться к тому исходному пути, с которого она начала, несмотря на измены и предательство не только Клавдии, которой она мало верила, но и Гулича, но даже — если надо и, — Е. Чаева, который может иметь слабость — тоже предать ее!..
Глава восемьдесят шестая
Вавилов собрал кое-какие сведения, которые ему сообщил Пицкус, но из них было ясно, что вся возможность победы над пятью братьями лежит только через Парфенченко. Он знал многое как и [о] Мануфактурах, так и об окрестностях; надо было бы его приспособить. Лясных явился к Вавилову и предложил себя в ближайшие помощники; значит, все дело за планом. Он понимал, что Лясных пришел не напрасно, но что у него есть и другое дело — так оно и оказалось.
Лясных заговорил об Овечкиной, что он много за ней ухаживал, но после того, как она стала организатором группы, она задрала нос, и необходимо содействие и разговор Вавилова с ней, чтобы они смогли договориться, он лепетал нечто неясное, но Вавилову стало ясно, что ему надо поговорить с Овечкиной и как-то похвалить Лясных за его работу; он боится, что в связи с судом над [Сережей] Мезенцевым может упасть тень и на его плохое поведение; ему надо реабилитироваться. Вавилов стал его отговаривать, говоря, что Овечкина — плохая женщина. Он заговорил о Гусе-Богатыре, но Лясных его слушать не стал, а опять заговорил более горячо об Овечкиной, и Вавилов понял, что он требует как бы выяснений его, Вавилова, к ней отношений, — и Вавилов обругал ее нехорошими словами так, что ему стало стыдно, но из этих слов всякий бы понял, что человек отказывается от женщины.
Видимо, так Лясных и понял, потому что он заговорил о Гусе-Богатыре и стал хохотать над тем, что сказал ему Вавилов. Лясных заявил, что у него есть разработанный им план мелиоративного товарищества; он начал его показывать, он показывал наброски тех работ, которые надо было бы произвести и которые б были весьма полезны. Вавилов думал о своей судьбе, о том, что много сделано, — странно, он начинал приучать себя к выбору хороших мыслей, он выбирал уже из своей жизни хорошие мысли. Он представил себе план работ, которые мог бы произвести Лясных, если б ему дали возможность работать.
Он представил себе поле, огромное человечество; да — трудно для человечества всего дать оптимизм, с этим не справилось христианство, и коммунизм хочет дать это только для одного класса. Он прервал свои радушные мысли тем, что подумал, что в том деле, которое он может разрешить, есть один помощник, — это Парфенченко. А послать или уговорить его прийти — теперь, кажется, он, Вавилов, имеет на это право, — может только Клавдия. Но он ставил все на карту, он пойдет к Клавдии. Ему было тяжело идти, он понимал, что она может потребовать выкупа, и он должен будет дать ей этот выкуп. Он думал, что почему ж ему не жениться на Клавдии и почему она должна бунтовать; тем, что он женится, он может призвать к себе уважение — и даже некоторую связь с людьми, он должен будет бороться не за то, что ее не примут рабочие, это ерунда, и то, что он женился, это укажет на то, что она в состоянии держать себя, управлять собой. Он шел и так размышлял. Он встретил в переулке Грушу, Литковского и Ложечникова позади их. Он, Ложечников, узнавал причину удач Груши, ибо она отказалась рожать и уже оправилась от сделанной операции. В Литковском она хочет, наверное, найти какой-то восторг. Она крепко пожала руку Вавилову, сказала, что он хорошо выглядит, а у нее все дела и дела, она хочет работать по детским площадкам, утешать чужих детей, если нет своих. Она нагло смотрела на Вавилова, она хотела сказать этим наглым и ласковым взглядом, что у нее совершенно нет памяти. Но, странно, эта встреча, не как та, предыдущая, доставила Вавилову удовольствие, он уже не ревновал, он даже с удовольствием смотрел на Литковского. Все дело в том, что Груша может доставлять удовольствие, лишь надо уметь с нею обращаться. Нельзя с нее требовать того, что попытался требовать Вавилов. И то, что он думал о ней только хорошее и может выбирать в жизни хорошее, весьма обрадовало его. Он смотрел на хитро поглядывающего на табак Ложечникова и начал расспрашивать, что правда ли, что Парфенченко — такой опытный спец, и правда ли, что из него хозяева могли много выкачивать и что этому помешал Гусь-Богатырь, который приковал его к своей волшебной избушке.
Литковский знал о Гусе мало, да он мало и интересовался бытом фабрики, он больше насчет цифр и достижений, необходимых для отчета, но на деле весьма редко закрепляемых в жизни надолго. А Груша, та ничего не помнила. Один Ложечников мог дать ему ответ, да и Вавилов, собственно, обращался к нему за одобрением. Он промычал и сказал, глядя на шпиль собора, на котором болтался красный флаг: «Бог его знает», засопел и пошел дальше, чуть приподнимая фуражку. Вавилов, в иное время, отнесся бы к такому обращению с ним очень обидчиво — и возможно, постояв минутку на мосту, он догнал бы их, остановил бы кого-нибудь и начал говорить бы какие-нибудь маловразумительные слова, и люди бы на него обиделись без толку, и он бы обиделся. Но теперь он смотрел им вслед с удовольствием на то думая, что он ничего дурного не сделал аккуратненькой; но бедно одетой фигурке с детским умом, Груше, сомнительному Литковскому, которому надо бы сказать, чтоб он обращался с нею получше и помягче, ибо она хочет тоже получить от жизни побольше хороших воспоминаний, вся прелесть которых, по ее мнению, будет заключаться в том, сколько людей ей говорили восторженные слова, а то, что им хотелось делать с ее телом, ее мало интересовало, и она подчинялась им, чтобы капризами своими не испортить создавшегося хорошего настроения. Он и на наблюдателя Ложечникова глядел с удовольствием, да и нельзя смотреть иначе — уж очень человек может и имеет право гордиться так отлично сделанной жизнью, ловко придуманной.
Он вошел во двор. Он увидел, что зима все завалила снегом; четыре тропинки были протоптаны среди сугробов. Да, тут очень надобен черный выход. Он постучался. Долго кто-то там ворочался, вздыхал и сопел в сенях. Он постучал еще. Голос ответил ему:
— Сейчас, самовар раздуваю.
Дверь открылась. Он увидел Щеглиху. Он удивился.
— Клавдия дома?
— Клавдия уехала.
— Куда?
— В Москву или Владивосток — точно не запомнить.
— Когда вернется?
— Совсем уехала.
Щеглиха смотрела на него задумчиво и вдруг торопливым шепотом сказала:
— Вам девочку? Есть цельная, семнадцать лет и брюнетка.
Вавилов громко крикнул:
— Мне человека, сука!
Щеколда звякнула — и опять послышались сопение и треск ломаемых щеп.
Глава восемьдесят седьмая
Она во многом угадала, Агафья, — Е. Чаев действительно собирался предать Агафью, и он попытался отговорить С. Гулича убивать Вавилова. Но того и самого нечего было от убийства отговаривать, он понимал, что тут дело не шуточное, и рад был помощи Клавдии с этой стороны.
Агафью это даже обрадовало сначала, она не могла рассуждать, но она почувствовала, что ей надо держаться за стол и поскорее сесть, потому что, почувствовав под собой землю, быть уверенной. Удар, который подготовлял Вавилов, был верный и ударил крепко — припаял. Дьякон Евангел, подпоясанный бисерным поясом, на котором очень хорошо играло весеннее солнце, и, если, сожмурив глаза, посмотреть, то оно походило на еле оставшиеся пятна снега, и вообще нонче весна должна быть ранней, — так, собственно, без всякой причины старалась думать Агафья, но [мешала] мысль о том, [что] рабочие, сначала отказавшиеся переплетать, теперь отказались и печатать оставшиеся десять листов, — собственно, только одно евангелие. Им мало показалось евангелия, так они еще хотят нести на себе и всю тяжесть библии, — а, видно, не донести. Затем пришли еще члены церковного совета; они уже ходили по мирянам, приготовляя квартиры, в которых могли бы остановиться люди из уезда, не имеющие квартир. Все были охвачены негодованием, паникой и ненавистью. Больше всех, как заметила Агафья, негодовал Е. Чаев. Пришел и чрезвычайно возбужденный И. Лопта, он ходил как-то на цыпочках; глаза у него были бешеные, ему, видно, было трудно сдерживать себя — и все это понимали. На заседании, конечно, было много споров, все говорили, что если заказ не выполнен, то можно будет требовать его выполнения по суду, — и хотели посоветоваться с этим Буценко-Будриным. Они надеялись, некоторые оптимисты, на суд.
Наконец, Е. Чаев предложил, что люди свои — мы замышляли против Вавилова и шантаж и убийство, но ни то, ни другое не вышло, и не пора ли прибегнуть к средству, которое сейчас окажется действительнее всего, а именно: не пойти ли к Вавилову и не поговорить ли с ним, то, что называется, по душам, без священных текстов, которыми и он и мы начинены достаточно, что и мы, как и он, имеем право на чувства такие же, какими обладает он. Агафья думала, что она должна бы сказать, по совести, потому что дело дошло до этого, что Е. Чаеву пора прекратить отпускать веру, но как она могла сказать это, она, вознесшая его на вершины, — она вправе верить ему. Отец Гурий, видимо, хотел тоже сказать, что не стоит посылать, но им овладела его обычная мысль, что все придет само собой и необходимо только молчать. Он воздержался от голосования за посылку Е. Чаева — и это многих удивило и обеспокоило и без того. Была выделена особая комиссия, которая выработала особые тезисы, необходимые для сообщения Вавилову, — и Агафью как-то мало спрашивали, мало обращали на нее внимания, — и вообще оттеснили, что она наблюдала и с горечью и в то же время с каким-то упоением. Она ушла до конца собрания — и никто не остановил ее. Она шла по обширному двору и думала, что Е. Чаев — хороший администратор, а сейчас церкви нужны апостолы, а не администраторы. Она никогда не подслушивала не потому, что ей было неинтересно, а потому, что она верила, что что бы люди ни говорили, но они ей потом скажут, а сейчас ей уже казалось, что многое направлено против ее замыслов, но каковы же ее замыслы? Е. Чаев, она любила его, но свою любовь она называла гордостью. Она услышала, как разговаривают, лежа на солнышке и на сене, Шурка и Верка.
Шурка возмущалась тем, что никто актеру не поверил и никто не пытается спасти его, а он рассказывал одну правду, и она, действительно, совершала подвиги, но теперь, видно, подвигов не совершит — и вера ее, опороченная и растравленная обидой, начинает иссякать. И Верка сказала, что она готова отдать полжизни за то, чтобы прожить хоть одно лето на даче под Москвой — и если Шурка мечтает о Москве, то не пора ли им, действительно, смыться?
Шурка Масленникова заговорила мечтательно, что с ней шли, не торгуясь, сколько она ни запросит, — и теперь с Веркой тоже могут так пойти. Глупая Верка слушала ее, разиня рот.
Агафья всегда держала на толстом шнурке, между грудями, большой крест — и когда она наклонялась и крест попадал между грудями, то как бы распинал их. Она чувствовала боль и сладость. Она вынула крест и пошла к ним. Они встали смиренные, как будто ничего и не произошло. «… Старухи рады кружева вязать, лишь бы их не беспокоили, а мне у могил епископов за другие свечки держаться хочется», — услышала Агафья обрывок разговора. Она завернула за угол сарая. Она подала им крест — и сказала:
— Поцелуйте и ступайте, отбейте по сорок поклонов.
Они, скромно опустив глаза, ушли из сеновала. Она осталась одна, поправила даже сено, которое они вдавили. Вошел с вилами Е. Бурундук и задумчиво смотрел на горы. Она думала, что вот почти скоро год, как она правит общиной, но не умудрилась не только поучить молитвы, но даже прочесть евангелие. И правильно, что о. Гурий назвал ее невеждой; ей хорошо бы сесть на камень и прочесть евангелие. Она тоже смотрела в горы, туда, куда смотрел Е. Бурундук.
— Ты куда смотришь, охотник?
Он вздохнул — и ответил медленно:
— А вот думаю, не провалилась ли крыша в моей землянке, — и еще: не пора ли мне стрелять ворон; ледоход на реке; скоро можно и перья посылать; тает в горах, небось, сильно.
Она спросила:
— А могу я почитать евангелие в горах?
Ей хотелось досадить отчасти и собранию, отчасти чтоб они и подумали, как-то справятся без ее влияния на Евареста, — и что этот дурак и красавец скажет, если один пойдет в Мануфактуры. Но она не хотела, чтобы Е. Бурундук предлагал ей идти в горы; она сказала:
— Возьми котомку, пойдем, — у меня сегодня день свободный, да возьми свечу, я буду читать в твоей избе евангелие.
Е. Бурундук подумал, что она согласилась на то, что он ей предлагает, то есть поселиться с ним в горах; туда, наверное, уже шли кузнецы и угольщики; горы наполнятся грохотом и стуком. Они шли, их видела Клавдия. Они были очень оживленны. Агафья была в сапогах, с палкой. Клавдия косо ухмыльнулась:
— На паломничество?
Она увидела золоченый крест на переплете.
Она послала за Шуркой и шепталась с ней всю ночь, выспрашивая, как у них дела. Бурундук вел [Агафью] по тропам. Солнце было высоко, когда они подошли к его лужайке. Он разложил костер — и ходил необычайно довольный. Он готовил постель, а Агафья, — опять проверяя свою гордость, — гордо ухмылялась.
Глава восемьдесят восьмая
Гусь однажды в два или три месяца писал письма на родину. От родных в его памяти остались только одни имена, но он их помнил отлично. За последние годы он почувствовал какое-то колотье в пояснице, но он не сдавал и пил, а главное, наседал на закуску. Он рассказывал, как вся революция прошла к нему через бутылку, как к нему приходили матросы, офицеры и попы, бежавшие на фронт; он всех их угощал баней и чаем с медом, который приносили ему кузнецы с гор, а он делал на этом необходимую коммерцию. Но в письмах за последние месяцы он прибавлял нечто свое: «К пьянству надо относиться с гордостью — как не к пороку, а к героизму». Он жаловался. Он писал огрызком карандаша, который ему привез солдат с японской войны Он мусолил его — и, вымусолив адрес, приклеил марку и пошел к почтовому ящику. Он шел огромный, лоснящийся, несмотря ни на какую погоду, в валенках, во фрачной просаленной жилетке, которая еле-еле прикрывали его тело, и в твердой шапке, по которой он, как по горшку, обстригал свои волосы. Он бережно нес в руке письмо к почтовому ящику, он выходил в валенках, а если был дождь, он клал письмо на божницу и ждал хорошей погоды. На обратном пути он заходил в лавку и покупал пучок чесноку, который ел поутру, а если не было чесноку, то на пять копеек мятных лепешек. Так и в этот день, он шел величественный и снисходительный по улице поселка, выпятив вперед лоснящийся живот и сопя. Не доходя до почтового ящика, он увидел на земле шкалик. Он, действительно, в жизни своей не ходил за водкой, — даже мальчишкой, — и водку на земле ему приходилось видеть впервые. Он отставил ногу, сопя, наклонился — и поднял шкалик. И когда он поднимал голову и кровь прилила к его голове, он увидел еще шкалик дальше, на дороге, еще в трех-четырех шагах.
— Ну и пьяницы, — сказал он с омерзением, но решил поднять и этот шкалик.
Он поднял его — и с удивлением посмотрел на дорогу — дальше. В десяти — пятнадцати шагах он увидел еще шкалик. Он пошел, ощущая странную радость. Он сказал себе, что теперь-то, кажется, он начинает понимать страсть охотников.
Он шел — и удивление все росло и росло в нем. Вслед за тем он увидел еще шкалик. Он оглянулся — улица была пустынна. Он решил взять этот последний — и идти домой. Он положил письмо за пазуху. Он подобрал шкалик. Вдали, при лунном свете, блестел еще. Конечно, если бы это было днем, он едва ли пошел бы, но ночью, при луне, все это было чрезвычайно необыкновенно. Он с удовольствием клал холодные шкалики за пазуху — и он подумал, что, должно быть, шинкарки везли на санках, мешок раскрылся и шкалики начали выпадать. Он представил, как шинкарки аккуратно завертывали шкалики в солому, — да и точно, солома валялась вокруг; кусочки медной, темно-медной проволоки. «Дурьё», — сказал он, разыскивая глазами следующий шкалик. Но вот он блестел еще. Он шел. Живот у него вспотел, он устал, все карманы его были набиты шкаликами, — он положил их несколько за пазуху; ему уже было трудно наклоняться; он придерживал их одной рукой, а другой ловил. «Ну, будет», — сказал он и поднял голову.
Перед ним был большой корпус. Луна освещала легкий несомый снежок. Было холодно — и светло, и чисто. «Ловко, — сказал он. — Угощу друзей и подсмеюсь над шинкаркой». Он поднял глаза и посмотрел за порог, но и там, под светом тусклой электрической лампочки, валялся шкалик. Он вошел, поднял его, он устремил глаза на следующий пролет; там, на марше лестницы, на ступеньке, стоял еще шкалик. «Этот-то последний», — сказал он, поднимаясь по лестнице. Он остановился на марше отдышаться. Он увидел у дверей четверть. Как зачарованный, он пошел к ней. Да, у дверей стояла четверть водки с нераспечатанной головкой и привязанной к горлышку бумажкой, на которой было ясно написано, да и лампочка была тут ярче: «Водка не продается».
Хохот раздался в пролете лестницы. Гусь-Богатырь увидел торжествующие рожи ребят. Ярость, что он попал так ловко на удочку, охватила его. Он начал хватать шкалики из кармана и швырять их в мальчишек. «Купи! Купи!» — понеслись по этажам корпуса. Он, багровый, бил шкаликами по стенам, он перебил все, под конец он схватил четверть и грохнул ее себе под ноги. Не выходили люди. Он закричал:
— Да смейтесь, смейтесь!
Он раскрыл дверь в коридор. Коридор был пуст. Ему стало страшно «Да не во сне ли это я вижу?» — подумал он и начал спускаться по лестнице. Он шел, грузный, усталый, под морозным и лунным светом. Поселок был пустынен. Он пришел домой и почувствовал себя плохо. Он лег на печку — и задремал. Он проснулся — посмотрел на часы; в эти часы собирались друзья, но теперь никого не было. Да, это не было сном. Он чувствовал недомогание, он спустился, хотел выпить рюмку, но почувствовал такое отвращение, что ударил старым графином и старыми штофами, которые он хранил, об пол. Его трясло. Он сел на лавку и заплакал. Дверь отворилась, он увидел Парфенченко. Тот сел на лавку, вздохнул:
— Такая березка, такая кудрявая.
Гусь-Богатырь попросил принести ему подушку и тулуп. Он лег и сказал:
— Плохо себя чувствую. Кто это надо мной устроил?
— Вавилов, — ответил Парфенченко, вздыхая, и вдруг, отвернувшись, фыркнул.
Гусь освирепел.
— Ну, иди, иди, лижи зад у Вавилова! — закричал он.
— Да зачем мне идти к Вавилову, Иван Иваныч? — сказал Парфенченко. — Я бодр, как березка. — Но на самом деле он трепетал.
— Ты теперь думаешь, что Вавилов все из всех может вымотать?
— Может, вам выпить?
— Вон! Еще смеяться! — закричал Гусь-Богатырь.
— Вы сумасшедший, Иван Иваныч, я не знал такого за вами, — сказал Парфенченко, беря шапку.
— Вон!
Гусь лег на лавку, затем, чтобы не показать своей слабости, сел. Но кто бы ни входил, едва раскрыв дверь и увидев торжественное лицо Гуся, хохотали и, захлопнув дверь, уходили. Гусь, изощренно вспоминая посещение всех людей, ругался друзьям вслед. К утру жар охватил его. Он выпил холодной воды, залез на печку. Он дремал, в голове его был туман, — его тошнило в первый раз в жизни, ему виделись шкалики. Гусь, Великий Гусь-Богатырь, заболел. А Парфенченко постоял у ворот, он потерял друга и человека, которого он уважал всю жизнь, как несокрушимую скалу, — он сам едва ли осмелился пойти к Вавилову, — но тут, как в месть на изречения своего друга, на обидные его слова, — Парфенченко направился к Вавилову.
Глава восемьдесят девятая
И. Лопта был очень огорчен своим неумелым поведением, и ему плохо спалось. Он любил вздремнуть днем, что указывало на известный достаток. Или пригревало солнце? Он подошел к могилам епископов. Он обошел огромные стены собора, прошел подле бойницы, дверь была не закрыта. Шурка Масленникова сказала:
— Я бы ушла, но должна караулить. Так как Чаев унес свои ключи, может быть, кто-нибудь подойдет, я его попрошу покараулить. Раньше можно было оставить открытыми, но теперь открытыми оставить нельзя, так как туда Чаев велел перенести к могилам епископов серебряные паникадила.
Они посмотрели, как кони с вымазанными в грязи колесами подвозили уездных делегатов, многие из которых приехали с куличами, дабы по пути освятить их в соборе. И. Лопта увидел многих своих знакомых, но сомнение в своей святости и в нелепой крови, которая металась по его жилам, и аскетизме, который мало помогал ему, и дом, без деятельности по которому он скучал, где он нет-нет да что-нибудь сделает, бывало. Он чувствовал ненависть к Шурке и к тем ошибкам, которые он совершил, и то, что он признавал многие свои ошибки, и в частности ту, что он совершил, поддерживая печатание библии. Он прошел, но ему показалось, что Шурка нарочно вынула зеркало, но он решил молчать, и он понимал, что ему сегодня предстоит перенести большой грех — и что ему мстят за обман, который он совершил, выдвинув Агафью.
Он пошел к могилам епископов, но Шурка шла за ним, стараясь вылить на него злость, так как она была уверена, что старик сдержит свое слово, умрет, но не заговорит. Она кричала, наслаждаясь своим криком, в сухих крытых сводах: «Бабы знают, где чем пахнет и почему Агафья ушла в горы с Бурундуком. Ушла якобы молиться…» Она заголила подол… Старик чувствовал возбуждение. Он не раскрывал рта. Она легла на могилу епископа. Он подскочил к ней с кулаками, но он сам понимал, что великий грешник, потому что, несмотря на свой аскетизм, возжаждал ее, и он тогда, чтобы окончательно уничтожить себя и чтобы, пройдя через это окончательное уничижение, — лег рядом.
Она выкрикивала похабные слова на всех языках мира, а старик презирал себя особенно за то, что он, как апостол, вдруг понял все эти двенадцать языков, и он упал на девку. (…)
Они услышали стук копыт: сын [Измаила] Мустафа уже сидел на солнышке, сам входил в дом — и отец обещал ему, что на этих днях привезет жену, потому что, если мы отняли у буржуазии хороших кобылиц-производительниц, то мы должны отнять для нашего потомства и женщин. [Измаил] объехал всю ограду, обошел весь дом, но не нашел Агафьи, и никто не мог сказать ему, куда она ушла. Бабы в ее доме обругали его совершенно неприличными словами; сын отдал ему все пособие, чтобы отец купил подарков, но пока он ходил по кооперативу и пока стоял в очереди, Агафья исчезла. Он въехал потому, что Е. Дону, который мечтал быть на коне, посоветовал ему спуститься в подвалы. Он с криком погнался за девкой, которая в белой повязке бежала в страхе перед его конем. Он перепрыгивал через могилы, сорвал пучок свечей, который ему сунул Е. Дону, который чувствовал теперь презрение ко всему русскому. Он у входа догнал запыхавшуюся девку, которая упала плашмя у самого входа, и Измаил, посмотрев на ее ноги в бумажных чулках, сказал Е. Дону:
— Не она.
Шурка, услышав его голос, поднялась:
— Я думала, Георгий-Победоносец мстит, — а это всего только мануфактурный сумасшедший.
Измаил разозлился на прозвище и воскликнул, что если она начала торговать собой, то он ее купит. Он ее купит для Егорки Дону, потому что тот никогда еще не знавал женщин.
В одном из проходов он спутал коня, и, посмотрев, что делает Егорка Дону, и все еще обиженный на то, что его назвали сумасшедшим, сам влез на Шурку, а она как ни в чем не бывало свернула глаза в сторону и вид вообще приобрела не наигранный, как раньше, а вполне деловитый. Дону рассказал анекдот: «Пришло время Шурке родить, а родить она была должна двойню, вот повивальная бабка и заставила его держать свечку. Когда родился один, — она сказала: «Подержи еще свечу». Бабка решила пошутить, Она дала ему свечу: «Еще». Он бросил свечу и сказал: «Они видят свет, лезут, довольно и этих двух». Шурка запыхалась, расхохоталась.
Измаилу стало стыдно, что он мог отдать деньги сына, и пока девка дурачила Е. Дону, он тихо сел на коня и поехал подвалами и заблудился. Он увидел тазовые кости. Он увидел их на полу, но он не остановился, а поехал через них, а затем обернулся, не бредится ли ему, — нет, они лежали; затем он воскликнул:
— Хочу я посмотреть, что ты за человек, но только воскресни слепым, чтобы не наделать мне вреда!
Он ударил плеткой. Огромный великан, величиною с трехэтажный дом, встал перед ним.
— Что вы делали раньше и что вы ели? — спросил его Измаил.
Тот начал рассказывать свои подвиги. Он прервал великана:
— Вы ели землю и убивали скот, но освобождали ли вы людей?
Великан спросил:
— Кого ж ты освобождаешь? И какие подвиги совершаешь? У тебя не хватает смелости сделать меня зрячим. Сделай меня зрячим или преврати в кость.
[Измаил] взмахнул [плетью] — все пропало. Он увидел кости, нарисованные на стене. Ему стало стыдно того, что произошло. Он понял, что дракон свободно может вылезти из воды. Он поскакал из Кремля. Второй раз Кремль опозорил его.
Е. Дону потерял всякую гражданскую доблесть и любовь к отцу. Девка, издеваясь, требовала с него деньги и кричала и наняла караулить всю ночь, пока она сходит в Мануфактуры. Ему было непереносимо стыдно.
На другой день, когда Е. Чаев пошел проверять паникадила, он нашел И. Лопту подле могилы епископа. Он был в слезах, но съезд, чтобы его почтить, решил первое заседание провести на [его] квартире. Он плакал, но ничего не говорил. Он запылал в горячке. Съезд ушел и решил заседать без него.
Глава девяностая
Случилась странная история. Зинаида не могла этого понять, но она должна была понять это для собственного утешения. Все, что она ни думала о Вавилове, — все ей казалось обвинительным актом против него, а другие люди думали иначе. Выступил на производственном совещании вдруг молчавший Парфенченко, друг его Гусь-Богатырь был болен, — сказал дельные вещи, — в частности, он открыл, что нефтяные цистерны почему-то пусты, а на дворе стоят вагоны-цистерны, а пусты они оттого, что вокруг них выросли деревья, у которых вырубили ветви, — все это глупо, но это важно. Он знал, видимо, много секретов — и правление, когда выяснилось, что он вступает в члены мелиоративного товарищества, совсем его одобрило, старик расчувствовался, он забыл про свои десять тысяч рублей, которые пропали у него на сберегательной книжке; советы из него сыпались как из мешка, все дивовались. Начался ремонт баков, вызвавший огромную тревогу в поселке, особенно в первой улице, которая прямо примыкала к деревьям, — и так как деревья мешали ремонту, то их уничтожили, остался один только старенький деревянный забор, — и склад обнажился во всей своей красоте. Перед правлением газета поставила дилемму — или перенести склад или же предложить совету, тогда еще не переизбранному, стало быть, на который все валить можно, признать за советом произведенную ошибку, которая выразилась в том, что разрешили построить первые пять домов так близко от склада — и так как дома топятся, а рядом нефть и склады, — предложить неправильно поселившимся гражданам перенести дома свои в более безопасное место, но правление, конечно, не возьмет на себя вознаграждать ошибки совета и граждан, которых, судя по документам, предупреждали. Второй отчет сообщал о том, что собрание мелиоративного товарищества постановило приступить к работам по осушке. Лясных располагал многими проектами, но Вавилов видел, что сначала необходимо провести один какой-либо из проектов, но какой — он не понимал, он только видел, что братья нанимают рабочих — и что на них обрушатся две беды — и стяжательские их намерения будут разбиты. Если они перенесут дома, они откажутся от делянки. Если откажутся от делянки, новый совет не даст им пять участков подряд, они не обеднеют, но главное — вызвать в них ссору: кто первый придумал строить дома здесь.
Вавилов смотрел на события с огромным интересом. Совещания и организации в помещении нового клуба захватили его. Но Зинаида — он про нее тоже не думал плохо — все-таки не меняла отношения настолько, что, когда однажды она нападала на него за новый проект нападения на Кремль, он сказал ей:
— Ваши братья развелись с женами. Не напоминает ли это того, что и мы с мужем развелись для того лишь, чтобы защищать своих «пять-петров»?
Это он сказал несправедливо, но понимал, что сказать что-нибудь надо, и это ее очень обидело. Она понимала его слабости и то, что не казалось никому странным, именно его упорное избегание фабрики, и она ехидно сказала, что не пора ли ему возвратиться на производство, с которого он так легко сбежал. Здесь, подле них, была только что трогательная сцена примирения актера К. Л. Старкова с Е. Дону, в котором он открыл некий актерский талант, а мальчишка действительно играл неплохо, его приняли на фабрику; актер боялся и жил с ним в одной комнате; он вскакивал, обливаясь холодным потом, он нежно ухаживал за мальчиком, думая, что П.-Ж. Дону ради сына пожалеет старика актера. Все это он сказал Вавилову тихо, на ухо, тайком, тот не понял как следует. Вавилов продолжал говорить Зинаиде, что пять братьев необходимо уничтожить, но как тень воспоминания фабрики появился Т. Селестенников, который злился на то, что фабрика не организует технической библиотеки.
Вавилов видел в этот день, что пока еще дорога не испортилась, «пять-петров» перевозят сруб на гору. Ему их будет трудно победить, в конце концов они лично ему ничего не сделали, они хорошие крепкие мужики — и, если б не налоги, кто знает, не завели б они сейчас у себя в доме ткацкие станки и не напрасно выписывают и изучают они книжки. Он смотрел на Зинаиду и без Ложечникова понимал, что в развернувшейся борьбе она вредна и мешает ему, помимо тех любовных чувств, которые она возбуждает в нем и которые одни лишь могли примирить их. Надо сознаться, в этом его еще убедило поведение Колесникова, который пришел и заявил, что Зинаида дает ему авансы, и так как он и не пьет — и работает грозно, то нельзя ли устроить нечто вроде совещания.
Вавилов не знал, что и говорить. Он понимал, что Зинаида перешла в открытую войну, завидуя и гордясь своим выдвижением; с другой стороны, он видел и чувствовал что-то неправильное в своих движениях ума, но как из этого выкарабкаться? Он пошел к пруду. Два сука осталось еще ему победить. Но он понимал, что это почти превышает его силы. Ему можно еще как-то уничтожить Зинаиду, хотя и отказаться от нее у него не было сил, да и ко всему в личной жизни он был дико одинок, нельзя же все время заседать. Он вспомнил опять про хорошее, про готовую почти победу над братьями, да, они наняли рабочих, да, Пицкус ему сообщил, что у них был Е. Чаев, — сила, конечно, крепкая, ибо за ними Кремль со всей своей черной биржей, с ростовщиками и организованными взяткодателями. Очень, например, странно, что П. Голохвостов предложил ему место заведующего типографией — и обещание похлопотать, чтобы с фабрики его перебросили туда. Готовая квартира, и как же, партмаксимум, так как предприятие большое, оно берет от фабрики Мануфактур много заказов, которые раньше отдавали в губернию, — печатанье газеты, которая, может, через год-два превратится в ежедневную. И Вавилов отказался! Нет, во что бы то ни стало он останется впредь и пока у своих сучьев. Упорство страсти овладело им. Он смотрел на Зинаиду и сказал ей:
— По-моему, вам пора уйти с вашего места или выше, или ниже, что-то вы сильно горячитесь!
Она побледнела — она приняла и поняла бой. «Какая ерунда, — думал Вавилов. — Какая ерунда: кого победил, и с кем приходится воевать?»
Глава девяносто первая
Съезд был чрезвычайно возбужден исчезновением секретаря и казначея Е. Чаева, отказом типографии от печатания библии и тем, что наборщиков, как бывших монахов, профсоюз постановил вычистить из своих рядов. Съезд долго ждал Е. Чаева, ему доложили, что он ушел на разговор с Вавиловым. Было много кулуарных разговоров. Приехал священник, тот, что называется инструктором, Богоявленский. Он все разговаривал с о. Гурием и возмущался тем, что нельзя ли хотя бы напечатать несколько экземпляров — и никак о. Гурий не мог ему разъяснить, что тираж должен выйти весь. И Гурию было противно подумать, что этот молодой и несколько рисующийся своими страданиями священник — он был сослан в Нарым и недавно вернулся из ссылки — рассматривает нерешительность Гурия как некую тактику. Люди толкались подле собора. Из Мануфактур пришли люди — и расселили служащих по домам — и это тоже давало возможность завербовать известное количество верующих к себе, и [Богоявленскому] казалось, что при известном напоре можно было б еще отвоевать церковь пророка Ильи у Мануфактур. Он любил некоторую конспирацию, был превосходным организатором; он сказал, что съезд этот, как и все съезды, только известная ширма, которую надо подзолотить, — и известно, чего он хочет, а там он может уже провести кандидатуру о. Гурия в епископы, что и свершит после некоего известного искуса. Но паству надо почистить, сказал он. Они сидели рядом с той комнатой, в которой рыдал и стонал И. Лопта.
Он не открывал рта, как и раньше, и о. Гурий сказал, что, возможно, у него то, что называется черной меланхолией, и что не надо его беспокоить. И. Лопта был, конечно, потрясен, что съезду они поднесли такие удручающие новости, но Богоявленский и это смог использовать чрезвычайно ловко: он заявил, что вся эта эпоха гонений испытывает только крепость нашей выи — и что в России никогда не было еще министров-попов, но они будут. Власть, которую гонят от нас, сделав параболу, вернется к нам. Он говорил быстро, хорошо, цитируя Достоевского, — он был, видимо, очень доволен создавшимся положением — и убеждал людей в красоте того, что происходит. Красоту надо ощущать, а мы милости бога забыли. Все было очень степенно, безо всякой истерии, все это очень понравилось делегатам из уезда.
Они все с удовольствием прослушали доклад — и стали ждать Е. Чаева, который прислал на имя съезда заявление, что он был в темноте, но теперь раскаялся, складывает свои полномочия и присылает все документы, а сам же он будет работать как активный безбожник, что все это было опиум. Там было написано много безбожных слов, а монахи сказали, что он все сдал о. Гурию, но о. Гурий сказал, что он ничего не получал, никаких сумм и что все надо проверить в типографии. Затем встал Богоявленский и сказал, что лучше всего быстро избрать правление и съезд распустить, ибо он происходит некоторым образом тайно, и если Е. Чаев получил обратно деньги, которые ему возвратила типография, то лучше его не трогать, не судиться, иначе он донесет на съезд, поднимет бузу с убийством Вавилова и с прочими историями, случившимися за царствование Агафьи.
— Что ж, были ошибки, но на них мы, — как и все, — учимся. Необходимо группу истинно верующих поддержать — и выразить о. Гурию наше полное доверие.
Съезд сел и начал обсуждать вопросы управления и проповеди слова божьего в уезде. Отец Гурий прошел к своему отцу.
После того, как Е. Бурундук разложил постель, он ходил возле нее, он присаживался и смотрел голодными глазами. Агафья ему сказала:
— Я пришла не для того, чтобы лежать с тобой, Бурундук. Ты веруешь в евангелие и хочешь сочетаться со мной в церкви, но ты знай, что я не девственница, и поэтому едва ли ты меня захочешь.
Он ей не верил. Она уже приготовилась защищаться, но затем она увидела, что он заплакал и начал проклинать и чрево ее, и тех детей, которых он от нее ждал. И то, что она — не великая мать, а, оказывается, великая б(…). Он выхватил бутылку, но она поняла, что может произойти нечто страшное, и, подбежав к нему, вырвала бутылку и, выкинув ее за порог, разбила. Он стоял сконфуженный, вышел было, но затем вернулся и спросил, может быть, она все-таки врет и разрешит свадьбой ему проверить это.
И она ему сказала самое страшное, что она жила с человеком (…) и все таки от него не было детей. Бурундука это поразило больше всего. Он лег на кровать — и лежал, глядя в потолок, и сплевывая, и иногда хохоча над собой.
Она смотрела в евангелие, пытаясь прочесть ту книгу, которую она, кажется, и в детстве не читала, но, прикрываясь которой, пыталась они владеть Кремлем. Она устала, книга ей не понравилась. Была большая тишь — и журчали с гор ручьи, когда она выходила на двор. Она видела, что она потеряла последнего своего друга — Е. Бурундука — и ей было страшно, но в то же время весело — и она чувствовала, что скажет съезду нечто новое.
Она проявила силу своей гордости в том, что досидела до того времени, когда на южный склон гор взойдет солнце. Она сказала Е. Бурундуку, беря с гвоздя полотенце:
— Ты согрей чайник, а я пойду умоюсь.
Она взяла книгу — евангелие, положила ее на камень, так как думала, что не хватит силы воли ждать и она уйдет. Она сидела и смотрела ни быстротекущую и мутную воду. Она сняла крест и положила рядом с собой на камень. Она засмотрелась и сначала подумала, что сильно прибывает вода, а затем посмотрела на солнце и только тогда поняла, отчего она так думает. От таянья вода в ручье прибывала сильно, и вода поднялась и намочила ей ноги. Она взглянула на камешек, который лежал ниже ее сиденья, — ни евангелия, ни креста там не было — и камешек, похожий на чернильницу, был покрыт быстростремящимся ручьем.
Евангелие, должно быть, унесло, а крест потонул, да и где найти его в мутной воде. Она поняла это как предзнаменование, встала и пошла, выпила стакан чаю. Когда она спускалась по склону, то увидела, что пять здоровенных мужиков ели из огромного чугуна, хлебая со дна. Она посмотрела на их потные лица и подумала, что они уже могли здорово устать. Они так были заняты своим разговором, что не заметили ее. Она долго стояла. Они корчевали деревья, то есть выкапывали подле дерева яму, а затем подрубали корни. «Здесь будет пашня», — подумала она и что Е. Бурундук тоже предполагал пашню.
Наевшись, мужики захохотали, и она увидела, что один из них пустил чугунок по откосу, и он долго катился, кувыркаясь и легко подскакивая, и мужики наблюдали за ним. Она поняла из разговоров, что они загадали: спустится на ниву чугун или нет.
Глава девяносто вторая
Вавилов ходил еще раз к пруду, видел свои сучья, ему было стыдно за свою сентиментальность и наивность; подле прудов возились уже люди, организованные Лясных, они что-то делали. Вавилов не стал переходить на другую сторону пруда. Затем он пошел к нефтяным амбарам и видел, как наливали нефть, и все обнажено. Пять братьев, получившие отпуск, приехали с гор. Они стояли у ворот. Он вежливо поздоровался с ними. Он шел на пленум Совета Мануфактур — он боролся в печати. Он воодушевил комсомол, часть комсомола: но узбеки, должно быть, имели в нем и власть, и вторая половина комсомола реагировала слабо. Он мало надеялся на поддержку узбеков, но вести среди них кампанию, да еще в присутствии полусумасшедшего Измаила, к которому они относились и насмешливо и в то же время любовно, — просто не было времени.
У него было по нескольку человек из различных организаций, но целиком ни одной, но это, конечно, лучше так, чем никого. Он понимал, что надо защищаться — и защищаться сугубо от пяти братьев, которые весьма смутно чувствуют опасность, но он не знал главного: они только что проводили ростовщика из Кремля, который категорически отказал — «теперь деньги все фальшивые» — и главное, какой может быть разговор: дома у них отличные, безусловно, но рядом дровяные склады, нефть — того и жди, что они поссорятся, их переселят. Они действительно, как только шел ростовщик, начали обсуждать тихо свое положение, но затем спор возгорался все больше и больше — и в тот момент, когда Вавилов и Памвоша Лясных остановились подле дома, то происходило именно так, как рассчитывал Вавилов, и его даже испугала точность его расчета и насколько тогда правильно коммунисты понимают жизнь. Старший и младший, те, которые первыми подали в совет заявление о постройке, были против средних. Они кричали друг на друга, они ругались. Вавилов понимал, что все их хозяйство разрушено; возможно, что они попробуют его самого уничтожить, но едва ли, они посмеялись над ним, а теперь отомщены. Он был доволен. Лясных сообщает ему законы наводнения, что, по его мнению, он видел, что нынче на южных склонах много снега. Он подал ему бумажку и сообщение волостного вика о начавшемся наводнении в уезде.
Вода идет — и надо принимать меры. [Лясных] сказал, подмигивая, что рвы только подчистил, это улучшит фарватер, но не мешает припугнуть, что будут затоплены и фабрики. Надо, главное, защищать электрическую станцию, которую строили во время войны, и Парфенченко знает, что ее может затопить. [Лясных] заговорил опять об Овечкиной, все таким же странным тоном.
Вавилову было жаль расставаться с ней, но он приписал все это своей странной способности привязываться к женщинам. Он не пошел ни к Овечкиной, ни к Ложечникову. Они ждали Лясных за углом. Он боялся, что Ложечников задаст ему еще загадки, а он больше их разгадывать не может. Он изнемог и устал.
Конечно, кто-то из рабочих должен думать, но ему обидно смотреть стало на думающего человека. Он стал странно думать, он делался бюрократом, он начал думать уже, что работают только те люди, которые организуют и заседают.
[Вавилову] стало смешно, но он ушел. Лясных не настаивал на том, чтобы он пошел. Это было обидно, но все это было из прежних чувств, но ничего не поделаешь, они когда-нибудь да прорвутся… «А не гипноз ли массы медленно, но верно начинает на него действовать?» — именно так, как говорит профессор Черепахин — и как думает Ложечников, который с удовлетворением узнал, что Вавилов прошел дальше. Он сказал, что так, видно, и надо, парень боится, что разучится сам хорошо думать. Он посмотрел с умилением на племянницу и сказал, что с радостью отдаст племянницу за Лясных, но, зная их кампанию по прикреплению Вавилова к Мануфактурам, все это феодально, но они правильно рассуждают — Зинаида вождь, и она обрывает путы и учится быть одна. Лясных очень трудно жертвовать племянницу, но лучше не найдешь. Да, вы — молодежь, вы странно рассуждаете, но правильно, потому что перенаселение страны выдвигает необходимость напрячь все силы и защищаться. Нам еще будет дико трудно, но мы научились напрягать свои силы. Они шли, так рассуждая. Лясных показывал им свои работы и высказывал сожаление, что Вавилов уедет. Ложечников посмотрел хитро на них — и сказал:
— Да, уедет.
Овечкина инстинктивно чувствовала в Вавилове огромного самца, которого лестно будет напрягать (…). Бывают такие странные строгие девушки, которые гордятся и на гордости только могут удержаться; иногда эта гордость засушивает их, чаще всего, — но редко они устраивают свою жизнь.
Вавилов при расставании сказал Лясных, что он должен увидеться с Т. Селестенниковым и капитаном Тизенгаузеном. И то, что зависеть от машин — это так страшно, — это он сказал Овечкиной, тронуло ее в Вавилове, она-то думала, он железный. Люди думают друг о друге, сказал Ложечников, — ерунду.
Насифата приставала к Мустафе: забыл ли он Агафью. Он, чтобы отвязаться, вызвался пасти коня. Он ходил с палкой. Он сказал, что конь привык грызть траву из-под снега. Конь похудел — и он хочет проводить его. Насифата влюбилась в Мустафу, пока он лежал, и [ее] привычка ухаживать за ним тяготила его. Они хотели знать, как же им поступать с Вавиловым. Мустафа мечтал увидеть Агафью. Он отказался. Узбеки, разагитированные Насифатой, составляли письмо. Пришел Парфенченко, он подошел к дому Гуся-Богатыря, того почти все забыли, но Гусь, увидев его в окно, злобно махнул в форточку тонкой рукой:
— Уходи.
Парфенченко зашел, чтобы отвести душу. Он услышал споры о Вавилове. Он сказал, что это человек, может быть, здоровый, а может быть, завтра умрет, нам его надо беречь. Не пишите на него, а послушайте о нем то, что вы не знаете. Насифата ухаживала за Мустафой. Она сочувствовала его болям, но не пошла за ним. Ей жалко было его невыносимых страданий. Она ждала его смерти, чтобы и самой умереть. Она похудели и еле двигалась. Она сидела неподвижно и поняла, что во имя общего дела она должна молчать. Она считала все его мучения. Она напрягалась, как струна. Они заседали. Они судили Вавилова. Парфенченко выступал адвокатом. Ее должно быть обвинительное слово, сказала его Каримат. Она объявила Вавилову приговор в делячестве, что он не видит идеалов интернациональных. Дверь распахнулась. Стоял Вавилов. Он сказал, что перед пленумом он хочет им изложить свои мысли. Они должны его защитить. Было раннее утро. Они могут ему помочь. Насифата подумала: «Ловко ударил» — и сказала:
— Каримат берет свои слова обратно.
Ей было плохо. Она почувствовала головокружение.
Глава девяносто третья
Если чугунок встанет вверх пузом, значит, быть от новой пашни — сытому. Чугунок катился, докатился до средины пашни — и покачался. Напряжение и страх выразились на лицах мужиков. Чугун встал вверх дном. Мужики захохотали громко, на весь лес — и поднялись, и, взявшись за руки, пошли к работе. Агафья узнала пять братьев. И еще ниже, когда она уже шла по потоку, она услышала выстрел. Она подумала, что Бурундук застрелился, но немного спустя она увидела плывущие по реке перья сороки, свежевыщипанные. У входа в Кремль она, свежая и бодрая, хотя и грустная, увидела Щеглиху. Та налетела на нее:
— Ты только девственность не потеряй, [Лука] Селестенников умирает, пойдем, простись с ним, а затем я скажу тебе ту тайну, которую не говорила.
Щеглиха довела ее до дома Л. Селестенникова. Даша встретила ее огорченная, но как-то просветленная. Л. Селестенников страшно похудел, он заулыбался и сказал:
— Доктор сказал, что надо прощаться.
Все, не исключая и доктора, который стоял грустный и с видом «ничего сделать не могу», — все вышли, и Л. Селестенников закрыл глаза и сказал:
— Вот и ждал я тебя, девка, да и не дождался. Даже сын, меня презиравший, да и по праву, только что приходил прощаться, загубил я его жизнь, верно, отбил девку, но и сам не попользовался.
Говорить ему было, видимо, трудно. Он закрыл глаза. Веселая муть подходила к его глазам. Агафье стало его жалко, и она решила ответить:
— Да и я все время выбирала, думала, лучше найду. Попробовала, да обожглась.
Л. Селестенников, внимательно ее слушавший, сказал:
— Все мы обжигаемся.
Агафья, желая его повеселить, сказала:
— Вот — и порченая я. Если хочешь — бери.
Она наклонилась, пересиливая себя, поцеловала его в рот, уже начинающий холодеть, — и, утирая глаза, вышла. Щеглиха, разговаривавшая с доктором, сказала:
— Воспаление легких, умирает. Хороший был старик.
Доктор сказал:
— Надо было держать себя осторожней, — снял шляпу, поклонился и ушел.
Доктор был молодой, старавшийся казаться степенным. Щеглиха сказала:
— Я тебя увезу в Москву, там один старичок есть; может быть, вот вроде ученого, профессора этого, он купит тебя у меня, он долго копит деньги на девственность. Для кого тебе ее беречь, бог не спустится. Затем я тебя пристрою на свежее место, там такой, как у тебя, нежности мало, у меня хорошие девки подбираются, будете жить весело.
Агафья сказала:
— Спустился Илья — и все кончено. Отстань.
Е. Чаев, заботясь о печатании библии и, главное, о том, что не мог вовремя взять эти деньги, — а была у него какая-то дурацкая боязнь перед Агафьей, — зашел все-таки в типографию, и там он услышал странную вещь, что правление новой типографии взяло заказы на печатание стен газеты «Веретена» и уже получило задаток — и что всей суммы, внесенной Е. Чаевым, вернуть сейчас не может, но внесет пока две с половиной тысячи, а остальные потом. Согласен ли? Е. Чаев повозмущался для вида, но чек взял — и пошел немедленно в отделение банка в Мануфактуры. Он почему-то думал, что деньги ему не выдадут, но ему выдали немедленно Он проходил мимо номеров несколько встревоженный, он хотел было уехать, но затем решил, что это и самое страшное, и самое глупое. Но он боялся уехать. Он вошел в номера совершенно мокрый от страха, была распутица, и в Мануфактурах было мало остановившихся. Он передал свой билет и спросил чаю, но чаю пить не мог — беспокойство мучило его. Он пошел в универмаг, унылый амбар, купил там чемодан — и клетчатое кепи. Затем он прошелся по набережной, встретил С. Гулича, и тот зазвал его, узнав, что он от всего отказывается, — тот тоже смотрел на наводнение.
Е. Чаев, узнав о газете на Мануфактурах, тут же решил написать письмо об отказе от своих убеждений, а С. Гулич, посмотрев на него, сказал торопливо:
— Пятьдесят рублей есть? Пойдем-ка до Клавдии.
И они посетили Клавдию. Та сидела хмурая, но встретила его хорошо, напоила чаем и сказала: «Ну пойдем».
Она ему очень понравилась. А затем пришла еще и Щеглиха, привели Шурку и Верку, которая забилась за перегородку, а Шурка постоянно твердила, что хочет в Москву. Верка храбрилась, но уже всхлипывала и ее отослали в чулан, а Шурка сказала, что Агафья ходила к Е. Бурундуку и пришла, видимо, победив его, страшно гордая — и на нее смотреть невозможно, но прогордится она едва ли много, так как от нее все отказались, И. Лопта заявил желание занять снова дом, хотя и болен, но его, возможно, понесут на носилках — и даже Е. Чаев ее предал.
Ему, Е. Чаеву, было противно слушать шепот про себя — и он отвернулся, а Клавдия щебетала, что придет она к Е. Бурундуку — и кончено…, Клавдия вдруг весело сказала:
— Мое дело сделано, уезжаю в Москву, собирай меня, Щеглиха, если на ткачих интерес есть, я покажу, какая может быть пролетарская куртизанка!
Е. Чаев накидал на клочке бумажки свое отречение и понес его в редакцию «Веретена». Там-то он увидел Вавилова, тот спросил его о специальности — техник-строитель — он сказал, что мало знает, но посмотрел на него так, как будто покупал, — и затем вдруг веселая мысль мелькнула у него в голове, он написал записку к Зинаиде. Е. Чаев сразу понял, что его хотят прикрепить к работам и дадут самые ответственные церковные роботы, но он не пошел к Зинаиде, а направился к ее брату Колывану Семенычу и сразу же сел и рассказал, что так-то и так, но он сватается за младшую сестру, так как он хочет заняться хозяйством — и может вложить в это дело две с половиной тысячи рублей.
Девка обрадовалась. Собрались экстренно все братья. Девка поплакала, но жалела, что не может [венчаться] в церкви. Е. Чаев покачал головой и сказал:
— С удовольствием бы, но сейчас не могу, можно испортить мой агитационный поступок.
Он с презрением передал две с половиной тысячи, братья семенили перед ним; их широкие груди защищали его; он посмеялся, как дрожит вор Мезенцев и как он сбирает манатки, так как его поймал Вавилов. Затем он пошел через день к Зинаиде, затем на торги и взял подряд на разборку некоторых кремлевских церквей. Братья ему рекомендовали людей. Он приложил еще к ним тех плотников, которые работали в Кремле. Он торжествовал — и презирал всех. Его все уважают, но многим было непонятно, почему же пресмыкаются перед ним братья. Он сбирал артель. Он распоряжался. Он знал, что его используют, но он уже начал списываться с Москвой, с коопремонтстроем, выбрал самую маленькую, но самую долговечную артель. Свадьбу он назначил хорошо, накануне праздника Пасхи — агитационно…
Глава девяносто четвертая
Эта ночь была решительной ночью в жизни Вавилова. Он говорил на пленуме. Он собрал и все хорошие, и все дурные мысли. Он сказал откровенную и потрясающую речь, в конце которой Зинаида ушла. Он сказал, что наводнение грозит и что надо принимать меры. Он прочел сводку вика — и было странно, что человек, который должен говорить о клубе, давно перешагнул за рамки своей культурно-просветительной работы: и в то же время повестка собрания была сломлена. Он сломал то, что думал. Ткачи слушали его напряженно. Он заявил им, что надо снести и разобрать церковь, да, это, может быть, варварство, но мы оставим пару-другую, египтяне их, наверное, тоже разобрали бы. Нам надо торопиться, происходит война — и мы строим баррикады, а где брать кирпич — до того ли, чтобы разбираться во время гражданских боев. Он прочел свой проект. Вот сейчас затопит следующие улицы… Он обещает собрать большинство. Он будет агитировать. Ему аплодировали. Его проект был принят. Его избрали в комиссию по защите от наводнения. Комиссия избрала его председателем. Он послал Лясных руководить раскопками рвов и сам начал организовывать силу. Он пришел к узбекам. Он доложил им, что грозит Мануфактурам. Они должны сделать Мануфактуры с культурной стороны цитаделью коммунизма. Они должны принять меры к организации технического рабфака или вуза. Они должны писать, докладывать. Он пылал.
Насифата хотела бы прервать свой сон, но не могла. Она тонула, она следила мысленно за каждым шагом Мустафы. Это было великолепное утро, те часы, в которые Вавилов должен бы спать, но он видел сон наяву. К нему то и дело приходили посланцы. То требовались лопаты, то ему предстояло осмотреть машины. Машины, черт возьми!.. Электрическая станция!.. Он преодолеет свой страх, свой сон, — все кончено. Они должны подобрать материал. Мануфактуры культурно очень отстали; плохо и то, оказывается, что здесь не было боев, они вырабатывали ткань, так как были большие запасы хлопка, — и не получили добротного революционного воспитания; их хорошо снабжали, и они имели право делать такие отряды, которые совершали целые экспедиции в поисках им хлеба, они отстали. Голод и война — тоже великие школы для тех, конечно, кто уцелеет. Он на полчаса должен зайти домой для того, чтобы переодеться. Да, экспедиции!.. Дьявольски много интересного можно было б рассказать, хотя бы и про одну экспедицию. Вот чего добиться.
Он в перерыве видел, как люди, сорок человек, слушали, как читают книгу о планетах. Это знаменито!.. Это наука. И теперь, когда они должны чуть ли не благодарить наводнение, которое покажет. Ну, напряжемся!.. Ну, разберем!.. Это не делячество, — это восторг. Узбеки жали ему руку. Он сиял. Он чувствовал легкий шум в голове, но стоял твердо. Он пошел к клубу, там он встретил профессора З. Ф. Черепахина, сказал, что надо напрячь силы, что его проект о разборе Кремля принят, — и сегодня ночью, пасхальной, они думают устроить пасхальный карнавал.
Да, вода прибывает. Профессор смотрел на Вавилова загипнотизированное лицо — бумагу — и он сам себя загипнотизировал для того, чтобы быть середняком. Профессор понимал, что видит перед собой маньяка, с которым надо соглашаться так, чтобы слегка спорить, но и говорить немного своего; он сказал совсем другое, но то, что звучало для него логично, — о Главнауке.
Вавилов не слышал. Он читал бумажку [от Зинаиды). «Завтра мы поговорим с вами о Кремле. Я приеду осматривать помещения на предмет затопления; мы займем Митрополичьи покои, все, что вы предполагали сделать для музея. Я привезу вам людей». Это и полезно — и поучительно. Он подошел к клубу. Встретил Колесникова — отличный парень. Он предлагает сбросить колокол, которым сначала отбивали часы, но звук его все-таки противен, и так как в семнадцати церквях, которые подлежат разбору, наберется много колоколов…
Вавилов сказал, что он поддерживает, — и синим карандашом в углу его бумажки написал: «Поддерживаю». Он переодевался для того, чтобы идти осматривать машины и подвалы. Он перебирал в уме, все ли сделано и все ли предусмотрено. Он проверил лодки, послал Лясных их проверить. Он натягивал сапоги. Постучали. Подпрыгивая, он крикнул:
— Не заперта!
Вошла Маня. Она была одета в белое. Она пришла решительная, с тем, чтобы подкупить его той или иной ценой. Он решил поговорить сегодня же с Зинаидой. Он вспомнил Е. Чаева и понял, что тот, уйдя, только и может пойти к пяти братьям. Она села и сказала, что пятеро братьев потрясены, но что она готова ему дать, если он хочет, но ее разговор велся к тому, можно или нет принимать деньги. Она кокетничала, не прочь бы лечь. Вавилов мог бы ее взять безнаказанно, а она легла даже на кровать и сказала, «вам теперь и кровать нужна бы получше». Она туповата, она исполняет требования братьев, она и не прочь в случае чего алименты получать. Он раскрыл дверь. Пицкус, Длинное ухо, сидел на подоконнике.
— Я здесь, — сказал он.
— Заходи.
Вавилов сказал Мане, что Е. Чаев отличный человек, он одобряет их выбор. Он посмотрел ей вслед. Пицкус сказал:
— Надо было б тебе ее трахнуть.
Вавилов был доволен, он первый раз отказался от женщины. Он решился. Он попросил Пицкуса найти Зинаиду. Он хочет с ней поговорить. Да, теперь уже не откажется Пицкус доставить ее живой или мертвой. Пицкус узнает и найдет. Останется она с Колесниковым или нет? А какое он имеет право? Никакого. Но он чувствовал, что его отказ от Мани знаменует уже многое. Он любит Зинаиду. Он все устроит, но влетел Пицкус. — Он встретил Зинаиду? — Нет, катастрофически прибывает вода. Да, все уже свершается. — Он убежал с криком: «Зинаиду я найду!»
Вавилов думал уже остановить Пицкуса. Это была от прихода Мани, такая слабость. Он вспомнил, как видел Е. Чаева, он написал Зинаиде: «Хорошо бы дать ему подряд. Он очень нам полезен, так как поможет сломить кремлевцев». Он знал, что тот прочтет. А тот, действительно, прочел.
Глава девяносто пятая
Ночью Клавдия собрала свои вещи — и ушла к Бурундуку. Он сидел грустный. Перед ним была груда настрелянных ворон, он их ощипывал с каким-то диким ожесточением. Клавдия с ним вежливо поздоровалась, а затем прошла в избу, вымела, вынесла сор и поставила чайник. Когда он встал и посмотрел на перья, она сказала:
— Отличная подушка будет, — и взяла все перья в решето.
Он хмуро и молча смотрел на нее; смотрел, как она снаряжает шалаш, как сколотила кровать — и его умилило то, что она здорово работает топором. Затем она легла спать, он ворочался с боку на бок — и она сказала:
— Место у меня на двоих.
Бурундук не понимал, почему она пришла к нему, но он гордился, что обнимает женщину, которая стоит пятьдесят рублей в ночь. Он еще испытывал к ней благодарность, что не называет его дураком. Утром он встал, уже охваченный беспокойством, что она покинет его. Она спросила:
— Как пройти к речке?
И он сказал, глядя в сторону:
— Ты навсегда на эту гору?
Она засмеялась и, стукнув в ведро пальцем, послушала звук — и сказала:
— Похоже.
Он на нее не обернулся, но когда она вернулась, он обкорчевывал уже вторую сосну.
Профессор З. Ф. Черепахин и капитан Железная Нога стояли у парохода; тут же подошла Даша, а еще раньше приехал Трифон Селестенников с Мануфактур осмотреть пароход. Профессор, мирно приспособившийся, он делал уже четвертый доклад в Мануфактурах о тех храмах, которые необходимо разобрать. Он и подвез Т. Селестенникова. С ним рядом сидел председатель вика, тот тоже был доволен и презирал Старосило, который хотя и герой, но не мог ничего организовать — и, поднимаясь в гору, он предложил профессору лучшую квартиру, мотивируя это тем, что они должны беречь своих работников. Т. Селестенников говорил, что вверху, в горах слышно быстрое таяние воды и посему машины надо осмотреть, а то как бы не поднялась вода и не затопила пароход, за который теперь отвечают Мануфактуры.
Профессор подумал: «Прожить осталось немного, надо прожить эти годы хорошо». Капитан Железная Нога нежно смотрел на Дашу, и профессор видел, что жизнь их тоже может быть устроена, и весь вопрос только в том, утонет ли пароход и выдержит ли напор воды днище? Он уже не протестовал против разбора храмов и говорил, что ко всему можно привыкнуть. Тем более, что он дописал и последнюю страницу своего исследования и считал, что его обязанность перед потомками выполнена — и он не может умирать на старости из-за голода.
Он высказал жене свои предположения — и жена им осталась довольна, да на другой день и сам Вавилов, который оказался не столь грозным, как о нем думали, — одобрил, что лишь только профессору отведут лучшую квартиру, он в техническом училище, которое организуют Мануфактуры и в основу коего будет положен Дом узбека, он решил прочесть ряд лекций в связи с историей кремлевского края и началом Мануфактур. «Материалы-то, нет, вы послушайте, материалы», — и он с упоением прочел из какой-то рукописи, которую откопал в архиве. Он смотрел, как в церковь идут люди, и жалел их. В комнате, кроме него, сидели еще Буценко-Будрин и актер, который успокоился с того момента, как стал рассказывать, что история Неизвестного Солдата — сплошная выдумка, и с того также момента, как перестал разоблачать и обличать, а попробовал нагло льстить, и он подумал, что люди надсмеются над ним и удивятся такой наглости, но затем оказалось, что существует своя, советская система лести, всего чтоб было в меру: и поражения и достижения. Он удивлялся и говорил, что прожил много лет, но ничего подобного нигде не видел и что заграницу надо ругать — и что там значительно хуже, чем у нас, — и его вскоре стали оставлять одного, и он думал, что один-то хоть он будет говорить то, что думает, но оказалось, что он уже остановиться не может. Они все трое смотрели друг на друга — и думали, что не так давно они бунтовали и хотели еще перейти в верующие, сомневались в чем-то, а оказывается — все трын-трава и ерунда.
Профессор З. Ф. Черепахин сказал, доставая недопитую бутылку ликера:
— Вот-с, а вы говорите — Неизвестный Солдат.
На что актер, шутя махая руками, ответил:
— Я вам говорил это, Зоил, Федорович, в тяжелую пору некоторого подхалимства и я бы сказал даже приспособленчества. Откровенно говоря, не был я на фронте, а сидел в Париже на положении земгусара, и рассказам своим я думал вызвать в вас образ вашего сына, дабы вы поддержали меня.
3. Ф. Черепахин отвечал:
— Не такими способами, не такими словами. То была другая эпоха, а сейчас другая. Я думаю, что сын мой был в той эпохе — и умер так, как ему подсказывали его мысли.
Буценко-Будрин ответил:
— Иначе большевики не замедлили бы выкрасть тело, и буржуазная власть произвела бы соответствующее расследование.
— Не будем говорить о моих шутках! — воскликнул актер. — У меня их и так много. Ну, не остроумен я, не остроумен решительно.
Профессор пошел их провожать. Они шли и услышали странный грохот, огласивший уличку. Они даже остановились, но затем профессор воскликнул:
— Мы не борцы, да, мы обыватели, а это идет капитан Железная Нога.
Они увидели. Он, потный, с трудом, запыхавшись, вел под руку счастливую Дашу. Они все сняли шапки и приветливо сказали:
— Счастливого пути, капитан!
Капитан ответил, тяжело дыша:
— Благодарю!
Затем они распрощались, и профессор вздумал подняться на стену, чтобы посмотреть, действительно ли прибывает вода. В церкви пророка Ильи били к обедне. Люди съезда торопливо шли. Профессор З. Ф. [Черепахин] увидел Агафью, которая, наклонившись над зубцами, напряженно смотрела на гладкую поверхность поднимающейся реки. Она старалась разглядеть что-то, наклонялась, отходила, но, ничего не видя, еще раз возвращалась. По мосту — железному — ехали огромные ломовые телеги, груженные плотниками. Огорчение профессор прочел на лице Агафьи. Он чувствовал себя хорошо и решил ее утешить. Он подошел к ней, вежливо кашлянул. Она с неудовольствием обернулась к нему, — профессор поднял указательный палец:
— Видите ли, огорчения бывают со всяким, но надо чем-то утешаться…
Она пристально на него посмотрела, но вдруг поднесла к его носу кукиш — и спустилась по лестнице. Профессор смущенно посмотрел на реку — она поднималась, он пришел домой, посмотрел на бутылку, вздохнул:
— Кому выпоил, что понимают!
Наскреб еще рюмку, выпил и мирно, медленно утопая, заснул, едва успев подумать:
«Если б раньше озаботились, давно бы пристань перенесли. У нас теперь начали лес плавить дорогой, еловый, корабельный и аэропланный».
Глава девяносто шестая
День был солнечный, теплый и тревожный. Кое-где появилась травка, на севере она растет, пока ты идешь с конем от того места, где ты сидел. Так говорил Мустафа, смотря, как почти на глазах поднималась вода, плыли деревья. Он сидел на пне и думал, что как только он наберет сил, как только очухается голова от запаха свежей травы. Конь гремел путами, это было утомительно, он знал, что конь не убежит, он снял путы и надел их ему на шею. Они звенели на шее мягче, чем на ногах. Он вздремнул. Сладость овладела им. Он открыл глаза. Солнце припекало еще больше. Над ним стояли девки и смеялись над ним:
— Ждет, что Агафья… а Агафья, брат, удрала.
Девки цинично захохотали. Они уезжали в Москву. Они ехали с сундучками. Еще он спросил у меланхолического мужичка, тот сказал:
— Разжаловали, вот и уехала. Всякому обидно… то тебе богородица, то тебе позор.
[Мустафа] понял, что больше ему жить бесцельно. Он подошел к коню. Тот стоял подле него и смотрел. Он побежал. Он радовался. Он прыгал. Он опять подбежал к нему. Он смотрел весело. Мустафа поцеловал его в нагретое солнцем ухо:
— Я не могу быть тебе товарищем, прости.
И он хотел прыгнуть, но упал неловко, костыль замотался у него между ног, — и пока он полз в воде, пытаясь даже грести, холод овладел им. Костыль выпрыгнул, поплыл немного — и завернул к камышам. Конь постоял, подошел к воде, поржал, попил воды и пошел, тряся головой, домой.
Насифата и все ушли. Измаил страдал и ждал возвращения сына. Он хотел быть крепким. Он сидел на кошме, поджав ноги, — и голова у него тряслась. Насифата мучительно следила за тем, как Мустафа идет к городу. Она наблюдала за каждым его шагом. Он держится за гриву коня и, напрягаясь, идет к Агафье. Самое тяжелое — подниматься по крутому косогору, так как конь отворачивает к сочной травке, выступившей по склону у стен. Надо много напрягать сил для того, чтобы окликнуть коня, и Мустафа кричит. Но Агафья посмотрела на него в окно; она сидит, гордая и неприступная богородица — она не вышла к своему возлюбленному и говорит служанке:
— Он дойдет.
Но он не дошел. Он упал. Мучительная боль прорезала тело Насифаты. Она телом своим понимала, как умирал у ворот Кремля умный и юный Мустафа. Она пыталась победить эту боль. Она видела, как конь испугался тех корчей, в которых бился его хозяин. Она распахнула окно. Она увидела вдоль улицы маленькие копытца, мелькающие у коня. Она трепетала. Конь подбежал к окну; положил серую голову на подоконник. Слезы у него бежали градом.
Измаил подошел к окну, взглянул на плачущего коня. Насифата упала. Он положил ее на ковер, положил ей под голову подушку. Она умирала. Она думала, что умерла вместе со своим возлюбленным, но она бредила еще пять дней — и все-таки померла. Она помешалась на смерти. Подвесив саблю, Измаил вышел. Он увидел коня и сказал:
— Умер мой сын — и конец тебе.
Он размахнулся и разрубил череп коню. Затем он пошел, не взглянув на труп коня, к Волге. Здесь он увидел плавающий костыль. Он сидел с саблей в руке и смотрел на воду. Уже стемнело. Он увидел необыкновенно расширившегося плывущего из заводи дракона, он плыл — и головы его отросли. Он засмеялся:
— Да, я совершил бесконечное количество преступлений, Измаил. Я даже чуть не закусил телом твоего сына, я бы мог его съесть, но я не людоед. Ты должен покинуть этот город, хотя я себя и превосходно чувствую, но я должен буду вылезти. Я буду тебя преследовать всюду.
Измаил бежал. Он не будет жить в городах. Он должен исправляться. Он этого хотел. Он встал — и бросил в горло дракону свою саблю. Тот ее схватил в зубы, так схватывает собака поноску; он передавал саблю от головы к голове. Он сказал:
— Превосходный клинок, между прочим, но мне этого мало — уходи, Измаил. Я отдохну и пойду за тобой.
Он поплыл к заводи.
— Ты был слишком самоуверен в своей правоте, Измаил, а также ты чересчур был красноречив, а красноречие вознаграждается только в адвокатуре, ибо оно там бесцельно, ибо в истинном правосудии существует совесть, а адвокаты только унижают наше понимание мира. Да и действительно, что за подсказки мотива!..
Он уплыл. Измаил пошел. Измаил встретил актера. Он спокойно сказал, что сын его умер, но необходимо попросить лодок для того, чтобы найти труп. Актер решил сказать свое:
— Да, Вавилов странный человек. Я обижен им. Он явно знает, что клуб может быть затоплен. Клуб, так дорого доставшийся им. Но он бросился спасать электрическую станцию, и там роют рвы. Узбеки на стороне Вавилова.
Измаил сказал:
— Да, потому что Мустафа мой умер.
Актер продолжал:
— Я страшно огорчен: роли уже стал распределять не я, а комиссия, а между тем московский инструктор тайком приглашает меня в Москву и Дону обещают принять на фабрику, дать ему работу; лишь бы он играл в их кружке и составлял бы славу Траму.
Измаил сказал:
— Да, потому что Мустафа мой умер — и необходимо найти его труп. Актер ответил:
— Идет наводнение, не время ли нам удрать? Мы найдем труп вашего сына. На сторону Вавилова перешли очень многие, и нам его не победить, а выдвижение его опасно, так как французы подкупают всех видных людей, вот отчего, отчасти я боюсь и ехать в Москву.
Он тронул Измаила. Тот смотрел на него.
— Ты можешь меня трогать и бить, совершенно безнаказанно. Я прозевал свое время. Я распугал людей, которые могли бы быть полезными моему Мустафе и которые могли бы сосватать ему девушку из Кремля. Я думал выбить из людей преданность своей саблей — и сабля моя досталась дракону, который находится на дне реки. Я должен просить прощения, а не только лодки у Вавилова, и у всех людей. Конечно, я должен покинуть Мануфактуры — и с радостью поеду с тобой, тем более, что ты едешь в Туркестан, но я не могу быть твоим покровителем — и напрасно ты жаловался мне, я уже бессилен и слаб.
Актер смотрел на него с сожалением. Измаил его обнял:
— Я у первого тебя прошу прощения. Конь мой умер — и умирает рядом с ним моя землячка, которую, несмотря на мою революционность, я не любил за то, что она не сняла паранджу.
Они расцеловались — и актер повел Измаила в штаб защиты Мануфактур.
— Пугают, в гражданскую войну… Нет-с, кончено. Ошибаетесь!
Глава девяносто седьмая
Отец Гурий согласился идти разговаривать с Вавиловым, он узнал главное, что Е. Чаев, оказывается, хотя и украл деньги, но с Вавиловым не говорил и это несколько можно упорядочить. К Гурию съезд относился с доверием, и он немедленно вызвал и послал разведчиков в Мануфактуры, которые сообщили, что там в связи с пасхальной ночью думают организовать карнавал и готовят лодки для того, чтобы открыть в этот день спортивные состязания, — и там много разговоров об этих спортивных состязаниях. О. Гурий молился, и, хотя И. Лопта плохо себя чувствовал и к нему пришли его друзья прощаться, он не пошел к отцу, а занимался декорированием церкви, и уполномоченный митрополита ждал от него ответа. И. Лопта его ждал и все посылал людей, которые пригласили бы к нему сына проститься, а сын, занятый работами по храму, не шел. Мануфактуристы готовили лодки, был слух — вода прибывала.
Дул с гор ветер. Агафья часто выходила на верх кремлевской стены, но никаких перьев не было, изредка проплывали льдинки, горы были в тумане — и Агафья чувствовала себя одинокой. Так, грустно спускаясь со стены, она увидела о. Гурия — и подводы; сюда въезжал весь церковный совет; расставляли конторки и столы. Она опять вернулась на стену, ей отсюда уже спускаться некуда. Старуха, жена И. Лопты, вошла на крыльцо — держа в руке ключи, — и все наряды, какие Агафья завоевала, остались в сундуке у И. Лопты, опять вернулись к его бороденке, напоминающей серп. Она была одинока. Ею впервые овладело чувство горечи и страха — все ушли, оглянулась она, остались только враги и Мануфактуры. Они сияли огнями, они, несмотря на пасхальную ночь, работали. Да, ее друзей сгубила ее красота. Она ненавидела себя. Она начала спускаться, быстро темнело. Она увидела у лестницы старика Л. Селестенникова. Он шатался, правда, но, видимо, пришел сам. Он сказал:
— Я, как ты сказала, выздоровел. Я велел настелить лодку, и мы с тобой можем уплыть, потому что через мост железный хлынула вода.
Она увидела фонари и скрип железа. Кремль, таким образом, отделился от Мануфактур. Он приобрел облик многих столетий. Профессор Черепахин должен бы быть довольным, он, великий археолог, спал, и ему грезилось, как он завтра поведет экскурсию рабочих, и на столе перед его кроватью лежал план, накиданный его рукой. Он бы мог увидеть рвы, наполненные, медленно заполняемые поднимающейся водой.
И. Лопта, наконец-то, встретился с сыном. Он заговорил и благословил сына на епископство — и тот это епископство принял. Лопта велел поднять себя на носилках, эту странную процессию и увидела Агафья, когда свернула в переулок. И. Лопта видел, что сын въезжает в свой дом без достаточной пышности. Священник Богоявленский попросил ответа, так как хотел попасть на поезд, но о. Гурий сказал уклончиво:
— Куда же вам спешить?
Он смотрел на успокоившееся наконец лицо своего отца, тот, увидев, что сын стоит на правильном пути, подозвал его и приказал прах Афанаса-Царевича перенести вниз, к могилам епископов. Отец Гурий поцеловал его руку и сказал:
— Хорошо, перенесем.
Но он присел.
Когда вода начала прибывать еще больше и кремлевцы пошли в церковь, Лопта велел вынести себя в притвор. Он мучился и не хотел умирать, чувствуя себя великим грешником, его вели под руки, он стоял и слушал, как велеречивый священник Богоявленский распинался о милосердии. Все себя чувствовали тревожно.
В церковь собрались все. Внизу пароход вдруг украсился огнями и на мачте, капитан Железная Нога начал давать свистки, и шел слух, что пароход попытался было идти, но, конечно, не пошел, потому что через каждые пять минут слышалось шипение пара и свистки, а затем по деревянным тротуарам загремела железная нога капитана Б. Тизенгаузена. Он шел к вику. Затем все внимание перекинулось на Мануфактуры, и все не заметили даже, как Даша уже шла с узелком, счастливая, к пароходу «Полярная звезда». Все жители Кремля столпились внизу у пристани.
В соборе готовились к заутрене, но колокол знаменитый еще не гремел. И вдруг — огни во всех корпусах Мануфактур начали тухнуть. Тополя вдоль шоссе, залитые водой, со свистом колебались от сильного ветра, который шел с гор.
— Наводнение! Наводнение! — послышались тревожные голоса, и, как всегда бывает, никто не радовался тому, что Мануфактуры темнеют.
Корпуса медленно начинали сливаться с горой и, наконец, совсем погасли. О. Гурий чувствовал, что сейчас-то он может сделать великолепный жест и сейчас-то он покажет свое место. Ударил полночный колокол. Народ хлынул к церкви. Во время богослужения о. Гурий поминутно выходил на паперть. Его удивляло и даже слегка радовало, что Агафья не пришла на служение. Пыхтел под горой пароход, и кто-то рассказывал курящим у тополей:
— Капитан Железная Нога так начал свою карьеру. Он плыл по озеру на пароходе и стоял позади капитана, передразнивая все его движения. Капитан ему говорит: «Вы моряк?» Тот, любитель похвастать, говорит: «Да». Капитан говорит: «У меня вышел табак в трубке, не поправите ли минутку, а я схожу». Тот взял руль, капитан ищет табак, вдруг толчок — и он видит в окно листья дерева. Раздается стук, и появляется смущенная морда Б. Тизенгаузена: «Капитан, озеро кончилось, пароход начал подниматься в гору».
Б. Тизенгаузен оглянулся и свирепо сплюнул. Ребята захохотали. О. Гурий решил: как никогда, можно совершить великое дело. Б. Тизенгаузен сказал:
— Мануфактуры затоплены, а мне не дают людей и механиков. Мы спешно вооружаемся.
О. Гурий сказал священнику Богоявленскому свою мысль, — и тот воодушевился — и сказал ему:
— Скажите — согласен. Именно теперь церкви необходимы не администраторы, а, как вы, апостолы.
О. Гурий легонько пожал ему руку, и священник Богоявленский стал настаивать, чтобы тот выступил сам с предварительной речью и этим, так сказать, начал свое служение. О. Гурий вышел на амвон. Все удивились, он сказал:
— Православные, перед богослужением [святой] Пасхи, которое будет продолжаться, как обычно, я призываю вас забыть все обиды, которые причинили вам враги церкви — безбожники из Мануфактур. Мы покажем им пример христианского смирения — и мы поплывем спасать несчастных, залитых водой, жителей Мануфактур.
Заутреня оканчивалась. Толпа расступилась, и он прошел на паперть. За ним хлынул народ. Он садился в лодку, а в другую лодку садился преисполненный яростью его отец И. Лопта. Был легкий, еле видимый, туман, начало светать — и заскрипели уключины. Флотилия лодок во главе с лодкой о. Гурия отплыла. Тихий говор.
Глава девяносто восьмая
Вавилов и Т. Селестенников осматривали здания, которые могли бы пострадать от наводнения. Они прошли через электрическую станцию. Вавилов понял, что его раньше пугал шум машин, а теперь, когда он знал, что им грозит гибель, — это пугало его. Русская беспечность путалась у людей с огромным беспокойством. Трифон Селестенников и другие очень боялись за машины, а теперь, когда они увидели в Вавилове такого же друга, как они, машин, Вавилов видит, что Т. Селестенников — отличный человек. Т. Селестенников обнял его за талию и сказал то, что раньше думали многие, — все несчастья произошли от его прихода — «сними скудость с людей», — его бросили в огонь и затем в воду, а он только закалился, как клинок. Измаил так говорил ему. Они стояли и смотрели, не бежит ли Пицкус, который должен был вернуться, пока на вершинах светило солнце. Пицкус вернулся, он запыхался, он бежал теми дорогами, которые невозможны. Он бежал — и ему казалось, что чащи дороги открывались-расступались перед ним. Он узнал, что вода поднимается; крестьяне сообщают. Пронесся ураган в горах, повалило телеграфные столбы. Он бежал — и действительно добежал и возвратился, пока еще не закатилось солнце. Началось экстренное собрание. Е. Чаев пришел, преисполненный ранимостью, он хочет уже приступить к разборке церквей. Зинаида дала ему ключи, архитектор Колпинский выразил желание руководить и показать. Они пошли. Все торжественно встречали Пицкуса, он действительно показал класс. Он — великий бегун. Подошел Лясных; они все встречали Пицкуса; уже свежело.
Вавилов плохо понимал то, что ему говорили. Он был потрясен своим посещением электростанции. Он уже не боялся машин. Он многого теперь не боялся, черт возьми. Он выздоровел. Он пожал руку Т. Селестенникову, тот подумал, что он благодарит его за то, что он понимает его, он крепко ответил ему на пожатие.
Измаил просил лодку. Все всполошились. Особенно узбеки. Взяли багры. Пицкус сказал: то, что Вавилов предполагал, так и вышло — делянка пяти братьев уничтожена. Он только подталкивает природу, он только помогает ей. «Пять-петров» ссорятся и кричат друг на друга. Да, свершилось. Вавилов победитель. Лясных сказал просто и ясно, что во имя дружбы он видит, что Вавилов любит Овечкину — и он ее уступает, но она сказала, что не любит Лясных — и хорошо. Он доволен. Вавилов смотрел на нее — и она на него; как это могло случиться, что они на этом местном вопросе, на споре об этом затопленном рве, который нашел находчивый Лясных, сошлись. Они спорили, и вода в это время поднималась. Она понимала, что никто так ясно не мог понимать местные нужды; Вавилов полюбил это угрюмое место — и за это она смогла полюбить Вавилова.
Измаил уже отплыл, когда они с Лясных и Т. Селестенниковым пошли к лодке для того, чтобы измерить фарватер. Готовится огромная флотилия, надо объехать затопленные улицы, Вавилов призывал — и отправлялись огромные лодки. Люди стояли с вещами на возвышенном берегу. Их привозили на лодках. Кремль весь горел в огнях. Они смеются над нами, когда мы тонем, они хотят молиться.
Вавилов разговаривал с членами комиссии и Т. Селестенниковым, который говорил, что возможно пустить пароход, но многие члены комиссии не видели этой возможности; пароход давно надо разобрать, он взорвется. Победили те, которые утверждали, что можно попробовать, ибо на лодках неосмысленно. Вавилов и Лясных поехали искать фарватер. Вода прибывала. Она была страшна. Прошел слух, что кремлевцы подкупили капитана парохода и что он отказывается перевозить. Шум был сильный, возбуждение росло. Все уже забыли Измаила. Люди решили переезжать в Кремль, потому что вода поднималась до дамбы. Лодки подплыли. Б. Тизенгаузен встретил их, перевесившись через перила. Он торжественно гремел. Да, наконец-то нашли возможным призвать его. Конечно, он спасет. Он поутру поедет, если ему показать фарватер. Лясных вызвался его провести. Он будет ему весьма признателен. Он настолько уверен в своем пароходе, что повезет и свою жену. Он пошел, ковыляя, в гору. Вавилов призвал П. Голохвостова — и тот поспешно кинулся освобождать помещения. Он освободил быстро. Он расселит всюду. Но поднимался ветер. Раздался стук байдарки, зычный голос — и Пицкус сказал, что он не мог лежать, ибо его ухо услышало подозрительную тишину. Власть не бездействует, но хорошо, если и общество позаботится о своих друзьях. Люди, услышав ветер, который еще больше нагонит воды, не поверили в достоверность своих ног — решили переправиться. Вавилов должен их усмирить. Вавилов поехал. Здесь он оставил Лясных, который должен был въехать только при появившейся светлине. Но опускался туман. Пицкус сидел и улавливал звуки. Он услышал лодку. Он услышал разговор Л. Селестенникова, он услышал запах тела Агафьи — и сказал:
— Баба гребет.
Овечкина решила действовать быстро. Ложечников помог ей хорошим советом. Вавилов удивился, что он так быстро сказал: «Обожаю». Они оба рассмеялись. Он чувствовал себя очень утомленным. Она его проводила с тревогой. Они утешали рабочих. Ложечников тоже был затоплен, а Гусь-Богатырь отказался выехать из дома. «Да и какая лодка может меня выдержать», — сказал он.
Исправдом окружила вода — и С. П. Мезенцев во имя старой дружбы прислал Вавилову заявление спасти их, — хотя бы в последнюю очередь. Пять братьев раскололись — и двое из них, тот, что был в Германии и которому не хотелось помирать, и Осип, полюбивший свою отвагу, — тоже пришли просить помощи. Ложечников говорил лениво:
— Сейчас Вавилов придет, — и он сказал лодкам: — Заблудитесь, благодарите бога, что вас вывозит Вавилов.
Они ответили, что поедут на колокол. Но они, точно, заблудились, и, когда спросили у кремлян, шедших навстречу им в лодках, дорогу в Кремль, кремляне приняли это за насмешку, огрызнулись — и началось побоище на водах.
Да, Вавилов боялся мистики и разговора с попом, с Гурием, а оказалась ерунда — он и здесь победил, он и здесь оказался правым. Конец пришел тебе, епископ Гурий, рано или поздно.
Глава девяносто девятая
В лодке отец Гурий слышал разговор, что нигде по Кремлю не могли найти лодки Л. Селестенникова, который, говорят, при смерти, и что пропала Агафья, которая, возможно, уплыла на лодке Л. Селестенникова. Говорили о ней с сожалением, а некоторые злорадствовали, но так как плыли одни мужчины, то отзывались о ней хорошо. Она прокляла Е. Чаева. Туман поднимался выше лодок, отец Гурий велел перекликаться. Ветер утих. Туман густел. Скрипели уключины. Сырость. Отец Гурий увидел огонь.
— Это фонарь на шоссе, которое идет от реки к Мануфактурам и к станции, нам нужно плыть направо, среди кустарников, — раздались голоса.
Епископ Гурий так и велел плыть, но самого его манил этот фонарь и он попросил дьякона Евангела грести дальше. Они налегли и уткнулись в песок. И одновременно с ними воткнулась другая лодка, и на ней о. Гурий увидел Т. Селестенникова и Вавилова. Вот где представился случай поговорить! Они пригляделись. Трифон воскликнул:
— Батя!
И то, что они увидели у фонаря — и очаровало и огорчило их. Спиной к фонарю стоял, держась за дерево, Л. Селестенников, без пальто. А на его пальто стояла, раздеваясь, Агафья. Он воскликнул:
— Все, все снимай, вплоть до рубахи!
Она вяло улыбнулась и потянула вверх рубаху. Всех ожгло это великолепное, нежное тело. Лука Селестенников подбежал и схватил ее за груди (…) Она стояла гордая, с неподвижным и гордым лицом. Она дозволяла себя трогать, как он хотел. Затем он сказал:
— Одевайся, простудишься!
Она быстро оделась. Он раскидал прежнюю ее одежду по лодке и, оборачиваясь к Кремлю, воскликнул:
— Да, православные, Агафья померла!
Они поднялись в туман и пошли к станции. Едва они отошли, как от кустарников раздались крики, всплески весел в тумане и вопли. Вавилов сказал:
— Видите ли, отец Гурий, ваша агитационная ставка на милосердие — бита. Мещане и рабочие дерутся.
Отец Гурий сказал:
— Не мне вас просить о милосердии, хотя я и надеялся, что мы поймем друг друга. У меня к вам одна просьба — это ушла Агафья, женщина, которая много страдала от гордости и наказана за свою гордость жестоко. У людей есть мечта, что она утопилась, ей хочется оставить по себе хорошую память, она хотела бы остаться в глазах потомства хорошим человеком, не более, но она не может утопиться, потому что слишком тело ее хочет жить, она утопится позже. Люди поверят.
Вавилов усадил Трифона и сказал, отталкивая лодку:
— Мы не поверим.
Он поплыл. Он рассмеялся. Он глухо отказался разговаривать.
Отец Гурий перекрестился, у него стало железное лицо, и по одному его лицу дьякон понял, как надо грести. Он повернул. Едва их лодка слабо вырисовалась из тумана и пошла среди сцепившихся лодок, как лодки мануфактуристов начали отходить смущенно, и отец Гурий понял, что отходят оттого, что его лодка была принята за лодку Вавилова, и что это есть та великая победа над людьми, которой добивался Вавилов, и — что демонстрация этой победы выпала на долю отца Гурия. Лодки начали раскрываться, но начались вздохи, в суматохе исчез И. Лопта. Отец Гурий понимал, что тот страшный грех, который он отказался передать сыну, он искупил тем, что бросился в реку и утопился. Отцу Гурию было страшно тяжело, но он пересилил себя. И кто-то из истеричных людей сказал, что он слышал голос И. Лопты, который молчал — и вдруг превратился в великого проповедника: — «и встал и говорил нам, в то время как мы дрались — и мы остановили свои весла, которыми хотели бить мануфактуристов, и кровопролитие, готовое сорваться, остановилось!».
Лодки расстались. Они медленно возвращались в туман. Отец Гурий вышел отягощенный. Толпа возбужденно кричала:
— Разве так встречают милосердие!
Они негодовали. Они готовы были всех перебить. Подошел священник Богоявленский. Отец Гурий тихо сказал:
— Будем спать, православные.
И все мирно пошли по своим домам.
Священник Богоявленский выразил сожаление о потере И. Лопты и тут же передал, что И. Лопту одна женщина встретила в образе счастливого мужа, который гулял, довольный, по кремлевской стене и как бы выпивши был от радости. Предел идеализации — добавил он. Девушка, шедшая от обедни, видела его в виде отрока; отрок с ней говорил и звал ее качаться на качелях, и, когда она его спросила, где он живет и как его зовут, — он назвался И. Лоптой и указал свой дом. Двое этих свидетелей стояли рядом со свящ[енником] Богоявленским и радостно и сумасшедше кивали головой. О. Гурий сказал:
— Я согласен, — и священник Богоявленский перекрестился, — будем считать, что в Кремле есть свой епископ, готовый принять паству.
О. Гурий жестко улыбнулся:
— И мученический венец?
Священник Богоявленский почтительно замахал на него руками и отошел. Гурий бродил всю ночь по Кремлю. Исчез туман. Он увидел огромное пространство, ему показалось, что идут к пристани четверо: он узнал цветные халаты узбеков, Е. Дону и актера. Любовь к театру объединила этих людей — и актер повез Е. Дону учиться, а Измаил похоронил Мустафу. Так [Гурию] рассказал один из плотовщиков, все-таки отказавшийся от дела и перешедший к нему. Он благословил его — и отправил в свой дом.
Мимо с кирками, пилами поднимались плотники, каменщики — и среди них о. Гурий увидел многих плотовщиков. Все они с хохотом вспоминали Агафью — и о. Гурий, сидя на лавочке, едва ли скрытый акацией, слушал их насмешки и понял, что Вавилов уже достаточно, что называется, использовал момент. Но он был уверен в себе — и горд.
Е. Чаев остановился на площадке вместе с архитектором, и они распределяли группы рабочих и десятников — какие начать ломать церкви.
— У нас сегодня задача агитационная, исключительно агитационная, — говорил Е. Чаев. — Мы хотим показать, что будут не насмешки, мы к предметам культа отнесемся вежливо, — мы и напишем, и на словах, я буду говорить, как бывший церковник, что из церквей нам нужен Кирилл. Только Кирилл.
Архитектор соглашался с ним. Он говорил с веселым энтузиазмом, и о. Гурий думал, что самое гнусное — это российские энтузиасты — строители из интеллигентов. Таланту ни на грош… Еварест подошел ближе. О. Гурий не шелохнулся и упал на колени.
— Господи, — сказал он вслух, — позволь нам молиться за врагов наших.
И он почувствовал себя счастливым. Но и Еварест Чаев чувствовал себя счастливым.
Глава сотая
Глава эта первая и последняя
Они долго и с большим трепетом ожидали, когда же даст гудок пароход. Вавилов убеждал народ не волноваться. Наконец, властный и влажный гудок. Вавилов вообразил, с каким лицом Тизенгаузен держит гудок. Он гудел упрямо. Вавилов почувствовал, что смеется. Овечкина держала его за руку. Он руководил погрузкой. Был еще туман, розовый. [Люди] тащили скарб. Человек пришел с клеткой обезьян. Б. Тизенгаузен стоял гордо. Рядом с ним красовалась его будущая жена, Даша. Т. Селестенников повел Вавилова к машинам. Они спустились. Он смотрел на машины. Они были тщательно начищены. Т. Селестенников сказал:
— Пошли. И с ними происходят часто чудеса, они как люди.
— Именно, — повторил Вавилов.
Рука нашла его руку. Он пожал ее. Да, он любит Л. Овечкину. Раздался смех, а затем гудок. Он обернулся. Это была Зинаида. Она что-то сказала. Машины сытно чмокнули, взметнулся поршень, они вышли. Овечкина, положив голову на колени Ложечникову, дремала. Он закурил, хитро взглянул на них — и отвернулся.
Пароход отчаливал медленно, но гордо. Пустили баржу. Берег был пустынен. Остатки скарба валялись кое-где. Зинаида сказала:
— Если окажется возможным, вселим в Кремль эту бедноту. Перевозить их на смены сможет этот же пароход. Я говорила с Б. Тизенгаузеном, он сказал, что сейчас он объедет железный мост, его можно не разбирать, что раньше служило препятствием, фарватер прочистим — и пошло. Баржу-пристань так и упрем, дадим за нее вексель горсовета. Никто не посмеет нам помешать.
Пицкус сидел на ветках. Вавилов удивился.
— Ты велел мне прийти — и принести семь веток, которые ты велел срубить. Я подумал, для растопки.
Они были голые, омерзительные.
— Брось, если тебе не трудно.
— Мне не поднять. Колесников!
Колесников подошел и сбросил. Он стоял грустный и огромный. Зинаида сказала:
— Конечно, я пришла не затем, чтобы говорить тебе, Вавилов, свои проекты, я думаю, ты их сам лучше меня можешь придумать. Я не могу быть твоей женой, я боролась долго, даже пробовала Колпинского выбрать. Давай относиться дружески.
Они зашли за навес.
— Вот попробуй обнять меня.
Она его обняла, поцеловала.
— Видишь, ничего не выходит, время пропустили, а получилось, что хорошо и сделали, что пропустили.
Она пожала ему руку.
— Да, друзьями. То, что ты сделал над собой, надо мной, то, что ты укрепил веру, — я думаю, — успех случайный, не будем очень гордиться.
Вавилов ответил:
— Я и не горжусь, Зинаида.
— Да, я и вижу. Дикая боль предстоит нам, дикое сопротивление Кремля предстоит нам. Ты прав был, когда хотел его разобрать, да и я права была не меньше, когда сопротивлялась. Я рада за тебя и Овечкину вот это подруга — верит, как черт.
— Мы с тобой еще поработаем. Может быть, я еще и Колесникова обратно возьму, если догонит меня в развитии.
Ей было тяжело, но вместе с тем и приятно говорить, она действительно поверила в Вавилова — да и то, что Ложечников отдает свою племянницу, тоже убедило ее. Но ей было грустно. Она чувствовала, что приобрела много друзей вместе с Вавиловым.
— Ну и без любви проживем! — сказала она, посмотрела на Колесникова, который не смел к ней подойти, и отвернулась.
Она видела, как ткачи смотрели на Вавилова влюбленными глазами «Да, этот парень далеко пойдет», — говорили их взгляды. Вот как смотрит этот… а этот… (шел парад ткачей). Она вспомнила, как смотрели на него узбеки — и с восхищением и с любовью. Все говорят наперерыв, кто первый узнал Вавилова, все, оказывается, увидели первые в нем силу. И ткачихи довольны, что они помирились с ним. Подошли ткачихи. Одобрили «Рассудительный, вежливый человек, если я несознательная, он все мне объяснит». Вавилов подошел к Ложечникову; тот ухмыльнулся:
— Договорились? Пора.
Он повел плечами:
— Сыро слегка. Ты ее возьми на колени, устала. Мне покурить.
Он спустил ее голову — она только губками повела, он положил ее голову на колени Вавилову. Она была легкая и теплая, волосы слегка влажные. Виден был из тумана Кремль. Звонарь, увидев подходившим пароход, с испуга перестал звонить. Вавилов разглядел людей с ключами, Чаева со своими лодками, еще раньше переплывшего. Он стоит — и словно держит ключи от ворот. Он побежден. Профессор З. Ф. Черепахин идет сонный, разбуженный тем, что не звонят. Он идет, сонно зевает и почесывает живот. Да, ему несут дары. Надо встречать.
Священники вышли на паперть. Там прихожане. Они принесли невидимые дары; их надо только выбрать. Они молча смотрят на победители Он увидел панораму такой, какой он ее представлял в детстве, значит, все дело в том, что надо иметь добрый взгляд на мир, вот и получишь ту картину, которую видел в детстве. Радость владела всем его сердцем Он устал, но он и сделал многое. Он указал и еще укажет людям путь. Он горд и силен. Впереди победы и поражения, но тот путь, который он проделал — им можно гордиться. Пароход колебался. Капитан Б. Тизенгаузен подошел — и пароход дико загудел. Все вздрогнули. Вздрогнула и проснулась Овечкина, она открыла мокрые глаза на Вавилова и сонно спросила:
— Кремль?..
У
«…через Я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; через О, У, Ы — страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль».
(Михайло Ломоносов. «Риторика». § 172, СПб. 1748 г.)«… У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать «не хочу» и так продолжал кричать на букву «у».
(Л. Толстой. «Смерть Ивана Ильича»)«…х, у… — знаки индивидуума».
(П. А. Флоренский. «Столп и утверждение истины», глава «Простейшие формулы логистики». ПГЛ. 1914 г.)Некоторые подумают, — увидев в начале книги комментарии, — что мы поступили подобно Ю. Цезарю, который, будучи неглупым человеком, ограничился «Commentarii de Bello Gallico», но затем, дескать, мы, опомнившиись, учтя подлинные свои силы, решили приписать к комментариям роман; некоторые же — романов современных не дочитывают или совсем не читают. Утверждаем: как те, так и другие соображения глубоко ложны. Несомненно, имелись у сочинителя кое-какие честолюбивые мысли вроде того: почему, если все его соратники комментируются, примечайничают, ссылайничают, цитатничают, великанствуют и кажется им, что слава их гремит от океана к океану, он… он свирепо уничтожил эти мысли при самом их зарождении!
Соображение, что пухлые и вязкие книги моих современников не дочитывают, ложно уже потому, что прилагаемая книга будет не менее пухлой, излишне касаться и вязкости, — это определение страдает явной расплывчатостью, требуя уточнения, толковать данный термин мы будем при другом, более удобном случае; сейчас же, воздвигая комментарии, мы хотим сказать: роман — романом, черт его знает, удачный ли он, интересный ли, грустный ли, веселый ли или просто чепуха на постном масле, и комментарии — верное дело: мысли в них чужие, а значит, и полезные. Можно их без вреда сообщить всем своим знакомым; касаясь остального печатного места, идущего за комментариями, очень возможно, что вы с ним целиком и не ознакомитесь: книга толстая, а несчастий еще больше, и несчастий самых удивительных: так ли давно читали мы в «Вечерней Москве», что грузовик, проломив кирпичную стену дома, скатился на жилплощадь человека, совершенно чуждого шоферу. Представьте, что человек этот читал наше сочинение! А стрелочники?.. Извините нас, милые стрелочники, но почему вы так любите выпивку? А консервы, исполняющие совершенно не свойственные им обязанности? Или просто-напросто книгу стащат, если, скажем, человек, страдающий бессонницей, увидит, что вы заснули над сочинением, и, наконец, разве мало было случаев, когда роман, сегодня совсем идеологически выдержанный, на другой день претерпевал крушение, и стрелочник, не дочитав, отбрасывал его в страшном негодовании, напивался, — и в поезде иная книга иным читателем отбрасывалась в страшном негодовании, правда, по иной, чем у стрелочника, причине.
Исходя из вышеизложенного, мы и нашли распронаилучшим поместить в начале нашего труда примечания, ибо, будучи до ломоты в мозгу продолжателями славных литературных традиций, мы решительно встали на точку зрения редакторов, для которых более важны комментарии, чем текст. Кроме того, неизвестно — будет ли окончена эта книга, и тогда, что же, жить ей без комментариев? Боже упаси! Честолюбие — огонь эпохи, если не жизни вообще.
Итак, комментарии:
К стр. 2-й, строка 4 ½. — Цитируется из книги Хуан Бо-ду «Сборник мнений для уяснения истины»: «Когда однажды приказали ему вымыть ночной горшок, то он мыл его, вывернув наизнанку, и, вымыв, снова вывернул его налицо; при этом горшок был мягок, как баранья или свиная селезенка» (стр. 219, Пекин, 1885 г.).
К стр. 7-й, 16 строка сверху. — Л. И. Черпанов переиначивает слова А. Ф. Вельтмана из романа «Счастье — несчастье» (М., 1863, гл. VI, ч. 1): «Науки мудрости человеческой до сих пор не определили: что такое счастье? Трудно и определить. Счастье есть что-то такое ВОВРЕМЯ и КСТАТИ, с присовокуплением еще чего-то».
К стр. 35-й, второй абзац. — Составитель, в перевранном виде, приводит слова Стерна из «Сентиментального путешествия», ч. 1, глава «Способ примечать» (М., 1806): «Я не знаю, послужит ли мой труд чему-нибудь доброму? Может быть, другому удастся лучше. Какая нужда! Я делаю только один опыт о свойстве человека. Потеря не важная: одни труды, зато — я нахожу УДОВОЛЬСТВИЕ в испытании». С этим никак согласиться нельзя. Ясно для каждого, что автор, как и большинство писателей, страдает преувеличением своих достоинств.
К стр. 77-й, левый абзац. — Здесь с чрезвычайной яркостью видно бергсонианство Л. И. Черпанова. Сравните сказанное им со следующими словами А. Бергсона из «Творческой эволюции» (М., 1909, пер. М. Булгакова, стр. 217): «Роль случайностей вообще очень велика в развитии жизни. Чаще всего случайными являются формы приспособления или, вернее, изобретения. Случайной и относительной к препятствиям, встретившимся в определенном месте и в определенный момент, является первоначальная тенденция, раздробленная на определенные и дополняющие друг друга тенденции, создающие расходящиеся линии развития. Случайные остановки и обратные движения в широкой мере являются случайными приспособлениями. Только две вещи необходимы: во-первых, непрерывное накопление энергии, во-вторых, эластичная реализация этой энергии., в различных, не поддающихся определению, направлениях, в конце которых находятся свободные действия». Как жаль, что Егор Егорыч отделывается зубоскальством!
К стр. 90. — Дядя Савелий ссылается на Б. Спинозу: «Политический трактат» (М., 1901, гл. VII, 5): «Кроме того, несомненно, что каждый предпочитает управлять, нежели быть управляемым». «Ибо никто не уступает добровольно власти другому», — как говорит Саллюстий в своей первой речи к Цезарю».
К стр 102. — Л. И. Черпанов, касаясь своей деятельности, приводит басенку стихотворца XVIII в. Марина:
Вверху, на дереве высоком, Увидев червяка, орел Спросил с надменным, гордым оком: «Ты, дерзкий, как сюда зашел?» — Вы, как орел, сударь, взлетели, А я… дополз до той же цели!К стр. 120-й. — Д-р М. И. Андрейшин, говоря о таинственности, хочет сказать:
Forma ideel purisséma Della bolessa eterna.(Arigo Boito Mefistofele, 47)
Дальше — цитата из «Логики» Гегеля (М., 1928, т. 1, § 80): «Образованный человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой определенности; необразованный же, напротив, неуверенно шатается туда и сюда, и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с таким человеком — о чем же идет речь, и заставить его неизменно держаться именно этого определенного пункта». Др-р, видимо, желает сказать, что его поступки ведут к закреплению той «определенности», которую он вызвал у обитателей дома № 42.
К стр 15-й. — Из «Пролога» аристофановских «Всадников»:
Демосфен: Ах, нет, не надо брюквы еврипидовской. Как нам уйти, придумай, от хозяина. Никий: Так говори: «дерем» — слоги подряд связав. Демосфен: Ну вот, сказал: «дерем». Никий: Теперь прибавь еще «У» перед «де» и «рем»! Демосфен: «У». Никий: Так, ори теперь «Дерем», а после «у» — скороговоркою. Демосфен: Де-рем, у-де-рем, у-де-рем! Никий: Ага, ну, что?К стр. 48-й. — Вспомните книгу Ф. Аттара «Бульбуль-нимэ» (с. 24).
Ответ соловья попугаю:
Попугаю он сказал: «О птица, пожирающая сахар, ты никогда не болела сердцем, как я. Ты торгуешь красноречием, лишенным остроты, а ведь сначала нужна острота, а потом уже красноречие. Если бы ты не болтал так глупо, ты не стал бы никогда пленником клетки. Если ты изучишь науки всего мира, но не узнаешь любви, ты не узнаешь ничего!»
К стр. 160 и далее. — Для сопоставления слов Черпанова и Ларвина уместно было б привести слова известного противника социализма д-ра А. Э. Ф. Шефле из книги его «Капитализм и социализм» (М., 1871, стр. 242): «Коммунизм ведет к уничтожению СЕМЕЙНОГО элемента и ВСЯКОЙ собственности; обвинение это всего чаще повторяется, но и оно несправедливо. Коммунизм не требует уничтожения «всякой» собственности; он восстает только против «частной собственности», вместо которой хочет упрочить коллективную собственность рода или общины. Коммунизм отнюдь не требует также совершенного уничтожения общепринятых брачных отношений; напротив, он стремится освободить эти отношения от развращающего их в настоящее время элемента, когда все брачные решения определяются деньгами. Что же касается дикого полового общения, то коммунисты желают и могли бы обуздать его. Во всяком случае богатому современному миру либералов, где распутство возрастает в омерзительной пропорции, где скандальные хроники достигают колоссальных размеров, где нарушение супружеской верности становится обыденным явлением, этому миру не приходится делать никаких упреком коммунистам». Не забудьте, что это написано более 60 лет назад яростным врагом коммунизма!
К стр. 171, средина. — «У» — так называется одна небольшая сибирская река, текущая с востока на запад, верст с 200, и впадающая в реку Иртыш с правой стороны. Верховье ее в Томской губернии в Нарымском уезде, а исток в Тарском уезде Тобольской губернии (Словарь географический Российского государства. М., 1808, ч. 6).
По наведенным справкам (Геогр. стат. Словарь Российской Империи. Спб., 1863; Атлас Азиатской России. Спб., 1914; Большой Атлас Маркса, 1905 и т. д.) таковой реки нами не обнаружено. Одно из двух — или врет Л. И. Черпанов, или по каким-то причинам с 1808 по 1828 река У была законсервирована.
К стр. 200-й. — Д-р М. И. Андрейшин упоминает труды: E. Aster. «Grosse Deuker»; O. Binke. «Psychologiche Vorlesunger» (1919), «Alverdes Tiersoziologie» (1929); Birn Kann. «Kriminalpsychologie» (1921), а также труды Фрейда, Кречмара, Ганнушкина П. Б. «Психиатрия» (1924), Корсакова, Осипова В. П., Павлова И. П., Бехтерева Б. М., Э. Крепелин, Н. Баженова, В. И. Яковенко, в общей сложности 1700 трудов.
К стр. 250-й. — «Гр. Нулин» отдельным изданием выпущен в 1827 г., а сам автор скончался в 1837.
Великая империалистическая война началась в 1914 г.
«So-so» — нем.: кое-как, так себе.
«Пустыня» — необитаемое место.
«Рефрактор» — астрономическая зрительная труба.
«Сурочина» — мясо сурка.
«Тюря» — месиво.
«Минеральные Воды» — город.
Ко всем страницам и предыдущим примечаниям
И вот, наконец, с грустью мы должны сознаться, что дальше в предлагаемой книге напрасно любители точности поищут, соответственно примечаниям, подходящих текстовых установок. ИХ НЕТ! А если и найдутся похожие места, то они выросли сами собой, и с трудом вы вольете в них цитатные дрожжи. «Зачем же вы нам морочите голову! — воскликнет иной любитель точности. — Этак я обжалую, если не поступки составителя, то издательства». «Затем, — ответит автор, — чтоб ты уважал составителя, ценил его деликатное обращение с печатным словом. Есть здесь вводная статья на 700 страниц? Нету. А критико-биографическая на 970? Нету. Указатель имен на 130? Словарь древне-греческих слов, хотя и не упоминаемых, но необходимых для упоминания в 121 страницу? Статья о частном капитале в реконструктивный период 550 страниц? Положение и экономика православной церкви в связи с разрушением храма Христа Спасителя и рассказом о Жаворонкове — 70 страниц? Нет, нет и нет! Если даже и откинуть сорок одну страницу, как преувеличение составителя, то и тогда он сберег вам 2500 страничек чистоганом. Умейте писать, молодые люди!»
Сэкономив 2500 страниц, мы имеем возможность сказать откровенно, что, помимо прочего, приятно продемонстрировать свою начитанность, ибо цитаточки подлинные, незаношенные, из книг составителя, а значит, и книги тоже не цыпленок собирал; приятно будет поднести книгу, где имя наше представлено самым достойным образом, какому-нибудь высоковознесенному товарищу или нежноласкаемому существу, коим, в данном случае, мы наметили младенца нашего, родившегося в те дни, когда назревали события, описанные в «У», и когда составитель расколол очки и, грустно глядя на стекляшки, вспомнил «магический кристалл», трудноразбиваемый, потому что…
(Примечание к предыдущему примечанию: «Магический кристалл» древних суть некий отграненный камень, который употребляли близорукие. Нерон, по преданию, смотрел пожар Рима сквозь изумруд. Из детских воспоминаний — хрестоматийных.)
Продолжение «ко всем страницам и предыдущим примечаниям»
…но, прислушиваясь к удивительно выразительному реву новорожденного, составитель понял, что и в древнем Риме он едва ли обладал бы магическим кристаллом», и он склонился попросту ниже с тем, чтобы выписать из «Учебника математики»:
«…когда независимая переменная — X и функция ее — У связаны между собой уравнением, не решенным относительно У, тогда У называется неясной функцией от — X…»
Вошел профессор и, вытирая полотенцем мокрые руки, сказал:
— У, какой большеголовый! Психиатром быть. Психиатрия, дорогой мой, самая сложнейшая и темная наука. Вот куда потребуются большеголовые, да-с, милый мой сочинитель!
Составитель откинул «Учебник математики»:
— Вы находите, профессор, что женщины более пригодны для психиатрии? Пожалуй, вы правы. Их мягкость, нежность, ласковость!.. Приятно, когда она в белом развевающемся халате, похожем на утреннее облако, проходит мимо мрачных и темных душ. А сад, где больной встречает ее мягкое лицо? Цветет сирень. Желтые дорожки сада словно из того крепдешина, который она, скинув халат… А ее глаза цвета моих любимых чернил? Я уже обожаю свою дочь, профессор, хотя, черт побери…
— Он мальчик, мальчик, успокойтесь. Ему быть психиатром, он большеголовый, у!.. Тише, вы.
— Я его назову Вячеславом! В честь моего отца, которого спасали психиатры. Это было лет двадцать назад. Надеюсь, мой сын будет более удачным психиатром, чем те, которые спасали его деда. Решено, профессор. Я его называю Вячеславом. Большеголовый Вячеслав, у!.. Но пристойно ли к большой голове — Вячеслав? Не подходят сюда Лука, Пров, Сил, Савватий, Зосима, Ермил, Аким? Короче, чтоб сразу каждый мог запомнить имя большеголового психиатра. Нет. Зачем перерешать? Назовем его Вячеславом!
— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой мой. Однако вам пора продолжать вашу работу. Я помешал вам? Но рождение сына не столь даже часто, как рождение романа. Добро, если роман ваш не будет большеголовым…
— Воспринимайте детей, а не отбивайте хлеб у критиков, — сухо сказал я. — Преимущество моего сына пред моим романом состоит в том, что счастье сына я еще могу увидеть, а что такое счастье романа? Тиражи? Вербицкая читалась больше Л. Толстого, а сейчас Е. Зозуля кажется иным мудрее В. Хлебникова. Долголетие? Улови его. От Гомера уцелело только одно имя, хотя книги у многих и стоят на полках. А кто читал Данте? Прибавьте к этому еще то, профессор, что десятилетие будущего родит гениев чаще, чем столетие прошлого. Что же такое счастье моей книги, профессор?
— Смех.
— Над чем?
— Над своим несчастьем.
— А если оно выдумано?
— Так над выдуманным несчастьем только и смеются.
— Бергсонианство, профессор, бергсонианство!
— А я бы предпочел воспринимать еще одного вашего ребенка, чем роман. Пожалуй, желая снять с себя ответственность за высказывания о судьбе современного романа, вы печатно назовете мою фамилию, — так и не поняв моих возражений.
— Вы лезете в роман, профессор! А у нас и без вас что-то слишком много профессоров в романах. Кающегося дворянина заменил кающийся профессор! Вы столь же неправдоподобны, профессор, как и моя книга. Им восприняли ребенка, и счастье его вам неизвестно. Я воспринял книгу, и счастье ее мне тоже неизвестно.
— Пускай растут. Может быть, кого-нибудь да и вылечат.
— Позвольте, лечить выдумкой удается только выдуманные болезни.
— А как же быть с реальностью?
— Все реально в этом мире, дорогой мой. Выдумка, миф, роман, сказка — созданы человеком и в человеке. Материя, организованная человеком, есть время. Движение материи есть пространство. Материя и человек — вот главная сказка, от нее да не отыдеши. И смех — смех человека над побежденной материей — не есть ли главное счастье и заслуга человека, и книги, конечно. Итак…
— Профессор! Были бы младенцы, а восприемники подбегут!
Ко всем примечаниям, ссылкам и прочей ерунде (обобщение)
Савелий Львович ложился ровно в десять вечера и вставал ровно пятнадцать минут шестого. Десять минут он крестил лоб и грудь, восемнадцать минут умывался, а все остальное время до восьми часов пил чай и зашивал подтяжки. Это расписание, созданное в иное время, он не изменил и ради Октябрьской революции, разве что отнял из восемнадцати минут умыванья четыре минуты на растирание поясницы. Поясница не то чтоб болела или ныла, просто в его возрасте она давала себя чувствовать. Многие в его возрасте начинали и раньше потирать ее. В это утро, держа белесые подтяжки на мизинце левой руки, а большим и указательным — иголку с ниткой, он вступил в комнату племянниц своих, которая была одновременно и комнатой племянников его и складом дров, вступил с удивительными для него торжествующими словами:
— Наконец-то советская власть победила!
«Почему эти слова вложены в уста врага?» — может подумать некоторый легкомысленный слушатель.
Ну почему так уж — сразу-то? Савелий Львович сам себя не считал и другие не считали его врагом. Много лет назад он первый пошел на службу к советской власти. Когда разрешили НЭП, он спекулировал скромно. Когда припихнули НЭП, — он притих и поступил на службу. Когда вычистили, он не протестовал, он не имел никаких разрушительных планов, ни о чем не мечтал, даже о пышках, хотя любил пышки и сливки. Он и в друзья к большевикам не лез, хотя и обожал парады. «Просто произошел какой-то поворот истории, и я понял, что выкинут; таких людей не так чтобы много, но есть. На этом повороте я выкинут!» Впрочем, так он думал из-за того, что он забыл натянуть подтяжки. Он их теперь зашивал ежедневно. Но выходить по делам было некуда.
Вы, наверное, помните этот год: ломали храм Христа Спасителя. Это для обывателя было, пожалуй, пострашнее, чем октябрьский переворот. Тут же завершалась коллективизация, строились заводы, перли поезда с импортным оборудованием. «Лимитрофы», задыхаясь от злости, пропускали их. Москва внезапно перекрасилась, как умывается человек ради какого-то иного праздника, вредители каялись и строили удивительные самолеты, домны, — и все-таки для обывателя было самое удивительное — разрушение храма Христа Спасителя. Эту громаду! Громада символизировала бога. Золота на восемьсот тысяч рублей на куполе! Это вещь. Весь мрамором обложен, — когда вокруг Москвы нет ничего, кроме кирпичных заводов. Здесь-то обитал бог, и его прогнали, обнесли сиреневым забором, взорвали. Ходил слух, что не взорвали, а он самым благополучнейшим образом ухнул и пополз вниз. И серенькое оловянное небо по-прежнему блестело над Москвой. Этим-то мы и объясняем, что чесоточные души и клоповьи души поверили тем удивительным событиям, которые мы желаем рассказать и вам. Итак:
Семейные смотрели на него с удивлением, а Савелий Львович поднял высоко над головой палец, на котором моталась нервно подтяжка, и повторил:
— Наконец-то советская власть победила! В чем ее победа?
Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о семействе и ближайших родственниках Савелия Львовича.
Если в дальнейшем я ничего не упомяну о Савелии Львовиче и его семействе, — считайте вышесказанное за символ. В наш век точных знаний и точной чепухи это не так-то уж плохо.
Простите, можно начать по существу?
Легонько подскочив, — вернее, не подскочив, а осторожненько, но быстро, что дало впечатление скока, так пробираются скользкою жижею, каковой в данном случае было для него решение заговорить с Л. И. Черпановым, — доктор Матвей Иванович дерзко махнул рукой у лица Черпанова, словно сковыривая ему прочь усы сконсового вида; удивительного вида, если принять во внимание, что обладателю их никак не более двадцати двух лет. Вот сколехонько мне боязно думать, что я сколочу вам плохое объяснение поспешности, с которой доктор Матвей Иванович Андрейшин покатился перед Леоном Ионовичем Черпановым, покатился, выбив у меня бедром узелок из рук и смяв в пыльный комок жареную курицу. Естественно, Черпанов на попытку сблизиться с ним посредством сбивания его невероятных усов ответил кулаком, но выводить отсюда, что мы — Матвей Иваныч и я — хулиганы, смогут люди, охваченные глубокой скорбью или недугом. Началось с того, что д-р М. И. Андрейшин, он же «сковыриватель», не доходя до «сковырыша» метров двадцати, остановился в полуоборот, левой рукой двигая в направлении ко мне, давая понять, что сейчас произойдет какое-то сковырянье. На расстоянии двадцати метров трудно, — особенно идя улицей, — разглядеть кого-либо, если б это был не Черпанов. Еще у вокзала доктор Матвей Иванович, доказывая «надобность с ним свыкаться», упомянул о мягкой чванливости бесчисленных его карманов, его сконсовых усов особой маститости, его двадцати двухлетней способности истолочь, избить в комок любое препятствие, сгубить рецензией любое предприятие или мысль, — одним словом, «сковырыш» был «человек-барокко». И точно, с гигантской пышностью обработаны его губы, совмещающие древний мотив висячей арки (посредством сконсовых усов) с обычными в барокко вычурными «разрезными фронтонами», — я говорю о его синем велосипедном костюме и бесчисленности его карманов, — сопровождаемыми колоннами рук и ног, сплошь увитыми, так же как и фронтон, — подобием виноградных лоз, — масляными пятнами. Отколе-то из барокко проскальзывала на его сухое лицо богатая розовость и жажда сковырять, сплести, сделать. Такие люди с младенчества обвешиваются вещами. Вначале вы замечаете перочинный ножик, прикрепленный к поясу на чудовищной медной цепочке, затем записные книжки с ассортиментом карандашей, бумажники, пробочники, зеркальца, — и к двадцати годам он таскает всевозможной дряни вряд ли меньше четверти веса своего тела. Здесь вы найдете несколько часов, не считая тех, которые на руке, запасные стекла и части к часам, потому что такой человек считает себя способным починить любой механизм, фотоаппарат, фонарь, десяток ножей, чернильницу, складной волейбольный мяч, «вечное перо», берестовые портсигары, кожаные портсигары, резиновые. Он обрастает карманами, сумками — и как скоп всего — портфель. И как скоп портфелей — чемодан. Чемодан с необычайной быстротой подвигает его к какому-либо дивному действию, пока не превратится он в недотрогу, описывать которого вовсе не тема наших воспоминаний. Скажу короче: я уважаю таких людей, они часто сбреховаты, бестолково скоростны, но умеют они сберечь в себе что-нибудь мудреное, да и скопытить их с места трудно. Сейчас, приглядываясь к сковырышу с помощью телескопа, каким по отношению к людям был доктор Матвей Иванович, я бы сказал, что в запасе у «сковырыша» уже имелись мыслишки и делишки, но для полного поднятия его на ноги ему мешала некая провинциальность, прискорбная и страждущая, требующая проверки. Экое огорчение, провинциальность, — скажете вы. Уверяю, что это самое ёжистое для подобных людей. Дабы одолеть это горе-горькое, этот штамп отсталости, они возьмутся за невероятнейшее, за чудовищное дело. Поглядеть бы вам, как он наблюдал черный, разбиваемый купол храма Христа Спасителя и какое недовольство было на его лице. «Что бы приехать пораньше, — думал он, — не меня ли страждали здесь для разбора храма? А теперь десять лет будете разбирать и не разберете! Кому я выложу свои сомнения, перед кем облегчу себя, как мне не унизиться, не сконфузиться, не упасть в общественном сознании? Позвольте, — скороного мчался я, — но разве мала ценность поручения, данного мне, разве оно скорогибло?..»
В противовес «сковырышу», «сковырятелю» свойственен был некий «московский классицизм», поскольку сопутствует классицизм двадцатишестигодовалому. Доктору столько же нужна была бедность украшений, подчеркивающая общую величавость его масс, сколько тяжелая аркада его ног высила, как стройный портик, его туловище, где на глухом и низком барабане его плеч вздымался купол, расплывчивые формы которого оживлялись узкими полузакрытыми глазами и острогубым ртом, качество которого состояло в «умении сымать, расстегивая, путаницу и подделку». Имел ли он к этому способности, покажут мои дальнейшие строки, но возможности применить свое умение он искал усердно. Среди прочих способов разговора с незнакомыми, которых он, не без основания, сплошь принимал за оппонентов, Матвей Иванович ценил несколько: «лукавый способ», это когда он считал, что прикидывается простачком, Основной удар здесь направлялся на то, чтобы верить всему говоримому оппонентом. Обычно знакомство оканчивалось крупной ссорой. «Трескучий» — когда он сыпал цитатами. Он был великий мастер цитат, особенно в области философии и техники. Оппонент обалдевал, отдавался в полное распоряжение или сбегал. «Научный» от «трескучего» отличался только большей длиной цитат, содержа, в промежутки, меньшее количество собственных мыслей. Насколько способ этот увеличивал докторское удовольствие и веру его в слово, настолько же оппонент возвращался домой как бы одряхлевшим, как бы из изгнания. И, наконец, — «сказкообразный». Доктор презирал этот способ разговора, прибегая к нему в крайнем случае, когда объект казался ему антипатичным, малокультурным, тупым, но внимание которого необходимо было разбудить. Он шлепал оппонента по затылку, трепал по щеке, дергал за уши, орал, стучал каблуками, Аристотеля, Канта, Гегеля, Фейербаха, Руссо и прочих он откидывал, здесь он сыпал Чеховым, Мопассаном, Толстым, поэтами и анекдотистами. Отношения портились сразу, но дурные стороны характера оппонента он слагал перед собой — и тогда он произносил заключительную речь. Должен сказать, что я еще не встречал человека, которому так, как доктору, сопутствовали речи, особенно заключительные. Доктор составлял речь, когда угодно и сколько угодно. Стоило ему поднести правую ладонь на уровень уха и, двигая ею вдоль и поперек, как бы пропуская в ухо ритм, — и объяснения, почему в данном случае содержится то, заключается, находится сущность, служит или числится и что состоится, исполнится или сбудется и чем оно завершится, — двинет он на вас мощным фронтом. Не беда, если он отнимал руку от уха: почесать затылок или достать папиросу, качество речи оставалось на прежней высоте, к тому же рука быстро возвращалась в основное положение. Высказывалось много вариантов о причине брожения правой руки доктора подле его правого уха. Утверждали, что он в детстве страдал глухотой, но утверждали также, что он был влюблен, и невеста осмеяла на всю жизнь его уши, хотя, по-моему, этот вариант мало правдоподобен, так как, если и было, действительно, в докторе что-то от «московского классицизма», так его безукоризненно красивые уши, Говорили, что доктор подражает знаменитому профессору Б., фиксируя внимание слушателей на «современном», ибо профессор Б., едва лишь начинал говорить о достижениях современной науки, как немедленно подносил к левому уху правую руку. Утверждение это тоже не покрывает поступки доктора, потому что, во-первых, тот подносит правую руку к левому уху, в то время, как доктор подносит правую руку к правому же уху, какой жест, по-моему, гораздо изящнее жеста профессора Б. Хотя, как физик, он бы должен знать законы тонких движений!
Итак, «сковыриватель», приблизившись к «сковырышу» еще метра на три, положил левую руку ко мне на узелок с продовольствием, а правую поднес к уху. «Сковырыш» стоял в воротах дома № 42. В Москве много таких деревянных особняков, выстроенных давно, грубо и плоско, «под ампир», с кривыми деревянными колоннами, с узкими окнами. Ремонтировать их и невыгодно, да и невозможно; их или сносят, или они неблагополучно догнивают. Различные ступени разрушения можно было наблюдать здесь, ибо всю эту группу домов, встававшую вокруг нас, санитарные характеристики, составленные при помощи новейших статистических способов, отнесли бы к «району невропсихологической вредности», — буде удалось сюда проникнуть врачам и сестрам социальной помощи для психопатологического обследования. Попросту говоря, в таких домах доживают свой век или неудачники, или нетрудоспособные, или, особенно в последнее время, в них селятся провинциалы, приехавшие и Москву на работу, или, чаще всего, сезонные, а в данном случае, судя по намекам доктора Матвея Ивановича, жили люди «пограничных случаев милой психиатрии». «Да, — думал я, — незадача доктору Матвею Ивановичу Андрейшину влюбиться в девушку, обитавшую в таком доме. Впрочем, что ж, оно даже любопытно — попрощаться с девушкой, поболтать четверть часа — и на трамвай, и на вокзал и за границу, на съезд по вопросам криминальной психологии!»
— Бывали ли вы здесь раньше, Егор Егорыч? — начал доктор. — Видали ль вы Черпанова? Отведайте его! Выдающийся. Уже сочетание букв в его имени указывает на игру каких-то особенных обстоятельств. Сейчас он уполномоченный по вербовке рабсилы для Урала. А кто он был прежде? Ему двадцать два, но люди с такой душой рано отрываются от сосцов. Я проходил здесь вчера. Мимо! Я бы вошел в дом и вчера, попадись мне в голову более удачная формулировка причины моего им появления. Проходя, я заметил его горесть. Сегодня он спокойнее. Вчера я ему сказал, что по-видимому он завербует нас первыми. Вчера он шел ко мне, а сегодня он стоит в воротах, и я иду к нему.
Доктор отмерил еще несколько метров. Я сказал ему, что, возможно, ему скучно уезжать за границу, но мне хочется использовать свой железнодорожный билет и свою путевку. Доктор возразил, что он склонен использовать благоразумно и свой билет и мою путевку. Мы поравнялись с воротами. Булыжный двор дымился жаркой пылью. Доктор приподнял шляпу. Черпанов ответно приложил руку к кожаной фуражке, и не знаю, то ли он просто хотел потереть ухо, то ли с нетерпением желал услышать от доктора его сообщение, но как бы то ни было он поднес правую ладонь к правому уху. Доктор еще раз колыхнул шляпой, теперь уже пренебрежительно. По тому, как он беседовал со мной, я склонен был думать, что к Черпанову он применит способ «трескучий» или, на худой конец, «научный». Однако поступок его с правым ухом и правой рукой доктор счел признаком или подражания, или насмешки: то и другое требовало скачкообразного способа. Вот почему доктор остающиеся пять метров пробежал вприскочку — и ковырнул возле сконсовых усов, как бы желая их сорвать.
Без малейшего противоборствования Черпанов выронил портфель, икнул — и рухнул на колени.
Доктор привык спорить и побеждать, но осилить так быстро показалось даже ему странным. Он наклонился к Черпанову: не убился ли тот. Черпанов стоял на четвереньках, выпятив синий зад, украшенный маслянистыми лозами. Он попятился, едва доктор приблизился к нему. Он очищал место! Бок о бок с ним жаркий ветерок покачивал дряхлые ворота.
Доктор поднял руку к уху: левую к левому. Я понял это, как крайнюю растерянность.
— Мои интересы близки вашим, Черпанов. Будем соседями. Соседи характеризуются обычно ссорами. На какой-то короткий промежуток мы обойдемся без ссор. Наконец мы обсудим, ехать ли с вами на Урал, если вы для упрашивания считаете необходимым принять столь унизительную позу.
Черпанов поднял голову, вгляделся, отнял руку от булыжника. Присел на корточки. Потянулся было к портфелю. Доктор тщетно водил левой рукой возле левого уха.
— Позвольте, — воскликнул, приглядываясь, Черпанов. — Позвольте! Мы поверстаемся! Вы же не Лебедевы, честное слово, не Лебедевы!
— Не Лебедевы, — скромно ответил доктор.
Черпанов вскочил. И тут кулак его в пагубном бешенстве понесся по всему пространству ворот и опустился на голову доктора! Матвей Иванович присел. Я устремился к Черпанову. Вторично кулак нарисовал параболу ворот, приближаясь к моему уху. Я поднял навстречу узелок с провизией, который мы запасли в дорогу. Кулак пробил узелок. По тротуару покатились булочки, пирожки, куски колбасы, яйца.
— Нужно ловить яйца! — воскликнул лежа доктор. — На них сделал карьеру Христофор Колумб. Мы будем питаться яйцами в далекой дороге к вам на Урал.
— На Урал? — переспросил Черпанов, сдерживая кулак. — Удивляюсь!
— Да, я пришел с тем, чтобы поехать с вами на Урал.
Черпанов опустил кулаки.
— Да ты что, безработный?
— Безработный. И мой товарищ тоже.
— И товарищ безработный? Три дня хожу по Москве — и нашел впервые безработных. Инженеры?
— Нет.
— Техник?
— Доктор. Уха, горла и носа.
— Матвей Иваныч!.. — воскликнул я. — Куда махнули?
— Уха, горла и носа, Егор Егорыч. Что же касается моего товарища, Леон Ионыч, он рожден секретарем.
— Беру и его! — и Черпанов, разжав кулаки, уже не приседая, и склонившись корпусом, кинулся собирать яйца. Доктор сел на скрещенные ноги, поднял правую руку к правому уху. Оно у него явно отличалось цветом от противоположного, но доктор вообще был скорее широк, чем низок. Отпала какая-то частица, «сковырушка», — и доктор мог говорить.
— Удивительно наблюдать, — начал он, — когда уже открыты все новые земли, человечество еще бредит Колумбом. Путешествия вдоль земли кончились, пора вглубь, и недаром хитрый Колумб разбил яйцо. Он боялся, что его забудут. И теперь он постоянно напоминает нам о себе. Мы разбиваем скорлупу планеты и скорлупу наших чувств. А он, древний, стоит подле нас и хочет нас увлечь вдоль пространства… Как вы относитесь, к Колумбу, Черпанов?
— Уважаю, — сказал Черпанов, помогая мне завязать узелок.
Вернусь назад, обозревая ненаписанные главы. Приятны такие возвращения; мелькают перед тобой годы; люди стареют, растут, или вообще их не замечаешь; не нужна мебель, одежда, да и насчет описания физиономий тоже туго: или спутаешь или явно наврешь, так что и самому противно перечитывать; от разговоров остается только главное (по твоим понятиям, конечно); от любви — наиболее легкое и приятное; от злобы — бегство и ничтожество твоих врагов!
Последние два года я провел в должности счетовода психиатрической больницы имени Э. Крепелина, что в полутора часах езды от Москвы. Больница наша почти отлично оборудована, с прекрасным медицинским персоналом, великолепно снабжается благодаря своему хозяйству: имеем свою молочную ферму, огороды, птичий двор, где гуляет удивительно рослый племенной петух, серый с синим — до того налит густой и мощной кровью — гребнем, прозванный «Наполеоном», есть лесопилка, кузница, директор, выдающийся специалист клинико-нозологической психиатрии проф. Ч., пользуется отменным авторитетом среди общественности. Работы у меня было много, но работы легкой, я хорошо питался, занимался спортом и — в силу свойственного мне честолюбия, которого мне до сего времени никак не удавалось не только насытить, но даже вот этакенькую — с горошинку — капельку, проглотить, — я мечтал, бродил берегом Москвы-реки, рыбачил, читал: то по химии, то по ботанике, то по стиховедению, а в общем-то считал себя посредственностью, в силу чего и мечтишки мои были посредственные. Однажды, на теннисной площадке, я познакомился с доктором Андрейшиным, ординатором палаты «полуспокойных».
Матвей Андрейшин, сын сельского учителя, еще в юности обнаружил редкий дар красноречия. Летом 1918 года под Казанью его старший брат председательствовал в каком-то Уисполкоме. Семья Андрейшиных славилась храбростью, — председатель Уисполкома превосходил всех. Случилось, что чехословаки напали на городок. Часть уездных красногвардейцев защищалась, а часть струсила и бросилась к пристани, где, груженный продовольствием и снарядами, стоял пароход «Х. Колумб». Председателя направили остановить дрогнувших. Он вскочил на коня столь взволнованный, что не заметил, как младший брат уселся позади седла, вцепившись в хвост. Поскакав к пароходу, который дымился, шипел, клокотал и собирался показать великолепное «дралала», председатель остановил круто коня, выхватил маузер (утверждают, что он держал его в правой руке, подняв до уровня правого уха, я этому не верю: рука дрогнет) и потряс всю пристань удивительной и ловко склеенной, как соты, бранью. Красногвардейцы тоже бранились и тем временем втаскивали дрожащие трапы и торопили кочегаров. Тогда Матвей — это было его первое изречение (говорят, оно заимствовано, — какая беда! — первые работы А. Пушкина были тоже зело робки и подражательны) — сказал, держась за хвост: «В ругани побеждает тот, который молчит!» Брат обернулся к нему: «Выпалю я!» — сказал он. Матвей ответил ему, что вряд ли выпалит больше одного патрона, а пусть-ка он говорит, что ему будет подсказывать Матвей, так как сам Матвей не обладает сотрясающим голосом.
Через полчаса трап, дрогнув, потащился обратно, а через час красногвардейцы вскинули винтовки — и «чехи сотряслись и полки их разверзлись» — так сообщала передовица походной газеты. Матвей вернулся с конем, подаренным ему красногвардейцами (коня они по дороге отняли у богатого колониста); он променял, через день, коня на казанском базаре на связку философских книг — и уплыл с красногвардейцами. Пароход, по его предложению, переименовали вначале «И. Кант», затем «Гегель», «Юм», «Спенсер», «Ницше», закончив «Ф. Лассалем». Он поехал в Университет. Окончив Университет, он пришел к выводу, что в своей медицинской работе он должен применять методы душевною уговаривания и доказательств на основании хороших логических доводов, словом, он был поклонником Дюбуа и его системы «переубеждения. Если б, думается мне, не обаяние его молодости, его мягкого овала лица, его почти прямого носа, что в нашей стране телесной расплывчивости уже одно является заслугой, его глубокосидящих, почти постоянно полузакрытых малахитовых глаз, его летящей походки, которая часто оканчивалась сидением на скрещенных ногах и манерой во время разговора поднимать ладонь в уровень с лицом, чуть потрагивая мочку уха большим пальцем, — вряд ли б ему прощали его диалектику, его щедрость на слова, его красноречие, которое, казалось ему, опираясь на объективные данные, одно может исчерпать вопрос. Но, мало того, он впивался часов на шесть в вашу субъективную душевную установку, освещал ее с такой бесцеремонностью, что у вас дня два болели зубы, и под конец он самым тончайшим образом расчленял ваши психофизические связи и механизмы. Я не поклонник — ни системы психоанализа, ни систем, противоположных ей, я считаю, что, кто умеет лечить, тот пусть и лечит, даже смешивая и кучу все системы мира. Поэтому однажды мне пришло в голову попросить д-ра Андрейшина «переубедить» меня курить отвратительный табак. Я курю много, и мне кажется, что если я буду курить плохой табак, так это мне занятие скорее надоест. Я покупаю табак на самых грязных рынках и у самых грязных продавцов, так что, когда он сыплет мне эту бурую чепуху в карман, я закрываю глаза от отвращения. Доктор с величайшей готовностью и необычайно веселым лицом согласился исполнить мою просьбу.
Он провел со мной семнадцать обстоятельных собеседований, не считая случайных бесед на теннисе, на купании или при игре в городки Он натаскал и ко мне, и к себе гигантское количество литературы, я никак не предполагал, что о табаке могло быть столько написано. Он доказал мне совершенно непреложно, что табак знали и до открытия Америки, причем, по дороге, два дня провел сражение с Хр. Колумбом, к которому он питал крупную антипатию, считая его симулянтом, лгуном и человеком самых низких моральных качеств. Он подошел вначале к табаку биологически, указал на его наглую жизнеспособность, затем направился к нему социально. Что здесь было! Мне и сейчас страшно вспомнить те минуты, которые мне пришлось пережить под канонадой его диалектики. Какие армии искалеченных и несчастных катились мимо нас! Какие сцепления недоразумений мучали людей! Но все это оказалось пустяками перед тем, что он обнаружил во мне, особенно с патолого-сексуальной стороны. Оказалось, что не зря я хожу на рынки, вращаюсь среди отвратительных продавцов и, особенно, зажмуриваю глаза. Он заставил меня вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен если не к убийствам, то к насилию над своей няней во всяком случае. Моя жизнь представилась мне сплошным изуверством, вокруг меня создалась такая атмосфера, что я дико напугался и у меня вдруг обнаружились явные признаки отравления. Я не видел путей преодолеть мои немощи, мои душевные конфликты, мои социальные комплексы. А доктор уверял, что, в сущности, терапия его еще не начиналась. Я попросил его прекратить «переубеждение» и вернуть мне хотя бы часть моего душевного мира. Он сказал, что согласен, что воздействие убеждением более пригодно для зрелых и разумных людей или при более сложных неврозах, чем мой. На это я ему ответил, что последним замечанием он мне доставил живейшее удовлетворение. Доктор улыбнулся с лучезарной восторженностью, и мы прекратили учение.
В конце нынешнего лета получил я отпуск и путевку в дом отдыха где-то под Минском. В эти же дни доктор Андрейшин уезжал вторым секретарем советской делегации на съезд криминологов в Берлин. Честолюбие мое и тщеславие заставили меня подумать: «Что б поехать тебе, Егор Егорыч, вместе с доктором до Минска. Побеседуешь в дороге, сдружишься, и, кто знает, может быть, какие-нибудь удивительные пути он укажет тебе. Возьмем, хотя бы, должность секретаря. Разве ее сравнишь с должностью счетовода? Секретарь всегда на виду, секретарь может многое услышать, выбрать какую-нибудь ударную профессию, подучиться, наконец!» И я направился к доктору Андрейшину. Мог ли я ожидать, что этот ничтожный повод заставит меня столкнуться с удивительными событиями, узнать удивительных людей, увидеть удивительные и даже неправдоподобные страданья и самому испытать совершенно уже неправдоподобные муки и сомнения; встретить Леона Черпанова с его сконсовыми усами — и без оных; Савелия Львовича; замечательное семейство Мурфиных и все остальное, что побудило меня написать эти искренние строки.
В светлой высокой комнате, в белоснежном халате, бритый, причесанный, точный, хотя и многословный, сидел за письменным столом доктор Андрейшин. Против него, в плетеном кресле, в хаки, багровый от негодования, возвышался М. Н. Синицын, рабочий, недавно назначенный к нам, — говорят, в связи с делом ювелиров А. и Н. Юрьевых, — заведующим хозяйственной частью больницы.
Доктор оканчивал речь. Из этого я понял, что, во-первых (доктор покраснел при этом признании), он влюблен и влюблен в объект, который имеет, по его мнению, прямое отношение к болезни ювелиров, а во-вторых, он настаивает, что и предложения проф. Ч. о диагнозе болезни и пожелания М. Н. Синицына о той же болезни — ошибочны. Необходимо исследовать всю совокупность обстоятельств, — со стороны психической! Например, если б, по его предложению, вызвали девушку, в которую восемнадцать лет назад влюблены были ювелиры, и если б эта девушка оказалась блондинкой, это обстоятельство пролило бы свет в историю их болезни. Ибо та девушка, с которой он должен непременно проститься перед тем, как уехать за границу, — блондинка, и она знала ювелиров, хотя никаких юридических доказательств, кроме пуговицы, у него нет.
И я и М. Н. Синицын, правда, по различным совершенно причинам, смотрели на доктора в крайнем изумлении. Я — потому, что те еще плохо уловимые, но уже странные формы, в которые выливалась любовь доктора, никогда не встречались мне и казались для моего честолюбия и тщеславия как раз-то необходимыми для меня; М. Н. Синицыну с его конкретным, хотя несколько и суховатым, разумом сводить всю сумму жизненных явлений только к явлениям биологическим, как это проделывал доктор, было не только бесполезной, но вредной растратой тех знаний, которые приобрел доктор Андрейшин.
— Любопытненько, — сказал он со злостью, держа в руках пуговицу, которую ему передал Матвей Иванович.
Оно точно; болезнь ювелиров была любопытна. А. и Н. Юрьевы, направленные в нашу больницу и попавшие в палату «полуспокойных», знаменитые мастера так называемой ост-индийской гранки (когда бриллиант гранится сообразно форме натурального камня) особенно славились по работе над бриллиантами черной воды. Само собой, они отлично исполняли и чекань. Говорили, что вся история началась с того, что государственная мастерская, где они работали, вдруг оказалась ограбленной. Не утверждаю, но передавали, что исчез ящик с золотыми часами, штук этак двести. Поискали, пошарили, но так ничего и не нашли. Братьев никто, конечно, не заподозрил, слыли они за честнейших людей, страстно влюбленных в свое дело, полнейших бессребреников, и тем более удивило всех, что — когда братья выявили явные признаки сумасшествия и квартира их была опечатана (они жили одиноко, даже не имея работницы) — у них обнаружили несколько часов из того ящика, который пропал. Отсюда и начинается для меня удивительное и непонятное.
Еще за месяц до того, как я услышал о болезни ювелиров и о краже ящика, покупая табак на Сухаревке, я уже уловил болтовню о короне американского императора. Вам знаком, наверное, гомон этой многотысячной сухаревской толпы, эти странные напряженные лица, этот пот алчности, этот страшный и жалкий сброд, — они не воспеты еще достойным пером, эти базары революции! Я услышал, — тогда я не обратил на говоривших должного внимания — разговор, что большевикам, мол, у которых нашлись самые лучшие ювелиры в мире, влиятельнейшей политической партией Америки заказана корона для будущего американского императора, причем за работу будет уплачено дефицитными товарами, то есть как раз теми, которыми торгует рынок. Высказывалось мнение, что слух этот пущен для того, чтобы понизить цены на товары, произвести панику, но находились и сомневающиеся, которые говорили, что это обычная болтовня вроде знаменитых грабителей на пружинах или черного автомобиля, хватавшего в прошлом году на улицах Москвы и Ленинграда женщин, коих привозили в неизвестный дом и заставляли мыть окровавленные полы, а затем с благодарностью отвозили обратно…
Но тут вдруг слух и подтвердись! На двух высоких табуретах перед многотысячной толпой встали братья А. и Н. Юрьевы и вперемежку, потому что орать надо было сильно, чтобы быть услышанным всем рынком, произнесли речь. Сущность этой речи, как мне передавали, заключалась в том, что, по общему мнению, Америка медленно, но непоколебимо побеждает и победит весь мир, начиная с Англии и кончая Советским Союзом. Для этой великой войны там производятся огромные приготовления, но так как для победы и для удержания власти необходимо сосредоточить полноту властвования в одних руках, то в Америке неизбежно появление императора. Однако какой же император без короны? А заказывать корону американским ювелирам нельзя в силу их бездарности и в силу того, что противная партия может разоблачить, поэтому-то глава партии, под видом интуриста, приехал в СССР, нашел их лучших ювелиров XX столетия, и заказал им, тайком от советской общественности, корону. Им нужны деньги? Нет. Против славы не могли устоять они, — в чем теперь и раскаиваются! На вопрос же, где корона и почему она не передана соответствующим врагам, они заявляют, что корона — на которой осталось только поставить имя ювелиров, их марку — то, ради чего они только и производили работу, — обманно похищена заказчиками! Спрашивается, зачем же обращаться им к Сухареву рынку? «За помощью, — отвечают они, — бегите вместе с нами, догоним и отнимем корону, помогите поставить на ней нашу марку! Корона в два кило червонного золота удивительной чеканки, по низу украшена «узороватом» зеленым гранатом Урала, а по верху — сплошь розетами из горных бриллиантов, сообразно количеству штатов Америки. Для правильной организации погони они предлагают избрать комитет!..» Казалось бы, что такое вздорное заявление должно было рассеять все слухи о короне, возникшие на Сухаревом, а оттуда распространившиеся по Москве, да и к тому же многие узнали в ораторах тех людей, которые и раньше много бродили здесь, болтали о короне. Но оказалось наоборот, выступление ювелиров Сухаревка рассмотрела как маневр к тому, чтобы замять слухи!
Обследование, которому подверглись ювелиры в нашей больнице, выдвинуло диагноз проф. Ч., по которому заболевание ювелиров являлось органическим следствием механического инсульта за счет основной инфекции, каковую определили как процесс бокового аммотрофического склероза, так что травме, если она и имела место, принадлежало второстепенное влияние. На этом диагнозе, собственно, и разгорелся спор. Часть врачей, к которым примыкал и наш директор, принадлежала к последователям Э. Кремелина, отстаивая теорию «нозологических единиц» против новейшей системы симптомокомплексов, то есть, грубо говоря; за возможность подведения болезней человека, его психики под твердые и неколебимые разновидности с точно установленными патолого-анатомическими признаками, как сказал Гохе: «искание раз навсегда установленных процессов, однородных по этиологии, течению и исходу». Другая часть, а к ним принадлежал и д-р Андрейшин, отстаивала борьбу за детальное углубление в психику и, в частности, случай с ювелирами находила явлением психогенным, следствием неизвестной нам эмоции — шока, считала, что ставить диагноз, особенно такой, какой поставил проф. Ч., едва ли предприятие не легкомысленное, что надо разобраться, что прежние неудачные исследования врачей внушили больным мысли о их неприспособленности к жизни, о необходимости «бегства в болезнь».
Пока шли эти споры, — естественно, что до меня доносились только слабые отзвуки их, да и нельзя же, на самом деле, устраивать в больнице диспут, — положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась, а разговорчики насчет американской короны все росли и росли. Я получил несколько писем от знакомых, предлагающих зайти к ним на чаек, причем я уже давно и забыл об этих знакомых. Я, догадываясь о предлоге их приглашения, промолчал, — тогда они явились сами. Родственники какие-то обо мне вспомнили. Если ко мне, счетоводу, было такое внимание, причем, всех нас, когда мы на станции садились в дачный поезд, расспрашивали о больнице и об ювелирах, то представляете, каково же было медперсоналу? Все мы ожидали крупного медицинского скандала, особенно при страстном характере д-ра Андрейшина, возглавлявшего течение «увеличенной психотерапии», но тут неожиданно проф. Ч., приглашенный в числе других психиатров на съезд по криминальной психологии в Берлин, предложил д-ру Андрейшину поехать с ним в качестве второго секретаря советской делегации.
— Любопытненько, — повторил М. Н. Синицын, разглядывая пуговицу. — Вот здесь и указанье имеется: «Пуговичное заведение С. Мурфиной». Это для нее, что ли, они корону-то делали? По ее заказу? Вы, значит, Матвей Иваныч, в нее и влюбились? И теперь, перед отъездом за границу желаете зайти проститься? Любопытненько. На часок, говорите? Поезд отходит в три, а вы придете в час? Любопытненько. Только вот зачем вам Егор Егорыч понадобился, он ведь совсем пустой человек?
Я так и знал, что он придерется к случаю, чтобы обидеть меня. Я смолчал.
— Али жениться, для свидетельства? Тоже любопытненько.
— Она выходит за другого.
— Красива, что ли?
— Очень! — И доктор покраснел.
— Умна?
— Очень. — Доктор покраснел еще сильнее.
— Зовут-то как?
— Сусанна.
— Любопытненько. Плохой, должно быть, у них фининспектор в районе, я б на его месте всю красоту согнал.
— Предприятие пуговичное давно закрылось, принадлежало оно не ей, а ее матери, и все они теперь служат.
— Выгнать со службы! Все равно вредят: зачем нужного нам доктора влюбляют? Небось, сама на улице подошла. То, сё, пожалобилась на жизненку, а вы и хвост распустили?
— Я встретил ее один раз, на Петровке, и даже оробел поклониться.
— Ишь ты, а в дом зайдешь?
Она улыбнулась мне, Синицын. Не в комнате, — мало ли кому улыбается женщина в комнате, — а на улице. После этого, я начал подчитывать кое-какую литературу о любви, и вышло так, что мне совершенно необходимо проститься лично.
Я счел необходимым вставить и свое слово:
— Мало ли кому улыбаются женщины? Вот мне однажды тоже улыбнулась, а оказалось, что мой широкий нос походил на нос ее приятельницы, и она злорадствовала. Тем не менее я женился и страдал три года.
М. Н. Синицын попытку мою вступить в разговор принял чуть не за подхалимаж. Он багровым взглядом уставился на меня. И опять я смолчал.
— Робкая у тебя на баб выдумка, Матвей Иванович, — продолжал Синицын с прежним негодованием. — Тебе бабу под лад трудно выбрать. Ты, вон, с сиделками разговариваешь, опустив глаза, а они грязь развели. Четырех клопов давеча на подоконнике поймали. Для бабы более постная пища требуется, а ты бабу больше по чертежам мыслишь. Вот насчет улыбки: совсем вздорная вещь. Езжайте вы без прощаньев за границу, а мы тут клопов пока выморим. Ученые спорят, а клоп, он себе, стерва, плодится да плодится.
Доктор схватил опять пуговицу:
— Один взгляд только, Синицын, один взгляд на то, как она шагает по своей комнате — и для меня будут ясны истоки болезни ювелиров. Согласитесь, если в отделении больницы, руководимом вами, под различными предлогами появляются любопытствующие, если весь город наполнен слухами, если эти слухи, появившись вначале в белой прессе, захватили затем европейскую и американскую, если вам предстоит удовольствие дать десяток интервью за границей — и все это организовала девушка, которую вы имели несчастье полюбить…
М. Н. Синицын вскочил, оттолкнул ногой стул и, схватив доктора за плечи, крикнул ему в лицо:
— По-моему, лечить надо, а не по-вашему. — Он обернулся ко мне: — Ты вот, Егор Егорыч, чистый болван, так хоть ты ему объясни, если он считает меня таким хозяйственником, который, кроме как в клопах, ни в чем не смыслит, что если мы отняли у буржуев все, то право ворчать и болтать чепуху сколько им влезет мы оставили им. Услышит он в рабочих кварталах Берлина о короне американского императора? Никогда!
— Вспомните, — наставительно сказал доктор, — что ювелиры были тихие, робкие люди, совершенно не имевшие знакомств, их квартирка из двух комнатенок выходила прямо на двор, где постоянно — зимой и летом — играли ребятишки, знавшие всех жильцов и всех их знакомых, причем, задачей ребятишек было стеречь двери от воров — и это они исполняли успешно. Окна квартирки были заставлены железными решетками, как во многих первых этажах, следовательно, через окно попасть к ним было трудно, если б даже и пришла кому-либо шальная мысль подкинуть им часы. По-моему, истоки их болезни находятся в часах. Вспомните, что они жили замкнуто, стыдились своего жалкого вида, бедной комнатенки, в провинции на их попечении находились мать и три больных сестры, большинство заработка ювелиров уходило на лечение сестер. Однажды в жизни они любили, — она, несомненно, была блондинкой, теперь она состарилась, мать нескольких детей. Я попросил послать мне ее карточку, девичью. Она прислала их несколько. У меня возникла мысль: не перенесли ли они свою любовь на другой объект и не могло ли так случиться, что этот объект поступил с ними подло? Но до сегодня они его любят, боятся причинить ему боль — и больная память выкинула имя его, воспоминание о нем. Кроме того, они питали к этому объекту нежность, он должен быть слабым, не физически, а морально, волево. Было б чрезвычайно просто передать им снимок невесты в юности и сказать, что какая-то похожая на снимок девушка просила вручить. Можно было бы таким путем вызвать известные намеки, но можно и увеличить болезнь, заставить пациентов замкнуться, увеличить свое сумеречное состояние — нам грозила бы опасность приблизить час их душевной смерти. Препротивнейшие часы провел я, Синицын, размышляя о них, к тому же споры с профессором!.. Но однажды совершенно ничтожное обстоятельство толкнуло мою мысль на правильную дорогу. В палате появился больной, страстно любивший открывать форточки. Сырым ветреным днем я совершал обход. Вам известно, насколько больные обожают жаловаться. Палата заявила протест против открывания форточек и, в частности, потребовала, чтобы к халатам немедленно пришили пуговицы. Я обещал удовлетворить их желание, но внезапно против пуговиц восстали братья Юрьевы. Порыв их быстро угас, но самое проявление его показалось мне странным. Я потребовал из кладовых костюмы, в которых их привезли. Все пуговицы на костюмах были выдернуты с корнем. Комнату их передали давно другим жильцам, жалкое их имущество увезла мать, — все же я искал пуговицы, на которые они перенесли свое негодование. Я написал матери. Она нашла одну, поломанную. Вы ее видели, Синицын? Итак, на Петровке я встретил Сусанну. В этом холодном, почти мраморном взгляде, в этом алебастровом лице, я прочел дикую волю и великолепный ум. Она — дочь той женщины, которой принадлежала пуговичная мастерская. Ее не удовлетворяет жизнь! Она хочет прорваться в иное, и вот она накануне преступления. Разве обязанности доктора лечить, а не предупреждать болезни, ибо преступление против общества — социальная болезнь, Синицын. Я должен предупредить развал человека, и для этого достаточно будет одной фразы.
— Какой такой фразы? Не воруй, что ли?
— Я еще не сформулировал ее, но к завтраму она будет готова. Этой фразой можно исцелить и ювелиров, и Сусанну, и вообще весь дом, где она живет.
— Любопытненько. Здорово ты в слова веришь, Матвей Иванович. А что, если нам взять да этих ювелиров к станку поставить?
Теперь нам пришла очередь изумленно уставиться на Синицына:
— К станку? — переспросил доктор. — Вы предлагаете их выпустить, Синицын?
— Вот и обмозгуем вместе.
— Я категорически против, — вскричал доктор. — Необходимо произвести детальнейшее обследование и как раз на основе того, что нам скажет Сусанна.
— Кра-асивое имя-то. За одно имя которые влюбляются. И это все?
— Все, — ответил доктор. — Три недели, которые я проведу за границей, Сусанна будет размышлять над моей фразой, а на четвертой, — возможно, она даже придет сюда справляться, Синицын, относительно меня, так вы скажите ей точно, когда я возвращусь и, самое главное, не допускайте ее до ювелиров, — на четвертой, мы произведем последнее обследование, и целый ряд людей будет возвращен к разумной жизни.
— А парни так и будут пока лежать в постели, вытянувшись, как селедки?
— Какие парни, Синицын?
— А ювелиры?
— Да, они будут пока лежать.
— Вам бы полежать! — вскричал Синицын, вскакивая и опрокидывая стул.
Хлопнула дверь. Доктор расстегнул халат.
— Как великолепно, что вы меня провожаете, Егор Егорыч, — сказал он протяжно, видимо, размышляя о своем.
Вот кратко те причины, из-за которых мы очутились возле дома № 42, увидели Черпанова, и доктор выдал себя за «ухогорлоноса».
Итак, Черпанов присел на корточки. Доктор возле него. Что же мне оставалось делать? Соорудив возможно умное лицо, я тоже присел. Доктор, высказав несколько резкостей в сторону Хр. Колумба, катая по тротуару яйцо, пустился рассуждать об усах:
— Несомненно, Леон Ионыч, вы думали о значении усов, но занимались ли вы этим вопросом вплотную, скажем, месяца два-три?..
— Да что я, парикмахер? — огрызнулся Черпанов.
Оказалось, что доктор имел таковую возможность, — о чем и радостно оповестил. Он пришел к выводу, что усы — это признак посредственной воинственности, образ двух флангов, которые может уничтожить полководец, ударив им в центр, — попросту говоря: забрать усы в рот. Все великие полководцы — Александр Македонский, Цезарь, Наполеон — не носили усов. Они обходили фланги! По пути он объяснил, что, схватив за усы Черпанова, он не думал наносить ему обиды, а просто усы показались ему ложными, несомненно, Черпанов одарен более крупными данными, чем ношение усов. Доктор приносил ему крайние извинения! Черпанов удовлетворенно хлопнул доктора по плечу, заявив, что рад иметь на своем строительстве хорошего врача, и добавил:
— Москва — торопливый город. Чуть что — за усы! Выводы, может быть, и меткие, но механические.
Я нашел необходимым по этому поводу сообщить:
— Один поп похоронил на кладбище любимую собаку. Епископ решил наказать его за такое безобразие. Привели попа к епископу на допрос: «— Ваше преподобие, — говорит поп, — если б были знакомы с ней, вы б по-иному оценили ее разум. Судите по такому факту. Зная, что вы обожаете чай, она, по духовной, оставила вам серебряный сервиз и серебряную полоскательницу, из которой сама изволила кушать. Разрешите его вам вручить». — «Предадим твой грех забвению, — ответил епископ, — только сними с ее могилы крест, а поставь плиту. Пускай думают, что она была католиком, перешедшим в православные». Передают также, что некий полководец, — я не могу сказать, к сожалению, с усами он или нет, — направляя своих бедно одетых солдат в бой против неприятеля, превосходящего его не только оружием, но и одеждой, сказал: «Солдаты, постарайтесь отлично одеться!»
Не знаю, то ли голос у меня слабый, или говорю я слишком торопливо, или выражение лица у меня унылое, но только рассказы мои никогда не вызывают смеха, в то время как эти же рассказы, но в устах других лиц, имеют крупный успех. Так и в данном случае. Черпанов посмотрел на меня недоуменно. Доктор счел необходимым объяснить:
— Вообще-то, Егор Егорыч отличный секретарь, но обладает слабостью, которая превратится несомненно в достоинство, как только он будет секретарем высокого человека, — рассказывать некстати смешные повести. Итак, вы экзаменатор, Леон Ионыч?
— Именно, Матвей Иваныч. Экзаменую Москву на предмет поездки на Урал.
Доктор поднес ладонь к радостно сияющему своему лицу:
— Слышал, слышал! Удивительное строительство. Незабвенное строительство. В сущности, вы развозите людям счастье, Леон Ионыч. Я подозреваю, что вы спрашиваете у каждого встречного: счастлив ли он и знает ли он, что такое счастье? Представляю, как вы смеетесь над современными писателями, которые каждого провинившегося героя отсылают для отрезвления в провинцию, тогда как только провинция, утверждаете вы, дает полную сумму счастья. Бесспорно, что зачастую счастье мы начинаем строить после того, как изломали свою жизнь, исковеркали тело, но что поделаешь, если в большинстве для людей нет иного способа поумнеть!
Мы сидели в воротах. Они были раскрыты. В глубине двора уныло стоял ветхий высокий особняк с широким крыльцом, узкими окнами, булыжный двор зарос жесткой травой, до твердости камня засушенной знойным летом.
Доктор указал ладонью на дом:
— Вот, к примеру, сколько надо приложить труда, чтобы увести этих людей к счастью! Да, вам тяжело, Леон Ионыч, но крепитесь, мужайтесь, — раз, два, раз, два! — Сколько вам лет? Ответственная миссия! Я уже от многих слышал: едет Черпанов. Кто такой Черпанов, спрашиваю я? «Увидите», — отвечают мне.
Он положил ладонь в его руку. Сухое лицо Черпанова выразило еще большее удивление, чем даже тогда, когда доктор дернул его за усы. Скрипучим своим голосом он встревоженно спросил:
— Их? К счастью? Это кто же тебе сказал, что я кого-то должен к счастью вести? Я мало с кем делился.
— Многие говорили, однако.
— Небось, инспектор труда?
— Инспектор труда тоже говорил, — радостно заулыбался доктор, — он очень доволен вами, Леон Ионыч.
И спереди и сзади росло удивление Черпанова: он розовел лицом, свивался спиной и задом, голос у него был глухой, стесненный, а глаза колючие. Доктор сыпал небрежно, без заискивания (я передаю вкратце его разговор), со специальными знаниями, относящимися к роду и к частностям работы Черпанова, а также с подробностями науки литейного дела. И когда только он успел так заткаться?
— Чего ему быть мной довольным? Скрытный он какой-то. В глаза меня крыл, требовал разрешения от Наркомтруда на вербовку рабсилы, а когда я ему заявил, что и без него навербую, инспектор говорит — «катись».
— А вы не вслушались, Леон Ионыч, каким он голосом сказал «катись»?
— Самым подлым, по-моему. Задержать хотел. Я, говорит, выясню твои документы. Документы? Пожалуйста.
Черпанов выложил бесчисленные свои записные книжки из бесчисленных карманов своего синего велосипедного костюма, украшенного серыми чулками и футбольными бутсами — белыми с желтым. Записные книжки разинули бесчисленные свои пасти и выкинули бесчисленные удостоверения. Доктор положил на них ладонь.
— Я верю, Леон Ионыч, вашим полномочиям.
Черпанов задумался! Он еще не верил своей славе.
— Или он о другом Черпанове с тобой говорил?
— Да нет, о вас. У него просто грубая манера разговора. Чем он грубее, тем более он, значит, потрясен. Это типично для застенчивых людей, а для инспектора труда — в особенности.
Черпанова мало удовлетворили эти объяснения:
— О другом! — сказал он решительно, сбирая записные книжки.
— Как же о другом? Разве может быть у другого такая важная миссия? У кого хватит столько решительности? Кому дадут такие полномочия?
Черпанов растерянно вытер лоб. Он, видимо, всеми силами старался осмыслить слова доктора. Наконец, он прервал чахлое молчание, исторгнув из себя:
— Ты где живешь?
— Нигде. Я провинциал. Куда вы намерены собрать, временно, конечно, завербованную вами рабсилу? Для нас было б просто исцелением поселиться там. Средства у нас есть, вы знаете — квартирный кризис.
Исход из возникшего затруднения Черпанов нашел в «квартирном кризисе»!
— Вот в том-то и дело, что квартирный кризис! Бараки обещали, а разве с этими лопоухими договоришься? Истребил бы я всех бюрократов без следа!
Но от доктора не так-то легко можно было освободиться:
— Но поскольку вы ловчий и мы первый ваш улов, постольку ваша прямая обязанность, Леон Ионыч, позаботиться о нас…
— Пошли, — с исступленной решительностью сказал Черпанов, направляясь через двор. Доктор весело всплеснул руками и понесся за ним летящей своей походкой.
Искусная исподволь, с которой подобрался доктор к Черпанову, расстроила меня. Если можно было кое-как объяснить робостью перед двумя хулиганами согласие на дерганье за усы, то совершенно необъяснимо, почему так мгновенно Черпанов принял нас на службу, не посмотрев даже наши документы, и тем более, почему он повел нас устраивать в этот дом, куда его самого-то, наверное, приняли с трудом. Объяснение — провинциальностью казалось мне списанным, чужим и плоским, слишком уж много в нем было от барокко, слишком он умел спихнуть, сдвинуть, ссунуть кого угодно, слишком быстро мелькали спицы экипажа, собственного экипажа.
Положительно — мне нравился Леон Ионыч со всеми свойственными двадцати двум годам толчками мышления!
По высокому крыльцу из толстых и гнилых горбылей мы сразу вошли в громадный темный коридор, украшенный деревянными колоннами. Их было семь. Ободранные, изрубленные, изгнившие, тусклые, они напоминали пожарище. Не знаю, чья нелепая воля поставила их сюда, в чем заключалась их обязанность и что они должны были изображать? Был ли это вестибюль или зала или просто какая-то незаконченная архитектурная мечта? Сразу же бросилось в глаза, что дом раньше был одноэтажный, с расчетом на вышину, углубляющую сердце, а теперь вышину эту укоротили, использовав колонны для прикрепления балок и настилки полов, возможно, уничтожив чердак, с тем, чтобы соорудить второй, очень низенький, этаж, в который из коридора вела широкая лестница с громадными дубовыми перилами, заваленная невероятным барахлом: Я успел разглядеть извозчичьи сани, детскую коляску, дырявые корыта для стирки белья, ободранный секретер красного дерева, поломанные «американские» книжные шкафы, тут же торчали грабли, крыло лобогрейки, сундук, обитый жестью, дрянная железная кровать, какие-то гигантские рваные масляные картины без рам, — по лестнице можно было пройти только боком. Налево мы увидели громадную кухню с невероятной — почти с товарный вагон — русской печью, потрескавшейся, не топленной, наверное, добрый десяток лет; вдоль всей печи шла плита с дюжиной круглых отверстий; единственное окно — кухня почему-то не пострадала, когда дом делили на два этажа — помещалось высоко, тускло освещай искрошенный пол, круглое кольцо у дверей в полу, ведущих в подвал, Рядом с кухней — ванная, в ней, как я узнал позже, жил Черпанов. Вслед за ванной, как раз против каждой колонны, шли чуланчики для дров, по отдельному чуланчику на семью. Направо — двери в комнаты. С трудом, по преданию, можно было установить, какую обязанность выполняла каждая из комнат. Они были перегорожены фанерными перегородками, иная комната делилась на четверо, иная на трое, а иные на восьмеро и больше. По следам в полу, по вытоптанной дорожке вы догадывались, что здесь когда-то суетились, играя вкруг биллиардов, стругающими кругами носились шары, исполински мерили пространство полосатые кии; в другой на потолке уцелели круглые рожи апостолов, ясно — домовая церковь, и по сие время, казалось, стены исторгали ладан молебствий и лживость исповеданий; овальности и казацкий шик обоев как будто намекали на гостиную; каземат замкнутых стен выдавал кабинет: казнокрады, торгаши, лицемеры и просто убежденные мошенники величественно размышляли здесь. Воспоминаний о них в моем сознании осталось не больше, чем от ихтиозавров, однако какая-то сгнившая кайма их жизни тащится за мной!
Черпанов скрылся в одну из казусных дверей.
Мы присели неподалеку от громадного гардероба, упиравшегося казеннокошным туловищем в колонну. Рядом с гардеробом исчерна-мутное, чудовищной высоты — в три человеческих роста — возвышалось трюмо, чем-то напоминая кабана, если вообразить, что его можно поставить на задние ноги. Но если как-нибудь мы объясняли стояние здесь гардероба, для комнатенок он был, пожалуй, чересчур громоздок, массивен, даже вряд ли его сейчас удалось бы разобрать, столь крепко сошлись его скрепы от вечности, — то появление здесь трюмо стоило отнести, для успокоения пытливости, к тому хламу, который украшал лестницу. Но как бы то ни было, чьи-то тщеславные глаза еще пользовались им, поверхность его — до высоты плеч — была неудачно очищена от пыли и возле него на засиженном мухами проводе свисала похожая на старинный камзол лампочка.
Я нервно заметил, что бесцельно нам дальше ждать Черпанова: до отхода поезда оставалось полтора часа.
— Полчаса трамваем, сорок пять минут пешком до вокзала, — ответил доктор так, как будто это ему доставляло крайнее удовольствие. — Разве вас, Егор Егорыч, больше не занимает причина, почему я дернул Черпанова за усы и рассуждение о воинственности усов не показалось вам плоским?
— Если б на голове Черпанова вместо волос рос камыш, это меня бы заняло.
Но возмутить доктора труднее, чем раскачать каланчу. Он приниженным голосом, каким говорят врачи, чтоб не услышал пациент, начал разворачивать предо мной свои соображения. Черпанов, по его мнению, долго не посещал Москву, может быть, даже совсем в ней никогда не был. В силу ли своих обязанностей или случайно он увидел московское строительство. Оно вкатило в его мысли необычайное количество калорий. Его провинциальный камелек треснул, а заменить его калорифером он еще не умеет. Попробуйте дернуть его за усы недели через две-три; Посмотрите, что он будет думать через день по поводу своего смешного велосипедного костюма и своих футбольных бутсов! Его влечение к власти еще достаточно не откалено, но дайте какой-нибудь срок — «он вас научит натирать полы воском». Небывалая красота девушки — доктор, оказывается, и ее имел в виду, когда дергал за усы, — даже не заставляет его щетиниться против. Словом, он весь в себе. Черпанов? Это какой-то льготный билет. Право, его хочется дать взаймы для исследований кому-нибудь поплосче.
— До поезда — час.
— Какие у вас ограниченные требования ко мне, Егор Егорыч!
Я обиделся. Едва ли доктор верил в «провинциальность» Черпанова, едва ли придавал какое-либо значение своей беседе о «даровании счастья».
— Лучше получить кромку платья, чем обещание, Матвей Иваныч.
Доктор, по всему видно, желал продолжать «вскрытие» Черпанова. Но нам помешали. С улицы вошло несколько молодых женщин. Доктор встал. Трое поднялись по лестнице, а остальные направились к нам. Все они были с чемоданчиками, кожаными и веревочными сумками, корзинками из прутьев. Впереди шла в черном шелковом платье, вышитом алым гарусом, чем-то похожая на шлюпку высокогрудая мощная девица.
— Не человек, а сверло какое-то, — сказал я тихо доктору. — Поставьте ее как бакен, предупреждающий мель, и пойдемте на поезд, доктор. Пароходы для нее найдутся. Она и есть Сусанна?
Доктор отодвинул меня в сторону и вышел вперед.
— Не эта, Егорыч. Третья. Видите третью?
— Борзая?
Но приглядевшись, я и сам должен был признаться в ограниченности своего определения. Высота ее и тонкость действительно чем-то могли напоминать борзую, но тело ее с удивительной мягкостью замыкалось узким лицом, по борту обшитым белыми кудряшками, темные глаза ее походили на пустой патрон, а бесчувственная ловкость движений подводила под лицо ее незыблемую и, признаюсь, непонятную высокопарность, Одета она была так, словно боялась встревожить вас сполна представленной злокачественной своей красотой; на ней был ситцевый сарафан, дырявый платочек на голове, а на ногах шелковые чулки и прекрасные замшевые туфли. Я к женщинам отношусь, как к пожару несгораемый шкаф, но когда она мельком взглянула на меня, то я сразу почувствовал какую-то подвластность, какое-то скольжение под откос. Внутренний ожог, с которым доктор направлялся в этот дом, стал мне понятен.
— Нам давно пора встретиться, Сусанна Львовна, — начал было доктор шепотом, оробело.
Но девицы, не дойдя до нас шагов пяти, вошли в комнату, в которую скрылся Черпанов. Вряд ли они слышали доктора. И все же — вот натура! — я больше чем когда-либо понял, что ни при каких обстоятельствах доктор не признает себя забракованным. Ну, лопнул обруч, ну, не подошла какая-то отрасль его многообразного производства, но чтобы злонамеренно и целиком его уничтожить?..
— Бульонная девица, — сказал я. — И гангренная встреча. Ибо на поезд мы опоздали.
Доктор весело потер руки.
— Прокомпостируем билеты на завтра, Егор Егорыч. Возможно, что и наша делегация сегодня не уедет.
— Что ж вы полагаете, делегация займется обжогом кирпичей вроде вас?
— Сусанна сейчас выйдет, Егор Егорыч. Сусанна поняла, зачем я стою и коридоре. А! Егор Егорыч, изучаем мы психоанализ, делаем опыты, а женщины, при набате любви, далеко и давно опередили нас в понимании.
Он опять присел возле трюмо. Как мне ни обидно было опоздание, но все же я с любопытством ждал встречи доктора и Сусанны. Ожидания наши оказались пустопорожними. Вышел Черпанов, сердито пробормотал — «хозяева согласились дать ночлег», — доктор подмигнул мне: дескать, Сусанна настояла! — Черпанов повел нас. В конце коридора, под вторым этажом, который почему-то здесь прыгал вверх, сужаясь до размеров голубятни, оказалась надстройка, клетушка из тесин, годная разве для пары собак не особенно крупного размера, ходить по ней можно было только склонившись в пояс. Половину клетушки занимал матрац из рогожи, набитый ветками и полынью, — последней, как я узнал позже, — от клопов. «Необработанное помещение, — пробормотал Черпанов, уходя, — да я и сам живу в ванной». Доктор утешил его, сказав, что мы опытны по этой части, таким помещением надобно хвастаться, что это куда лучше, чем бульвар или асфальтовый чан. Манера доктора сидеть на скрещенных ногах оказалась здесь чрезвычайно пригодной. Я растянулся на матраце, выразив желание, чтоб «невеста» появилась скорее.
— Пора вам и перебродить, — сказал доктор. — Поезд уже ушел.
— Да вы ветреник, Матвей Иваныч!
Что началось! Доктор поджарил меня на тысячах сравнений. Оказалось, что я нуждаюсь в коренном лечении; что мои полезные способности стоят не дороже съеденного леща; что я тухну, как зажигательная ракета, пущенная ошибочно; что на мне клеймо пепелища; что я слаб, как печеное яблоко; что к тому времени, когда опыт жизненный меня сделает годным к употреблению, поджарит, старческий склероз уже съест меня!.. Назвать «ветреностью» дело психологического учения; шипеть на то, что любимая девушка одевается, советуется с матерью, братьями, с отцом — он у ней инвалид — 2-й категории, переходящей в 1-ую! — а с такими людьми, знаете, как надо осторожно говорить: советуется с сестрой своей Людмилой Львовной, «той, которую вы обозвали сверлом и шлюпкой»; девушки склонны к колебанию, да, наконец, просто встретиться и разговаривать в этой комнате, где и выпрямиться невозможно, — смешно, здесь надо бы подобрать какие-то особенные выражения. Вдобавок тут торчит третье лицо, бурчащее, бушующее, не умеющее смекать, в чем дело. Нет, зачем же, уходить нельзя, теперь, после намека, вы сами догадаетесь, когда нужно уйти. Прибой ее страсти сгонит вас, как разбитую рюмку, оставленную на берегу после морского пикника!
Я возразил ему, что, судя по его сравнениям, его прошлое рассматриваю я не выше прошлого содержателя шинка.
— Не совсем так, — сказал он. — Но у вас есть данные к анализу, Егор Егорыч. На короткое время я был выдвинут, как директор винокуренного завода. Все же меня больше прельщал университет.
В такой ленивой беседе мы провели часа четыре.
Скрипнула дверь. Доктор поднял ладонь к лицу. Я вскочил и стукнулся черепом об окно.
— Не тормозите своих чувств, Егор Егорыч, — сказал доктор наставительно. — Держитесь бравурно. Она поймет.
В дверях показалась широкая и квадратная, словно письменный ящик, голова цвета картофельного пюре с вялым носиком, похожим на молочный детский рожок. Киселеобразный рот раскрылся; плоская, длинная атлетическая рука протянулась к нам с явным приветствием.
— Браво! Прекрасно! Молодец! — крикнул доктор. — Если б вы нам не мешали спать. Хотите сигару?
Письменный ящик, обмазанный картофельным пюре, немедленно скрылся, не пожелав взять сигары, приобретенные доктором на вокзале. В жизни своей я не встречал подобных сигар. Боюсь, что «Союзтабак» выпустил их скорее в качестве агитационного средства против никотина, чем для наслаждения. Размер их чуть поменьше снаряда гаубицы. Если их пробовали закурить, то вначале вы получали во рту неистребимый запас горючего вещества вкуса тухлого мяса, затем у вас вспыхивало ощущение, словно вас стукнули доской по голове и вы приобрели пролом черепа. Наконец, тело ваше присваивало себе странную особенность, словно в нем кто-то играл чугунными шашками и в доказательство реальности игры оставлял за собой пачки булавок. Я убежден, человек, выкуривший три сигары, мог бы не бояться любой смерти.
— Впечатления дня не совсем точно преломились в моем сознании, — сказал доктор, укладываясь рядом со мной на матрац. — Или она придет завтра. Или у меня есть подлинный соперник и я полагаю, что именно он-то и заглядывал сейчас к нам. Властолюбивый, важный, он ломает ее психику, заставляя ее жертвовать собой ради семьи. Возможно, что он уже насладился ею и теперь, как сквозь зажигательное стекло, направил фокус своей воли в желаемом для него направлении. Положение трудное, Егор Егорыч, но завтра же утром вы будете его знать. Как прекрасно, что мы сегодня опоздали!.. Отвага, смелость, Егор Егорыч, преодолевают и растягивают…
— Сон, — сказал я.
— Ну и спите, — весело отозвался доктор, — а я еще подожду.
— Ну и ждите, — ответил я, засыпая.
Естественно, что, заснув так скоро и заснув больше от раздражения, чем от желания насладиться покоем, я мог присвоить себе почетную особенность проснуться раным-рано. Доктор спал, как невинный голубь. Я беру это сравнение не потому, что доктор чем-то походил на голубя и тем более на невинного, мне вообще мало удавалось наблюдать быт и нравы голубей, но то малое, что я заметил, дает мне право обвинять голубей в полнейшей и недосягаемой для человека половой распущенности, — нет, — сравнение это возникло из утреннего раздражения, из желания причинить неприятность — и себе и доктору. Катился бы я сейчас с шумом и грохотом, приближаясь к Дому отдыха, готовился б к сварливым компаньонам по комнате, к частым купаниям, которые сопровождает дождь как раз в тот момент, когда вам хочется одеваться, дождь, превращающий ваш костюм и ботинки в нечто эластичное и влажное, чем, с исчерпывающей полнотой, обладают водоросли; дождь, сопровождаемый прохладным бризом; дождь, укладывающий вас в постель и доходящий до принятия чего-либо лечебного. А теперь — я лежу в этой комнатушке, похожей на конверт, и оба мы с доктором как забытая переписка. Нет, скучно вставать в комнате, в которой нельзя выровняться во весь рост! И почему, думал я, глядя с раздражением на лицо доктора, такое счастливое, как будто он с необычайным успехом научился заочно давать уроки веселья, — почему он назвал себя «ухогорлоносом»; почему не вызвал Сусанну, почему даже купил пачку этих дурацких сигар, почему мешает мне насладиться покоем месячного отпуска, лишает удовольствия поваляться в постели, завести будильник на 7 часов? Вот он аккуратно отобьет эти часы, а я лежу и смотрю, как стрелка бежит за положенную ей черту. Проходит час, другой, уже в учреждении по столам разложены бумаги, уже старый бухгалтер тов. Б-в — немец, знаменитый тем, что собрал все копии заполненных им когда-либо анкет, и этих копий у него 18 237 штук, но в общем ябеда и скупец, с мордой, похожей на пресс-папье, — ловит на лицах подчиненных лень и разгильдяйство с тем, чтобы подобным супчикам подсунуть сложнейшую работу, с тем, чтобы затем сказать: Er hat es zu nickts gebracht — из него ничего путного не вышло: пом-кассира — блистательная красавица, лучшая теннисистка нашей больницы, уже присваивает взгляды кавалеров розовым маникюром, который у ней исполняет обязанности дистанционной трубки: если она направляет пальчики в вашу сторону, бойтесь обстрела, ходить вам не переходить с ней на теннисные матчи, купить вам не перекупить почтовых марок и тщетно вам стараться быть причиной того, чтоб руки ее нежным крендельком легли вкруг вашей шеи. Ибо, говорят, что она — зажигательное стекло — но никто еще не подобрал на нем фокусного расстояния… Да, а я лежу себе на кровати, как будто лежанием своим могу дослужиться до чина зам-зав-отдела, и произвожу в уме своем оптический по точности выбор: кого бы мне посетить вечером, с кем бы передернуться в картишки или, на худой конец, в шахматы…
Я вскочил и отправился искать ванную. Хрупкий человечек в полотняном костюме с лицом, раздробленным в крошки семейными дрязгами, заботливостью, похожий на инкубатор, назвавший себя: «А. М. Насель», напомнил мне, что с разрешения кварт-уполномоченного Степаниды Константиновны Мурфиной ванную занимает временно Черпанов, ответственный товарищ с Урала. — «Впредь до его пробуждения, — добавил А М. Насель, — спешащие жильцы умываются на кухне… если вас не беспокоит стряпня!»
Я побрел на кухню.
Общая кухня!.. Да не такая кухня, где копошится жалкое барахлишко двух-трех семейств, а кухня, подобная той, которую я увидал: где ревело пятнадцать или двадцать домохозяек, неслось рыканье полсотни примусов; где гудело бесчисленное количество кастрюль; где в одном углу стирали белье, рядом мыли ребенка и тут же на керосинке варили ему манную кашу; где в другом вы имеете шаловливый запашок свинины, приправленной свежим лучком, морковкой и украшенной салатом. Вы прерываете наблюдения и спрашиваете; кто получает такой пленительный завтрак? И сразу высокое окошко кидает золотой свет 56 пробы на того, который вчера просовывал в дверь к нам лицо свое, похожее на почтовый ящик, обмазанный картофельным пюре. Он возвышается подобно устою моста, присмотритесь: какие у него плутовские глаза, имеющие в то же время обаятельность минеральных вод. Его фамилия Жаворонков, по профессии он мороженщик, да не частный мороженщик, а торгующий из кооперативной будки кооперативным мороженым, значит, с профсоюзным билетом, со значками и льготами, подобающими этому званию. Он со своими семейными и друзьями занимает верхний пристроенный этаж, опирающийся на колонны. Говорят, он был церковным старостой — а мало ли что говорят завистливые люди. Женщины обожают его пылкий и самодовольный почтовый ящик, его минеральность глаз, его рот, кашеобразный, но в то же время убедительно говорящий о братской любви и пагубе братоубийственной вражды, которая охватила всю планету! Известна ли вам одышка А. М. Населя, этого человечка, похожего заботливостью своей на инкубатор? Вот он во главе выводка своих родственников идет вместе с полком других жильцов за дровами. Разом распахиваются двери всех чуланов! Каждый жилец берет по полену. Степанида Константиновна, квартироуполномоченный, — понтонная фура которой, соединившись с Львом Львовичем Мурфиным, ныне государственным пенсионером, некогда кассиром одного из отделений Государственного банка, первым перешедшим на сторону соввласти и за это теперь почтенным, — позволили проскакать с одного берега жизни на другой двум удивительнейшим ловцам с птичьим садком, она наблюдает за точным размером поленьев. Никто не больше, но никто и не меньше! Каждый кладет в плиту одно полено. И вот чья голова не затрещит от рева плиты, от кипения кастрюль и чугунов, от размышляющих меланхолических чайников? Какие разнообразные бульоны, какие похлебки от картофельной до бараньей, какие отвары, какие соусы («Э, вы переложили из моей миски в свою мое мясо. Видали ли вы ее, совсем обалдела от жара! Я буду перекладывать мясо? У меня честная «очередная» говядина, а она жрет свинину. Моя говядина, если хотите знать, отмечена химическим карандашом. Это потому, что мы видели, как я отмечала! Марья Васильевна, Шурочка, Геничка, посмотрите!» — Марья Васильевна, Шурочка, Геничка смотрят. — «Нет, вы ошибаетесь. Кто ошибается? Вы рады придраться к Жаворонковым, вы со своей Степанидой Константиновной все время против нас наводите мосты, в религиозности нас упрекают, подумаешь — безбожники, а кто на Пасху куличи пек? Все пекли! И будем печь!..»). Оказывается, — между квартироуполномоченным и верхом, возглавляемым пылким и атлетическим Жаворонковым, — трещина, клокочет разрыв. Какое поднимается брюзжание, ворчание, гудение — миллионы больших мух жестоко, словно волчки, врезаются в спор. Валовое мошенничество! Бездельники!.. Страшные счетные книги готовы раскрыться, какое брутто мы сейчас узнаем Но — тс! Цыц!.. Жаворонков бьет в грудь, самодовольно украшенную голубой фуфайкой, его лицо страдает, сооружая необычайную суровость. На шум ссоры появляются сыновья квартироуполномоченного — Валерьян и Осип. Они ошпаривают кухню взглядом. Из кармана у них торчат футляры финок. «Прекратите тянуть канитель, — говорят они, как бруствер становясь между матерью и бушующей кухней, — вы введете дом в затруднительное положение!» Но не так-то легко снять с Жаворонкова гордую самодовольную фуфайку: «Меня не запугаешь финками. Хватит. У нас поселился авторитетный товарищ Черпанов. Ему передать ссоры! Милиция и та удивляется: что это за дом, где нет ни одного коммуниста… Спросите, говорит, ваш местком, почему он не смог вас переработать в коммуниста? Потому, что у меня гадкое и гнилое окружение». — «Ах, это вы намекаете на свой верх!» — «Мой верх чист и опрятен, а вот ваш низ сплошная грязь». Жар разгорается, грудные клетки, в поисках обязательной убедительности, разрываются.
Страсти приобретают, думается мне, юридический характер. «Гражданка, прекратите мычание!» — «Нет, вы заставьте умолкнуть свой приплод!» — «Ага, женишков дочерних на подмогу вызвали…» — «Здорово, Мазурский». — «Здорово, Ларвин». — «Граждане, я за нравственность!» — восклицает первый. «Граждане, — утешает другой, — вы же и без того все желудки расстроили дрязгами. Желудок любит спокойствие, вот испробуйте хоть декаду прожить вдоль поваренной книги!»
А. М. Насель одышливо замахал руками.
— Черпанова разбудили вконец! Пора знать — у ответработников очень ломкий сон, граждане.
По всему видно, Черпанов пользовался здесь отменным уважением. Даже мне, узнав, что я завербован им, уступили кран. Правда, умыться мне так и не удалось. С мохнатыми полотенцами через плечо, с эмалированными тазиками в руках пришли за водой Людмила и Сусанна. Черно-шелковая Людмила Львовна, мельком, как привычный наездник стремя, кинула мне:
— Вы женаты?
— Нет, Людмила Львовна.
— Но любили?.. Куролесили? Хотите, женю? А доктор женат?
— Для провинциала у него слишком крепкий взгляд, — с ленивой злостью, холодным голосом протянула Сусанна, как бы продолжая прерванный разговор, из чего я вывел, что приход доктора был сестрами, а то и всей семьей — обдуман и сейчас обдумывается.
Сестры? Как вы и вправе ожидать, я чрезвычайно заинтересовался сестрами: Людмилой, если помните, в черном шелку с отделкой алым гарусом, и Сусанной, похрупче, похолодней, медлительной — и стройной, но, пожалуй, дальше этого поверхностного наблюдения я не двинулся. Одна — пылка, другая — холодна, сколько таких определений существовало в литературе! А поистине, если присмотреться, то и Людмила Львовна была не настолько пылка, сколько любопытна и жадна, и Сусанна холодна в силу каких-то непонятных ни для кого обстоятельств, заставляющих сестру ее Людмилу Львовну смотреть на сестру с завистью, ибо чем больше холоднела Сусанна, — а я бы сказал, что похолодание ее увеличивалось после нашего прибытия ежечасно, если мерить чувства как-то физически, градуса на два, на три, — тем привлекательнее была ее красота, и так как она любила свою красоту, как и подобает красивому человеку, то она, понимая свою возрастающую власть, влюблялась одновременно и в свою холодность, отчего эта холодность еще более увеличивалась, и вот почему бегство и отказ от нее жениха ее Мазурского обидел ее необычайно, как в иное время, никогда не мог бы обидеть, и вот почему она кинулась к Черпанову, забыв даже свою холодность, и не столько холодность, сколько утерянные… впрочем, обо всем этом я буду писать позже, более подробно и более ясно, здесь же я привожу эти намеки лишь для того, чтобы пояснить несколько зависть к ней Людмилы Львовны и уверить вас, что в характере сестер было много общего и для меня высшей похвалой было б то обстоятельство, если б вы Сусанну с Людмилой путали б и чрезвычайно на это путание досадовали б, иначе никак невозможно мне объяснить те чувства, которые они испытали в последние дни нашего пребывания в доме № 42 к д-ру Андрейшину, чувства совершенно одинаковые, чувства стремительные и… но об этом опять-таки дальше, а сейчас Сусанна подтвердила:
— Нет, он не провинциал, — вкладывая в слово это какое-то особое содержание, которое волновало и злило сестру ее и которая тоже с особым каким-то содержанием спросила:
— А что такое, по-твоему, Сусанна, провинциал?
— Особенный, взгляд на ноги, — прошептала Сусанна.
— И Черпанов, по-твоему, не провинциал?
Сусанна попробовала белой рукой своей струю воды.
— А, знаю, — ответила она протяжно, — и, вдруг, выплеснув из тазики воду в раковину, убежала с чрезвычайно встревоженными и, я бы сказал, что-то вспоминающими глазами — лицо ее по-прежнему оставалось алебастрово-холодным. Людмила, поставив тазик на пол, направилась за ней, Помимо всего прочего, что я описал выше, кухня имела еще одну особенность: все люди — сплошь — находящиеся в ней, поразительно грязны, а еще более поразительно оборванно одетые сестры Мурфины они во вчерашних платьях — не вливали особой струи, разве что грязь их была более бодра, но это уже надо отнести за счет молодости, хотя что ж молодость? — если Сусанне не было и двадцати, то Людмила Львовна ушла далеко за двадцать семь, впрочем, возраст ее и мощь ее тела плохо обновляли ее атласное платье — истертое, измызганное, изношенное. Да и глаза ее тоже… Насель тотчас же сообщил мне кое-что о ее характере и способностях. Людмила Львовна с юных лет считала, что не зря же растут у ней эти выпуклости за подбородком. Волочиться, кокетничать, буксировать рано вошло в ее бюджет, но по-настоящему она открыли запруду в пестрые дни гражданской войны, бывала она и на фронтах. Наступил мир. Она писала книгу о своих впечатлениях. Бесчисленное количество пустых обойм, встреченных ею, учили ее сжатости изложения. Книгу она назвала «400 поражений». Боюсь, что объективное служение обоим фронтам, за это она даже получила прозвище «Былинки», сделало ее книгу чересчур субъективной, оттого-то она и не нашла себе издателя, лишний раз доказывая, что биологическая правда не суть еще искусство. «Есть у нее и жених — Ларвин, Евграф Семеныч. Также как и у Сусанны имеется Мазурский, Ян Яныч. Как понять слово — женихи? — Насель явно заискивал передо мной. — Женихи, собственно учителя. Людмила Львовна и сама многих научит, а Сусанна за последние декады отбилась и внушает беспокойство всему дому. Почему всему дому? Дом у мне крепкий, сподручный…» Дальше он забормотал такое без разбора, что я совершенно все спутал. О Сусанне я добился лишь определения, что это-де «букет из поезда малой скорости». Он намекал, по-видимому, на свойственные ей декорационные шатания и медлительность. Бюллетень, например, ее жениха Мазурского, очень прост: подобострастный чистильщик сапог, а вот Ларвин — хомут, служит в кооперативе, но увезет далеко. Он мне хотел еще рассказать о гражданине Терентии Трошине, бывшем крупье, но я помешал ему. Я захотел узнать более подробно значение его оговорки: часть квартирантов за определенное вознаграждение от Степаниды Константиновны и Жаворонкова выезжает, когда понадобится, на дачу, а в освобожденных ими, временно, комнатках поселяются жильцы, конкретно изменяющие за это ее смету… а сейчас, видите ли, Степанида Константиновна и Жаворонков не поделили Черпанова, отчего и «бузят». Я обеспокоился и поспешил спросить (да и сестры с тазиками вернулись).
— И от нас она ждет изменений сметы?
— Зачем же доктору с голыми руками ездить?
— Ну, рубля по три в день мы заплатим. Неужели вся эта рвань и голь способна платить? Боюсь, что ей никто не платит. Черпанов еще туда-сюда, а остальные?..
— Шутите, — и Насель отошел от меня недовольный. Я обидел его обязательность. Возможно, что он имел и на меня какие-нибудь «сметные» соображения, не из праздности же он со мной болтал? Как приятно было сознавать, что сегодня вагон прекратит эту запутанную кутерьму, это бесплодное чтение по складам и жизненное разнообразие будет коротким и ясным. Однако бремя моих размышлений должно было увеличиться. Степанида Константиновна, скрывшаяся было, опять появилась, волоча за собой одутловатого старика с короткой багровой шеей, похожего на пестрого дятла, если можно вообразить, что дятел лет тридцать не умывался и не менял костюма, причем вся тридцатилетняя грязь не замазала, а только растерла по его фигуре свойственную ему блудливую хитрость. Она направилась прямо к Жаворонкову.
— Кто его отравил? — закричала она.
Дятел воззрился и долбанул клювом. Приходилось вам наблюдать ручное пахтанье масла? Нечто похожее на этот процесс по медлительности и звуку был разговор Льва Львовича, мужа квартироуполномоченной. Да и весь разговор-то заключался в двух словах:
— Во-он! Ко-онтры!..
Вон, контры, — и больше ничего. Могущественное слово! Брякнут вот такое слово, и перед вами словно опускается окно из матового стекла, вам и низкопоклонничать хочется, и душонку вы свою готовы продать за бесценок, за тартинку, за бутерброд и бюст ваш изображает готовность к покаянию, и на тело вы натянули власяницу, вы готовы искуплять, удовлетворять, — но уже взъерошенная гузка официальности скрылась за матовым стеклом! Позвольте, но ведь зачем же балдеть, зачем преждевременно платить пени, когда воскликнул это, может быть, каналья, дрянь, мерзавец и вы имеете все основания его третировать?
Эти соображения и не стал бы и скрывать, — очень мне противни развязность грязного дятла, — но я увидал в руке его тлеющий остаток сигары из тех, которые вчера купил доктор, и я поспешил покинуть кухню. Доктор в ванной делал гимнастику. Л. И. Черпанов сидел у колонки. Доски, настланные на ванну, заменяли ему постель. Изголовье — из книг по экономике и пятилетке, — украшенное «думкой», своей солидной сердцевиной могло ободрить любого из нас.
— Хорошо бы заварить чайку, — сказал доктор, приседая, — чай величайшее изобретение человечества. После вашего, конечно, Леон Ионыч.
Черпанов скромно возразил:
— Инициатива чужая. Я, Матвей Иваныч, только исполняю ее.
— Смотря как исполнять. Можно приехать в Москву и заниматься отписками, а самому ходить по ресторанам, вместо того, чтоб посещать предприятия, толковать с рабочими. Да что рабочие? Вы правы, Леон Ионыч, когда утверждаете, что классовые прослойки плохо втянуты и пятилетку.
Мне показалось, что Черпанов несколько смутился:
— Матвей Иваныч, будто я иначе…
— А разве я неправильно вскрыл шифр вашего назначения? Разве вы доставите навербованных вами франко-порт? Нет, вы в людях так тонко разбираетесь, что их выгрузят непременно. Гранильным делом в Комбинате не занимаются?
Черпанов построжал:
— Гранильным? Нет. У нас металло-литейное.
— Я плохо знаю технику. Если Урал, так непременно камни, гранит, мрамор, гранильное дело. Значит, вы кое-какие предприятия, Леон Ионыч, посещали?
Черпанов уклончиво мотнул головой.
— Ну вот, видите. А Егор Егорыч утверждает, что видал вас в больнице.
Черпанов вздрогнул, быстро достал записные книжки:
— Я совершенно здоров. Понимая всю сложность и ответственность данного поручения, я запасся и на этот счет удостоверениями. Если мы думаете, что я психически болен, так вот вам бумажка…
Доктор отклонил протянутую бумажку:
— Зачем же, Леон Ионыч. Я и так вижу, что шасси вашего организма исправны. Экий вы вспыльчивый. Егор Егорыч видел вас в зубной больнице, а так как зубы и горло области смежные, то я, полагая, что вам зря не стоит терять времени на больницу, лучше показаться мне…
— Да не был я в зубной больнице.
— Скажите, пожалуйста. Значит, вы обознались, Егор Егорыч.
— Обознался, — ответил я хмуро.
Доктор подошел к Черпанову вплотную:
— А ну откройте рот.
Черпанов распахнул широкий свой круг рта.
Доктор постучал ногтем в передние зубы.
— Первоклассное произведение, и ни одной золотой коронки. Вы не любите желтого металла, Леон Ионыч.
Черпанов молчал, сухо глядя доктору в малахитовые его глаза.
— Не выпьете ли вместе с нами крепкого чаю, Леон Ионыч?
— Нет. Мне пора.
— На предприятие?
— На предприятие.
В коридоре я спросил доктора, для чего он угостил старика сигарой и зачем выдумал зубную больницу.
— Бесхарактерный старик, — ответил доктор пренебрежительно. — Он характерный и подлый. А с чего ж вы взяли, что не были в зубной больнице? Были. Месяц назад.
— Но Черпанов-то приехал три дня.
— Забыл. Совершенно забыл. Неужели вы, Егор Егорыч, не говорили мне о нем? Ведь редкий, даже по внешнему виду, экземпляр.
Я смутился. Точно, месяц назад я был в зубной больнице! Возможно, я видел там кого-нибудь похожего на Черпанова. Так тому и быть. «Но ведь на кухне из-за вашей сигары разгорается ссора между Степанидой Константиновной и Жаворонковым!..»
— Прекрасный случай приняться за дело, — сказал доктор, направляясь в кухню.
Ссора не паросиловая установка: пустил, ушел, вернулся, а она работает по-прежнему; ссора — явление чрезвычайно капризное и малоизученное. Хотя из всех ссор квартирные уже поддаются классификации, И пора, пожалуй, изложить их законы. У меня на этот счет имеется много соображений. Я, собственно, из-за этого и пришел в кухню с доктором. Но, видимо, с тех пор, как я удалился, многое изменилось в настроениях вокруг основного капитала ссоры. Кое-где еще можно было уловить отзвуки того, чего я был свидетелем, все же могущей быть представленной, как нечто цельное, оставалась рыжая кошка, подле громадного помойного ведра, имеющего странный цвет дамасской стали, стремящаяся по-прежнему без ущерба для себя разузнать: в чем же тут дело, что столь гадко может вонять? Но каждый раз, ткнувшись носом, она, от негодования, вынуждена была перепрыгнуть через ведро. Боюсь, что кошка придавала запахам слишком большое значение.
Трудно было, например, установить родство между Мурфиными: они с такой усиленной благодарностью — за бездарно употребленные слова — нападали на отца, такую решили задать ему острастку, что, по всему видно, старик даже вышел из сигарного обалдения. Внутри себя они тоже лишились согласия: Валерьян тащил его за шиворот, а Степанида Константиновна употребляла все силы оставить все свои знания начертательной геометрии на его животе.
Вокруг Ларвина, Жаворонкова, Населя возникли свои клики. Трудно исполнить их лица, так быстро соглашались они на одно, тут же вмешиваясь в противоположное, жертвуя этим противоположным ради приношения третьему — и мгновенно соглашаясь на поднесение четвертому. Запаленность, удушливость мучили их, но никто из них не хотел быть ниже другого в ссоре, меньше, дешевле…
Доктор выступил вперед с веселой решительностью глушителя. Он поднял ладонь к лицу, потрогал мочку уха.
— Будем говорить начистоту, — начал он, глядя на Мурфиных, — поставим на ноги истину. Что такое отец? Империалистическая война, голод, безработица перед войной лишили меня возможности видеть отца, жить с ним, угнали его неизвестно куда, и в каждом старике, наблюдаемом мною сейчас, я стараюсь разглядеть отца. Попросту говоря, я его не знал совсем, но и в этом страдании, как и во всяком другом, есть свои хорошие стороны: не упираясь в достоинства или недостатки одного моего отца, я обеспечен теперь богатым выбором отцов и останавливаю, как я уже вам докладывал, свой взор на каждом из них. Тяжела участь отцов, граждане! И не потому, что дети к ним мало признательны, быстро теряют к ним уважение: с пятнадцати лет приблизительно авторитет отцов переходит на школу и школьных товарищей, еще лет через пять на любимую женщину или на честолюбие или бесчестолюбивое служение своему классу, то есть такое служение, когда честолюбие переключается на других, связанных с тобою не кровным родством, — а тяжело потому, что авторитеты настолько же близки нам, насколько они далеки нашим отцам, ибо эти авторитеты принимают иные формы, чем это было в подобном нашему возрасте отцов, и эти формы отталкивают их зачастую больше, чем содержание. Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, можно и следует задуматься над участью отцов. Почему-то считается модным и страшно революционным отказаться от родителей, часто даже не посоветуясь об этом отказе с компетентными товарищами, И родители принимают подобные поступки за должное, часто для того, лишь бы не похвалить эпоху и ее формы. А не лучше ли задуматься в этом отношении, изложить, представить самому себе, посчитать себя немного обязанным отцам! Задуматься — не значит попасть под сапог отцов, я был бы величайшим глупцом, если бы призывал вас к этому. С моей точки зрения, нет ничего лучше, как делать попытки, от попытки многое зависит в жизни. В таком случае, представим себе такую попытку: один день в году, — причем лучше всего выбрать праздник, и чем этот праздник выше, торжественнее, тем лучше, — мы тратим в пользу отцов. На празднике я настаиваю и потому еще, что сами отцы чувствуют себя в праздник менее терпящими нужду, менее бедствующими, в праздник они обладают тем, чем удивляли нас до пятнадцатилетнего возраста, то есть — наивностью. В этот день за нами очередь испытать восторг и удивление перед отцами, забыть все ссоры и дрязги, подавить, укротить в себе все дурное, словом, — быть один день двенадцатилетними! Только один день в году будем уважать их мнения, их заблуждения, их печали, Как-никак со всеми этими заблуждениями и печалями они воспитали нас, дали нам знания, ловкость в жизни, смелость и оборотливость, они научили нас шататься с толком по рынку, они сопутствовали войнам, путешествиям, росту капитализма, — не беда, что за письменным столом или конторкой, — но их восхищение питало нашу ненависть или любовь к последнему; их наивные сказки про какого-нибудь там мальчика с пальчика даже и теперь имеют какую-то ценность в обиходе настоящего. Вспомните, как часто мы пытаемся побить великанов! Наше предложение? Да нет, граждане, я выступаю только от своего имени, наряду со мной нет официального общества, нет анкет и бланков, нет отчетности. Просто я, доктор Андрейшин, специалист уха, горла и носа, предлагаю каждому из вас найти в году тот день, который ему нравится, будет ли это начало весеннего равноденствия или какая-либо политическая дата, не исключен и день вашего рождения, но пусть перед вами с утра забрезжится…
— Так ты не официально? — спросил Жаворонков.
— Нет. Я ссудил вам свое личное мнение, граждане. Итак, с утра забрезжатся перед нами ваши двенадцать лет…
Хохот покрыл речь доктора. Хохот препятствовал ему, хохот из породы долговечных, прочных, добротных мелькнул вначале словно попона, словно скатерть, с тем, чтобы в дальнейшем опуститься, как одеяло, как потолок, кровля. От подобного обеспечения доктор опустил ладонь и прикрыл глаза!
— Ах, черт! Откуда он это взял? Ха-ха!.. О-о… Вот дьявол! Отчего ним такое уважение?
Хохот растянул стены кухни; — ~ — знак долготы гласного звука вряд ли что определит кому! — звук этот несся по дому, оборонительно и наступательно бился среди ущелий, образуемых колоннами; вовлек в соучастие двор; вмешался в разговор прохожих на улице, заставив одних — вступить в спор: «Пьяны? Нет. Футбол. Да какой же с утра футбол! А какое пьянство? Пьянство — с вечера идет», — других — без спора — пойти домой и поделиться с домочадцами рассказом о счастливцах, с утра празднующих свадьбу на новой квартире; третьих — попытаться подхохотнуть. Хохот привлек на кухню мальчишек и старушонок. Старушонки похихикивали, мальчонки брали дискантом, а иные простуженные, альтом. И откуда только приперло мальчонок! Они заполнили весь коридор! Они вылезли из-под кроватей, из углов двора, где играли среди лопухов, ржавых листов железа и такой дряни, которая даже в утильсырье не годится. Они орали, визжали, царапали и снабжали друг друга тумаками. Хохот был то далекий, как грохотание трактора где-то за рекой и еле уловимые из-за множества заворотов, лесков и оврагов, то близкий, как гул от бондарной работы, когда рядом с вами бондарь наколачивает последний обруч. Даже кошка, фыркнув, унеслась прочь от ведра, которое по-прежнему выставлялось странным блеском дамасской стали! А какие длились гримасы! Этот дельфин; там какое-то лакомое кушанье, название которого вам за краткостью времени не удается уловить; эта колода для корма; тут ужасный профиль лягушки; там пролитый компот. И со всем этим хохотала плита кровавой пастью соснового пламени…
Доктор открыл малахитовые свои глаза, выхватив из кармана достопамятную коробку с дервишеподобными сигарами. Хохот умолк.
— Трудно быть хорошего мнения о том, что непонятно, — продолжал доктор. — Я так и думал: формулировки мои неясны и провинциальны, но я теперь же закончу свою мысль. Прежде всего, не воображайте, что наслаждение, которое испытает в назначенный вами день ваш отец, — его принадлежность. Правда, он будет жить, утешаясь, что один день в году вы поняли его, вы были к нему внимательны, ласковы и вежливы, его депрессия постоянно будет разрушаться воспоминанием о том, как вы его снабдили червонцем, посетили вместе с ним пивную, зоосад или планетарий, кстати, все это стоит рядом, — но вам самим в следующем году будет легче провести этот «подаренный» день, да и из года в год отблеск этого наивного дня вам будет все слаще и приятнее. Ложась спать или когда вас будут давить в трамвае и вы заедете кулаком по шее какой-нибудь почтенной старушке, вы вспомните «подаренный» день и подумаете: а ведь, черт подери, отличная штука молодость, а тем более воображаемая! Медленно, но верно таким образом вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность: давать показания себе и другим во всех своих чувствах искренно. Часто отцы ваши живут плохо, в то время, как вы сами отлично питаетесь, вам тепло, хотя вы и жалуетесь на солнце, великолепно сияющее над вашей головой среди облаков, похожих на слоеные пирожки, которые только что выхватили из громадной кондитерской печи… Простите, вы курите, Людмила?
И он протянул сигарную коробку.
Я не столь крепко наблюдал за происходящим, меня больше занимала деликатная кошка, к тому же меня оттеснили вплоть до помойного ведра. Я плохо понимал, ради чего демонстрирует доктор свой образ мыслей. Я даже обратился к стоящей рядом Людмиле Львовне: как она представляет себе мысли доктора? Категорически утверждаю, что она не смотрела на доктора, а еще менее можно было вообразить ее любящей сигары. Людмила Львовна — мощные руки в боки — пылающая, грязная, в рваном атласном платье, оттолкнув тяжелым коленом меня, приблизилась к сестре. Колено ее требовало движений и действия. Доктор ее оскорбил! Не дав разглядеть себя — как жениха — он, чужой, ворвался в ссору и занимает свою, какую-то чрезвычайно выгодную и смелую позицию. Ага, ты не хочешь жениться на наших, так мы приготовили тебе другой венец! Так, я понял ее — мощные руки в боки, ее сдвинутые ключицы, — иначе чем же объяснить ее поступок, когда она, оттолкнув коленом сестру, схватила помойное ведро и со всем содержимым надела его на широкую голову доктора.
Ясная улыбка доктора скрылась в ведре.
Он присел.
Опустела мгновенно кухня. Примуса шипели по-прежнему.
Сусанна легонько стукнула пальчиком по ведру:
— Да, он не провинциал, — сказала она лениво и протяжно, уходя вслед за Людмилой Львовной, которая все так же — руки в боки, все так же — пылающая грязью и доблестью.
С плеч доктора струилась чрезвычайно неприятная по пахучести жижа. Он мотал головой, бил по ведру кулаками. Я растерялся. Детский визг опять объявился в коридоре, но на этот раз его загнали в комнаты ловкие шлепки. Кастрюли покинуто шипели, одна плыла розовой пеной. Я догадался, наконец, поставить доктора на голову — и он, так сказать, выплюнул из себя ведро. Я повел его было под кран, но он, схватив кипящий мой чайник, устремился в нашу комнату. Понятные всем соображения заставили меня не очень густо торопиться к нему.
Я постоял на крыльце. Облака в небе больше походили на дезинфекционные пары, чем на слоеные пирожки.
Когда я вошел в комнату, доктор мыл руки над эмалированным тазиком. К счастью, широкие плечи доктора плотно закупорили ведро, и пострадала только его рубашка. Со счастливым лицом он похлопал ладонью эмалированный тазик.
— Все-таки она заботится обо мне, если оставила в коридоре свой тазик. Как жаль, что я растоптал сигары, Егор Егорыч.
— Через три часа на вокзале купите.
— Вы полагаете, что я успею за три часа отмыться, Егор Егорыч?
— Тогда я уеду, Матвей Иваныч, один.
— Невозможно! Главное, как ожидать, чтоб такое невзрачное ведро отдавало удивительно густое зловоние, словно оно всю жизнь копило его для меня. Поступок Людмилы Львовны с ведром чрезвычайно поучительный по выводам, Егор Егорыч.
— Еще бы. Передают, что один офицер, из кулачков, дотянувшийся к чину, дорвался и до камина и так энергично начал сушить ноги, что обувь зашаело. Денщик, увидев это, говорит: «Ваше благородие, вы шпоры сожжете». — «Врешь, разве сапоги, да и то они сгорели. Благородные не придают значения сапогам».
— Егор Егорыч, стойте! Она хочет сказать: на тебя будет вылита вся гадость, которая окружает меня, все сплетни и мерзости, но ты терпи и умей разбираться. Если даже помойное ведро тщательно почистить, покрасить и дезинфицировать, то и в нем можно носить питьевую воду.
— Пусть сама носит!
— То есть, ты можешь надеяться на лучшее, умей бороться и уничтожать препятствия, а самое главное, несмотря ни на что, должен быть весел, приветлив и спокоен. А что вы, Егор Егорыч, централизировали в себе из моей речи?
— Теперешней?
— Нет, в кухне.
— Перед ведром?
— Если вам хочется четкости, то — да, перед ведром, Егор Егорыч.
— Вначале вы наврали насчет своего отца, когда вам и мне известно, кто ваш отец. Меня мало занимает вопрос о «подаренном» дне, касательно к вам, но удивительно превратно толкование своих поступков, когда, только что отравив отца сигарой, доведя его до редкого обалдения, вы указываете на желаемость любви к старикам.
— Ну, знаете, Егор Егорыч, ваши придирки относятся больше к методам, чем к выводам.
— Выводы дезавуированы моим носом.
— Понятно ли вам, Егор Егорыч, что мы с вами наблюдаем удивительно крепкую клику, прекрасный кастовый дух, великолепно спаянную семью. Тумаки отцу и мужу? Чепуха! Показное. Смеялись над моим предложением? Да они потому и смеялись, что ежедневно и ежечасно они проводят мое предложение с той разницей, что в семье нет разлада и им приходится придумывать разлад, плотность и целостность этой семьи удивительна! Они вас обманули, Егор Егорыч, так же как они обманывали десятки и сотни до вас. Помимо того, что я только что расшифровал перед вами, почему Людмила Львовна так задушевно пошутила со мной? Да потому, что я намекнул на отраву ее отца сигарами…
— Только на сигары?
— Вы понятливый ученик диалектики, Егор Егорыч. А по-вашему, на что же я мог намекать?
— Сигары вы сублимировали, как образ вашей любви…
— Та-та! Бросьте. По-вашему, она отшвырнула мою любовь?
— А помойное ведро, Матвей Иваныч, если рассматривать, как символ…
— Вот и учи профанов!
Доктор захохотал и, схватив тазик с полотенцем, выскочил.
Психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, как будто и меня облили помоями. Нет, многие метафоры ценны именно как метафоры!
Черпанов брился возле трюмо. Доктор плескался в ванной. По-разному бреются люди. Один бреется от уха к подбородку, другой — от подбородка к уху, иной бреется туго, иной легко, иной любит посвистать во время бритья, а иной вывести такую песенку, чтоб было пожалобнее, а иные придерживаются такого молчания, словно во рту у них девизный вексель, соответственно обставленный проездными документами. Черпанов, видимо, любил бриться с разбросанными разговорами.
— Обождите-ка, — остановил он меня ногой.
— Быстро вы, Леон Ионыч, отделались.
— Не отделался, а вернулся. Осознал — у всех нас глубокое временное жилище. Все мы в быту кочевники, с трудом переходящие к осмысленной, то есть оседлой жизни. Вот поэтому-то и надо усы сбрить.
И он действительно намылил усы и взмахнул бритвой.
— Зачем?
— Не орите под руку, — со злостью отозвался Черпанов. — Ваш доктор прав в одном: если тебя направили — действуй решительно вплоть до полного признания. Кочевники? Сади их на оседлость, заставляй их приспособляться к жизни, дистиллируй их.
— Какие же кочевники в Москве?
Бритва отвалила пол-уса, обнажив синюю твердую губу. Он приблизил лицо к зеркалу. Отошел. Опять приблизил. Как бы с сожалением помял в пальцах пол-уса, а затем быстро намылил еще губу.
— Продал я вчера спекулянтику поддевочку синего заграничного сукна. И продешевил, кажись.
— Зачем же продавать?
— Поручили.
— Близкие поручили?
— Какие близкие?
— А чего ж грустите, если продешевили.
— Ну вот, характер такой. А сегодня продумал, в связи с решимостью, — и вышло зря продал. Лучше бы обменять. Ну разве на мне костюм? Мог бы, в конце концов, и в поддевку нарядиться.
— Кто же теперь носит поддевки, да особенно в Москве?
— Именно. Кто наденет зеленую поддевку? Ее, небось, на Урале какой-нибудь скотопромышленник носил.
— Почему скотопромышленник?
— Скотопромышленники обожали темно-зеленое. Из ихнего сословия происходили самые знаменитые биллиардные игроки. А не сыгрануть ли нам, Егор Егорыч, на биллиарде?
— Сыграли б, да вот сегодня уезжаю.
— Куда?
— Я объяснил.
Он уже отмахнул второй ус, присмотрелся, еще раз намылил щеки и, указывая головой на портфель, сказал:
— Отдых? Вот и отдохнем вместе. Первое отделение откройте, Егор Егорыч, лежит там в синем конвертике бумажка. Очень вашего отдыха касается. Прочтите.
Я прочел телеграмму: «Продолжайте комплектовать, — торопили Черпанова из Шадринска, — если даже арестуют, сообщите, выручим. Директор строительства Забисин». Кроме телеграммы, в конвертике лежали черпановские полномочия за подписью того же Забисина на оптовое и розничное комплектование рабсилы.
— Да и доктор сегодня не едет, Егор Егорыч, отдыхать с вами.
— Как?
— Только что порадовал. Буду, говорит, ожидать вместе с вами полной укомплектовки вашего, то есть моего, задания. — Черпанов посмотрел на меня значительнейше и еще более значительнейше проговорил: — Откройте второе отделение! Загляните, но не вынимайте. Документ чрезвычайной важности!
Я заглянул во второе отделение портфеля. Там лежал толстый пакет, без адреса, с девятью печатями, гигантскими и сургучными:
— Пониме?
— Нет.
— Мореплавание знаете?
— Нет.
— А слышали: капитану дается пакет, который он распечатает, скажем, у Манильских островов и там находит поручение чрезвычайной важности?
— Кто же ваш капитан и где же находятся ваши Манильские острова?
— Изучайте навигацию. Изучайте революционную навигацию, дорогой Егор Егорыч!
Я чувствовал, что Черпанов побеждает меня. Нет, зря я думал о его провинциальности и уже совершенно зря поверил доктору, что он намеком своим направил Черпанова на усилие комплектовать рабсилу в таких местах и таких людей, где никого никто еще за все время революции не комплектовал. Смущало меня, правда, то, что намеки доктора о черпановском костюме оправдались, но мало какие намеки бывают, а затем, возможно, что Черпанов придает свое, особое и возвышенное значение заботе о костюме. Копошась в остатках этих размышлений, я нерешительно сказал:
— Пожалуй, лучше уж мне одному тогда уехать в дом отдыха-то?
Черпанов мял у зеркала жесткую свою губу.
— Позвольте, да вы, Егор Егорыч, ознакомились с задачами строительства? Чего вы бунтуете? Что вы знаете? Строительство наше, дорогой мой, и сверхмощное и сверхбыстрое, а главное сверхнеобходимое, иначе б мне не отпустили такие полномочия и я бы усы не сбрил.
— Вот еще усы приплетете к строительству.
— А чего нет? Поскольку усы пускают меня в нелегальность, раз и поругался с инспектором труда, постольку они заставляют меня действовать более революционно. Все удавшиеся революции были бритые.
— Да вы, кажись, комсомолец, Леон Ионыч.
— Я?
Черпанов помял нижнюю губу.
— И то и се. Но разнюсь уполномочиями. Помните, что нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам проектики покажу, пальчики оближете. Переделка в три дня…
Удивление, должно быть, непосредственно перешло на мое лицо, потому что Черпанов, взглянув на меня, многозначительно добавил:
— То-то.
Становилась понятной его гордость, с которой он встретил нас у ворот — и даже его снисходительное отношение к «сковыриванию» доктора, когда он узнал, что доктор готов идти служить в комбинат.
— Вам, Леон Ионыч, для такой цели нужны, наверное, особые люди.
— Кое-кого собрал.
Он сбоку соединил обе губы, присмотрелся — и остался доволен, Быстро повернувшись, он хлопнул меня по плечу:
— Обдумывал я сегодня и с такой точки зрений, Егор Егорыч, — что ж, если решаться, так и надо решаться! Вот хотя бы касаясь особых людей. Где их найдешь, если простых чернорабочих нет на рынке. По правде сказать, так для меня, чем люди хуже, тем лучше. Если у человека хорошие задатки и я его перевоспитаю, то какая мне от него благодарность? Он и перевоспитания моего ценить не будет, он все своими хорошими задатками будет хвастать и, того гляди, в моих действиях дисгармонию может разглядеть, свою линию пожелает загнуть, сам дирижировать собой, диктовать свои реформы. Какая же мне благодарность? Так?
— Так-то так, однако…
— Выкатывайте, Егор Егорыч, ваше однако!
Черпанов меня озадачил.
— Однако, почему же за дрянью в Москву ездить?
— Дрянь дряни рознь, Егор Егорыч. Есть дрянь неученая, неграмотная, неловкая, стихийная, так сказать, дрянь. Такой дряни, безусловно, везде много. Но есть дрянь не так, чтоб уж очень дрянь, а полудрянец, который если даже слегка обработать, то он в деле окажется очень и очень полезным. Вот такой ученой, грамотной дряни, зря пропадающей, много, думается мне, в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее хватаем — и в домну!..
Вспомнив наш наем, я обиделся.
— Не принимайте на свой счет, Егор Егорыч. Иначе я бы пустил вас в отпуск, сказав: погуляйте, подумайте и приезжайте. Нет. Я вас отнес в свои помощники, а не учащиеся. И как мне раньше в голову не пришло взять секретаря! Я же шестнадцать городов объехал, а и шестнадцати дельных людей не собрал. Что происходит, объясните мне? Сто пятьдесят миллионов в стране, а нету рабочей силы. Что — все лентяи? Или больные? Ну, добро бы квалифицирку искал, а то беремся мгновенно обучить, в кратчайший срок преобразуем из лодыря литейщика первой категории.
Он толкнул ногой портфель:
— Вот тут поглубже брошюрку моего сочинения на эту тему обнаружите. Так ведь нет даже людей, которых можно бы было заставить прочитать брошюру. Это подвиг, Егор Егорыч, собирать теперь рабсилу.
— У вас редкий подвиг, если я, Леон Ионыч, правильно вас понял.
— Повторите.
Я повторил ему, как я его понял. Он пожал мне руку.
— Иначе б и не взялся, если б не трудность подвига. Если уж совершать, так совершать по-настоящему. При тысячесильном моторе и дурак перелетит через океан, а вот ты его перелети верхом на гусе. Это уже, Егор Егорыч, получается не подвиг, а сказка, но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями.
— Отлично, — ответил я, — нету у вас рабсилы, так наше строительство другой класс за бок хватит.
Я заметил осторожно, что так ли он понял свои полномочия, что нет ли здесь ошибки, хотя, с другой стороны, его партийность позволяет ему уточнить и разъяснить в Москве директивы и, если они ошибочны, — исправить.
— Будьте покойны. Проверил. Директивочки правильные. Но только заметьте в качестве опыта, и вы в них окунаетесь по должности секретаря. Вы тоже, Егор Егорыч, делаетесь до некоторой степени нелегальным.
— Леон Ионыч, а не кажется вам нелепым, что для вполне легального, государственного и даже поощряемого предприятия мы должны жить и действовать нелегально?
— Я и сам так думал, Егор Егорыч, до той поры, пока не сбрил усы, а сбрил и мне подумалось, что чем крупнее предприятие, тем в нем больше тайн, хотя бы это и предприятие заготовляло одно молоко. Вот хотя бы обратите внимание на сырки, которые выпускает «Союзмолоко». Сырок в мокрой бумажке, и цена-то этому сырку пятнадцать копеек, и едят-то его, преимущественно, дети, а какой лозунг напечатан крупнейшим шрифтом на обертке: «Оппортунизм — худший враг пятилетки». Поройтесь-ка в «Союзмолоке», вы там и не такие тайны найдете!
Стрелка, между тем, далеко подвинулась за полдень. Доктор все еще мылся. «А, прах с ним, — подумал я, — пусть моется, ну, уедем завтра, — кажись, последний день, на который можно отсрочить билеты».
Черпанов двинулся к выходу:
— Оставайтесь, Егор Егорыч. Нам ученые люди нужны, а если они честны, тверды и поворотливы к требованиям науки, высокие цели ждут их.
Почему я не ответил отказом? Сознаюсь, я всегда считал, что быть секретарем большого человека лучше, чем быть самому большим человеком. Ответственности — никакой, а если большой человек покатится, то падать секретарю, несомненно, легче, хотя бы потому, что высота, на которую вознесен большой человек, неизмерима с высотой его секретаря, как бы он ни был услужлив. Что же касается могущества, то оно всецело зависит от секретаря, по общему мнению, оно часто лучше изобилует благами, чем могущество большого человека. Когда большой человек приходит к славе? Очень поздно. Покуда он до нее доберется, до тех пор его крепко зацепят болезни, изведут бессонные ночи, непрерывная борьба с противниками, родственниками, женой, наконец. Постоянно он торчит над книгами, изучает языки, постоянно должен держать в памяти бесчисленное количество фактов, цифр. Там ему нужно просмотреть и сравнить одно, здесь поехать, проштудировать и процитировать другое, а тут ожидает третье, еще более мучительное. К тому же заботы, измены, предательства. Тот же самый человек, которого ты вчера еще считал своим другом и почти отцом, сегодня из-за угла плюнет тебе в глаза, да еще притом с такой ловкостью, что ты и не разглядишь его лица. Будущий твой ученик, несомненный талант, вдруг запустит такую подлость, с таким искусством оклевещет тебя, что ты только руками разведешь, если они у тебя еще не отнялись раньше от негодования и непосильной работы. И все-таки, несмотря на все препятствия и трудности, большой человек прет и допирает. Вот здесь-то и ждет его секретарь, молодой, полный сил, решительный — и часто не дурак выпить. Ну, что выпить? От выпивки редкий человек откажется, и это, собственно, никак человека определить не может, да и что, подумаешь, за благо — выпить, нельзя же, скажем, выпить сразу бочку, а раз нельзя, то стоит ли спорить об этом. Нет, секретарь получает другие блага, которыми не может уже пользоваться большой человек. Скажем, живот. Ну разве есть живот у большого человека? Нет живота, заявляю с полной ответственностью за свои слова. Какой это живот, если он не может переварить сразу три порции шашлыка по-карски, поросенка с хреном, рябчика или какой-нибудь десяток стерлядей. Плевать я хочу на такой живот. А костюм?
Разве может на большом человеке висеть по-настоящему костюм? Нет, лучше уж вешалку тогда посадить в машину и пустить по улицам. Понимая это, большие люди и натягивают на себя всяческую дрянь, до брезентовых штанов включительно. А девушка? Фу, даже говорить не хочется. Что понимает большой человек в девушках? С какими ему силами к ним подходить? Ну, допустим, подошел, ну, сел, взял там за руку, что ли. А дальше что? Дальше он будет думать: э, забыл записать то-то, э, не дочитал того-то, э, запамятовал напомнить тому-то по телефону. И кажется ему, что и девушка-то глупа, и порет глупости, а глаза-то у ней не такие прозрачные и приятные, как чудилось раньше, да и вообще походка-то дурацкая, а если попытается молчать, то и молчит-то чрезвычайно пошло. Вообще, не угодишь. То ли дело секретарь! Он ее сейчас в кино, он ее сейчас в Большой театр на балет, он ее на бега, он ее на машину со скоростью в сто пятьдесят километров, так что девушка хочет — не хочет, а сама виснет на шее. Да, превосходная вещь — секретарь большого человека.
Доктор сидел опять на скрещенных ногах, пришивая к пиджаку пуговицы. Нелепо, конечно, спорить о любимых позах человека, но все-таки, мне кажется, бывают положения, когда собой надо распоряжаться по-иному, чем всегда. Как-никак, а нас обидели, и позорно обидели, — помойное ведро на голове не цилиндр, если даже и считать цилиндр смешным головным убором, — и более уместно было б сейчас, например, доктору лежать, размышляя о нелепости нашего положения. И затем, что это за работа — отпарывать и вновь пришивать пуговицы? Рассматривать подобное занятие, как отвлекающее мысли в другую сторону, тоже странно, хотя бы потому, что доктор явно не умел шить.
— Уезжаю, Матвей Иваныч, — сказал я, — до поезда час.
— Счастливого пути, — ответил доктор, откусывая нитку и принимаясь за следующую пуговицу.
— Я вас не ввожу в дело, так как передают, что вы остаетесь, Матвей Иваныч.
— С тех пор, Егор Егорыч, как я сказал это Черпанову, я продумал вновь свои положения. Силы расположены столь сложно, что мы признаем с грустью — без вашей помощи, Егор Егорыч, трудно одному дисконтировать эти силы.
Я поблагодарил его за любезное мнение, добавив, что, вынеси он его в другом месте и при других, более достойных положительного человека обстоятельствах, мне было б слышать это вдвойне или втройне приятно. Если ему угодно, я могу еще вместе с ним произвести пятнадцатиминутный дисконт.
— С меня достаточно, Егор Егорыч.
Я положил перед собою часы.
— Обратили ли вы внимание, Егор Егорыч, на Жаворонкова?
Я ответил, что атлет с почтовым ящиком на плечах легко может заинтересовать каждого, даже и не наблюдательного, для меня же в этой точке некоторым образом сосредоточены воспоминания детства, когда я очень любил в цирке французскую борьбу и мне казалось необъяснимым, почему борцы, — если они действительно желают славы, — не выскочат за арену и не перебьют всех зрителей. Правда, мои понятия о славе похожи на понятия д-ра Андрейшина о любви, но ведь то было детство…
— Точно так же в этой точке, именуемой Жаворонковым, — начал доктор, поднимая ладонь к уху: и для меня сейчас сосредоточены многие выводы, но в иной области, чем атлетика. Начнем с того, что мы сегодня достаточно потолкались на кухне, дабы понять те или другие моменты. Окинем вначале общим взглядом присутствовавших там. Кто они? Недавно еще мелкие торговцы, содержатели мастерских вроде пуговичной, портняжных, переплетных, есть, кажется, владельцы склада машин, словом, остатки нэпа, ныне стертые в порошок и состоящие на государственной службе. Не поразила ли вас странная особенность? Помимо разговоров об еде, все они жаловались на болезни, хотя с виду они не особенно больны, да и жрут здорово. Даже про старика Льва Львовича, хотя и по пенсионной книжке значится, что он инвалид второй категории, я бы утверждал его здоровье. Разве в состоянии больной выкурить такую сигару и не трахнуться в припадке? Ну, допустим, он болен. А Жаворонков? Вернемся опять к ссоре между ним и Степанидой Константиновной. Ясно для всякого, что здесь мы наблюдаем борьбу за власть. Благодаря каким-то особенным своим достоинствам, Степанида Константиновна приобрела власть над жильцами, используя ее для своих целей, а с выдачей Сусанны Львовны за Мазурского, — я тоже не знаю и не догадываюсь, чем он может быть полезен, — власть эта упрочивается. Выходит — пропусти сейчас Жаворонков удобный момент и власть к нему не перейдет никогда. Откуда у Жаворонкова такое властолюбие, вдруг вспыхнувшее? А я знаю? Несомненно только одно, что он чувствует приближение или уже почувствовал то, что называется волнением пророчества; я склонен, пожалуй, допустить, что он не только почувствовал, но и удачно испытал пророчествование на ком-то из своих. Появившиеся поклонники придали ему сил. Не исключена также догадка, что он использовал как средство самозащиты и самовооружения болезнь, а ведь пророки редко попадались здоровые, уверяю вас, Степанида Константиновна понимает мощь порока, понимает, почему Жаворонков один из всех жильцов не обращает внимания на Сусанну, будьте покойны, это тоже маскировка перед нападением — и, уверяю вас, страшная маскировка. Сейчас он нашел очень ловкое оружие, сама Степанида Константиновна им давно пользуется, но неумело. Получается таким образом, что слабость, болезни, все эти охи да вздохи в действительности столь же мало признаки телесной немощи, как и то, что зверь, когда видит неизбежную гибель, притворяется мертвым, когда птица, спасая семейство, симулирует неумение летать, а видали вы, когда дерутся петухи и один побеждает другого, как побежденный бьется в истерике, закатывает глаза и квакочет, честное слово, курицей.
— Разве и Сусанна жаловалась на болезни?
— Нет, Егор Егорыч. Более того, полагаю, что она предпочитает молчание. Ей глубоко противна идея болезни.
— Следовательно, вы считаете, что стремление в болезнь есть в данном случае сознательное действие?
— Опять эта игра на бессознательном! Все сознательно в нашем теле, Егор Егорыч, все исполняет взаимно связанную работу, необходим только высокий интеллектуальный уровень и помощь других интеллектов, заинтересованных в правильной, то есть для разумного общества, работе, — для того, чтобы все так называемое «бессознательное» стало сознательным, ибо человек должен говорить искренно все свои мысли и желания. Чем более человек порабощен самим собою и окружающими, тем он больше лжет и притворяется, тем больше он обесценивает себя. Посмотрим на Сусанну! Это очень хрупкий, нежный, но ловкий организм. Вы сможете в этом, наверное, сегодня же убедиться, так как мы уже просрочили отъезд.
Действительно, на часах было без четверти три.
— Не досадуйте, Егор Егорыч, завтра мы выедем обязательно. Если вас огорчает потеря билета, я плачу за ваш билет. Итак, я продолжаю?
— Обязательно выедем?
— Э, полноте, не так-то вы торопитесь, иначе не забыли б о часе.
— Продолжайте.
— Мы сказали, что даже там, где — как на случае с Сусанной Львовной видно — крепкий и жизнестойкий организм желает покинуть чуждую ему среду, однако связанную с ним родственными и кастовыми отношениями, этот организм может потерпеть значительные изменения; в частности, внутренние колебания, в особенности затянувшиеся, могут выразиться в пасмурности сознания, в диких вспышках гнева…
— Вроде ведра, но проделывает это ее сестра.
— Совершенно верно: вроде ведра. Однако Сусанна стукнула пальчиком? Теперь мы спрашиваем вас только — нужно ли к подобному организму подходить вдумчиво, осторожно, учитывая всю его ценность, или трахать его прямо по башке всеми своими выводами, иногда убийственными по своей резкости, как я думаю поступить, например, с Жаворонковым.
Я сказал ему, что мне кажется удивительным, откуда в нем, прошедшем, что называется, огонь, воду и медные трубы, такая излишняя, по моему мнению, деликатность. Девушка тоже не сегодня выпущена на свет и вряд ли ослепнет, если он пойдет к ней и изъяснится в своих чувствах: что же касается Жаворонкова, то, пожалуй, опыта на кухне достаточно для убеждения о целесообразности диалектики среди подобных субъектов, и я заключил, что чуткость, перерастающая в мордобитие, формула, совершенно меня не устраивающая.
— Егор Егорыч! Уверяю вас, что во мне всегда преобладала чуткость, как в вас грубость.
Я предложил развивать это сравнение на психологии других лиц. Он улыбнулся и лег на матрац. К сожалению, должен признать, что и эта поза нравилась мне не больше предыдущей.
— Откуда мордобитие с Жаворонковым? Поверьте, что стоит только приказать ему прекратить пророчества, пресечь сексуальные устремления на Сусанну, разбить его надежды на власть, как вы увидите перед собой мягкого и чрезвычайно нежного человека.
— Короче говоря, вы его вылечите?
— Не знаю, вылечу ли, но что обезоружу и устраню угрозу над Сусанной, — это бесспорно.
— Но если вы его вылечите, следовательно, он будет нормальным гражданином, не будет жаловаться на болезни, страдания и прочее.
Доктор зевнул.
— Ясно.
— Будет весельчак вроде вас?
Доктор молчал.
Я высказал соображение, что если бегство в болезнь есть особенность уничтожаемого класса, то бегство в жизнерадостность и веселье — нет сомнения, принадлежность класса поднимающегося. Судить об этом можно хотя бы по тому, что все герои современных романов и драм удивительные бодряки и весельчаки, не исключая и вас, доктор. Правда, они не всегда убедительны в своих поступках и мыслях, но тут, я думаю, вина уже не героев и авторов, которые, должно быть, сами-то не так-то уж далеко убежали в сторону жизнерадостности и веселья, а отделываются больше словами, чем укрепляют себя поступками, а, возможно, и потому, что оптимизм — область мало изученная, и то, чему автор должен радоваться сегодня, завтра его должно огорчить.
Доктор ухмыльнулся. Удивительная у него улыбка! Есть улыбки одноногие, инвалидные; есть улыбки двуногие, нормальные; есть улыбки быстрого хода, спокойного и есть торопливые, семенящие; есть чисто животные улыбки, четвероногие, так сказать, грубые, после которых немедленно раздается хохот — тупой и страшный, вроде того, какой нам пришлось испытать в кухне — перед ведром, — но есть очень редкий сорт улыбок, пускай, назовем их треногими. В них — проникновенность, достигают они, тревожат самую душную темноту твоего сознания, они настойчивы и убедительны, и между тем есть в них устойчивость и задумчивая расчетливость треножника, ты чувствуешь себя так, как будто и здесь ты находишься — у себя дома — и по ту сторону, еще недоступную твоему пониманию.
— А уезжать-то вам, Егор Егорыч, не хочется. Вот и про часы забыли.
Я действительно забыл. С огорчением захлопнул я крышку.
— Ну, уезжать нам завтра, Егор Егорыч.
— Окончательно?
— Окончательнейше! Чуть лишь два часа, — а мы в трамвае. Покамест же, не побывать ли нам у Жаворонкова? Хочется мне сжать его высокомерие.
По лестнице, заставленной затхлым барахлом, бочком мы поднялись к Жаворонкову. Ожидал я увидеть благолепие, чистые полотенца на божнице, лампадки перед образами, благообразных старушек, все еще сохранивших монашеский лик, запах ладана, — а посреди суматошливой вони и сора за грязным столом сидел Жаворонков и перед ним возвышались три тома «Истории атеизма» и рядом «Переписка Маркса и Энгельса». Стены — в антирелигиозных плакатах и плакаты даже на потолке (центр его квартирки находился, как я уже говорил, в домовой церкви) — там, где я думал найти уцелевшие нимбы евангелистов. Рядом с Жаворонковым скромненько покуривал трубочку на редкость здесь опрятный, но также и на редкость невзрачный старичок, немедля отрекомендовавшийся нам «дядей Савелием, братом то есть Льва Львовича Мурфина, известного ветерана гражданских битв, пенсионера признанного и почтенного…». Доктор не обратил на него никакого внимания, да и все старания Савелия Львовича Мурфина были направлены всегда к тому, чтобы на него не обращали внимания, и вот в этом-то нашем «необращении внимания», скажу откровенно, была самая главная и самая тяжелая ошибка. «Да что, мол, я понимаю в людях», а вот доктор с его проницательностью, с его психоанализом, с его специальным воспитанием как мог проморгать Савелия Львовича, — для меня и посейчас непонятно. Единственное тому объяснение — любовь, и так как на любовь сейчас романисты валят не так-то много, то я полагаю, мне удастся свалить вину доктора на эту самую его любовь, хотя, как увидит читатель в конце нашего романа, и любовь-то у доктора была довольно странного вида и намерений, но вот как раз благодаря этому странному виду авось нам и удастся оправдать или «замазать» его ошибку. Но все-таки, в ущерб истине, ибо тогда мы не так-то уж много занимались психологией и задачами Савелия Львовича, я скажу напрямки, что мне много придется говорить о нем впоследствии, что он непрестанно и все время попадался мне на пути, шмыгая возле колонн всю ночь, ибо, повторяю, хотя, кажется, я об этом еще и не говорил, но слово «повторяю» всегда заставляет читателя вспомнить и запомнить, чего никогда и не упоминалось автором, так вот: повторяю, жизнь в доме № 42 была, преимущественно, ночная, часов так с одиннадцати. Днем или служили, или спали, да и после службы, от пяти до десяти, тоже спали, а затем начинали скрестись, таскать мешки, лазить в погреб, на чердак, вкатывались ломовики, изредка заворачивал грузовик, пахло керосином, медом, мазутом, ситцем, конфетами, из комнаты в комнату перетаскивались узлы, возле колонн шептались, шептались в кухне и во дворе… как видите, даже я понимал, что здесь происходит; игра, как видите, велась в открытую или потому, что люди уже перестали бояться, или потому, что они потеряли узду и не имели больше сил скрывать свои жажды…
Как я и предполагал, — мои предположения всегда грубее действительности, — и старушки молитвословные нашлись у Жаворонкова, но тоже иные старушки, стриженые, ученые, в очках, с брезентовыми портфеликами и с книжками — тоже по атеизму. Разве что жена Жаворонкова, здоровенная и дерзкая баба, имела в себе какие-то неуловимые остатки прошлого — повадки ее, длинная юбка, пробор буравились сквозь муштру современности, но стоило заиграть большой шейной вене Жаворонкова, как баба немедленно покорялась, изгибаясь в самой забавной наисовременнейшей стремительности и научности.
Жаворонков, увидя нас, встал, подпирая потолок почтовым своим ящиком, обмазанным картофельным пюре.
— Доктор! Матвей Иваныч! — зарычал он, опять грузно опускаясь на скамейку. — Примирителем пришли? А тут уж сидит примиритель… видите? Савелий Львович, говори!
Опрятный старичок торопливо запыхал трубкой:
— Ну, какой я примиритель, Кузьма Георгич. Я сам человек всесторонне запуганный и ничем не почтен. Бесспорно, люблю я вежливость и приятные одеяния… — Он ласково взглянул на веселого доктора и тихонько продолжал: — Меня, Матвей Иваныч, даже за смехотворную вежливость в очередях, без всяких документов, впереди всех пускают. Так как, говорят, везде плакаты, призывающие и продавцов и покупателей к вежливости, то ты иди вперед, старичок, и будь показательно вежлив. Я слушаюсь народа, иду и раньше всех получаю мне положенное…
— Не примирюсь, — стукнул ладонью по столу Жаворонков.
Старичок ласково уставился на него — и он стих.
— Да будет вам, Кузьма Георгич. Пришел я с единственной целью полюбоваться на купленное вами зеленое одеяние. Материал отличный, аглицкий, как говаривали в старину. Показали б. Вот и гости вместе со мной полюбуются.
— Не покажу.
— А зря отказываетесь, Кузьма Георгич. Все-таки, вот купили вы аглицкого материалу вещь, а ведь могли ошибиться — вовсе она не вашей специальности и даже наоборот.
— Моя специальность — мороженщик! Я профсоюзный билет имею.
— Бесспорно, бесспорно, Кузьма Георгич. Вот я тому и удивляюсь, что вы, будучи мороженщиком, покупаете аглицкого материалу вещи.
Жаворонков опять вскочил:
— Ты что же мне, дядя Савелий, грозишь?
Дядя Савелий попыхал трубкой, вежливейше вытер нос чистым большим платком, разогнал платком же трубочный дым и скорбно покачал головой:
— Чем я могу грозить, несчастный и слабый я человек, из милости живущий возле брата-инвалида? Поспешно выражаетесь, Кузьма Георгич. Общались вы с богом, и не научил он вас вдумчивости…
Жаворонков схватил «Переписку Маркса и Энгельса»:
— Был я божником, теперь стал безбожником! Вот, дал ты мне, дядя Савелий, учителя Маркса. А здесь насчет атеизма и его пользы совсем мало написано!..
Он швырнул книги старичку. Тот бережно разгладил измятые суперобложки и обернулся опять к доктору:
— Горячий он, Кузьма Георгич-то. Решил, видите ли, вступить на обучение в Безбожный Институт, а не вышло.
— Кто виноват, что не вышло? Устроил я стройматериалы Степаниде Константиновне? Устроил. Отдал я ей серебряную ризу от своей иконы? Отдал. Я не в целях религиозности, мне ризы не жалко, но ведь это же — металл! Два фунта, минимум, серебра и, кроме того, родительское благословение…
— При женитьбе, — дерзко вставила баба.
— Молчать!
Старичок пожал плечиками:
— Откуда мне, Кузьма Георгич, знать планы Степаниды Константиновны? Подозревать могу — не обрела она тех знакомых, которые могли бы направить вашу карьеру. Кроме того, если уж хлопотать о рабочем стаже, так надо вам было, Кузьма Георгич, идти на завод, а не в мороженщики. И что это за путевка от мороженщиков в Безбожный Институт? Малонадежная путевка.
— Так вы думаете, дядя Савелий, идти мне на завод? Не пойду я на завод! Уничтожить вы меня хотите? Не дамся! Я докопаюсь до планов Степаниды Константиновны. Выгнать вам меня отсюда? Нет! Я больной человек, я до Наркомздрава дойду!..
— Глаза выцарапаю! — опять было попробовала ввязаться его жена, но Жаворонков поднял в ее сторону «Историю атеизма», и она добавила: — Или показательный товарищеский суд над вами.
— Суд!.. Правильно, баба! Больного травят! Я припадочный!
Дядя Савелий, с «Перепиской» в руках, тихохонько выполз из-за стола и остановился подле нас.
— Очень обидно ему, Матвей Иваныч. Раскаялся в божестве и даже ячейку, из своих знакомых безбожников, организовал, а дальнейшего продвижения нету. Ведь на дому семинарии со старушками проводил, читал им лекции — знания в нем крупные, он шесть лет церковным старостой при храме Христа Спасителя состоял, а если повернуть ему свои знания наоборот, то результат должен получиться громадный. Волнения нам его понятны, вдобавок, разрушают и храм Христа…
— Плюю я на храм! — крикнул Жаворонков и как-то беспомощно покраснел. — И на чудотворные иконы плюю! Я могу любую чудотворную икону в антирелигиозный плакат превратить в два счета!..
— Верю, верю, Кузьма Георгич, — и старичок скорбно махнул ручкой в сторону Жаворонкова. Тот — стих. — Повернуть свои знания в обратную, Матвей Иваныч, вполне возможно, но вот закрепить этот поворот иным людям чрезвычайно трудно: в ложный пафос впадают, в сплошные выкрики.
Доктор ответил важно:
— У него личная драма, глубокая и замкнутая.
— Личная, Матвей Иваныч? Не замечал. Из-за стройматериалов?
— Нет, из-за любви.
— Скажите, пожалуйста.
Мне показалось, что дядя Савелий улыбнулся пренебрежительно — и над доктором, к тому же и голос его потерял мгновенно заискивающую свою тихость. Он достал из кармана сигарную коробку, вручил ее доктору, добавив, что брат Лев Львович приказал поблагодарить и возвращает утерянное. Затем быстро протянул к доктору тонкую и грязную свою руку — «разрешите воспользоваться» — и взял одну сигару. Курить он, впрочем, не стал, а, постукивая сигарой по переплету «Переписки», промолвил, не утаивая пренебрежения:
— Так от любви? То-то я смотрю: излишняя в нем сумрачность, Матвей Иваныч. А как вы изволите относиться к театрам?
— Спокойно.
Старичок подошел к дверям. Постукивая сигарой по дверной ручке, он наставительно сказал:
— Зазря, Матвей Иваныч. Театры могут большую работу проделывать, в вашем духе… Возьмите, к примеру, Качалова — какие личные драмы способен развернуть человек, посмотришь — и жить скучно. И другие артисты в том же духе. Передают вот, на Урале произошел небывалый случай перерождения, благодаря игре, подряд, конечно, всего репертуара, труппами академических театров. Целый город изменил совершенно свои вкусы и привычки. Ни водки, ни склок, ни сплетен, ни даже матерного слова!.. И будто бы случай такой столь потряс руководителей, что они решили распространить опыт до неимоверных масштабов… Не с Урала будете, Матвей Иваныч?
— А вам Черпанов рассказывал это? — спросил я.
Доктор, кажется, даже и не слушал дядю Савелия. Да и трудно было б его и слушать: старичок просто душил скукой и тоскливой вежливостью. Думал я было спросить о костюме: не черпановская ли это поддевка, но не хотелось дальше ввязываться в разговор. Отвечая на мой вопрос, старичок пробормотал что-то вроде: «Черпанов? А вроде он, а вроде не он. Даже не факт важен, мало ли от чего люди перерождаются, а слух!» — и, вежливейше пожав нам всем руки, исчез.
Огорчишься на скуку и вялость в мыслях, нагоняемую иным знакомым, но куда лучше она той ясности, которую часто опрокидывают на тебя неудачные твои друзья, словно плохой агроном удобрения в поля, причем степень нуждаемости полей совершенно не изучена. Выйдут люди в поле — и только губами шлепнут — какая пакость не тянется из земли: лебеда в сажень, чертополохи как дубы, васильки шире подсолнухов, а жрать нечего. Думай бы доктор о происшедшем, взвесь бы он спор между дядей Савелием и Жаворонковым, пойми, что убрать Савелия Львовича стоило Жаворонкову большого напряжения и даже страдания (он таки побаивался Степаниды Константиновны) — забудь бы он свои окаянные умозаключения, проделанные им недавно возле тюфяка в нашей клопиной каморке, обрати бы он внимание, каким зверем, по мере расширения его речи, кралась к своему супругу Жаворонкова и как Жаворонков скисал, наблюдая это выслеживание, и как он искал выхода — и не нашел ни одного, кроме… словом, доктор подвинул к сопящему Жаворонкову дрянной стул, расшатанный и скрипучий, уселся на него верхом и поднял ладонь к уху:
— Инженер, впервые наблюдавший за работой установленного им пневматического молота, давясь восторгом, смотрит на тяжкое давление, смотрит на брызжущий металл, на новые формы, — тем не менее мало изменилось его лицо и голос его не раскатывается громовыми раскатами от восторга. Он внутренне счастлив, друзья! Это несколько расширенное и, пожалуй, витиеватое вступление нужно мне, Кузьма Георгич, для передачи вам полного моего впечатления, возникшего при данном разговоре. Отнюдь я себя не сравниваю с инженером, инженером является эпоха, но восторг инженера столь заразителен и столь мощен пневматический молот сознания! Атеизм! Человек впервые чувствует, что его воля есть именно его воля, а не кого-то направляющего, грозного или милостивого; человек впервые, с широко открытыми глазами, самостоятельно направляется вперед. Он видит храмы и божества иными глазами: храмы — это бывшие темницы и самые страшные из темниц, божества — это размалеванные доски и чучела, жрецы, попы — мошенники и психически больные. Он презирает все это. Он предоставлен самому себе — и обществу. Но прежде, нежели он примкнет к обществу, в нем происходит некоторое время легкий процесс брожения и раздумия, иногда выражающийся в том, что человек переоценивает свои силы, чересчур надеется на самого себя… с первым пробуждением сознания нужно обращаться так же осторожно, как и с первой любовью, но так же как и с первой любовью, человек обращается, от неопытности, конечно, плохо и с первым пробуждением сознания. Он должен усиленно наблюдать за собою, он должен размышлять наивозможно больше — и быть искренним. Трудно быть искренним, но нужно! И общество, его сознательные работники должны помогать друг другу, новый класс, идущий на смену, будет беспощадно искренним! Вот почему, Кузьма Георгич, я нахожу в себе мужество высказать вам те несколько соображений, которые и для меня и для вас могут быть чрезвычайно полезными. Приятно, что вы при первых следах работы пробудившегося сознания собрали вокруг себя окружение, несомненно, с тем, чтобы помочь не только себе, но и другим. Вы создали ячейку безбожников. Со всем тем хорошим, что имеется в ячейке, созданной вами, она таит в себе чреватые дурными последствиями ошибки. Вот она здесь, но правда ли? Вся? Прекрасно. В чем же ваша ошибка? А в том, что ячейка создана из пожилых, я бы сказал, старых людей. Ими трудно руководить неопытному, они консервативны, особенно в той помощи, которая необходима вам сейчас и где вы должны добиться в себе необычайной ясности. Непонятно? Я говорю про любовь, испытываемую вами к Сусанне. Не смущайтесь, Кузьма Георгич, будьте откровенны и ясны, опирайтесь на молодежь, она поймет и оценит вас, группируйте вокруг себя побольше молодежи!.. Мне грустно уступить вам дорогу, я ее сам люблю, Сусанну, но разве я могу соперничать с ясностью и свежестью вашего сознания и вашего порыва? Я готов даже переговорить с нею за вас, предполагаю, что она с радостью войдет в вашу ячейку и вдвоем, за плодотворной работой вы оцените друг друга. Я заблуждаюсь относительно вас — и готов признать свои заблуждения, еще сегодня утром, вот здесь присутствующему Егору Егорычу, — я приписывал вам чудовищные замыслы… Любите ее, Кузьма Георгич, но будьте откровенны и ясны!
Темно-бурая от злости супруга Жаворонкова обогнула уже стол, а рука ее приближалась к корешку «Истории атеизма». Сам Жаворонков сидел словно разжеванный, не пытаясь даже разбираться в словах доктора. Старушонки, поскидав очки и подобрав портфелики, ребятишки, какой-то тощий длинноногий юноша, девицы с короткими и тупыми ногами — шарахнулись в угол. Что их пугало? Гнев ли хозяйки или пронзенность хозяина? Мне трудно теперь даже разобраться во всем этом. Одно несомненно, что только лишь красота Сусанны позволила прорубить просеку в их непроходимом доверии к Кузьме Георгичу, позволила поверить нелепым словам доктора. В голосе супруги чувствовалась промерзлая собачья хриплость, когда собака рвется с цепи и понимает, что цепь того и гляди лопнет, — супруга извергала необычайные ругательства… старушонка выскочила из угла на помощь Кузьме Георгичу, но, протопав несколько шагов, испуганно вернулась. Все же хозяин не позволил себе провалиться: он выхватил «Историю атеизма», ударил наотмашь по щеке хозяйку — и она подавилась ругательством.
— Вы это… официально?.. — спросил он, решительно с последними силами.
Доктору бы улыбнуться, развести руками, промолчать — и Жаворонкову бы не выдержать. Но сплошь да рядом случается, что человек употребляет ясность не там, где ее необходимо употреблять.
— Нет, — ответил доктор, — я по личной инициативе.
— Не тревожь припадочных! — заревел Жаворонков, тут же ударяя «Историей атеизма» доктора по черепу.
Стул треснул. Доктор свалился. Я прыгнул через стол на Жаворонкова, тот заорал «заслоняй окна», и тотчас же без того грязные и темные оконца заполнились детьми и женой, в послушании которой я уже понял примирение и недоверие к словам доктора, несомненно, возникшее как результат бешенства мужа. В комнате совсем стемнело. Сокрушительным ударом, который мог бы повалить и церковь, будь обладатель его подлинным безбожником, Жаворонков кинул доктора к моим ногам, второй удар получил я — непосредственно в темя, правда, благодаря этому я понимаю теперь более или менее точно, что такое за выражение «потемнело в глазах», но при всем том мне это было ощущать до тошноты неприятно, вдобавок еще доктор тут же лягнул меня ногами в живот, проползая под столом на простор. Удар в темя вызвал во мне то, что наивные люди, не понимающие рефлексологии, именуют «рефлексом отпора», — я прыгнул на шею Жаворонкова, который разминал доктора беспорядочными своими кулаками. Жаворонков вскочил. Я стукнулся теменем уже о потолок, но колени мои крепко держали шею Жаворонкова. Доктор, опираясь на спину, почему-то предпочитал орудовать каблуками, крича: «Бейте в ухо, Егор Егорыч, в ухо! Научите их слушать!» Вонь, пыль, топот, опрокинутые столы, кровати, трещащая фанерная перегородка проломилась — из-за нее выскочили какие-то тетки и дяди, ребятишки сыпятся с окон, количество кулаков неимоверно увеличивается — баба укусила меня за колено, и я съехал с Жаворонкова, но, достигнув до полу, я схватил табурет!.. Не знаю, как в атеизме, но в драке Жаворонков прекрасно мог ориентироваться: он мгновенно вырвал мой табурет, саданул им меня по ногам и затем с такой монументальной последовательностью опустил его на зад доктора, что тот, вышибя дверь, хотя и пытаясь удержаться за мой ворот пиджака, вместе со мной вылетел на лестницу. Пропускная способность лестницы оказалась совершенно ничтожной: мы летели по ней самой не приспособленной для полетов данного масштаба частью нашего тела: лицом, ногами же — цепляясь и волоча за собой всевозможное барахло: сани, детские коляски, какие-то неимоверно длинные ходули с кожаным хомутом посредине, тазы, корыта — все это грохотало, выло и пело, явно и нагло радуясь своему пробуждению, перепрыгивало через нас, мелькало перед глазами, лезло в рот, явно желая поделиться своими впечатлениями.
Мы очнулись у порога кухни среди кучи пыльной дряни, причем, извозчичьи санки самым странным образом, в виде кашне, были надеты на мне. Ободранный, избитый доктор сидел в тазу, пальцем вместе с кровью и выбитыми зубами выскребая изо рта пыль. Из носа его обильно текло, глаза его были подбиты, громадная шишка начиналась ото лба и кончалась на шее. «Поразительно неприспособленная лестница», — пытаясь улыбнуться, сказал он. Он встал на четвереньки, и все попытки превратиться в двуногое ему явно не удавались. Я подхватил его под руки и поволок в нашу каморку. Здесь я его отмыл водой, разорвал рубашку для перевязок, затянул ему лоб и свое укушенное колено и грохнулся на тюфяк. Пыльное и душное солнце светило нам. Доктор лежал, блаженно вздыхая: попробовал он, было, поднести ладонь к уху — и со стоном должен был отказаться от этой попытки. Впрочем, это не задержало потока его размышлений:
— Кровопускания, совершенно ясно, чрезвычайно полезны для человеческого организма, Егор Егорыч. И почему бы нет? Миллионы лет до того, как появилась современная нам форма цивилизации, человечество неустанно дралось и пускало почти ежедневно себе кровь: с природой, с подобными себе, со зверями, кровь должна обновляться! Нам полезны раны! Нам полезны легкие кровопускания, не милитаристического, а физкультурного или лечебного характера. Какая ясность ума, какая транзитность мышления!..
— Вы и посейчас думаете, что, например, Жаворонков искренен?
— Иного прохода ему нет, Егор Егорыч.
— Удивительно!.. И вы с ним были искренни? И припадок? Я никогда не встречал такого организованного припадка.
Доктор потер живот:
— И я тоже, Егор Егорыч. Ну, а велик ли наш опыт? Бегство в болезнь? Есть остатки таковой болезни у Жаворонкова, есть. Но вообще он на правильном пути, и его негодование, хотя и прикрытое «бегством в болезнь», открыло мне, что он не любит Сусанны, а искренно предан делу атеизма.
— Сожалею, но я не могу постигнуть ясности вашего ума, Матвей Иваныч.
— Покамест, я недостаточно ясен, Егор Егорыч.
Он, стоная, прощупал свой живот!
— Боюсь, что удар табуреткой нанесен был мне не вовремя: ничего не поделаешь, приходится расплачиваться за свои логические ошибки, весьма возможно поэтому, что завтра или сегодня вечером мне вместо между народного вагона придется лечь в больницу, и слечь настолько, что я буду просить вас, Егор Егорыч, заменить меня здесь.
— Благодарю, — сухо ответил я.
Полностью мы отдышались часа через три-четыре, «чему помогла, — заключил доктор, — полная ясность, достигнутая между нами», а я больше склонен был отнести это к отличному состоянию нашего здоровья, хотя кто бы мог понять целиком доктора: ему, при его постоянных душевных осмотрах, так сказать, при постоянном просвечивании себя, разыгрывать хитреца, конечно, невмочь. Велика ли хитрость назвать себя «ухогорлоносом» вместо психиатра и согласиться поехать на Урал, но и тут доктор жаждал ясности: он давно бы сознался Черпанову в обмане, отправился бы на Урал, подвергся бы всем сквознякам черпановских замыслов, кабы не просовывалась через все это белокудрая Сусанна и два тощих ювелира с их оскудевшим разумом. Вместе с тем, — я говорю совершенно искренно, — в данном случае кровопускание оказалось полезным, особенно в последние два часа, когда из носа внезапно выкатилось не менее двух стаканов крови и меня совершенно перестала интересовать история с ювелирами и дурацкая легенда о короне американского императора, ящик с золотыми часами и прочая криминальная дребедень, годная только для того, чтобы щекотать мещанину его тусклые мозги перед сном.
— Я имею крепкое желание, Матвей Иваныч, направиться в Дом отдыха, собраться там с мыслишками и драпнуть на Урал. Не пора ли мне перечеркнуть счетоводство?..
— Пора, Егор Егорыч, давно пора. Мне тоже хочется в поезд. Полагаю, что насчет больницы я перемахнул. Дыра в животе кажется исчезает. Завтра, если я доберусь до извозчика…
— Да я вас, Матвей Иваныч, донесу на руках!
— Незаурядное у вас сердце, Егор Егорыч! Если б только вы не рассказывали анекдоты. Зачем ученому анекдоты?
— С чего вы взяли, что я буду ученым?
— А Черпанов? При том курсе, который поручен ему, он вас выведет в ученые. Вы обязаны быть ученым, Егор Егорыч. Тогда с меня спадет обуза обмана, мне не хочется покидать нашей больницы, я сработался с ее коллективом, но не могу я и сознаться Черпанову: меня выгонят из дома, а следовательно, и от Сусанны. Будьте ученым, Егор Егорыч.
— Меня скорее прельщают обязанности секретаря!
— Ну, будьте вы ученым секретарем!
Тут мы и примирились: доктор уступил мне, а я ему. Он повеселел еще гуще, защелкал пальцами и зацедил сквозь зубы какую-то песенку.
Страна наша жизненка
Я медленно ковылял от колонны к колонне.
Черпанов, подтянутый, прямой, солидно колыхая пробоинами бесчисленных карманов, шел ко мне навстречу. Я хотел было проскользнуть мимо него: для будущего ученого секретаря сегодняшнее мое поведение было, пожалуй, несколько легкомысленным. Черпанов наскочил на меня и поволок за собой:
— Кое-кому уже намекнул, Егор Егорыч. На днях открываем запись желающих ехать на Урал за перерождением. Я беру на себя смелость использовать весь данный дом — без просеиванья.
— И без пролетарской прослойки?
— Вы чувствуете действительность, Егор Егорыч, сквозь призму эпохи. Одобряю. Без пролетарской прослойки невозможно строительство, а строительство, подобное нашему, тем более. Будет прослойка, непременно будет. Черпанов да чтобы не достал пролетарской прослойки! Галопный смех вы услышите в ответ, Егор Егорыч, если скажете нечто подобное кому-либо из его ответственных друзей.
Я выразил удовольствие наблюдать его бодрым и твердым.
— Начались переговоры, Егор Егорыч, начались! Вы правы — прослойка. Вопрос в том, группировать ли нам вокруг пролетарского ядра или ядро подобрать позже.
— А если попробовать одновременно.
— И то мысль. Попробуем одновременно. Желаете ли вы работать по ядру или вокруг ядра?
— Разрешите мне ответить завтра, Леон Ионыч.
— Завтра так завтра. Имеется еще работенка вне ядра.
— Секретарская?
— Пожалуй, если рассматривать широко обязанности секретаря, то и секретарская. Прокрались до меня слабые данные, что бродит по нашему дому какой-то заграничный костюм.
— На ком?
— Ну, если б на ком, то среди наблюдаемой рвани мы б его сразу разглядели. Не на ком, а у кого-то!
Мне вспомнился разговор Жаворонкова и дяди Савелия, зеленая поддевка Черпанова, брошенная вчера доктором фраза о костюме, но из-за сегодняшнего моего легкомыслия я постеснялся высказать свои соображения. Да и затем, велика ли штука костюм, чтоб стоило из-за него отнимать время у занятого человека?
— Дрянь какая-нибудь, Леон Ионыч.
— Дрянь на себя бы надели. А вдруг проплывет мимо мировая вещь? — Он пренебрежительно потряс синие свои штаны. — Решето, положительное решето, а не материя.
Он приволок меня уже к дверям дочерей Степаниды Константиновны. Говор многих голосов, шум передвигаемых стульев, топот ног — все это заставило меня пробираться дальше. Черпанов припер меня к двери:
— Вне ядра так вне ядра, Егор Егорыч. Кройте сюда и узнавайте, какие там слухи насчет костюма и откуда он. Вот вам работа на сегодняшнее число.
— Неудобно, Леон Ионыч.
— Чего неудобного? Они же на днях будут нашими подчиненными. Нашли перед кем стесняться?
И он толкнул меня в дверь.
Я перелетел через порог и упал на мощные руки Людмилы Львовны.
Она нежно помогла мне сесть.
Комната, занимаемая сестрами, удивляла какой-то бесстыдной бедностью: три доски на кирпичах — кровать Людмилы, ситцевый матрац, покрывающий громадный жестяной сундук — Сусанны, сорокаведерная бочка взамен стола — и все. Открытка, изображающая невесту под венцом, украшала сосновую перегородку. В перевернутой бочке сидел Мазурский, на кровати ничком, задрав к потолку толстенькие ножки, курил Ларвин. У окна притулился скромно дядя Савелий, играя незажженной сигарой. Сестры, взявшись за руки, словно готовясь к хороводу, стояли у бочки. Все указывало на забаву: длинный и ловкий Мазурский, крутящийся в бочке, сестры вкруг него и наблюдатели — бледный и вялый Ларвин и скучнейший дядя Савелий, однако и встревоженные лица, и поспешность, с которой они завели разговор со мной, и ненужное обхаживание меня, скорей указывали на бывшее здесь крупное объяснение, пожалуй, ссору. Людмила ласково спросила — холост ли я, Ларвин — сыт ли, Мазурский — интересуют ли меня слесарные станки, дядя Савелий предложил сигару, но всем, кроме разве безразличной Сусанны, как можно скорей хотелось, чтобы я ушел. Я бы и ушел, если б не Черпанов за дверью: я чувствовал, что он сотни раз способен вталкивать меня сюда. А попробуй спроси о костюме! Раньше всего и вопрос-то, даже не вглядываясь в окружающую скудность, нелеп, а затем это верчение, топот и грохот Мазурского внутри бочки, что это, как не желание заглушить внутреннее беспокойство, постоянное его ныряние, приседание — ловкой забавой скрыть тревогу. Я только плохо соображал, зачем здесь дядя Савелий, но он, предложив мне сигару, уже не возвращался к подоконнику, а направился к дверям.
— Обождите, дядя Савелий! — застучал сапогами в бочку Мазурский — похоже, что бочка отдаленно напоминала ему председательский звонок. — Обождите. Наличность разговора!
— Разговор между вами, я тут при чем? Хотите сигару?
— Катитесь вы с вашей сигарой… Я требую рассмотреть вопрос со всех сторон!
— Я сам-то живу из милости, Мазурский. Кроме того, ваши фонды вы сами обесценили…
— Чистейшая случайность! Дядя Савелий, слушайте!..
— Договор расторгнут, обручальное кольцо возвращено. — Людмила выпустила руки сестры. — А, Сусанна?
— Расторгнут, — лениво протянула Сусанна, поправляя волосы, — куда я могла синюю гребенку засунуть?
Мазурский присел на дно бочки и оттуда крикнул:
— Не согласен!
— Можно и не расторгать, — сказала Сусанна протяжно, опускаясь рядом со мной на сундук. — Мне все равно.
И действительно: ей было все равно! Холодное алебастровое ее лицо, украшенное завитками волос цвета благородного металла, ее тонкая и крепкая шея, ее неподвижный медный торс, ее ножки, словно защемляющие пол… да, теперь я понимал робость доктора Андрей шина.
Мазурский, притянув за плечо дядю Савелия к бочке, изливался в жалобах. Полтора года он гулял с ней, а теперь за проступок, смысл которого он так и не понял, его «отшивают». Он ради нее старался, заводил знакомства, поступил даже чистильщиком сапог, он свой нравственный долг исполнял честно, и если он вышел из подчинения, то опять-таки смысл его неясен. Что он на саблях клялся подчиняться? Он хочет работать самостоятельно!
Ларвин, попыхивая папироской, вяло прервал его. По его мнению, нет такого случая, где нельзя столковаться, как в области продовольствия, так и в области нравственных норм. А дядю Савелия лучше отпустить: у него племянники злые! Мазурский побагровел, но плечо выпустил. Эффектно, финки! Ближайший друг, а угрожает финками. Мазурский волчком закрутился в бочке. Ларвин вяло наблюдал за ним: «Крутись, а кольцо-то на другой руке будет». Мазурский вспылил: «Для него супружеское право на такую ледышку честь небольшая. Он для гордости хотел жениться. Одел бы ее, прошелся бы. А теперь от гордости же и отказывается. Хватит с него попреков. Он будет действовать самостоятельно…» Дядя Савелий вышел. «Почему здесь этот старый скучный черт бродит, размахивая сигарой? Кто он такой? Я спрашиваю, кто он такой?» — Мазурский выпрыгнул из бочки и закрутился по комнате. Людмила, засучив полные белые руки, опрокинула бочку дном вверх и накрыла скатертью, а затем, подбоченясь, нагло бронзовыми своими глазами уставилась на Мазурского, пылая.
— Да, он спрашивает, кто такой дядя Савелий? Исполняет он обязанности дворника при доме? Пожалуйста. Передает решения квартироуполномоченной, пожалуйста. Но какое ему дело до моей самостоятельности и почему из-за нее угрожают финками? Против финок могут быть выдвинуты кулаки Лебедевых! Ага, не нравится. Да, да, Лебедевых! Шесть братьев Лебедей ездят по Уралу, но они всегда и вовремя возвращаются. Ах, я и прежде видел ваши глаза, Людмила Львовна, и всю действительность вашего затылка, Сусанночка. Мой нравственный долг высказать вам правду!..
Мазурский подскочил к великолепному затылку Сусанны.
— Ему угрожать финками! Мазурскому! А Лебедевых знаете?
Гнилое его дыхание струилось в мое лицо. Его черные мокрые волосы растрепались. Огорчение и тревога, крутившие его, лежали далеко от любви. Но что это могло быть? Чему волновался высоконравственный чистильщик сапог, так обожавший слесарные станки? Я отодвинулся. Он приблизился к Сусанне.
Людмила Львовна вдруг цепко схватила его за ворот расстегнутого френча, откинулась назад — грязный истертый шелк ее юбки показал нам нею мощь ее каменных бедер, — подмигнула, щелкнула пальцами свободной руки и длинный ловкий Мазурский, колыхая галифе, пронесся через комнату и вылетел за порог.
— Вот тебе и Лебедевы, — сказала она, затворяя дверь.
Ларвин вяло раскурил затухшую папиросу:
— Сколько непроизводительно продовольствия затрачено. Где вы обедаете, Егор Егорыч?
Людмила сочно поцеловала сестру в шею:
— Я тебе другого жениха найду, Сусанночка. Или тебе Ларвина отдать? Ларвин, возьмешь? Берет! Иди, Сусанночка.
— Мне все равно, — дремотно зевая, ответила Сусанна. — Куда я могла гребенку затырить? А доктор-то не провинциал! Не-ет!..
Я удалился. «Былинки» вдогонку обозвали меня рохлей. Ваше дело! Но, право, я чувствовал головокружение. Недюжинным человеком надо быть, чтоб объяснить — почему Мазурский крутился в бочке, а кручение его — слабейшая динамическая неясность из всех неясностей, окруживших меня. Почему он так яростно возмущался дядей Савелием, самым скучным и беспомощным человеком в доме? Что это за кулаки неизвестных Лебедевых? И еще заграничный костюм? А корона американского императора — тошнотворно вспомнить! Нет, достаточно с меня дешевых тайн, недомолвок — и тумаков. В дом отдыха на речной песочек, наблюдать, как играет плотва среди камышей, ветка гнется под тяжестью синицы со вздрагивающим хвостиком, комар ловчится овладеть твоим носом!..
Черпанов, строгий и сухой, поманил меня с крыльца. Возле него уже вился Мазурский. Подойдя, я услышал, что он вкрадчиво отговаривал Черпанова от контрактации семейства Мурфиных.
Вздорные они и лютые политиканы! Начнутся сплошные склоки. Он льстиво добавил: их отшлифовать невозможно, с них мгновенно соскользнет любая глазурь цивилизации, не для них писана высоконравственная музыка будущего. Черпанов солидно успокоил его: любая подлость исправима трудом и правильно направленным искусством, надо уметь нашпиговать, найти в каждом заблуждающемся его специфические особенности. Мазурский продолжал юлить. Черпанов косо рассматривал отдельно каждую часть его тела. По всему было видно, что они еще не договорились до самого важного. Черпанову, мне думается, Мазурский казался несколько бестолковым. Мазурскому, — сквозь постоянно клятвенную почтительность, — думалось: самовластный нрав Черпанова трудно довести до полной ясности. Они ревниво цедили слова.
Я отошел от них, желая попроведать доктора. Задумчиво я брел к нашей клопиной каморке. Странно, что мне суждено быть свидетелем удивительнейших перерождений, руководимых Черпановым. Передо мной вставал почти благоговейный вопрос: а надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, как будто бы и надо: иногда меня посещали мысли из тех, которые «клеймят». Правда, они исчезали быстро, особенно, если не задерживали выплату жалованья; правда, держал я их до мелочности подспудно, усердно стыдясь их, что уже явно указывало на мое самовольное перерождение, правда и то, что появлялись они на сон грядущий, имея, так сказать, колыбельное значение, будучи до некоторой степени отзвуками детства, вне всякого своекорыстия. Но не есть ли это оскорбляющая честь черпановской конфедерации, подлая особенность моего эгоизма? Не есть ли это бесчестность? Ага!.. Но, с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко, хотя такие черты, и решительнейшие, никому не мешают. Например, я обожаю мятные пряники, ватмановскую бумагу, глубокие пепельницы и ножницы для ногтей. Я вижу уже негодование на многих лицах! Помилуйте, скажут мне, здесь идет разговор о перерождении основных чувств и склонностей, а вы лезете с пепельницами. Кому они нужны? Любите вы, черт вас дери, сколько вам хочется ваши пепельницы и ножницы. И как вам не стыдно! Да и каким способом уничтожить у вас любовь к мятным пряникам? Каким? Очень простым. Если, допустим, — как художественная деталь, не более, — отрицательные герои всех пьес будут любить мятные пряники, а я буду перерождаться благодаря этим пьесам, то что же, думаете, впечатлительное мое сердце с прежней легкостью будет лопать мятные пряники? Или подлый авантюрист зарежет светлую личность романа ножницами для ногтей, — то смогу видеть их впредь без отвращения? Плохо вы обо мне думаете! Вы возразите мне, что такие своеобразные мысли не больше, как отговорки, здесь я не спорю. Сознаюсь, что, вращаясь доныне преимущественно в бухгалтерско-счетоводном мире, я мало наблюдал перерожденных личностей, а если и перерожденных — посредством водки, — то в обратную сторону от общего течения культуры.
У дверей я вспомнил, что в суматохе я забыл спросить сестер о костюме. Надо посоветоваться с Черпановым: возвращаться ли мне к ним или обождать. Черпанов с крыльца исчез. Мелькнул вдалеке, переулком, щегольской френч Мазурского. И ванна заперта снаружи. Куда он мог так быстро скрыться? Я постучался к сестрам. На досках по-прежнему валялся Ларвин, пуская пухлые кольца дыма. Черпанов, со строгим и сухим лицом, стоял возле сундука, обитого жестью, на котором сидела Сусанна, побалтывая ножками. Бесчисленность синих карманов упиралась и локти Сусанны, руки его скользили от плеч на более волнующие округлости. Лицо Сусанны изображало то же унылое любопытство, когда она в кухне смотрела на доктора, присевшего под тяжестью ведра. Позади Черпанова, положив ему на затылок белые полные руки, смеялась Людмила Львовна. «Не женится, — прихихикивала она, — не женится, Сусанночка». — «А мне все равно», — ответила Сусанна, и Ларвин, кроша слога, пробормотал: «Очень много, Леон Ионыч, надобно для двоих продовольствия. Впрочем, достанем. Хотите десять кило вологодского масла?» Черпанов обернулся ко мне:
— А? Я так и предполагал — у него!
— Кто?
— А костюмчик.
И он хватил Людмилу Львовну ладонью по бедрам. Она кинулась на шею к Ларвину, тот вяло вынырнул из-под ее рук и закурил новую папироску. Людмила заполнила своими телесами его колени и, стараясь раскачаться, говорила:
— Ты думаешь, Ларвин, самое главное — прокормить?
— Особенно тебя…
— Нет, самое главное взволноваться. Я Сусанну хочу взволновать… Почему она охладела?
— Урал, Урал взволнует, — сказал Черпанов, опять устремляя к Сусанне бесчисленность своих карманов.
— Зачем торопиться, поволнуемся еще, — промолвила лениво Сусанна.
— Вот как начала отвечать! Я из-за нее две партии прозевала.
— Выгодные женихи? — спросил Черпанов. — Партии, то есть?
— По пятьсот пудов. Овса, Леон Ионыч. Поскольку вы принимаете грешников, так я вам сознаюсь, да, небось, вы и сами поняли: службишкой сыт не будешь. Вот он жених считается, Ларвин. А за полтора года гулянья он мне едва-едва один торт подарил, да и тот гнилой, хоть и специальность его — продовольствие. А так, извините, полный расчет. Я, Леон Ионыч, обожаю извозчиков! Я с ними так умею разговаривать, что они вежливее дяди Савелия делаются. Извозчик, известно, постоянно овсом удручен. Прокатишься — и предложим ему. Следующим разом он при катаньи — скидочку.
— Спекуляция, иначе говоря, Людмила Львовна.
— Спекуляции, Леон Ионыч. А кто нонче не спекулирует? Одна Сусанна избрала самую невыгодную спекуляцию. Жрет, спит да зевает. Ее б давно со службы изгнали, кабы не красота, а повышения ей нет, потому неряшлива…
— Неряшливости мужчины боятся, — наставительно проговорил Черпанов, руками доказывая совершенно противоположное.
Ларвин выпустил большой клуб дыма:
— Неряшливые жрут больше.
— А ты пробовал? — протяжно и холодно спросила Сусанна. — Попробуй.
Ларвин вяло ухмыльнулся, Людмила продолжала:
— Ее надо, Леон Ионыч, обрушить. Если переплести в нужное содержание, она будет иметь большую ценность. Я овес обожаю, извозчиков и свадьбы, Леон Ионыч. Вы возьмите когда-нибудь в горсть овес и выпускайте по зернышку. Честное слово, каждое зернышко будто мина, а упаковано с какой хитростью. Вот и свадьбы. Соединишь двух людей, они закупорены, а, глядишь, денька через два их и есть можно — они распарились и уже сокровеннейшие сплетни друг о друге распространяют.
— С этой целью вам желательно, Людмила Львовна, и меня женить?
— А почему нет, Леон Ионыч?
Черпанов отнял руки от Людмилы:
— Я укажу вам более высокие цели, чем свадьба и овес. Испарится также и задумчивость Сусанночки.
— С чего вы взяли, что я задумчива?
— Но ведь молодость-то уйдет, Сусанночка!
— А, Людмилка!.. Молодость, молодость! Молодость — грубая плата за науку, вот что стоит твоя молодость. Я и спекулировать не умею из-за молодости! Вот я и жду. Мазурский учил — не вышло. И правильно, что выгнали его. И оставить тоже вреда мало…
— Мазурский — сволочь! — вскричала Людмила Львовна, спрыгивая с колен Ларвина. — Гоните его от себя, Черпанов!
— Низкая личность, — подтвердил Ларвин. — Разве в станках понимает…
Людмила прервала его:
— И в станках ни лешего! Прохвост и наушник. Туда же — в единицы.
— Куда?
— В единицы, Леон Ионыч. Не общей линии, а единичной.
— А…
— И получились сплошные убытки.
— Но ведь ваше дело — овес. Или из-за свадьбы?
— И не из-за свадьбы, и не из-за овса. Этакую стерву к овсу допустить! Он его сгноит в первые же три дня. Шесть станков устроил покупателям и возгордился. Сусанну переоборудую! Сусанна всех перекроет, она в училище выдающейся числилась — я понимаю, как ее переоборудовать.
Черпанов положил руки на плечи Сусанны:
— Урал, Урал, Сусанна! Это и здравница, и призыв к новому человеку. Ваша красота уже данные для нового человека. Новый человек на новой земле будет красивым и опрятным. Вот, возьмем, зубы.
— Зубы я чищу.
— Или баню.
— И в баню я хожу.
— Какой же опрятности требует от вас сестра?
— Ее спросите.
— А, Людмила Львовна? Жених? Жениха-то вы ей выбирали? Мазурского? Не оспариваете. Так в чем же дело? Ежели вы требуете тряпичной опрятности, так кто у вас тряпки поставляет?
— Нет такого, Леон Ионыч, — ответил вместо Людмилы Ларвин.
— Удивительно! Почему же меня тогда надули на материале? Выходит, что я обязан был его надуть. Просто подлость какая-то. Это меня московское воображение ослепило. У него, непременно у него. Какая, Людмила Львовна, у Жаворонкова специальность?
— Стройматериалы.
— А он переквалифицируется, известно ли вам?
— Подозреваю. У нас часто переквалифицируются. Это же не прежние времена. Да и вы сами намерены нас переквалифицировать, Леон Ионыч.
— Я — другое дело. Я представитель власти.
— Я понимаю современных художников, которые борются за свежие формы искусства. Вторжение прошлого слишком ужасно и тягостно, с ним нельзя не бороться. Многотомные классики нет-нет да и просунут в наши книги свои волосатые рты. Но есть такие слова, есть такие выражения, вспомнив которые, начинаешь сомневаться в истребимости старых форм, начинаешь думать: а стоит ли игра свеч? Например, подыщите строчку короче и выразительнее следующей: «Наступило гробовое молчание». Три слова, три банальнейших слова, а какая каша ими заварена! Тут и папироска вывалилась из губ Дарвина, тут и вздыбилась Людмила Львовна, крепко сжав в кулаки белые свои руки, тут и Сусанна второпях одергивает коротенькое платьице, тут и я восхищенно думающий: «Что за проникновенный человек! Эк, закрутил, эк, запрудил!»
И, наконец, Людмила Львовна — раз и навсегда — решила узнать:
— Какой власти?
Черпанов вонзил:
— Снисходительной.
Ларвин вставил папироску обратно. Задымил, вяло вздохнув:
— Не читали о такой.
— Опыт! Опыт! Намек. Разъяснение позже. Взгляд на пакет за девятью печатями, в Манильских островах, — и все поймете. Мазурский показался мне кривым, хотя и упирает все время на нравственность. Я с вами согласен, Людмила Львовна, он втируша. Я с вами, Сусанночка.
— Это мне безразлично.
— Не помните ли вы рассказ одного американского писателя, Сусанночка, я прочел его в поезде.
— Это сестра любит книги, а мне плевать, Леон Ионыч.
— Там, видите ли, удивительным образом субъект попадает в громадный водоворот, километров трех или пяти глубиной, вроде керосинной воронки, но не заполненной жидкостью. По краям этой воронки, непрерывно вращающейся со страшной быстротой, по наклонной плоскости, вроде как бы по дороге, несутся вниз и вниз предметы и корабли…
Людмила сказала:
— Уподобление ваше, Леон Ионыч, было б ценным и даже жутким, кабы вышеупомянутый свидетель не был единственным живым свидетелем воронки и вокруг него не стремились в пучину мертвые корабли, а кроме того, кабы рассказанное не было болезненной фантазией Эдгара… Мы поклонники реализма, Леон Ионыч. Крупная партия овса дороже умения вдергивать нитку словесности в золотую иглу фантазии.
— Кишки, они способствуют закоренелости, — Ларвин стряхнул пепел. — В области искусства, но не продовольствия. Варенье еще один мужчина предлагает, клубничное. А, Леон Ионыч?
Я удалился.
Теперь для меня стала более понятной ночная суетня в коридоре, сверточки, корзинки, чемоданчики из фибры; перешептывания на кухне, постоянное хлопанье дверьми; игра ребятишек на дворе — «в спекуляцию»; они меняли щепки на лопухи, обрезки листового железа на пустые папиросные коробки, карандаши ходили за бревна, спички за карандаши, песок за муку. Какой мощной и загадочной фигурой вставал среди этого человеческого хлама Черпанов, какое нужно умение, чтобы отсортировать для себя необходимое и выкинуть на свалку дрянь. Любопытно, как он понимал Сусанну? Присвоит ли он ее себе или ограничится болтовней? А бедный простодушный доктор! Я не нашел в себе достаточно сил рассказать ему о Сусанне и о всем, слышанном мною, я питал нежность к этому избитому, покрытому синяками болтуну, — да и кроме того, после публичного признания Черпанова, разговор наш приобретал почти государственное значение. То, к чему я раньше относился почти как к шутке, вставало теперь передо мной сложнейшей секретарской обязанностью. Я выразил свою нежность доктору тем, что принес из столовой стадиона суп в чайнике и две заржавелые котлеты. Вливая в себя суп, доктор расспросил меня о стадионе, попутно высказав кое-какие соображения:
— Когда вы вспоминаете, Егор Егорыч, великую французскую революцию, то неизбежно перед вами навешивается улица, вас захватывают крики толпы: улица диктует свои условия, сама, непосредственно, всем бельэтажам и особнякам. Вдыхаете вы проклятья, запах пота толпы, бледные головы с вершин пик, аристократы кивают вам! А сегодня, во дни великой советской энциклопедии? Улица безмолвна. Улица, одетая в черное, молчалива, ломая храмы, переулки, тупики, проведет вас к заводам. Кубы клубов, клубясь знаниями, встретят вас. И все-таки…
— И все-таки, Матвей Иваныч?
Он потер живот, указывая пальцем в окно, на стадион:
— И все-таки, Егор Егорыч, мысли пятидесяти тысяч рабочих зрителей, собравшихся на стадионе, невидимыми нитями протягиваются к нам, в наш дом, наполняют трепетом и страхом сердца, предъявляют свои требования. При любой ограниченности, вы поймете, чего они хотят и что приказывают. Если вдуматься, то подобная форма немой диктатуры убирает с поля куда быстрее и лучше, чем вся пылкость старинных плакатов и гравюр. Пятьдесят тысяч на стадионе и этот гнилой домишко против него. О чем говорит стадион, еженощно и ежедневно думаем мы. Ясно он думает о нас. Но что он думает о нас, в чем нас подозревает? Мы нищи и убоги…
— Но ловки!
— Но ловки. Единоборство не исключено. Не прекращается, не закрывается, никогда не пропадает из наших глаз стадион, навсегда предубежденный против нас.
— Навсегда ли?
— Навсегда, Егор Егорыч.
— А черпановский опыт?
— Какой?
Я увильнул:
— Помнится, вы сами, при встрече с ним, упоминали и восхищались его замыслом, даже подтолкнули его…
— Черпанов, дорогой Егор Егорыч, ничтожество и мусор. Я восхищался тем, что и для него нашли дело: ибо, поистине, нет другого на земле, кто бы смог лучше вербовать рабсилу. Призрачная миссия, полученная им, восхищает его до изнеможения. Он сумел вообразить, что комбинат принадлежит ему, что он сам будет распределять рабочих, служащих, инженеров по их местам, в то время, как их ждут специалисты, знатоки, хозяйственники, которые безошибочно укажут каждому его место. Фиктивная, смешная фигура врожденного, но бездарного хозяина, вдохновенного собственника. Нет, такой, Егор Егорыч, никогда не будет моим соперником по Сусанне. Материя, из которой сделан этот человек, садится при обработке, а обработка, которой может подвергнуть его Сусанна, рискована для подобных существ. Бьюсь об заклад, Егор Егорыч, истина.
Я отказался от заклада. Знай я доктора похуже, я б подумал, что он подслушал наш разговор в комнате сестер и даже подглядел обращение Черпанова с белокурой Сусанной, но покамест, надо полагать, доктору пришел на ум иной соперник. Кто? Приходилось ждать, пока он не выведет свои заключения сам. Я не торопил его с поездом, да и он сам не спешил. Так, по очереди, лежали мы на матраце, кипятили чайник, я попросил у Населя колоду карт, передавая ее мне, тот не преминул пожаловаться на родственников, которые мешают ему завести приличные карты, — я пригласил его разыграть партию в шестьдесят шесть — он испуганно отказался. Мы играли вдвоем: доктор оказался плохим игроком.
Под вечер следующего дня, когда я возле плиты заваривал чай, Черпанов пригласил меня к себе. Я отнес чай, — должен заметить, не обладаю привычкой спрашивать своих друзей: куда и зачем они уходят или откуда приходят, — и вернулся к Черпанову. Он взял меня под руку — и мы отправились обедать на стадион. Позади себя мы оставляли черный купол храма Христа Спасителя, похожий на дырявое решето. Против нас, перед площадью, лежали кирпичные груды взорванной церквушки, от которой еще уцелели своды с фресками конца XIX столетия, где святые, несмотря на мантии и ризы, все же походили стрижеными бородками и упитанными лицами на чиновников времени Николая II-го, а унылая однообразность неба и облаков напоминала царские канцелярии.
Черпанов затребовал борщ. Я подумал — и тоже заказал борщ. Этим поступком я как бы внутренне извинялся перед ним в том, что не возразил вчера доктору при его резких и неправильных определениях Черпанова. Держа ложку в борще и крутя перед лицом ломоть черного хлеба, Черпанов сказал:
— Ядро затевается. Спускаемся в шахты московские понемножку, Егор Егорыч.
Я порадовался, что затея его оказалась жизненной.
— Худеть вам от нее не придется, Егор Егорыч. Разрешите изложить вам басню происшедшего при посещении кустарного заводишка возле Савеловского вокзала.
Я обрадовался — и Черпанов начал:
— Обожаю я, Егор Егорыч, поэзию. То есть не то что обожаю, а всегда при добавочных затруднениях приходят ко мне различные стишки на память, даже не стишки и не на память, а так, возле, не мешая возвращаться к главной теме, подклеивается кое-что единогласное — в смысле стройности.
Ясно, что перейдя, так сказать, на «нелегальное» положение при самых легальнейших обстоятельствах, положение, смешнее которого и не придумаешь, — собирать ядро пролетариата зачем мне по крупным заводам? Увариваться мне вначале на малом. Тут я вспомнил, что мельком обратил внимание, возле Савеловского вокзала, в переулочке, существует некий гвоздильный заводик, кооперативных начал, артельный. Иду. Естественно — ворота, естественно — калитка, тесовый проход и возле табельной доски с тусклыми бляшками естественный и правдоподобный милиционер. Курит. Дым розовый. Вспомнил я поэзию — по причинам, выше объясненным. На ура спрашиваю технорука кузнечного цеха. А прах их знает, есть тут кузнечный цех? — «Васильева?» — «На производстве». — «Так я и пойду на производство». — «Нельзя». — «Скажите, пожалуйста!» — «На производстве обеденный перерыв».
— И отлично. Мне и необходимо разговаривать с ним именно в обеденный перерыв. Я поэт. Леон Черпанов. Описывать ваш завод приехал. Начнем с обеденного перерыва, и в обеденном перерыве мотивов достаточно…
Мысль о поэзии оказалась правильной и полезной, потому что милиционер отложил последний остаток интереса ко мне, как человеку своему, примелькавшемуся и надоевшему, сказав: «Третий корпус направо». Корпуса до единодушия старенькие, закоптелые, простодушные, и технорук Васильев тоже простодушен и разговорчив:
— Поэт? Отлично. К нам давно МАПП обещал поэта прислать, да вот, говорят, обождите до реконструкции вашего завода, а то грязь у вас невозможная, а поэзия наша требует субъективного объективизма в отображении действительности. И верно: осмотритесь! Посреди заводского двора, возле клуба, — помойка. Тринадцать рапортов я подавал. Не обращают внимания. На такой помойке, если завод воспеть, и Зозуля обсечется.
— Э, товарищ Васильев, да вы любите литературу!
— Сам пишу. Историю своей семьи.
— Ну, где Зозуля обсекается, там Черпанов не пропадет. Ведите меня, товарищ Васильев, к самой красочной ударной бригаде. А лучше к двум.
— Заслуживают уважения две такие бригады, товарищ Черпанов. Да вон они сейчас, кстати, спорят. Савченко и Жмарин. Товарищи, здесь вас воспеть поэт пришел!
Трепет, не трепет, а приятно было сознавать, что наконец-то перед тобой подлинная квалифицированная рабсила, ядро моей задачи. Сидит на бревнах, кусках чугуна, угля — группа рабочих. Позавтракали, курят. Дым розовый. Там и сям ломовики дремлют, лошади будто замаринованные или таблицу умножения учат. Я вмешиваюсь, закуриваю и начинаю «вдалбливаться»:
— Так вот, товарищи. Я — Леон Черпанов. Поэт. В стихах и в прозе. Который у вас бригадир Савченко и который Жмарин?
Савченко толстомордый и толстогубый, как будто постоянно губами за кого-то ходатайствует, а Жмарин с более приработанными частями и собой седоват, в жизни любит расчетливость и точность, как декларация по подоходному налогу. Чувствую я, что для возбуждения дела необходима прелюдия. Начинаю:
— Естественно, товарищи, техника — техникой, но человеческие отношения для поэта зачастую более важны: технические слова мы и из учебника вставим. Где же лирика? Где лучшая бригада и почему она лучшая?
— Моя бригада лучшая, — впадает в разговор толстыми своими губами Савченко. — Моя бригада плывет над всем заводом.
— Отлично, очень отлично. Замечательная бригада, следовательно. Почему же твоя бригада, товарищ Савченко, плывет над всем заводом, а бригада, будем говорить в открытую, жмаринская отстает?
— Во-первых, отличная работа…
— Вижу, — Жмарин заводится. Уступить не хочет, перебивает. — Иную работу тоже надо поставить в скобки, товарищ Савченко. Чем ты берешь? Переманил ты в свою бригаду лучших квалифицированных, более раннюю премировку обещал, конечно, и язык у тебя легкий. Да и первой-то она стала неделю назад…
Вкрапляю:
— Ага! Многое понятно! Вы, товарищ Савченко, добиваетесь уровня тем, что в свою бригаду привлекаете лучших, обещая им в силу дарованного вам ораторского таланта более раннее и, так сказать, безболезненное премирование, некоторые льготы и поощрения. Несомненно, вы прослеживаете за вновь поступающими: кто лучше работает и сообщаете ему, что вы легче других имеете возможность добыть ордер — сапоги, пальтишечко…
Вижу, Савченко хмурится, а мне то и надо:
— Коли тебе, Черпанов, ясно, так и пой.
Молчу. Жмарин вставил:
— За рабочими не следит. Скажем: отчего работают у него без очков. Металл брызни — вот тебе и без глаз.
— Приятно, приятно!..
— Чего тебе, Черпанов, приятного — человек без глаз.
— Мне, товарищ Жмарин, приятна поэтическая деталь, которую вы кинули как кость. Поэт не всегда может быть человеколюбивым, иначе он и не соберет деталей. Кроме того, предо мной встало соревнование, я добираюсь до его внутренней сущности. Что хорошего, товарищи, глаза выжигать или людей калечить, но поэзия требует жертв, иначе ей не верят. Попробуйте выпустить комбайн, скажем, на сцену, и, если комбайн этот не раздавит человека, то какой в нем интерес? Мы еще многое дополним по психологии вашей бригады, товарищ Савченко, а сейчас мы выручим Жмарина. Отчего же оказались вы, товарищ Жмарин, внизу плывущим? Скажите-ка!
Жмарин молчит.
Продолжаю заход:
— Я не следователь, Жмарин, я поэт, который желает принести жару стихами, помочь, так сказать, отливке гвоздей, и этому поэту ваша прямая обязанность открыть топку.
— Я открою, Черпанов.
— Чего ж приучать нас к ожиданию?
— Надо тебе пожить, посмотреть…
— Но я должен знать, где мне жить и чего мне смотреть. Определите мне вехи, дайте мне фарватер, пустите мой пароход по глубокому руслу жизни, а не надламывайте его возле мели.
Жмарин, учтя образовавшееся внимание рабочих, приступил ко мне:
— У нас, дорогой товарищ Черпанов, заводишко укомплектован средними людьми, для поэзии мало подходящими. Не верхушки — и не цветки. Среднего человека, деревенского, раскачать трудно. Я бы с тобой и объясняться не стал, но ты меня следователем ударил. Что же получается: перед следователем я выступлю, а перед тобой не умею? Это выходит: я из-за убийства или воровства разговорюсь? С нашего завода, известно, как со ступеньки каждый норовит махнуть на какой-нибудь гигант. Пусть махают. Но махнуть они с разным сердцем могут, о чем я сегодня и расспорился с бригадой Савченко. Так вот, положив за начало выводов среднего деревенского человека, жадного на даровщинку, ленивого и скупого, пойдем мы вглубь. Вы, ребята, обижайтесь — не обижайтесь, но все вы через этого «нижесреднего» появились…
Вижу, кое-кто и обиделся. «Э, думаю, прах с тобой, оставлю тебя здесь, а сам махну к себе остальных». — «Так, так», — подтверждаю, а Жмарин расходится пуще:
— Жизнь требует поднимать этого «нижесреднего» выше, и если кидать его на гигант, так кидать не рвачом и лодырем, а настоящим парнем. Надо ему занавесочку с глаз долой, чтоб он свою темную конуру бросал. Из деревни чего особенного? Ой, был ли ты, товарищ наш Черпанов, в таких деревнях, где мыла и не знают, где дым выходит через двери, потому, видишь, они еще и окон не изобрели, колхоз они считают наущением дьявола, а злости в нем… налакается он водки и вспыхнет в нем эта злость: хватает он оглоблю или кол — давай глушить направо — налево. Пьют! А который похитрее, тот, если и бьет, так бабу, он копит копеечку, скупает барахлишко, перепродает в город, домашних гноит в несчастной несчетной работе, а под конец долгой жизни и замора скопит он каких-нибудь три сотни рублей. Плохо в деревне, товарищ Черпанов, сыро, болезни, глупо, зряшне. Бежит мужик в город, даем мы такому Ваньке лопату, двигаем к станку… Скучно?
Я замахал руками: продолжай обижать, дескать. Вижу, все супятся. Что скука? И скуку умей использовать.
— Поставишь ты его у станка. И все-то Ванька оглядывается, всему-то Ванька не верит, опасается. Как так? Деньги платят, пища отличная, помещение — пожалуйста, значит — не случится ли, что Ваньку обманут? Чересчур спокойно все. Надо ему, Ваньке, деньги собирать, пока, видишь ли, люди не опомнились, имущество, потому деньги и имущество единственный верный друг. И смотрит Ванька волком, компанию водит с деревенскими и всех своих деревенских за собой на завод тянет, так что иной завод фактически состоит из ста деревень, поставленных у станка. Так? А попробуй ты такого Ваньку на собрание затянуть, подступись к нему, — он уже и квалифицированный… в нашем деле, если у тебя хоть малая сметка, месяца через четыре-пять ты уже и категория.
— И отлично!
— Отлично? Пускай будет отлично, товарищ Черпанов, если ты его к сознанию подвинул, а не развил в нем жадности, как ее Савченко развивает. Обижайся, Савченко, валяй! Ванька он от радости да гордости, что категорию приобрел, совсем очумеет и все свои деревенские навыки за самые неистребимые истинцы ценит. Оставь его — и погиб Ванька! И себя — и дело. Как же не довести его до гибели? Много разных подходов. Я, скажем, для примера, руками ему монету, а сам твержу: «Вань, ты оглянись, милый!» Ну, вначале он не понимает выше койки общежития. Ну, веду я его на квартиру и говорю: «Вань, видишь, как настоящий рабочий живет. Тянись, Вань. Будет тебе квартира со светом, с трубой, горячей водой — кипятком. Будет тебе, Вань, кухня в полное твое распоряжение, но чтоб владеть этим, надо тебе, Вань, знать, откуда ты этим владеешь?» И жду от него, спросит он — откуда, дяденька? — тут его мозги и надо окатить рабочей гордостью, чтоб он понял, через какие страданья, жертвы и пререканья пришел к данному делу рабочий, чего он имел, чего имеет и как он должен направлять себя. А рабочая гордость она сразу не появляется, ей и учиться надо и у окружающих расспрашивать. Я и говорю: «Надо тебе, Вань, тянуться. Надо б тебе, Вань, у меня в бригадке поработать. Я тебя с легкостью еще выше в квалификации подниму и прыгнешь ты от меня в гигант. Сапоги? Сколько выручено? Доход? Не-е… Главный доход. Вань, у нас — ум. Вот куда важно поступление сумм. Узнай да оцени, не только то, что земля с виду как бы стол, а на самом деле яйцо, но и почему это капиталисты говорят: у нас гладко, а на самом деле сплошные ямы и страданья! Митричук!
— А я тебя слухаю, Егор Петрович.
— Вон он, товарищ Черпанов, этот Митричук. Он по ошибке в мою ударную попал. Записали его вместо Терентичука…
— Верно, все ж, Егор Петрович…
— Обожди. Записали тебя ошибкой? А ты у нас сплошной алкоголизм?
— Наша деревня, да что — вся губерния, Егор Петрович, самая запьянцовская во всем императорстве. Учитывай.
— А я учитываю. Губерния была, верно, запьянцовская. Но из всей губернии самый запьянцовский был ты, Митричук.
— Так я ж не только горжусь этим, Егор Петрович, я и страдаю. У меня почти болесь: не напьешься — за губернию стыдно, а напьешься — за себя стыдно.
— Записали мне Митричука. Другой бригадир, вроде Савченко, он бы сейчас на дыбы: ему алкоголиков? И Митричуку, узнавши про ошибку, — из бригады б удрать. Я ему и говорю: «Лестно ли тебе, Митричук, со мной общаться?» — «А чего же нелестного, отвечает, я тебе такое про наших запьянцовских расскажу, а вот мое состояние водочное…» — «Отлично. Ты оставайся у меня в бригаде и водочное твое состояние останется при тебе, но возникнет между нами одно условие: пить тебе по пятидневкам вместе со мной, рассказывать тебе об удивительной запьянцовской губернии. Мало того, добавочно для компании директора завода приглашу». Тому совсем лестно. Так мы месяц, кажись, пили и многое я узнал об запьянцовской губернии, но затем я ему говорю: «Давай, Митричук, раз в декаду пить, потому что я ослабел здоровьем, а переселяться в вашу исчезнувшую губернию мне дети мешают». Митричук сразу заскучал. А я: «Свободной же пятидневкой мы ударим по театру!» — «Мне, он говорит, чего в театре? Там запугивают односпальной, подобно нашей, жизнью, да еще и без водки». — «Зря! — отвечаю я. — Раскопаем мы тебе другую, многоспальную жизнь. С пением, танцами и оружием». И повел я его в Большой театр. Заварка оказалась в меру. Раскалился Митричук. Одетая и вооруженная, говорит, жизнь и поют будто птицы в лесу, хоть это и не по моей части…
— На руках его несите в партию, — проворчал Савченко, включенный в полное недовольство. — Подвижнички! Водку не пьют, деньги не принимают…
— Зачем — мы деньги не принимаем? Раз они существуют в нашем государстве, мы их принимаем и даже любим. А любовь-то разных сортов. Случается — любовью и себя и любимого замучают.
Здесь я Жмарина прервал. Для меня важно было легкое столкновение, а не ссора. Кстати, и технорук Васильев ушел.
— Прекрасно! — воскликнул я. — Я увидал полностью мощь социалистического соревнования. Поэма придумана. Пять тысяч строк обеспечено, не считая фрагментов. Я посвящаю поэму вашему заводу, товарищи, — несомненно на вас сразу же обратят внимание. Мгновенно впитают вас: где они, эти рабочие, которых описал Леон Черпанов? Поставить их сюда, перед лицом съезда! Заводу не хватает сырья? Получит. Мало прозодежды? Выбирай лучшую. Вот как ответит съезд. Поэзия научилась делать машины, а не только подражательские книжки. Книжки есть дым, взглянул — и растаяло, а сырье — есть станки, орудия и оружие.
Я пожал всем руки. Сознаюсь, я запылал. Не от поэзии. Хотя я и здесь говорил правду, но оттого, что наконец-то я смогу вставить в рамку картину нашего комбината, начав этим свой удивительный поход через Москву, через ее индустриальные и бытовые точки.
— Прекрасно, прекрасно, товарищи! Но в этом деле, как и во всяком, имеется свое «но». Это «но» заключается в том, что вот, допустим, я составил поэму о двух бригадах или вообще о вашем заводе. В силу характерного воздействия на искусства я сошлюсь на роман «Соть», после появления которого бумфабрики заметно снизили свою продукцию, исходя из того, что если есть превосходный роман о бумаге, то вряд ли нам нужна таковая, — завод приобретет гордость. А чем здесь гордиться? Старая галоша, ботик Петра Великого, болото, гнилое бревно в болоте! Ведь если придет ответственный товарищ или даже вождь, — а он непременно придет, — зачем же иначе существуют стихи и поэзия вообще, то что же он увидит, чем вы гордитесь? Что же, скажет, ты воспел, Черпанов, разве нет для тебя более подходящего строительства? И действительно, помойка посреди двора, цеха, похожие на конюшни, — куда ты нас обмакнул?
Молчат.
Савченко, должно быть, больше всех хотелось воспеться или просто в силу своего легкого мышления, но он раньше всех спросил:
— А если, товарищ Черпанов, попробовать все-таки?
— И пробовать не стоит. Опозоришься.
Я еще раз пожал им руки. «Пора обрушиться», — подумал я, и я врезался в свою идею, я засыпал рабочих цифрами, я заставил их неметь перед пространствами, которые осваивались при моей помощи, я их заквасил своими мыслями, заставил восстать, поглотить, впитать, чтоб дело свелось к одному и тому же:
— Но увязли вы не настолько, что и нет эффектного выхода, товарищ Савченко, и вы, товарищ Жмарин.
— Какой же эффект нам доразвернуть?
— Выход и простой, и сложный. Простой потому, что я являюсь инициатором данной простоты, а сложный потому, что дело за вами — создавать эту сложность или нет. Я причислен, товарищи, к части поэтов, правда, но кроме того, я уполномоченный по вербовке рабсилы для Шадринского металлургического комбината. Вот вам цифры…
Я впрыснул цифры, просмотрел пространства, присоединил к ним климат и охоту, на всякий случай, и после последовательного соединения вытащил главное заключение:
— Как видите, товарищи, совершенно необходимо менять вам место. Там, на широком масштабе, развернем мы ваши методы и ваши навыки. Митричук! С тобой будут пить водку самые смелые люди Союза.
Обеденный перерыв кончался, да и, кроме того, к нам шел технорук Васильев. Я успел сунуть бригадирам свой адрес. Жмарин нерешительно мял адрес в пальцах, а затем сунул его в карман. Ясно, я нанес ущерб гвоздильному заводу.
— Ты сколько жалованья-то получаешь? — спросил вдруг Жмарин.
— Триста.
— И суточные, небось?
— Обрушиваются и суточные.
Жмарин взял меня легонько за руку:
— Мы тебя, дорогой наш товарищ Черпанов, уважаем. Стихов мы твоих не читали, а если печатают, при нашем бумажном кризисе, значит, стихи нужные. И что хлопочешь насчет рабсилы — хорошо. Пиши ты свои стихи, получай суточные, а в смысле рабсилы: подальше.
— Отказ? Все — отказ?
— Зачем отказ? Ты посуди сам: к нам за пятидневку уже восемь уполномоченных набегло. Один за фотографа себя выдал, второй санитарный врач, двое — родственниками прикинулись, а один, окаянный, официантом в столовую затесался; по переулкам в роли нищих пристают. Житья нету, товарищ Черпанов. Не будь ты поэтом, мы б тебе просто по шее…
— Я поэт. Разве другие перед вами так выступали?
— Хуже.
— Вот вы и сравните: какое у них строительство и какое у меня. Урал. Поблизости Кузбасс. Рыба. Охота. Раков сколько угодно. Пивной завод. Молоко пять копеек кружка, а в Москве лупят шестьдесят.
— Знаю. Я, брат, живал и в Шадринске. Теплый город.
Смотрю, рабочие рассеиваются.
— Отказ?
— Для того, чтобы отказывать, товарищ Черпанов, надо раньше переговоры вести, а какие здесь переговоры, если ты нас от работы оторвал.
— Не финти, Жмарин. Обеденный перерыв.
— В обеденный у нас актеры когда выступают. Сосчитаем и тебя за актера. Зачем нам тебя в контору волочь? Попрут тебя в милицию… Вот не будь ты поэт…
Я отошел. Всыпали, сморщили! Опять в одиночной упряжке Черпанов. Очень обидно мне было, Егор Егорыч. Стоял я, думал: что бы такое выхватить сверкающее из ножон. Обрызгать, убаюкать, но не поверхностным, а рассудительным, благоразумным. Савченко приблизился к Жмарину. Заискивает Савченко! Еще одна обида. Слышу, говорит:
— Трепанье случилось. — Жмарин молчит, ждет. Савченко выбивает из себя. — А если он, действительно, актер? Черпанов. Знакомая фамилия.
— Зачем ему быть актером?
— А если номер у него такой для перерыва.
— Да ведь и не смешно, и не скучно.
— Для размышления. — Савченко загнал себя в последнее признание и с натуги покрылся даже потом. — Я на карту ставлю, Егор Петрович, свою неправильность. А не обижайся.
— Да чего мне обижаться, дорогой товарищ наш Савченко.
— С Митричуком, когда будешь пить, позови. А переману лучших в бригаду и отказаться недолго.
— Зачем? Не вредно, если в меру. Мне, скажем, переманивать труднее, у тебя авторитет крупнее.
— Будто и крупнее.
— Я тебе говорю. Я знаю, у кого крупнее, у кого легче. Тили-били разводим, а как до работы дойдет, так в самый ужасный прорыв двигаем Савченко. Лето отличное. По грибы скоро поедем.
— Поедем, — сказал Савченко, погруженный в славу. — А все-таки, что ни говори, Егор Петрович, в стихах лестно показаться. Стихами он меня пронял.
— Стихи — вещь лестная.
Пожалел я, Егор Егорыч, что нет у меня стихотворного дара. Помимо общей, довольно безопасной прибыли, каковую он приносит в данное время, как бы я смог мгновенно повернуть события! Много ли надо было для Савченко? Какие-нибудь два четверостишия, а тут, черт ее знает, какая чепуха в голову перла:
Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак. Блеск безлунный Когда я в комнате своей…Или:
Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца: — Тятя, тятя, наши сети Притащили мертвеца…Главное, никак к моменту не подходило, а то бы мог и за свои выдать. И Жмарин на меня искоса поглядывал, видимо, ожидая вспышки. Посмотрел он на меня последний раз, поднял бороденку параллельно заводской трубе:
— Сами стихи напишем. Подпевай, Савченко.
— А к чему? Твои, что ли, Егор Петрович. Не знаем…
— Подпевай. Стихи об нас.
Отошел я, Егор Егорыч. Запели они:
Славное море, священный Байкал, Славный корабль, омулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалечко…Юношество забирало круче, старики монотонили, но в общем было в песне кое-какое единодушие. В перерыве, между куплетами, Савченко, в надежде вернуть меня, не иначе, спросил громко:
— Позволь, Егор Петрович. А где же тут про меня?
— Ишь ты! Сразу захотел! Ты вот вначале из «нижесреднего» выберись, дело омногоэтажь, ну когда-нибудь и про тебя будут петь, — ответил Жмарин.
Ухожу. Трубы. Дым розовый. Радуюсь и восхищаюсь указаниями.
Трудно было понять, каким указаниям щеголевато радовалось и восхищалось сухое и льдистое лицо Черпанова. Не будь его личного признания, я вряд ли бы разобрался: щеголеватое восхищение можно было б отнести и насчет удачного борща и даже насчет выкуренной папироски. Должен заметить, что хотя лицо Черпанова везде и всюду выражало морозную сухость, но часто мелькала в нем некоторая суетность, все же не переходящая в пустоту. А где вы встречали совершенного человека? Вот почему я потребовал усиленных разъяснений. Скрипящим, бюрократическим голосом — словно буер по молотому льду — с готовностью, полной, исчерпывающей, отозвался на мое требование Черпанов:
— Я радуюсь, Егор Егорыч, тем указаниям, которые дал мне пролетариат посредством двух бригадиров гвоздильного заводика. Ни один ответработник не получал более веских указаний. В чем они заключаются? Извольте. Мы с вами решили создать ядро нашего вербования. Ядро пролетарское с тем, чтобы вокруг этого ядра наворачивать все остальное, что мы обязались увезти в бесклассовое общество с собой.
— В бесклассовое общество, Леон Ионыч?
— А вы как думаете? Переезд на новую квартиру — не больше? Извините. Такие частности Черпанова не интересуют. Возьмем наш дом, Егор Егорыч, наше окружение. Кто они? Как вам известно, в большинстве служащие, но в сущности мещане, мелкая буржуазия, собственники, спекулянты. Чего они трепещут, чего им жаль? Прошлого? Прошлое у них не ахти какое блестящее, напротив того, эти силы или отбросы, как вам угодно, рассматривайте их, созданы революцией. Надеются ли они на реставрацию? Верят ли они в возможность бесклассового общества? Конечно. И отсюда у них трепет и всяческие содрогания. Они знают, что до бесклассового общества доживут, а вот пустят ли их туда?.. Вопросец, как видите, болезненный и щекотливый, в основном, лишающий их стимула в работе. Да-с, Егор Егорыч! Ведь это же они стоят целыми днями в очередях, рыскают по деревням, помогают обворовывать наши склады, портят работу в учреждениях, ломают машины, — не со злого умысла, а от презрения к ненужной им работе, вроде постройки гильотины для себя же. Очереди! Не зря иностранные корреспонденты обожают стоять в очередях. Здесь все надежды, вся брехня остатков буржуазии. В очередях вы услышите разговорчики о короне американского императора — впрочем, об этом позже… И неужели же мы, при нашем недостатке рабсилы, при нашем умении перевоспитывать, не используем их? Но как к ним приступить? Они потребуют гарантий, что их не уничтожат в бесклассовом обществе, им мало одних уверений. Но тут встает основное препятствие: поскольку наше правительство рабочее, пролетарское, оно не может брать на себя обязанности вводить в бесклассовое общество мещанство, буржуазию, надеяться же на то, что буржуазия по дороге перемрет — не приходится, для этого она слишком хитра и ловка. По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно будет чрезвычайно благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения. Ну, что ж, я и взялся.
— Вы, Леон Ионыч?
— Чудак вы, Егор Егорыч. Намеки вы принимали, а когда перед вами развернули полную программу, так вы ошалели. Бесклассовое общество реально встало перед нами? Реально. Правительство не берется и не может взяться перевоспитывать буржуазию? Нет. Что ж ее — изгонять, как изгнали евреев из Испании? Можно, но слишком велики издержки. Вот тут-то и явился Черпанов. Он привозит на Урал такую рабсилу, которая будет трудиться лучше прочих, потому что она свежа, она энергична и опытна, она рвется до дела, она хочет проникнуть тоже в бесклассовое общество…
— Любопытно, но какие же вы ей даете гарантии?
— Очень простые, Егор Егорыч. Как у нас прежде принимали подобные элементы на службу? Давали анкету. В анкете он писал: сын или дочь крестьянина, служащего, вообще врал, что ему придет в голову. А у меня по-иному. Я приду к нему и скажу: мне известно, что ты спекулянт; сволочь и вообще замороженный буржуй. Но я тебя принимаю без всяких ограничений и испугов. Работай. Перед тобой, на нашем строительстве, снизу доверху открыта вся служебная и правительственная лестница. Это опыт. Если ты скажешься способным, ты перейдешь в бесклассовое общество и потянешь за собой других, — понимаете, их классовые интересы затрагиваю, — а если будешь хитрить — до свиданья, по-хорошему, по-милому, без «волчьих» билетов. А кроме того, имею пакет с девятью печатями. Пониме?
— Пониме-то пониме, Леон Ионыч, но вот насчет восхищения указаниями.
— А, вы относительно заводика. Я беседу эту рассматриваю как указание на то, что мне необходимо делать упор на буржуазию, попутно, конечно, но не очень, создавая пролетарское ядро. Моя частная система позволяет мне большие изгибы, до тех пор, пока я не создал монолитного потока. Естественно, мы должны с вами процеживать, ограждать, ввести строгий индивидуальный отбор; иначе с большим успехом мы могли бы забрать с собою всех зевак, которые смотрят на разрушение храма Христа Спасителя. Мы порознь проработаем каждую особь. Каждый одиночный огонь…
Возражения теснились в моей голове. Но я понимал, что Черпанов позволил мне взглянуть лишь через щель: взять хотя бы пакет…
— Позвольте, Леон Ионыч, а я? Если вы меня привлекаете, то, значит, я тоже мещанин?
А вы себя кем считаете, Егор Егорыч?
— Я задумался.
— То-то! Ни то, ни сё? Зачем же тогда задавать мне вопрос, вы решите насчет себя сами, а затем и обсудим сообща ваше решение — пока же: работайте. У меня, наряду с основным сосредоточением, масса побочных приобщений. Не будем касаться короны американского императора…
Опять эта проклятая корона! И почему люди способны носиться с удивительно глупой тщетностью? Черпанов, умница, человек, стоящий порознь, и он туда же? От злости в горле у меня стало так сухо, как будто я наглотался опилок.
— Не будем ее пока трогать, Егор Егорыч. Хотя проблема тоже из области розничной продажи. А заграничный костюм? Вы, как давний обитатель данного дома…
— Откуда вы взяли, что давний обитатель?
— Те, те! Зачем скрывать, Егор Егорыч? Я открыл вам все карты и беру вас со всеми вам свойственными недостатками. Известно, что я остановился здесь по рекомендации Лебедевых…
— Лебедевых?
— Да-с, Лебедевых. Вам известно также, что трое из них жили в той комнатке, в которой обитаете вы в данное время. Я довольно-таки долго уговаривал Степаниду Константиновну, пока она не пустила меня в ванную. Спрашивается: почему ж она мгновенно почти впустила в комнату Лебедевых вас?
— А кто ее знает? Уверяю вас, Леон Ионыч, я впервые здесь.
— Те, те, Егор Егорыч.
Он покачался на стуле с видом такой хитрости и проницательности, что официант, полетевший было к нему со словами: «гражданин, осторожней с мебелью!», остановился в двух шагах, крякнул — и скрылся.
— Те, те, Егор Егорыч, костюмчик-то для себя наметили…
— Уверяю вас, Леон Ионыч…
— Но уступите. Неприлично секретарю одеваться лучше патрона. Вы и сейчас лучше одеты. Ведь если вынуть все документы и записные из карманов, так я приобрету совершенно унизительное содержание. Единственно, в целях вашего спокойствия, прошу.
— Понятия не имею, Леон Ионыч, о костюме. Правда, слышал я мельком, у Жаворонкова, но боюсь не с вашей ли…
— Ага! И я вам намекал Жаворонковым. Идем к нему!
Насколько доктор, прикидываясь хитрецом, являл собою выдающуюся эманацию простоты, настолько же Черпанов, излучая суровую ледяную простоту, — если не считать бесчисленной сложности его карманов, — постоянно облокачивался на вас резиновой эластичностью хитрости. Возьмем, хотя бы, случай со мной. Знал же он о нашей ссоре с Жаворонковым; отличал же он меня от обычного обитателя дома № 42 и, наконец, понимал же он полное мое презрение к одежде? А как запутал, какой заставляет описывать эллипс? Вот надо б спросить поподробнее о Лебедевых, а язык не поворачивается — и без того выпущено в обращение такое количество неразвитых положений, что опилки перекинулись у меня из горла в голову. Непочтительные мысли заставили меня опустить взор на дно тарелки.
— Вспоминается мне несколько случаев, — сказал я. — Моряка спросили: «На каком судне безопаснее всего плавать?» — «Которое в гавани, — ответил он, — назначено в ломку». Рассуждая по этому поводу, у знаменитого портретиста, обладателя удивительно некрасивых детей, захотели узнать, как же так: рисует величайшие портреты, а собственные дети плохие. И живописец ответил: «Портреты — что, а если бы я даже был скульптором, то и то бы не смог слепить ребенка удачно в полной темноте и ночью». Вышеприведенные ответы напоминают мне своей полной откровенностью ответ одного портного, которого спросила жена, видя как он, кроя свое собственное платье, все же употребляет материала больше, чем необходимо: «Зачем это, Вася?» А Вася сказал: «Удивительно, ты хочешь, чтоб я потерял приличную привычку воровать?»
Когда я поднял глаза, — Черпанов исчез.
Доктор повязывал галстук. Синяки прилежно залепляли его лицо. Он сидел весело на скрещенных ногах у окна в изголовье матраца. Во мне он открыл, должно быть, разгорающуюся гордость и самодовольство, потому что он одобрительно сказал:
— Вы правы, Егор Егорыч. Нейтралитет похож на проходную комнату. Действуйте. По моему мнению, всех счастливее тот, кто или не знает или не верит тому, что он несчастлив. Синяки, а не болезненное состояние, внешнее, а не внутреннее мешало мне выйти из комнаты. Я вышел. Часа за два до вашего прихода. В коридоре я разговорился с Трошиным. Вместе с Ларвиным занимают они по крошечной комнатушке в перегороженной бывшей столовой. Служит, как и Ларвин, в кооперативе. Некогда крупье, ныне способен добыть вам лучшее вино в три раза дешевле или спирт. Отвисший живот, как заигранная колода карт. Почему я заинтересовался им? А почему он разговорился со мной и почему сказал, что вечером у него будет Сусанночка и почему пригласил меня? Я лишу его листьев… Егор Егорыч, я лишу его листьев.
Узел галстука он перевязал по-иному. Я понял, куда он гнет и кого он увидел в Трошине, но я не видел нужды поддерживать разговор, впрочем, доктор и не нуждался никогда в поддержке; он и по поводу обгоревшей спички мог говорить десять часов, а вспомнив Хр. Колумба, то и все пятнадцать. И не слова меня умиляли, а количество фактов, отчужденных, выбитых из колеи и редко повторяемых. Где они вмещались в этой круглой голове с полузакрытыми глазами, похожими на ущелье?
— Отказываться от Сусанны, передать ее узколобому вырожденцу, обладающему чрезмерной способностью убеждать ближних в пользе вина. Он возносит вино на гребень вашего сознания, он превращает теснину вашего рта в Мадагаскарский пролив. Его умственная узость, его черствость сердца обесценивают все, кроме вина. Он превратит Сусанну в кабатчицу, ему необходима ее не пробужденная чувствительность. Он заставит ее думать обо мне, что я не обладаю мужеством, что я трус; он превратно истолкует мое поведение у Жаворонкова.
— Тогда идите к нему, Матвей Иванович, — сказал я, растягиваясь на матраце. — Если он такой знаменитый водоснабжатель…
— Он всю землю рассматривает, как закуску к выпивке, Егор Егорыч.
— То не сможет ли он добыть нам такого вина, которым мы бы споили клопов?
— Благодаря вину, он достигнет цели! Помогая себе вином, он уводит окружающих в болезнь, чтобы целиком господствовать над ними. Но сам он не пьет, Егор Егорыч. Чего доброго, Сусанна не от вина ли попала к ювелирам? Не он ли подсунул ей вино? И все-таки, я излечу их от вина.
Я ему так прямо и сказал с тем, чтобы отнять у себя все поводы к отступлению.
— Да, Трошина вам необходимо оголить, — сказал я. — А то Сусанна, как та девица, читавшая роман, где влюбленные, равно пылая страстью на протяжении ста пятидесяти страниц, тянут разговор, откинет при десятой странице книгу: «Зачем столько пререканий, когда они вместе и притом наедине!» Боюсь, что в той заварухе, которую наблюдаю я в доме, вы плохо, Матвей Иванович, используете возможность уединения. Не колонны же так сладостно вздыхают, когда ночью пробираешься в уборную, а, кроме того, несколько раз вместо ручки двери я хватался руками за менее согнутые предметы.
— Вы пытаетесь освободиться от прямого ответа, Егор Егорыч. Мы уничтожили Жаворонкова. Я прошу вас помочь мне уничтожить Трошина — и завтра мы уезжаем, оставив ее с огромным запасом размышлений.
— Я приготовил гигантский материал о вине и водке. Вино умрет. Мои возражения — это камера для уничтожения паразитов.
— Вот бы вы и уничтожили, в первую очередь, клопов в нашей комнате. Ночью у меня такое впечатление, как будто меня вынимают из оболочки.
Но тут я подумал, что, пожалуй, для успеха черпановского предприятия, а, значит, и для моего, полезнее убрать из дома суматошливого и просто умного доктора. Я предупредительно пошел к нему навстречу.
Я предложил ему — в целях и самообороны и более крепкого воздействия, чем диалектика — захватить из ванной по доске. Вообще списывать кому-либо со счета сумму доской по голове доставляет вам известное облегчение. Доктор обещал воздерживаться от драки, добавив, что он в состоянии найти лучшее средство для удаления волос, — и он показал мне свою гребенку, похожую теперь более на платяную щетку.
Отдохнув, сыграв в шашки, — доктор весьма искусно возобновил на полу остатки чьего-то шашечного чертежа, — и вырезал из спичечной коробки фигурки. Мы, вдоль колонн, скромненько пробрались к Тереше Трошину. Доктор робко постучался, вздохнул. Не буду снимать покровы с вони и грязи фанерных перегородок, покамест хватит вам того, что я описал раньше. Появление наше исторгло у присутствующих радостные вопли, а у хозяина какие-то намеки на слезы. Три-четыре бутылки были початы, остальные, вытянувшись в красивый ряд, ждали освобождения. Поминутно улетал и вбегал Ларвин: с каждым появлением его полянки между бутылками покрывались расслабленным сыром, изнемогающей ветчиной, кусочками колбасы, словно сравнивающими сложение друг друга, удаленно розовела редиска, облегчал вашу совесть хрен, арбуз близился к концу конечным пределом своей багровой мягкости и липкостью черных зернышек, дыня, какие даются только напрокат, ливерная скользила с тарелки, требуя, чтоб с нее сняли кожу!.. Великий искусник по продовольствию Ларвин! Но подождите, воспламенится вино, вот тогда узнаете, что за похититель чужих душ Тереша Трошин, субъект с отвисшим животом и передергивающимися щеками, подождите, когда он начнет откупоривать. Вот Тереша Трошин поднял платок с важностью, с которой никогда не открывали памятника хотя бы самому развеличайшему из земноводных — тише! — под платком, словно символ вознаграждения, лежал — ласковый, как селезень, — готовый к абордажу — штопор! «Граждане, — безмолвно говорили слезящиеся глаза Тереши Трошина, — есть ли возражения против штопора? Уходит ли от вас хоть на минуту вся прелесть его погружающегося в кору тропического дерева сталь, избежать ли вам гула вспрыгнувшей пробки, миновать ли вам стакана, куда наклоняется горлышко, ускользнуть ли вам от катающегося пола и, наконец, упустить ли вам похмелье?»
— Она под столом, — сказал мне тихо доктор.
— Кто? — спросил я так же тихо, стараясь заглянуть под стол. Я не люблю собак, особенно когда ешь, а она кладет тебе на колени слюнявую свою морду. Теснота мешала мне. Я начал шарить ногой.
— Она толкает меня ногой, — сказал доктор. — Она от стыда передо мной залезла туда.
— Почему собаке стыдиться вас? Что вы, ветеринар?
— Не собака, а Сусанна. Вы ее не видите за столом, следовательно, она под столом.
— Она придет позже.
— Почему ей приходить позже, если я сейчас начну говорить…
— Но — тсс! — вбежал с блюдом Ларвин. Соседи делаются чужими, отдаляются — я слышу хрюканье. Ба! Блюдо заключает в себе поросенка. И какая гордая харя! Ему придется поплатиться за это. Пускай доктор отцепляет нас от вина, но поросенка надобно разгрузить. Я протянул тарелку. Доктор, презрительно лавируя среди бутылок, тоже. А почему доктору нельзя попробовать поросенка, нигде не доказано, чтоб поросенок вредил диалектике? Тереша Трошин преградил штопором поход докторской тарелки.
— Мы вас ждали, доктор, — начал Трошин, слезясь над штопором, — и встретили более достойно, чем поросенка. Ваш предварительный разговор со мной распустил в моей душе множество побегов. Я поделился ими со своими друзьями, сидящими здесь, вокруг этого соснового стола. Мы пожевали их, побеги весенние, молодые, жевать их любопытно. И вы правы! Ужасную жизнь ведем мы, доктор, ужасную и отвратительную. Да вот возьмите меня. Зачем я достаю отличное вино и устраиваю вечеринку? Чтобы напоить своих друзей и обыграть их! Позор!
— Еще бы! — сказал кто-то икая.
— Еще бы не позор! И вы правы, доктор!
Доктор отодвинул тарелкой штопор — и, не дотянувшись до поросенка, ловко славировал в сторону, левой рукой кинув по дороге на тарелку кусок ветчины. Я последовал за ним. Но штопор преградил нам обоим возвратный путь.
— Вы правы, доктор, — ветчина стоит впереди поросенка, так же как и имеретинское превышает цинандали. Но до того, как вам обесцвечивать ветчину, я закончу свою мысль, а именно: некоторые предлагали здесь ограничиться плакатом: «Карты — враг человечества», но разве не подобные же лживые плакаты разоблачили вы, Матвей Иванович, у Жаворонкова? От подобного утиного понимания надо поспешно уходить, а чертить нечто другое. Карты? Карты не причина, а следствие.
Доктор встал, открыл было рот, потянул тарелку, но штопор не так-то легко было распутать, улепетнуть от его спиралей.
— Следствие — вино. Да, сознаюсь я. Вино и еда создают шулеров и прохвостов. Верно я говорю?
У доктора имелась странная особенность: с глазу на глаз он способен был наговорить вам величайшие дерзости, присвоить вам побуждения вроде таких, что когда вы у него попросите папироску, то он заподозрит вас в сексуальной слабости или, на худой конец, в жадности, но стоило перед доктором выступить обществу — хотя бы из пяти отъявленнейших мерзавцев — с любыми уверениями, как он обезоруживался совершенно и никак не способен был отличить лжи от правды. Так и тут; едва раздалось общее: «Правда», как доктор словно пыль стер со своего лица желание покушать — и, отложив тарелку, внимательнейше уставился в слезящиеся глазенки Трошина.
— Еще бы неверно, Матвей Иванович! Мы много рассуждали перед вашим приходом, а приход ваш вытек в полную сообразность с нашими мыслями. И мы вот сейчас, смотрите, я еще никого не спрашивал, но все уже согласны… — Здесь все кивнули головой, я думаю, они были основательно подвыпивши —…навсегда покинуть вино, карты и еду! Мало, действительно, вывесить плакат, хотя он и возмущает совесть, но за ней не уследишь, она прячется иногда в такие закоулки, где на нее и черт седла не накинет. Надо осушить желудок кардинальнейшими категорическими мерами. И вот мы все даем торжественное обещание прекратить пить вино и есть пищу без вашего совета, Матвей Иванович. Ваша борьба за ясность жизненной программы дает свои плоды. Верно? Верно. И он тысячу раз прав, Матвей Иванович. Пищу надо принимать как лекарство, а мы что же делаем: жрем сколько влезет и когда влезет. Разрешите!
И он, теперь уже рукой, схватил мою тарелку. Я задержал ее, с негодованием наблюдая умиленное лицо доктора.
— Нельзя же выкидывать пищу, — сказал я.
— Отдайте! Он прав, — приказал мне доктор.
— Зачем выбрасывать? — сказал Трошин, скидывая обратно ломти моей ветчины. — Мы просветились, мы отвернулись от искаженного лика жизни, мы уберем ее в погреб.
Мне убийственно хотелось есть:
— Там ее просто сопрут.
— Зачем сопрут? У нас отличный железный сундук и ключ от него мы передадим доктору. Виноват, вы налили вина в стакан, Егор Егорыч?
Я уклонился от него. Но если Трошин пожелает лишить вас вина, то никому не избегнуть его руки! Он перелил мое вино из стакана в бутылку. Я в надежде обернулся к доктору:
— Убрать провизию! Засидят мухи иначе! — скомандовал он, спуская руки и мгновенно облепив себя дюжиной бутылок, водрузив поросенка на голову, хлеб на живот. Кто-то волок колбасы, кто-то сыры, кто-то свертывал скатерть, а кто-то запел: «Со святыми упокой!» Мы неслись по коридору. Впереди — поросенок, разочарованно свесив голову; смещенная ветчина, откуда-то присоединились замороженные судаки с решительными глазами, коробки сардин и шпротов; в огромной эмалированной кастрюле картофель с маслом, горячий, негодованием наполнивший мое сердце. Он удалялся от меня! Затем покатились — имеретинское, напереули, цинандали, развернулись вдали этикетки коньяков и отодвинулись от меня две четверти водки. Я не пьяница, но тут я понял людей, которые становятся пьяницами едва в стране введен сухой закон…
Опять — кухня. Торжественно поднялась дверь в полу, обнаружив скользкие ступеньки вниз, обрамленные сизой погребной растительностью, и ветчина, все еще продолжая испускать трогательные запахи, поросенок, сыры, за ними нырнул судак, колбасы показали последний раз сухие свои бока и нежные внутренности… Доктор напряженно смотрел внутрь могилы. Опять как не вспомнишь классиков! Сколь метко, на тысячелетия, определяли они: «Он не находил слов», — здесь и мимика, и униженная, спутанная работа сознания, здесь и бесцельные движения языка и соответствующих клапанов в горле! Однако, если вдумаешься, то классики — классиками, меткость — меткостью, а современный человек плохо подходит под классические определения. Это на первый взгляд хорошо сказать о докторе, что он «не находил слов», но разве кто поверит вам: доктор чего-чего, а слова всегда найдет, в его способности расцветать словесно по любому поводу видится что-то наследственное, безжалостное, эпическое. Кстати — об эпическом. Один профессор имел дурную привычку путать эпическое с эпилептическим. И так как любое свое мнение он считал непогрешимым, то, оговорившись несколько раз, он ожесточился и вызвался подвести теорию под свою путаницу. Он письменно доказал, что от эпики шаг к эпилептике. Его теория имела успех, вероятно, потому, что читателю приятно испытывать жалость к поэту, стать в отношении к нему милостивцем. Назидательный случай! Упрямство, достойное сожаления, благодаря чистой случайности перешло в эпику. Теория его считается теперь более точной, чем диаметр земли.
Трошин, тем временем, склонился над погребом, где уже лязгали зубы сундука, на дно которого укладывался экипаж яств.
Разрешите сказать последнее слово!
Но лучше б ему не испрашивать «последнего», ибо доктор считал всегда кровной обидой всякое «последнее», которое произносил не он. Я полагаю, что умирая, он словчится все-таки сам произнести «последнее» над своей могилой. Бесспорно, «последнее» имеет свои достоинства, оно некоторым образом соединяет в целое две части, до этого воспаленно мотающиеся где-то отдаленно, покрывает эпидермой взрыхленный грунт — так, — но зачем ему отталкивать Трошина, поднимать ладонь к уху, словно он желал указать, что неподалеку его лоб оседлан нравоучительными синяками, зачем… впрочем, Трошин, оказалось, быстрее доктора умел двигать языком:
— Мне думается, что в последнем слове я скажу о последнем виде, ожесточенном виде, который вызывает скрывшаяся пища. Подумаем, граждане, о том поступке, совершенном только что нами. Помимо его нравственного смысла, он имеет еще и бытовой, а именно: куда ж нам девать теперь эти продукты? Я их не могу продать, они приобретены нами в складчину. Я и не могу их есть. Плесневеть им? Пропадать? Тем самым наше решение перейдет в антигосударственный поступок, вместо чистой пользы. Я бы предложил вам — вас тринадцать, а еды, пожалуй, хватит и пятидесяти — выкатить эту еду для тех пятидесяти персон, которые редко, не чаще одного раза в год, принимают мясную пищу. Таких мало в Москве, но если поискать, а человеколюбивый доктор примет к тому меры, то и найдутся. Мы бы тринадцать стояли у дверей и умилялись. И хорошо бы подать, которое требует, конечно, горячим. Но разве разогреешь на нашей плите, разве можно благодаря этой дурацкой плиты быть до конца человеколюбивым? Вы возразите — рядом русская печь. Русская печь!..
— Русская печь! — озлобленно бледнея, подхватил доктор. — Мы еще возвратимся к вопросу о русской печи, а пока, разрешите вас спросить, Трошин, откуда при социализме, если они не вегетарианцы, появятся люди, употребляющие однажды в год мясо? Они бездельники, алкоголики, и общество не должно беспокоиться о них, и я не филантроп. А исключая этих бездельников, я утверждаю, что в Москве не найдется пятидесяти человек для обеда. Срок вам — сутки. Печь? — Он подбежал к целу, достал заслонку и, поднимая ее к уху, продолжал: — Вернемся к вопросу о знаменитой русской печи. Вот она перед вами! Печь. Из нее же вылилась и русская баня, не менее знаменитая. Почему баня из печи? И позже печи? А хотя бы потому, что мужики, не имеющие бани, парятся в печи, в то время как владеющие баней не вздумают в банной печке изжарить даже яичницу. Сколько пролито слащавых слов об этой печи? Сколько художников зашибло монету, изображая, как с нее глядит на мир, свесив ноги, лапотный, непременно, почтенный старец? Однако, статистика знает, сколько она развела паразитов, породила трахомных и сифилитиков. А вспомните гигантские глиняные корчаги, которые подавали бабы ухватами; колченогих младенцев, родившихся, как результат подобного гнусного труда! А вонь! А сырость? А пожары? Нет. Русская печь, так же как и баня, — отвратительна! Это создание ужасного народа, на котором лежит вершковая грязь, которую только и можно отмыть, согнав с себя неистребимую вошь, в жутком паре бани. Только при дико раскаленных кирпичах удастся вам прогреть свое тело, измученное морозами, с костями, исковерканными ревматизмом, и просушить те нищенские лохмотья, те овчины, которые день-деньской мочит буран или дождь, выбирайте, неустанно висящий над деревней, так что жизнь представляется вам как бы сквозь неизменную сетку влаги. Блистательный конец вы придумали, Трошин, этому кирпичному зверю. Пусть он разгорится последний раз, чтобы при пламени его увидеть, как не найдется в Москве пятидесяти человек, которые однажды в год едят мясо. Сутки вам даю, Трошин! Пятьдесят человек! Но чтоб они исчерпывающе доказали, что они не бездельники и не пьяницы. Тащите дров!
Поступок его, наступивший сразу же после слова о печи, был настолько же стремителен, насколько неожидан. Доктор откинул заслонку и прыгнул в цело. Меня оттеснили, поэтому я успел лишь схватить доктора за каблук, который он свирепо выдернул. Не говоря о необходимости осмотра печи, трудно требовать успешности этого осмотра. Цело печи указывало на полную ее ветхость, а если доктор заденет верх, то это лучший способ не произнести над собой «последнего», так как трещины и вогнутая спина ясно указывали те причины, по которым, помимо технической ее отсталости, печью прекратили пользоваться. Поднялся шум. Кто-то предлагал пари: два червонца, что доктор не вернется. Косорожая личность осведомилась — есть ли у доктора дети и нельзя ли успеть позвать их для прощания с отцом. Доктор, чихая и сморкаясь, крикнул из нутра, что передвигаться ему трудно и обследование затянется. Нашли две лопаты и круглые березовые поленья. Доктор лег на лопаты, ничком, — и его покатили. Деяния доктора указывали на явную его малограмотность в печном деле: если уж обследовать, то лучше в первую очередь дымоход. Само собой ясно, что как только выяснилась относительная безопасность печи, «трошинцы» предались веселью и шуткам, помогла тому и тяжесть шестидесяти докторских кило — лопаты треснули, с поленьев слезла кора. Кто-то перочинным ножом щепал лопаты — пора, мол, растапливать печь, а за пятидесятью дело не станет — только выйди в переулок и воззови! Глухо доносился из печи голос доктора!
— Слушайте, а если он не повернется в печи? То есть, как так не повернется? Да она больше выгона! А что же преграждает ему дорогу? Из чего ты это вывел? Голос глухой. Глухой, может, и с похмелья. Не повернется, так мы его ухватом. Где ухват? Вот ухват. Трошин, бери ухват! Э, да ему и чугунок не поставить, не то что доктора. Мне не поставить? Ставлю одновременно чугунок и сковороду. На одном ухвате. Тащи! Чего тащи! Тащи сюда чугун и сковороду!..
Намеренно ли, случайно ли, но Трошин плохо орудовал ухватом. Чугунок, до половины наполненный водой, опрокинулся. Доктор, по-видимому, тогда же прекратил свои исследования: ухват выскочил из рук Трошина, исчез в печи с тем, чтобы тотчас же возвратиться и проникнуть в живот Трошина. Тот ответил поленом. Доктор не сдавался: осколок кирпича угодил в бороду почтенного моего соседа, почтенность которого, признаться, я только что разглядел. Плодороднейший по брани человек! С наслаждением любовался я, как он кулаками, полными опытностью, ринулся в печь и как оттуда сверкнул сапог, значительно освеживший асфальтовый цвет лица почтенного моего соседа. Я думаю, что доктор давно решил — пора приступить и к словесному истолкованию итогов печной разведки, но встречные кирпичи, палки и поленья мешали ему. Течение битвы не излилось, а еще более поднималось выше, я смог уловить это по тому успешному удару, который неожиданно получил я и который едва не свернул мне шеи, не улови я возможности улечься на пол. Неудача эта помешала мне изобразить вам подробно нужную последовательность событий, добавлю, что почтеннейший мой сосед с рыжей бородой догадался зажечь бересту и щепки с тем, чтобы выкуриванием уловить доктора, а уловив — подавляющим большинством избить. Береста вспыхнула, щепки подхватили пламя — дым порхнул в печь. Но — задушить доктора, дерзать на него… Эти трошинские слизни плохо знали зону своих возможностей! Самая мясистая часть доктора, мокрая — чугунок, как выяснилось впоследствии, целиком опрокинулся на нее — величаво показалась среди дыма и — уселась в пламя. Ногами же, — объявляю еще раз об удивительной ловкости докторских ног, — он веером швырнул во все стороны остатки пламени и углей, поленом огрел по плечам Трошина — он получил, что можно получить при данном состоянии — и сдался. — «Покорнейше благодарю за помощь, — крикнул доктор, свешивая ноги. — Печь пригодна!» Он готов был рассыпаться в похвалах — себе и прочим, — но, во-первых, кухня обезлюдела, а, во-вторых, кишечник его начал опоражниваться тем способом, который преимущественно свойственен крепкому похмелью. Параллельно центральному синяку — у него появились еще два, выпуклость носа расширилась, извергая сажу и золу. Я поднес к носу его платок, и последний воспользовался с успехом редким случаем превратиться в кусок черного драпа.
Я взвалил доктора на плечи.
Коридор пустовал.
Изливая из себя излишки, доктор с удивительной покорностью растянулся на матраце.
Читатель вправе, — если он судит поверхностно, — сетовать на повышенную медлительность моих воспоминаний… Действительно, пролетело сколько страниц, а толкование событий о короне американского императора не подвинулось ни на шаг! Точно. Я и сам негодую: и зачем я приплел сюда детективную историю американской короны? Как будто нельзя ее вышелушить без всякого изъяна: как будто спокойное, последовательное течение мемуаров потеряло у нас ценность; как будто жалкая погоня за призрачным золотом — выкинь я его! — заметно уменьшит мужество моих читающих друзей; как будто современный роман основан на лжи, выдумке, на приобретении читателя хитростью, на умении заставить изнемогать его над загадками. Нет! Полномочный современный роман должен усовещивать, убеждать, — не хватая через край, — о всей сложности наших внутренних переживаний, направленных к просвещению и к выручке друг друга; о том, что нас подкарауливают упраздненные должности, достигают простуды прошлого, а карусель жизни не бессодержательна! Но что поделаешь, если ясность и правда мышления, воспринятые несомненно мною от доктора, не позволяют мне вычеркивать события, как бы архидетективно они ни звучали и как бы они ни мотали меня то туда, то сюда, а читателя путали. И я полагаю, что общее наше стремление к истине позволит мне выторговать у читателя необходимую мне медлительность для полного объяснения и разузнавания фактов, которые мне пришлось наблюдать. Добавлю, что истину мне приходится доставать с бою — и буквально, как вы поняли из предыдущего рассказа, и фигурально, ибо дальше первых десяти глав терпеть корону американского императора можно только или притворяясь, или разрешая себе быть полным и признательным, вдобавок, к своей пошлости дураком. Какую истину? — спросит обнаглевший и распоясавшийся от лести читатель. Истина, дорогой мой, отвечу я, воспользовавшись случаем понравоучительствовать, истина — хрома, часто устает и отстает, поэтому нет ничего удивительного, что она добредет до тебя только к концу моих воспоминаний. Терпите истину, дорогой мой, ее плод сладок, хотя — качаясь на ее косых плечах, вы, иногда, испытаете нечто вроде того, что испытал доктор, когда он — в прошлой главе, — покинул русскую печь.
Чуть лишь доктор зашевелился утром в постели, я поспешил покинуть нашу каморку, предпочитая иметь выводы, чем наблюдать борьбу различных толкований. Достигнув Пречистенской площади, я свернул влево от светло-голубого забора вокруг храма Христа Спасителя, по Гоголевскому бульвару. Стоит ли напоминать кому-либо о киновари выпуклых московских бульваров поздним летом. Превосходно памятна густая пленка пыли, через которую, как во сне, вы пытаетесь узнать сорт дерева, и, если вы не ботаник и ваше воспитание не благоприятствует вам, — то долго, словно призраки, возбуждая сознание, идут за вами деревья. А явление дорожек, утоптанных любовниками и детьми до крепости гранита? А заерзанные скамейки, пахнущие баней, дающие возможность проявиться воочию тем позам, которые были б иначе воображаемыми, не услади эти скамейки влюбленные своим присутствием. А мамаши, а дети? Каждый бульвар добился своего сорта мамаш: тощий Гоголь видит перед собой полненьких, а цветной Достоевский — худеньких. Я настоятельно рекомендую вам осмотреть бульвары именно для того, чтобы проверить, не ошибка ли здесь написанное, ибо вы освежитесь исправлением ошибки, которая никак не отразится на лишнем выходе книги из печати!
От составителя: Предыдущая глава составлена с великим трудом. В записках своих Егор Егорыч явно многое замалчивает — да что в записках, мало ли кто замалчивает темные дела свои! — но и в разговоре с нами Егор Егорыч был скрытен и суров касательно переживаний, которые он испытал в предыдущей главе, отделываясь преимущественно лирико-эпическими возгласами и прибаутками, в частности он рассказал:
«Индейскому полководцу понадобились деньги. Он призвал факиров и дервишей, которых расплодилось в стране невероятное количество, и заявил им: «Я прошу вашей помощи, святые отцы!» Святые отцы отвечали: «Невозможно, и без того босы и ходим в рваном». — «Правильно, — воскликнул полководец, — одеть их, снять с них рвань!» — Отцы возмутились: они, видите ли, привыкли ходить в рваном. Солдаты тоже негодовали: тратить одежду на монахов, когда они, солдаты, нуждаются. Назревал раскол. Полководец все-таки раздел святых — и приказал бросить их одежды в огонь. Одежды сгорели; поскольку святые отцы имели привычку зашивать в свою рвань золото, постольку и нашли в потухшем костре многие тонны такового».
Рассказ любопытный и даже, с какой-то стороны, поучительный, но, по моему мнению, Егор Егорыч путал нас сознательно. Просто-напросто ему было стыдно признаться, что в результате беседы на Гоголевском бульваре между Черпановым и Мазурским, — беседы, куда неумело влез со своими предложениями относительно братьев Лебедевых и сам Егор Егорыч, беседы, где, возможно, Черпанов желал узнать причину возрастающей холодности Сусанны, причину, которой страшился дико Мазурский, сей прыщавый и отвратительный юноша с пропитыми и гнилыми глазами, причину, которую он не знал и боялся узнать, — но подозревал здесь работу Савелия Львовича, шмыгающего старичка, вежливенького и скучненького, но мерзости необъятной, причину, по которой Людмила Львовна завидовала своей белокурой сестре, для которой (по мнению Мазурского) Савелий Львович открыл какие-то гигантские возможности, — словом, в результате беседы Мазурский покинул свои чистильные принадлежности, сказав Черпанову, что пройдется «до ветра», и скрылся, — опять-таки это только догадки, — на Урал, предупредить братьев Лебедевых. А о чем предупредить и почему надобно предупреждать — нам неизвестно пока. Неизвестно также, узнавал ли Егор Егорыч о заграничном «американском» костюме: у кого он находился и имеется ли он вообще, и с этой целью, по-видимому, Черпанов оставил его наедине с Мазурским. Подозреваем, что Мазурский сказал ему истину, а именно, что никакого заграничного костюма нет и не было, что по рукам ходит зеленая суконная поддевка, которую по приезде своем Черпанов «загнал» Жаворонкову. Нам кажется подозрение это очень основательным, уж как-то слишком финтит Егор Егорыч, как-то слишком увертывается, когда разговор начинается о костюме «американском». Вы скажете, почему же он сразу не сказал об этом Черпанову? Унизить идеал свой боялся! Предполагал, как многие предполагают, — утрясется, мол, или — забудет, отвлечется на иные мысли, что, наконец, Черпанову костюм? Кроме того, напомним вам, что все время Егор Егорыч мечтает быть секретарем «большого человека», а таковым он мнит Леона Черпанова, вспомните его отношение к конверту за 9-ю печатями, к возможности заработать 34 500 рублей…
Короче говоря, эта глава у нас не вышла, в чем и приносим мы вам крайние наши извинения. А впрочем, какую ценность имеет одна неудачная глава, лишь удачно напиши предисловие.
Продолжаем беседу
Доктор лежал изнуренный, исхудавший, вяло вздыхал, с расползшимся по голове компрессом. У матраца играл прутиком крошечный котенок. Доктор взял котенка за лапку.
— Слабительного приняли б вы, что ли, вместо дрессировки.
— Я не дрессировщик, Егор Егорыч. Я сопоставляю две лапки. Проснувшись, я подумал, что случается, иногда, и не съеденный ужин обладает похмельем. Чьи-то шаги послышались возле дверей. Я подполз к щели. И ножки! А, что вы понимаете в ножках, Егор Егорыч?
— Если в телячьих…
— И не стыдно?
— Еще и стыдите! Зачем вам прививали культуру, чтоб подсматривать в дверную щель?
— Как раз-то мне и привили ту область культуры, которая граничит с дверной щелью. Я говорю о любознательности, Егор Егорыч. А ножки! Понятен ли вам, Егор Егорыч, угол вылета хорошенькой ножки в современности? Укромным взором вы накрываете этот вылет. Но к нему нужно относиться закаленно, иначе тривиальнейшие мысли завладеют вашей головой. Вы спуститесь до таких гнусностей, что длину юбки, обнажение ножки подведете под нисходящие и восходящие токи революции. Пошлость, внушающая отвращение! И вы вправе негодовать на меня, если в такую щель я буду подсматривать, Егор Егорыч. Но выбрать одну приличную, совершеннейшей формы, ножку — достойно и большого вкуса, отшлифованного, взращенного на дрожжах искусства, и достойно свободного ума. Лицо, скажете вы? Ай, Егор Егорыч! В лице любой дурак разберется, а отделить, не говоря о том недоброжелательстве филистеров к ножке, безвкусица которого уже скоро превратится в поговорку (в свободное время мы ее придумаем, Егор Егорыч), отмежевать, но не уступая совсем, влияние ножки на ваше сознание от идолопоклонничества — работа по плечу опытному умственному анатому; я бы даже утверждал, что подобная работа как некоторый сорт плодов, полностью дозревающих в лежке…
— То-то я не слышал раньше от вас, Матвей Иванович, подобных ценных отвлеченностей.
— Меня всегда удивляют еще больше, Егор Егорыч, мужья, которые зачастую ревниво стерегут добро, уже давно не принадлежащее им. Однако, не будем сворачивать, я и без того замучен телесными невзгодами. Итак, я ее встретил впервые на Петровке. Она довольно редко показывается. Надо думать, что я доберусь когда-нибудь до глубин причин этого редкого показывания. Не отпираюсь: я буду говорить банальности, Егор Егорыч, но говорю я их только для того, чтоб вы не думали обо мне, как об исключительном индивидууме. Докладывал ли я вам, что Петровка — улица, где вы встретите самых красивых женщин Москвы? Не тех раскрашенных дур, которые в центре величайшего революционного города подражают подлейшей, скучнейшей провинциальной лавочке, именуемой Парижем, лавочке, давно лишенной творчества, лихо обворовывающей искусства мира от китайского до византийского, — причем дуры эти подражают так же, как готтентотские царьки носят фраки, то есть, на голое тело, — нет, я указываю вам, Егор Егорыч, простых скромных женщин, для которых не показать свою красоту хотя бы один раз в декаду на Петровке столь же трудно, как если, изменив гласный звук в коренном слоге, не сломать смысла этого слова, а через» это, иногда, и целого понятия. Чем вызвано появление их? Женщин, Егор Егорыч, а не слогов. Попробуйте вспомнить эту уютную и какую-то теплую улицу, которая чрезвычайно легко вливается в Театральную площадь с ее колоннами, с ее конденсированной четырехактовой фантазией; она кончается Мосторгом, начинаясь ортопедическим институтом. Мосторгом, этим младенцем торговли, яростно натягивающим громаднейшие штаны. Облизываешься, когда думаешь о Петровке! Соскоблит уныние свежее личико с приятным носиком, мелькнут губки, которые через любую краску все-таки напомнят вам свои очертания. А ножки! О, как трудно, Егор Егорыч, выбрать на Петровке ножки, с которых вы уже не сможете никогда сделать скидки. Прах вас дери, Егор Егорыч, улыбнитесь! И секретарь большого человека, — с глазу на глаз — имеет право побеседовать о хорошеньких ножках. Нет? У вас превратные понятия о секретарях. Впрочем, что нам секретари! Завалите вы сучьями, суньте затем в стог сена, залейте глиной, залепите асфальтом и посадите сверху еще секретаря, все равно, очертания хорошенькой ножки будут видны довольно явственно и оцарапают ваше сердце. В институте радия есть экранированная комната, в которой хранится весь запас радия всего Союза. Запас этот, несколько грамм, лежит за свинцовыми стенами к здании, которое не имеет окон, за толстыми свинцовыми дверьми, и все-таки, когда темной ночью вы войдете в сад института, вы разглядите сквозь свинцовые стены и двери мерцающую легким светом туманность. Это радий. Так и женская ножка… А, не обобщайте образа, Егор Егорыч.
— О темной ночи, в которую виден радий? Пока вы говорите о женщинах нашего класса, Матвей Иванович, ваш образ я понимаю, но вблизи женщин, чуждых нам, он, волей-неволей, приобретает сомнительную окраску.
— И когда я взглянул в щель!..
Доктор приподнялся, сдернул компресс. Синяки занимали все его лицо, нос распух, звук его голоса носил явно измененный, охрипший характер. И все-таки его нельзя отвлечь в сторону: все-таки он улыбался и сквозь отложения ударов размеренно клокотала его радость.
— Зачем же она приходила к вам?
— А я знаю?
— Опять вы струсили?
— Как бы не так. Я расширил щель и позвал ее сюда. Предварительно я погладил ей ножку.
— Вы? Вы осмелились?
— Я? А почему мне не осмелиться? Погладив ножку, я пощекотал ее за ухом, и она вошла, поджав хвост.
— Сусанна?
— Нет, кошка. Вернее, котенок. Да, Егор Егорыч. Так же как и вы, я принял его вначале за Сусанну. Сусанны нет — и не будет.
— И не будет?
— И не будет, Егор Егорыч. Трошина я доканал и доканаю сегодня окончательно: пусть-ка он найдет мне — к вечеру — пятьдесят голодающих. Трошин оторван.
— Приятно.
— Отрицаю! Лучше б его оставить. Едва мы его отозвали, как возник свежий противник, расчетливый, плоский и отточенный.
— ?
— Да, да!..
— ?? — Я изобразил знак этот пальцем в воздухе, и доктор левой рукой поймал его и, разглядывая, перебрасывая с ладони на ладонь, смеясь, проговорил:
— Похож, похож! Вы умеете округлять догадки, Егор Егорыч. Он, Насель…
— Насель? Абрам Вавилыч? Букинист, обремененный родственниками. Орудие без передка. Поскребите у себя в голове, Матвей Иваныч, найдите кое-кого менее унижающего вас.
— Насель? Лисица страшнее медведя, Егор Егорыч. У медведя сила наружу, а кто может угадать все лисьи хитрости. Я ошибался, накидываясь на Жаворонкова и Трошина, но не того надо называть глупым, кто делает глупое, а того, кто не сможет об этом смолчать. Догадываются ли она, они, почему я на них напал? Нет.
Как мне ни жалко было его, но я с силой потряс его за плечи, дернул за руку, так что он весь скорчился от боли и отполз по матрацу к стене. После такой подготовки, я придвинулся к нему и начал его чистить:
— Матвей Иваныч! Вы не в состоянии дотащиться до коридора, — ощупайте свое тело. Вам не встать, — попробуйте выпрямиться. Перед вами встанет с кулаками пятьдесят родственников Населя, а вы умный…
— Быть чересчур умным на войне тоже опасно, надо побольше храбрости, Егор Егорыч.
— Гнушаться вам их, а не проявлять храбрость, Матвей Иваныч!
Доктор посмотрел на меня в изумлении:
— Да вы совершенно обезумели, Егор Егорыч. Если вы еще не секретарь, то боюсь, что вам придется вернуться в больницу отнюдь не служащим. Я повторяю вам, что два предыдущих, ложных моих соперника были мною, я подчеркиваю, мною вынуждены к физической борьбе, так как при их конституции диалектический метод непременно должен подчеркиваться физическим. А здесь предстоит нам, тем самым я вас приглашаю с собой, чисто словесный турнир. Я мог бы состязаться с Населем, лежа в могиле. Он букинист, Егор Егорыч, он погружен в книги, и вот оттуда мы извлечем такие аргументы, при которых даже я могу отказаться от последнего слова!..
Я встал, хотел, было, плюнуть, но, стукнувшись затылком о потолок, поневоле обратил взор свой вниз. У ног моих лежал истерзанный, избитый, весь в саже, пыли, с ввалившимися глазами — доктор. Тот доктор, который проходил по больнице в белоснежном халате, властно раздавая на ходу приказания; всесильный врачеватель, он лежал предо мной словно мусор, словно гнилая щепа, в которой недоставало еще червей…
Кто на моем месте остался б минуту в этой комнате? Никто, хотя бы потому, что книга моя тогда б оказалась ненаписанной.
— События обозримы кануном отправки, — торопливо хлебая губами воздух, сказал мне Черпанов. — Канун отправки! — повторил он с несвойственной ему торжественностью. — Хотите помыться? Я уступаю ванную. Дорога длинна, Егор Егорыч, а вам придется везти эшелон в 2386 человек.
— Две тысячи триста восемьдесят шесть человек! — повторил я в крайнем изумлении.
— Пустите краны! Доски долой.
Он затащил меня к себе. Я помог ему разжечь колонку и теперь, когда теплая вода наполняла ванну, а он уже гулял без верхних штанов, он все еще не успел высказаться.
— Мойтесь. Я вымоюсь попозже. Две тысячи триста восемьдесят шесть.
Он втащил меня за рукав обратно — и положил одну доску на ванну. Мы уселись. Из-под низа шел приятный пар.
— Вымыться? Успею. Раньше я объясню вам, Егор Егорыч, откуда получилось 2386. Почтенненькая цифра, а? Не считая пролетарского ядра, Егор Егорыч.
— Следовательно…
— Следовательно, эту цифру дает нам наш дом. Квалифицированной и неквалифицированной, но грамотной рабсилы через Степаниду Константиновну Мурфину, ее мужа Льва Львовича, детей: Осипа, Валерьяна, Людмилу и Сусанну, знакомых, родственников и всего окружения по самому скромному подсчету — 870 человек…
— Откуда?
— Списочек имею. Посетил, невзначай будто, учреждения, в коих они служат. Мгновенно запугались детки — и списочки сами мне забросили. Очень, — у них имеются основания, — боятся расшнуровки. Общественной. Тереша Трошин соберет 210. Абрам Насель, букинист, 150, но если нажать, то, я думаю, и 300 выжмем. Родственников у него — неисчерпаемо. Ларвин, кооператор, 536 и, наконец, Жаворонков, по предварительным сведениям, — я лично с ним не говорил, — 620. Итого — 2386. Мазурского я отбросил из-за его туманного мышления, дядя же, Савелий Львович, сами изволили вы наблюдать, личность бесцветная и пустая, его мобилизовать невозможно — возьмем его сторожем, что ли. Итак, если отсеются, как дрянь, не поддающиеся расплавке и переливке триста восемьдесят шесть личностей, то и тогда у нас останется две тысячи вполне пригодной рабсилы, то есть треть того, что на первых порах для пуска потребуется Шадринскому комбинату. 2000! Егор Егорыч, соскакивайте с коня, приехали! Хотел бы увидать другого, такого же ловкого уполномоченного. Месяцы некоторый ездит, а привезет какой-нибудь десяток.
Он, для удобства, постелил еще доску. Я напомнил ему о ванне. Он пренебрежительно махнул рукой.
— А отводки? Отростки? Едва две тысячи проработают месяц, они поймут — и потянут других. Осаждать будет наш комбинат рабсила, Егор Егорыч.
— Вы хотели, Леон Ионыч, насчет пролетарского ядра…
— Умышленно оттягивал, Егор Егорыч. На комплектование, здесь уже кое-что предпринято, и объяснение с вами. Сейчас же пришло тому время. Посетил я один авиагигант. Собственно, из-за него я сейчас и в ванну полезу. Посетил я его по таким соображениям. Если помните, то на гвоздильном выдал я бригадиру Жмарину свой адрес. Теперь представьте, хотя это и маловероятно, что Жмарин вздумает посетить нас. Стихи, предположим, написал. Для консультации. Приятно мне? Приятно лишь в том случае, если их разубедит высший авторитет, чем мой. С их точки зрения, таковым авторитетом явятся не лица административного персонала, даже не инженеры, а пропоют перед ними свои же братья-рабочие, но с более высиженным уровнем — «гигантическим», по выражению Жмарина. Но где мне достать «гигантических» рабочих? Сами знаете, Егор Егорыч, попасть на крупнейшее предприятие, посмотреть возможно, имея или имя, или знакомство. Того и другого у меня в Москве нет, — оставлено на Урале, — да если б и было, я, в силу известных вам причин, лишен возможности применить таковые. Оно лучше и не применять, сами понимаете, утащить с «гиганта» сотню квалифицированной силы — это все равно, что получить тысячу неучей — естественно, за мной усиленно наблюдали б. Мерил, я переставлял возможности — и вспомнил я разговор с одним рабочим в поезде — по дороге в Москву. Рассказывал он об авиационном заводе, где выделывают моторы. Чрезвычайно восхищался он высокой техникой. Требуется, например, точность до сотой миллиметра при точке коленчатых валов для моторов, а имеются там такие спецы-рабочие, которые за много лет работы не испортили ни одного коленчатого, а он стоит три тысячи рублей, валюткой-с! Описывал он, как испытуются моторы, — в общем, мотору в жизни уделяется больше внимания, чем, скажем, профессору, которого пускают на кафедру. Проговорился он также, что местком и партком помещаются в устье завода, возле ворот, и без особого разрешения возможно в местком проникнуть. Записал я, на всякий случай, адресишко, дескать, — слесарь, некоторым образом рвач, платите вы прилично, зайду, побеседую. Он и свою фамилию приложил, но я его решил, ввиду его малой общительности и чисто технической беседы, отставить. Завод — на окраине. Тащился я туда, трамваем, часа два. Вижу: каменный двухэтажный дом, рядом — ворота, а там корпуса — корпусищи, предположить невозможно, какого объема. Вход в двухэтажный. Вестибюль. Наверх — лестница, заводоохранник с винтовкой, пропуск в заводоуправление, а налево — коридорчик, обычный, как у всех свежих заводов, из нового тесу, скамеечки. Проносится мимо секретарь парткома, на котором все виснут. Обыкновенная картина. Сажусь я на скамеечку и разматываю лесу. Цель моей удочки заключалась в том, что я прутиком…
Он показал мне ивовый прутик. Я повертел его в руках, понюхал и, из почтенья, зубом попробовал.
«… Прутиком подле своих ног начал проводить черту за чертой. Проводил я так невидимые эти черты часа полтора-два, пока не подсел ко мне нужный субъект. А расчет мой был таков: в дистанции толпы, полощащейся вкруг меня, найдется же расторопный и хлопотливый, который заинтересуется: какой ступенью ума вызвано поведение проводящего по полу черты. А заинтересовавшись, опять-таки в силу суетливости и расторопности, пожелает он оснастить жестче свою заинтересованность, Подсел. Из себя смуглый и такого низвергающего беспокойства, что выносить трудно.
— Что ж, производите здесь, — спрашивает, — бесцельные движения? Этак и руки оскудеют. Прободение отверстия в кабинет какого-либо товарища желаете?
— Нет, — отвечаю, — я изобретатель.
— Схему какого-либо мотора?
— Да нет, — говорю, — не схему мотора, а оспариваю новые крылья.
Нужно разъяснить, что моторщики презирают «мебельщиков» — заводы, сбирающие самолеты, — и он с понятным мне презрением отзывается:
— Что же вы не понимаете разницы между моторным и сборным?
— Да нет, — говорю (все в целях втянуть его в разговор), — я полагал, у вас скомбинировано. Утомился, присел отдохнуть.
Беспокойщики — людям всегда сочувствуют:
— Минуточку, — говорит, — обождите. Моя фамилия Некрасов. Миша Некрасов. Я имею способность закатываться. Так если закачусь, вы меня покличьте. Меня здесь каждый укажет.
Но «закатиться» он не закатился, а точно через минуточку появился под руку с другим, разительной с ним разницы: сосредоточенным, цеженным-перецеженным через науки, отрекаться которому от благ — сплошное удовольствие, его, видите ли, Супчиком прозвали за то, что он от вдумчивости постоянно теряет ложку в супе.
— Вот он, Супчик, — говорит мне Миша Некрасов, — прежде чем в моторы перейти, невероятно углублялся крыльями. Он вас очистит от бюрократической волокиты, товарищ. Смягчи тон, Супчик, для начала, запугаешь.
Но Черпанова и запугать трудно, и понял я, что Супчик — опять-таки в силу своей специализации, сущность которой заключалась сейчас в том, чтоб мотор такой-то перевести из лабораторного в серийное — массовое — производство, настолько углубился в свой мотор, что его можно было б увидать у него в зрачках, — Супчик вряд ли способен меня расспрашивать и пришел сюда или из уважения к Мише Некрасову, или рассеять умственное погружение и утомление. Утомление сгибало его плечи, штемпелевало лицо, а умственное погружение подпирало его, не позволяя превратиться в окалину. Но все-таки легкое опасение стригло меня: вдруг задаст он какие-нибудь каверзные вопросы? С другой стороны, ужасно мне хотелось притупить таким антиподом бригадиров Жмарина и Савченко. Поэтому, отменив остановку, кинулся дальше:
— Вот, — говорю, — мы изобретатели вроде двух кулаков с сеном, свидетелем суда над которыми мне пришлось быть.
Где Супчику сбросить свои мысли, хоть и хочется ему отдохнуть? А Миша Некрасов сразу заинтересовался возможностью мотнуться в сторону:
— Любопытно узнать, что это за случай с сеном?
— А случай, отвечаю, действительно любопытный. Жили у нас на Урале, возле Щадринска, два кулака, и владели они лугом, пополам, для покосов; лугом, обвитым очень однообразным кругом ветел. Ну-с, начали они в прошлом году косить, и накосили они по стогу сена. Один из них, пожаднее, решил спереть у своего соседа стог, ночью, а днем, следующим, перевезти свой. Прекрасно. Ночью, чтобы не узнали, заехал он с противоположной, — считая от его стога, — стороны луга и упер соседское сено. А утречком, вежливейше и легально, запрягает свою он лошадь и начинает сгребать свой стог и вдруг на него — милиция. В чем дело? Сосед его орет: а в том, что гребешь мое сено. Что ж оказалось? Ночью-то он заехать — заехал, как и предполагал, с противоположной стороны и сметал стог, но не тот, к которому подъехал, а противоположный, то есть свой же, а утром приехал и вместо своего стал наметывать стог соседа.
— Но все-таки не понимаю, — смеется Миша Некрасов, — какое же отношение ошибка кулака имеет к самолетному изобретательству?
— А такое, говорю, что мы зачастую обворовываем свои знания и то, что кажется нам изобретательством, в сущности, есть воплощение читанного. Вот я сижу и грущу, и не хочется мне идти на другой завод: вдруг я свой стог-то тащу? Хотя кулаком я никогда и не был, а все дело в том, что, как изобретатель, я жажду оттаивания через ласку и подпорку других.
Миша Некрасов укоротил нейтралитет Супчика:
— Спрыгни с мотора, Супчик! Дай товарищу изобретателю остановиться на время в ласке и внимании.
Супчик встал: мотор всасывал его глубже и глубже до неописуемого расслабления:
— Я сейчас занят, ребята.
Но Мишу Некрасова не так-то легко смотать со шпульки:
— Обожди. Отдохни, выпрягись.
— Я отдохнул, Миша. Мне пора, ждут.
— Вот ведь какой особенный. Не сейчас же его обрызгивать консультационной водой, а на дому.
— Я и дома занят.
— Обожди. Горло споласкивать надо человеку? Надо. Вот и закатим подворье… в складчину.
Я ради этих слов и разводил всю волынку. Я тут и впился. Я такое унижение развел, что даже Супчик и тот вылез из своего мотора — не потому, что он обожал раболепие, а увидел человека с подрезанными возможностями, также как и он отточенного на науке — нечто схожее с любопытством скатилось с него, он повел губами, — как зенитное орудие нащупывает самолет, — отыскивая причину отступить на вечер от закона мотора, сказал:
— Ну, позови. А если я засну?
— Ты-то, Супчик? Да мы компанию доскональную подберем. Любишь компанию, дядя? — спросил он меня.
— Люблю.
— И люби.
Супчик скрылся. Миша Некрасов, обрадовавшись случаю похлопотать, тут же вспомнил, что кстати подошел день его рождения, у какого-то приятеля его выигрыш в займе — вообще предлогов оказалось много. Я понял — комнаты набьют донельзя.
— А какой срок? — спросил он.
— Все-таки важно поскорее. Зачем травить скотом луг?
— Устроим послезавтра, — сказал он, смеясь. — Пригласить долго ли: по телефону, а некоторые и рядом, у станка. Ты мне, дядя, нравишься. Крылья? Нет, не крылатый ты, предотвращай беду, переходи в моторы. Мотор — мозг, сущность воздухоплавания. Крылья? Крылья, при козырном моторе, замени двумя раздвижными кроватями, и, даю слово, полетишь. Но ты, дядя, прав — зачем себя снуздывать, обносить оградой, интересоваться в жизни надо всем. Для меня: муха летит, а я думаю — почему она в таком летном сане?
В складчину — так в складчину. Я всучил ему, хоть он и отказывался, двадцать рублей — по десятке с рыла — и покинул местком и партком. Ядро взвешено, надо уметь от него отвесить!
— По десятке! — тревожно повторил я его слова, двигая ступней по направлению к двери. — Любопытно узнать, за кого же вы, Леон Ионыч, внесли вторую десятку?
— Пора ли ему действовать? — спросил Леон Ионыч. — Давно пора. Боюсь, что в качестве секретаря он слишком смотрит по сторонам. В деле набора ядра необходимо ему себя проявить! Я уже постоптал каблуки, Егор Егорыч, а вы удаляетесь от дел!
К тому времени, как мы добрались до причины сцепления двух червонцев, густой пар заполнил ванную. Черпанов провел по месту бывших усов, тем же пальцем смерил температуру воды, затем поспешно скинул доски. Он явно тревожился, приготовляясь к приему «ядра». Мне это нравилось. Его деловое, сухое и несколько старообразное постоянство можно было рассматривать теперь в общем и отвлеченном значении. Расстегивая синюю блузу, он указал портфелем на мою ступню, по-прежнему пробирающуюся к двери:
— Постойте. Упорно утверждаю: у нас готово две тысячи восемьсот тридцать шесть. Имелись сомнения насчет Жаворонкова, но он, бдя барыш, сам вьясь вокруг, отворачиваясь, отклоняясь, подарил мне дров для ванны. Внутреннее беспокойство, Егор Егорыч, фактически есть копия человека. А в копию ключ вставлять даже удобнее, чем в подлинность!
От твердости Черпанова меня тянуло к доктору. Хотелось утешить его опрометчивость, да и наконец, объясниться пора нам. Боюсь, что стремления его казались мне ветреными. В коридоре меня остановила Сусанна. Пока я беседовал с ней, возле гигантского гардероба, коридорный сумрак делал его похожим на падающий аэроплан, а огромное тусклое трюмо чем-то напоминало озеро, семь колонн — деревья, — несколько раз высовывался до пояса голый Черпанов, неизменно напоминая о «складчине». Сусанна пренебрежительно — если б я умел выражаться возвышенной манерой доктора, я б сказал, что: «как и подобает красивому и умному двадцатилетнему телу», но насчет ее ума у меня были кое-какие сомнения, красота же… товарищи, кто не был красив в двадцать лет, а в двадцать два года особенно — пренебрежительно, повторяю, начала с того слова, которое тогда (незадолго до ведра, заполненного головой доктора) втемяшивала сестре:
— Провинциал!
И она взглянула на носки своих туфель.
— Провинциал ли, спрашиваю вас, Егор Егорыч, весь ваш Черпанов? По-моему, полный до краев провинциал. Он строг, плечи и грудь смотрят свысока, есть у него даже почтенность, но вгляделись вы в его глаза, Егор Егорыч? Он ахает глазами! Редкий случай, не только в провинции, но и в Москве. Ниже подобного провинциализма опуститься нельзя доктору? — накинулась она при моей попытке пустить в дело Матвея Ивановича. — Какой же доктор провинциал?
И со злостью, для меня совершенно непонятной, она постучала кулачком в стенку гардероба:
— Сколь ни встречала я провинциальных ухогорлоносов, ни один из них не разглядывал с таким упорством ноги. А провинциальный доктор смотрит в лицо. Балбес ваш доктор! Обезьянья морда, волосы, как у пинчера, а говорит словно адресное бюро.
Я бросил самый простой, обиходный взгляд вниз. Сусанна почувствовала себя пострадавшей.
— Африканцы, — лениво протянула она.
Я обиделся: меня-то упрекать в африканстве?
— И Африке знакомо сложение, Сусанна Львовна. Не в смысле сложения, как такового, а в смысле арифметическом. Африканская культура отличается от европейской меньшей заботой об одежде, но разве это усложняет жизнь и как-нибудь отражается на агрономии? Кстати, последнее время я много размышлял об одежде. Тут, в известном смысле, Африка даже имеет преимущества. Возьмем примитивный случай…
Я выбалтывал все, что приходило в голову. Попросту говоря, мне хотелось отвязаться от Сусанны. Я полагал, она остановила меня, желая пройти вместе к доктору, а я совсем не хотел быть свидетелем их разговоров. Упреки Черпанова заставили меня более деловито относиться к моему заезду в дом № 42. Меньше всего, следовательно, я ожидал того результата, который получился из моей болтовни.
— Ну, штаны там, юбка обязательные составы одежды и против них зачем спорить, а сколько людям, я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах также — в силу современного стремления человечества носить короткие штаны, которые делают нас столь похожими на петухов, что хочется последовать Суворову — сколько людям, повторяю, приходится заботиться о чулках! Штопанье чулок несомненная язва человечества, а что чулки, когда женщинам, кроме того, надо подбирать к цвету чулок, тела и прочего, например, — подвязки! Пустяковая, кажись, проблема, а издревле…
— Издревле вы балбес, Егор Егорыч, — сказала она небрежно, словно из рогожи ткя фразу. — Если вам все понятно, то я могу добавить ради того, чтоб вы, если уж судачить, — судачьте основательнее.
Очень любопытно сопоставить злость двух сестер. Людмила вспыхнет, задрожит, руки в боки — возможно, получишь от нее по гребню, но все-таки как-то сам теплеешь от этой всеобщей, гулкой, как рог, мощи, а здесь, если озлится Сусанна, всякий поймет, что дело засургучено твердо, и еще более осуровеет, ожесткнет весь нутром, от холода не приведет этот случай к известному сходству. Токмо редкий случай обмолвки, — будь бы я на месте доктора, я б отнес это к своим диалектическим способностям, — касательно подвязок позволил мне не глазеть попусту, а понять сразу причину засургученности Сусанны. Она — или обиделась на сестру, или устала, — но небрежность, с которой она сорвала печати, постукивая кулачком по гардеробу, стоит крупного удивления. Ленивым белокурым голосом она поведала мне следующую повесть. Сестра ее Людмила Львовна давно когда-то на фронте захватила пару поразительных подвязок, зеленых, из материала, не известного никому, принадлежавших некогда — как будто — некой герцогине. Уже одна их неистребимая эластичность делала человека тщеславным, и громадное количество поражений Людмилы, несомненно, вызваны были этой тщеславностью. Благодаря подвязкам ее доступность стала известной шире, чем подвязки. Однажды, в постоялом, спешившийся на полчаса всадник объяснился с Людмилой, и она уже замутненно думала, что это самое сладостное из всех поражений и страницы ее будущей книги украсятся лучшим описанием двух пар сплетенных рогов, характерных не мощью сплетения, а, пожалуй, необычайностью места, откуда они произросли (размышление, указывающее все-таки на ее холодность, впрочем, подобное вычурное описание если нельзя объяснить холодностью, то затуманенностью ее души), — он вдруг схватил с пола ремень пояса — и выбежал. Оказалось, он забыл засыпать коню овса. А еще перед этим он смел толковать о ее свежести и молодости! Когда он вернулся, она уже засупонилась, и хотя он вместо получаса прожил на постоялом трое суток, она не внесла этого эпизода в свою книгу, потому что не описывала своих побед. В Москве она много размышляла о будущем. Ларвин предложил ей устроить партию овса — и она, решив быть ему верной, подарила удивительные подвязки Сусанне! Эх, Егор Егорыч, если б вы знали, какие это подвязки, какая мягкость и протяженность, какая зелень, напоминающая мураву конца мая, и как горько их потерять… да, потерять! Вот уже три месяца, а их нет. Она перерыла весь дом сверху донизу, она перерыла комнаты всех знакомых — и все напрасно. А этот идиот Мазурский еще сердится. Как же не быть ей застыдчивой, робкой в людях, когда все кругом знают о подвязках герцогини!
Она сдвинула донельзя насурьмленные брови. Она хотела придать своему лицу вид чрезвычайной заботы. Она не хочет быть засудливой — скорой и опрометчивой на приговор, — доктор даже ей нравится, но он, правда же, не провинциал! И ноги, действительно, он рассматривает!
— Я бы рада поехать в Африку, но… — добавила она. Ее можно было понять — это был тот год, когда, казалось, вместе с храмом Христа Спасителя разрушалась и та часть одежды, которая в обыденном понимании носит название юбки, она чуть ли не до… здесь трудно установить границы, ибо скромному читателю любая граница покажется пакостью, а на нескромного разве угодишь, ему какие границы ни приводи, все мало, да и стоит ли заниматься таким малоблагодарным делом? — я хотел сказать: до 1932 года была короткой.
Либо у нее составилось твердое мнение о докторе Матвее Ивановиче, либо ей тяжело со мной разговаривать, как бы то ни было, я успел ей высказать только первую половину моего соображения, именно, что чем доктор будет жить здесь дольше, тем менее он опровинциалится; во второй половине я хотел изложить кое-что насчет «африканства» доктора, но она — опять с ленивым лицом — засучивая рукава сарафана, отошла от меня. Ну что ж, я отпускал докторскую сущность по ее номинальной стоимости! Бесчинства его давали уже себя знать. Она хотя и ни слова не сказала касательно Черпанова, но несомненно он покорял ее своей всеобщностью!
«Вот тебе и удивительный разум, — думал я, — вот тебе и неиспробованный ум! Высушила моментально она во мне все те сырые обширности, которые простер предо мною рекой своего красноречия доктор Матвей Иванович Андрейшин, обширности, которые благодаря чужому блеску я принимал за нечто плодоносное, — как и подобает относиться к заливным лугам. Извините меня за выспренность, но она обусловлена тем, что я подходил к нашей каморке, а трудно быть не выспренным подле доктора. Вот, например, чего, казалось, проще рассказать ему о том, что я слышал от Сусанны. А попробуй-ка! Вначале надо избрать такой момент, который не показался б ему бесцеремонным вторжением в его психику, хотя он сам вторгался в чужую психику, когда угодно и как угодно, прячась за софизмы. Ну, допустим, вы избрали таковой момент, теперь попробуйте прервать его речь, ибо доктор позволял себя лишь выслушивать, редко соглашаясь слушать других, вернее, откладывая выслушивание оппонентов на следующий день, к каковому дню у него скоплялось столько соображений и цитат, что их никак невозможно было выложить за один день. Так и тут, едва я начал — и не о Сусанне совсем, а издалека, чуть ли не о своих родственниках, доктор поднял правую ладонь к правому уху, — он стоял на коленях, упершись грудью в подоконник и лицом в стекло, — и полилось! Оказалось, что он рассматривал крыши и скамьи стадиона. Как много в наших стадионах от классической древности, — думал он. Вошел, видите, Насель, букинист, человек тоже достаточно древней души. Замечательно то, сказал он Населю, что у кого-то, представьте, возникла мысль: почему цепляются за этот ветхий домишко с колоннами ветхие людишки, живущие рядом со стадионом. Не желают ли они взорвать стадион? Вместе с пятьюдесятью тысячами зрителей?
— Такая мысль принадлежность единственно вашей головы, — сказал я. — Редчайшая у вас голова, Матвей Иванович.
— И очень возможно, — согласился доктор, — как бы то ни было, Насель исчез мгновенно. Он мне мешал думать о Сусанне, а, кроме того, я еще не приготовился к переубеждению его. Сусанна! Она, только она, Егор Егорыч, объединяет этот агрегат людей. Неуклонно верю, что она организовала болезнь ювелиров, и сколь ни прискорбно, но на нее полностью воздействует лишь — бандит! Да, да, Егор Егорыч, ее ум разбудят антисоциальные силы. И в этом предстоящем нам состязании я, хотя и не бандит, продемонстрирую редкую силу.
С легкими стонами он оторвался от окна и припал к матрацу. Я осведомился о его здоровье.
— Прекрасно, — радостно воскликнул он, упираясь ногами в потолок. — Легкая боль в хребте, не мешающая, но, наоборот, способствующая всевозможным умозаключениям. При обыденном состоянии здоровья трудно размышлять, Егор Егорыч.
Я оставил доктора продолжать размышления. Насель ожидал меня и коридоре. Доктор засыпал в него основательно тревоги. Насель сразу, вцепившись в меня, начал расспрашивать о стадионе, попутно сообщая об одиночестве, которое испытывают они, обитатели дома, — сухонькая его сущность трепетала несказанно. «Доктор умеет засуфлировать», — подумал я. Чем мог, я попытался утешить Населя. Он же, толкая коленом гардероб, продолжал тарахтеть, что единственное объединение его с родственниками — так этот гардероб, объясняемое обширностью и ненахождением покупателя к нему. «Три грузовика едва увезут его, если разберешь!» — говорил Насель. Черпанов помешал ему. Он выскочил, застегивая синюю блузу, и довольно грубо отогнал Населя.
— Из-за ссученных мыслей, которые нетерпеливо ждут применения, я не вымылся, Егор Егорыч. В крайнем случае, пускай остынет вода. Пока Жаворонков подле, используем его. Он страдает от раздеваемого купола Христа Спасителя — ай, какая жалость! Так мы тебе самому купол засусалим.
Он посуетился малость около ванны, нагружая единственную в мире бесчисленность карманов (даже рот его походил чем-то на карман, особенно после того, как исчезли его сконсовые усы), и потащил меня вверх к Жаворонкову знакомой, суетной лестницей.
И противно идти, а нужно. Шестьсот двадцать экземпляров рабсилы за ним — и костюмчик. Шестьсот двадцать — это создание нового Жаворонкова, костюмчик же — его прошлое, о прошлом всегда трудно говорить, сколь бы ни были вы всеведущи. Берете, Егор Егорыч, обязанность насчет костюмчика?
— А какую мне ему цену давать?
— По вашему усмотрению, Егор Егорыч. Давайте половину против запроса. К цене поддевочки, которую я ему замыл, прибавлю… Дешево замыл, черт бы его драл!
Я хотел высказать ему свои подозрения касательно единства поддевки и заграничного костюма, но, подумав, что соображения мои, пожалуй, он рассмотрит вроде трусости, кроме того, какой же это торг без всеобъемлющего ощупывания продаваемого, — одним словом, я промолчал. Жаворонков встретил нас без смущения, а даже весело. Он сидел в углу, украшенном антирелигиозными плакатами, важный, как если б почтовый ящик внезапно превратился в запрестольный образ. Резвая его баба с двумя синяками и подбитой губой весь разговор наш сидела молча, посматривая на супруга с диким почтением. Опрятные старушонки вязали чулки.
— Итак, вначале помиримся, — сказал Черпанов, усаживаясь, было, верхом на табурет, но, тотчас же вскочив, он передал табурет какой-то старушке, взяв из-под нее венский стул. Он обожал менять сиденья. — Зачем нам ссориться в замечательном государстве, которое одно способно преследовать одни цели? — Черпанов ловко, я не успел и мигнуть, вложил мою руку в лапищу Жаворонкова. — Теперь о деле, а именно касательно шестисот двадцати. Есть у вас знакомых, родственников и друзей шестьсот двадцать?
— Шестьсот — я понимаю, — глухо ответил Жаворонков, — а двадцать-то откуда?
— Государственная разверстка.
— И надолго их, Леон Ионыч?
— Видите ли, Кузьма Георгич, время в данном случае теряет свое назначение. Время мы измеряем тогда, когда мы несчастны или когда приближаемся к несчастью. И зачем нам огорчать их, прерывая счетом времени их счастье. Они перерождаются там, Кузьма Георгич.
— Чего ж, выхолостят их или как? Шурка у меня племянник есть, аккуратно сработанный парнишка, его вот жалко, коли выхолостят, а остальные… — он взглянул на старушек, — бог с ними! Насчет Шуркиного выхолащиванья снисхожденье, поди, можно хлопотать. Очень он похож на меня, и по молодости-то… — Резвая баба его сверкнула глазами. Он почесал бороду — и замолк.
Черпанов переменил стул. Три старушки сразу предложили ему пять стульев.
— Но почему, Кузьма Георгич, такие крайние мысли?
— От причины.
— В моих словах нет указанной вами причины.
— А доктор зачем приходил? На обследование по случаю охолащивания! Я припадочный! — вскричал вдруг Жаворонков, вскакивая и топоча ногами. — Я всех избить могу и ни перед кем не отвечу! Ленька, в морду хочешь?
Он поднял шишковатый свой кулак. Черпанов плюнул на кулак и, откинувшись вместе со стулом, захохотал:
— Ха-ха! Ха-ха! Жаворонков. Этак, милый мой, не восстанавливают храм Христа Спасителя.
Жаворонков разжал кулак и — уже мягкой ладонью двинул по столу, удаляясь от Черпанова.
— Какой… храм восстанавливать?
— Со всех сторон осмотритесь, Кузьма Георгич, и опричь, как говорится, кроме храма Христа Спасителя, что достойно восстановления, какой пьедестал лучше, чем Уральские горы. Только он один. Мы не желаем препятствовать твоим мыслям, лишь бы перерождался. Естественно, что мы вначале его восстановим, не так, чтобы уж сразу храм, а так вроде театра с высоконравственными и целомудренными произведениями.
Жаворонков глубоко вздохнул:
— Скажу по секрету, поездка хотя и по разверстке, но вполне добровольная. Одному бригадиру, а таковым являешься ты, Жаворонков, объясняется цель.
— Прах их… — нерешительно проговорил Жаворонков, но явно внутренне пылая, — прах их дери, добровольно-то они не все согласятся.
— Тогда берите на себя, Кузьма Георгич, добровольность, а остальным предоставьте разверстку. Шестьсот двадцать человек, конечно, трудно удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность, мочиться там сколько они хотят в день, судачить.
Жаворонков опять сжал кулак, взглянул на резвую свою бабу и старух, опустивших головы:
— Я им посудачу!
— Я рад, Кузьма Георгич, что вы так сразу поняли мои идеи, в вашем миропонимании есть какая-то унаследованность. Постепенно говорю я всем законтрактованным, давайте молодеть. Это опыт, Кузьма Георгич, имейте в виду, но опыт давних моих стремлений. Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека. Повторяю, мы не задерживаем течение его мыслей и желаний.
Жаворонков положил ручищи свои на плакаты.
— Значит, рвать? — обернувшись к нам мутным своим лицом, спросил он. — Мне все равно одна погибель, сгубит меня иначе Степанида Константиновна, а уж — если будешь восстанавливать, так я такие восстановлю — в пять раз шире и выше. Удостоверенья есть? Есть. Правильно! Ай да комсомол, на какие опыты двинулся. Ай да Урал. Ай да Леон Ионыч! Не зря я публично мороженым торговал, а втайне строительным делом орудовал. Мороженое — это, дескать, намек, что если Жаворонков перед вами, то существует сладость, а строительным материалом!.. Какие я тебе древеса выкину, Леон Ионыч, стареть им столетиями не стареть.
Он протянул черный свой кулак, похожий мощью своей на маузер, к бабе. Баба уже разглядела удостоверения Черпанова — и розово цвел перед нею всеми любимый Черпанов!
— Видишь, доктор испытывал: не соблазнит ли меня какая чужая девка, не отведет ли от праведного пути? Поняла? Конфет! Лимонаду гостям!
Баба загремела чашками.
— Как же насчет шестисот двадцати, Кузьма Георгич?
— Соберем и семьсот.
Черпанов пересел на скамейку:
— Не единовластвуй, Кузьма Георгич, действуй мало-помалу. Сказано, шестьсот двадцать — и точка.
— Будет шестьсот двадцать. Парни религиозные, крепкие, петь и работать умеют. Кирпичики-то с духовными песнями класть будут.
— Ну, это уже лишнее, — сказал Черпанов сухо. — Ты и о перерождении обязан думать, Кузьма Георгич.
— А если я уже переродился?
Он рванул плакаты со стены, перебросил куски их бабе. Она сунула их в печку. Он кинул ей спички. Она зажгла. Оранжевое пламя соединилось с оранжевой краской. Исчезли митры, лихо надетые набекрень; седые бороды святых отцов, кровавые носы, густотелые ангелы, кружки монет, сыплющиеся из рук монахов. Мне стало слегка грустно. Черпанов сухо улыбался — строго и прямо сидя на скамье. Ему-то знаком предел своих полномочий, а я?
Нет-с? Не так-то уж легко быть секретарем большого человека!
Хотя Черпанов и сбрил свои сконсовые усы, обнажив всю розовость своего двадцатидвухлетнего лица, все же удивительная сухость его глаз, его скрипучий, почти старческий голос, его повелительная манера говорить — и даже склонность пересаживаться с места на место — заставляли многих верить ему, если не в общем, так частностям. Трудно, конечно, поверить было мне, что Урал почему-то решил восстановить у себя храм Христа Спасителя, Черпанов явно чего-то не договаривал, но вот эта-то недоговоренность и пленяла людей. Жена Жаворонкова буквально смотрела ему в рот, Жаворонков скромно и с достоинством трепетал, старушонки млели. Черпанов обратился ко мне:
— Егор Егорыч, вы, никак, чем-то хотели обмолвиться?
Врать мне трудно, но, странное дело, всегда, когда я вру, моя ложь кажется многим чем-то обидным. Начал я издалека, решив воздействовать на жаворонковское раскаяние и перерождение:
— Когда я летел по лестнице от вас, Кузьма Георгич, то порядочно испортил свой костюм. Естественно, я б желал приобрести свежий. Я слышал от старичка, у вас присутствовавшего, что вы имеете таковой. За деньгами я не постою, если заграничный…
Жаворонков, как я и ожидал, обиделся. Он подобрал рыхлый свой рот, внутренно как-то оглянулся, да и все в комнате внутренно оглянулись. Он осторожно сказал:
— Если имеется костюм, гражданин, то сгодится для себя. На Урале вот какая высокая должность предлагается.
— Высокая не по чину, а по возможностям, — сухо вставил свое слово Черпанов. — При такой должности лучше соблюдать скромность: толстовки достаточно, Кузьма Георгич.
Я продолжал:
— Смешно думать, Кузьма Георгич, что ваше перерождение ограничится внутренностью, а не внешностью. Вы получите подобающий костюм, а зачем вам заграничный?
— Чрезмерное стремление, — сказал Черпанов небрежно.
Жаворонков поднял кулак.
— А ну, встаньте!
Черпанов встал.
— Я Егор Егорычу велел встать.
— Да мы приблизительно одного роста.
— Где ж одного, когда вы, Леон Ионыч, головой выше.
— Это кажется от моих умственных способностей. Кроме того, если он заграничный, то сядет. Заграничный костюм подходящ для каждого.
Жаворонков еще более очерствел, заосторожничал, замялся.
— А ну, пройдитесь, — сказал он.
Черпанов сделал два-три шага.
— Присядь.
Черпанов присел.
— Да, будет годен.
— А цвет какой? — спросил я, вспомнив о зеленой поддевке.
— Да цвет такой, скромный, вполне для ваших секретарских лет. Еще раз встаньте. Вполне подходит, верьте мне. И длина, и ширина, и замечательная заграничная материя.
— Ну вот, мы его и купим.
— Отлично, Егор Егорыч.
— Посмотреть бы лично, Кузьма Георгич.
— Отчего не посмотреть, Егор Егорыч.
Он осторожненько вздохнул — и мысленно огляделся. Так же как и вся комната.
— А сколько же вы даете, граждане, комиссионных?
— Позвольте. Мы же у вас костюм покупаем, и вам же комиссионные!
— Кабы у меня, Егор Егорыч, я б его, возможно, даром подарил. Продал я его. Вышло здесь одно испуганное обстоятельство: разгорячился я клеветой доктора, думая также, что Сусанна насчет алиментов запускает, и двинул его смертельно. Милиция, думаю, обыск. Скажут, откуда заграничные вещи? Продал. Задарма продал.
Черпанов подряд пересел со стула на стул — этак стульев шесть.
— Фу ты, какой растяпа! Кому ж вы продали?
— Фамилию назвать пустяковое дело, Леон Ионыч. Только он вам все равно не продаст. Он тоже встревожен. Вот вы меня успокоили своим приглашением, я чувствую себя человеком, мне жаль костюма. Вот ведь до чего доводит несдержанный характер. В божьем заступничестве начал сомневаться, а теперь, похоже, опять вернулся к лону…
— А черт с ним, с лоном! Кому продали? — сдвигая стулья в одну линию, сказал Черпанов. Он шумом стульев как бы повышал свой голос.
— Случайно продал. Пришел он узнать, так как у меня произошел скандал, а он метил устроить вечеринку — с картами. Предлагает мне пятидюймовые плахи, а от меня костюм, так как гость его любит играть на вещи, а не на деньги. А узнать он хотел — как я бил: для милиции или для себя. Опять же костюм биллиард ему напомнил.
Я осторожно, желая выведать хоть бы цвет, спросил:
— Чем же биллиард?
Жаворонков дерзко щелкнул меня пальцем по плечу:
— Гладкостью.
Черпанов придвинул к стульям скамейку:
— Экая глупость!
— А мы привыкли жить осторожно. Баба говорит — по новой системе лечит. То есть доктор. А я думаю, черт его знает, не ложный ли свидетель по части алиментов? 10 % могу рассчитывать комиссионных, граждане?
— Десять процентов с чего, Кузьма Георгич?
— С общей суммы костюма.
— Но ведь костюм-то ваш?
— Опять то — на то. Зачем мой? Я его снова куплю.
Черпанов сдержанно, но достаточно раздраженно проскрипел:
— С нас комиссионные? Ты с ума сошел, Жаворонков?
— Как угодно, — дерзко глядя в глаза Черпанова, ответил Жаворонков.
Мы помолчали.
— Ты нам скажи, — начал опять Черпанов, — кому ты его продал?
— Леон Ионыч! Богом клянусь, делом нашим клянусь, не продаст он нам костюма.
— Как его фамилия?
— Фамилия?
— Жаворонков, брось шутки!
Жаворонков вытер о штаны вспотевшие кулаки и, сдерживая злобу, проурчал:
— Сколько заплатите? Дайте, Леон Ионыч, хоть сорок рублей.
— Пять!
— Ну, давайте пять!
Он, скомкав деньги, сунул их в карман.
— Фамилию? — повторил строго Черпанов.
— Фамилия у него знаменитая. Шулер и подлейшая личность. Владел скрытыми притонами, но теперь замазал. Сообщал я о нем в милицию, но рука есть там, что ли, словом, по-прежнему — через день вечеринки с играми.
— Фамилию!
— Стыдно и произносить его фамилию. Пакостит дом его фамилия.
Черпанов застегнул карманы:
— Гривенника к пятерке не прибавлю, Жаворонков.
— Трошин его фамилия. Тереша Трошин. Ныне в винодельческом тресте служит. Раньше…
— Плевать мне на всякие «раньше»!
— Обманет, он вместо заграничного костюма такую непролазную дрянь всучит, годы будете жалеть. При моем комиссионерстве оплошность отпадает, так как я соображаю…
Черпанов одернул синюю блузу, встал:
— Пора, Егор Егорыч. А ты, Жаворонков, насчет шестисот двадцати обмозгуй, список составь, разбей по группам — и пусть готовятся. Квартирные и суточные после представления списков на третий день, прогонные — немедленно. Наживай брюхо, Жаворонков!
Жаворонков обалдел и чуть ли не сделал руки по швам.
Мы покинули его комнатки — степенно и торжественно.
Лестница показалась мне широкой — и менее крутой.
Мы слезли в той части столицы, которую некогда именовали «окраиной». Здесь более чем где-либо, — если даже и не стараться оставить позади мучающее вас беспокойство, так как оно мучило меня, — вы заметите напор того иного, которое достойно всяческой похвалы. Вместо дряхлых домишек, пред которыми и наш № 42 мог показаться дворцом, перед вами белые пятиэтажные улицы, мурава скверов, дворы озеленились, плотные серые заводы утеряли былую приниженность; тощие лица, хилые тела сменились озадистыми, широкими в крестце. Распалялись глаза, глядя на все это! Отлично бы чувствовал я себя, озаренно бы даже, кабы не постоянная оглядка на Черпанова, кабы не стремление усвоить его теперешнее состояние. А он был сух и длинен — и больше ничего. По лестнице — такой светлой, словно архитекторы боялись, что обитатели постоянно теряют иголки или заботились они о бюрократах, которые приспособят здесь столы для натиска анкет, — мы поднялись на третий этаж. Едва мы открыли дверь, напор радио заставил нас придвинуться друг к другу. Хозяин, Миша Некрасов, принял наше движение за похвалу. Он крутил перед нами черный ящик вроде сковородки с перехваченным зрачком, откуда чей-то унылый голос требовал признания. Углубленный человек в пиджаке с отвислыми карманами, вроде тот, которого Черпанов называл Супчиком, безмятежно стоял подле ящика, погрузившись, видимо, в пропасть своих размышлений. «Заграницу ловим!» — прокричал нам хозяин.
— Прекрасное радио! — закричал Черпанов, перекрывая все голоса. — Впервые встречаю подобное радио. Удивительное радио, призываю свидетелей.
То ли крик достался ему дорого, то ли он волновался, то ли желал изобразить волнение, то ли желал начать обычное обсиживание всей мебели, Черпанов плюхнулся на стул, обитый клеенкой, плеснул из графина в стакан — хозяин взглянул на него оробело, — глотнул… и опять я склонен возвратиться к нашим классикам: «глаза его выскочили на лоб», сказали бы они. На лоб не на лоб — я думаю, что ни при каких обстоятельствах глаза Черпанова не могут выскочить на лоб, не потому, что там места нет, а оттого, что он всегда сумеет сдержать себя, — но под лоб они укатились. Он даже слегка побледнел:
— Послушайте, товарищ, — сказал он, наконец, хозяину, — правда, я поднимался по лестнице, задохнулся также и от умиротворения радио, но почему в графинчике, который стоит мирно в стороне на водяном подносике, вместо освежающего я саданул водку?
Хозяйка, — в ней вы бы прочли математически выраженное скопление доброты и мягкости, — всполошилась. Хозяин обозначил руками недоумение.
— Миша, ты же дал торжественное обещание не пить. И для гостей хотел одного вина.
— Как водка, да здесь вода, Надя. Бьюсь об заклад.
Он поднял графин, понюхал:
— Действительно, водка. Кто-то подшутил. Придется вылить.
Водке всегда найдутся защитники. Кто знает, не в расчете ли на защитника и доброту хозяйки появился графин? Ясно, что первым внес изменения в беседу о водке Черпанов:
— Зачем выливать, то есть выливать в раковину, лучше в себя. Водка способствует душевности разговора, товарищи.
Миша Некрасов пятился с графином:
— Удивительно, но каждый раз в графине вместо воды водка.
— Чрезвычайно однообразная шутка, — вставил Черпанов, — пора одуматься.
А главное, попробуй обнаружить виновника. Все хохочут.
И точно, все захохотали. Хозяйка откатила назад, в кухню за угощеньями. Водка протиснулась к своему месту. Хозяин обратился к Черпанову:
— Хорошо, брат, что пришел. Изобретатель — народ забывчивый.
— Забывчивый, когда ему не нужно командиров.
— Командиров?
— Можно начинать, Миша?
— Водку?
— Нет, доклад мой об Урале и о воздухоплавании, а также воздушной обороне.
— Обожди. Еще ребята подойдут.
Черпанов озабоченно начал буравить вздутые свои карманы. Хозяин благоговейно отошел от него.
— Восхищайтесь, — сухо, словно поджигая, прошептал мне Черпанов.
— Чем мне восхищаться?
— А известно вам, что в американском путеводителе по СССР рекомендовано, первоочередно, всем увиденным восхищаться.
— Идите вы с американцами! Они думают по-своему, а я хочу — восхищаюсь, хочу — нет.
— Тогда отодвиньтесь.
Я отодвинулся — и толкнулся в М. Н. Синицына. Да, стоял передо мной М. Н. Синицын в коричневой своей куртке, с красно-синим огрызком карандаша в кармашке, с морщинистыми своими губами, которые он постоянно раздувал. Не могу похвастаться, чтоб он обрадовался мне.
— Вернулись? — спросил он уныло. — Отдохнули? Все отдыхаете.
— И не уезжал.
— Пристроился на другую службу? И верно. Склочное у вас место. Тупицы какие-то сидят. Тебе-то, небось, нечувствительно, а свежему человеку неприятности сплошь. Доктор, Матвей Иваныч, пишет тебе?
— И доктор не уезжал.
Мне казалось, что М. Н. Синицын должен бы чувствовать побольше интереса к своему делу, потому что мое сообщение о докторе его ничуть не взволновало.
— Болен, что ли? — сказал он вяло, явно стараясь сбыть с рук скучный разговор.
— Влюблен.
М. Н. Синицын сунул трубку в рот:
— Бывает. Ты тоже влюблен. Любопытненько.
— Не помещается.
Он оглядел меня с легким пренебрежением:
— Где и поместиться. Тебя, брат, зажечь как мокрый торф — запутано и запугано. Средним числом сказать — трепло ты, Егор Егорыч. Но, возможно, высохнешь. — Он пустил мне дыма в нос, раздул губы. Я привык к его грубой манере говорить, а сейчас даже она забавляла. — На чем мы прошлый раз-то остановились?
Я знал, что, если он зарядит рассказывать, так на весь вечер. Его надобно уметь прервать в самом начале. Я спросил о первом попавшемся в голову:
— Как у вас там больные? Юрьевы, ювелиры.
Он провел трубкой вкруг своего лица, затем вкруг моего, а после выкрутил чье-то воображаемое лицо близ себя:
— Чудак ваш профессор-то оказался.
— Но не вредный чудак?
— Вредный чудак ты, Егор Егорыч. Если у меня фантазии в действиях, так у тебя в мыслях, постоянно. Хуже нет человека, который имеет страсть верить и внимать всяческим фантазиям, не умея их отсортировывать, откидывать от них обывательщину. Ну что вот тебе эти ювелиры, поддеть ты меня хотел, да?
— Чем же мне вас поддевать, Синицын?
— А тем, что профессор твой меня вытурил. Фантазия, говорит, у вас чрезмерная. Или я, говорит, или он. Какая я научная величина? Ну и сняли. Пойду теперь учиться. Я твоему профессору лет через пять такое шило вставлю…
Он показал при посредстве трех пальцев, какое шило он вставит профессору Ч., директору нашей больницы.
— По-моему, профессор раньше не вмешивался в хозяйственные дела.
— А зачем ему вмешиваться? Мы на иной почве разошлись. Я еще до отъезда директора да и доктора Андрейшина, им обоим, предлагал снять ювелиров с постельного режима и поставить возле труда и станка. Ах, как можно! Болезнь явная, говорит профессор; надежд нет, пусть помирают. Болезнь неизвестная, говорит Андрейшин, надо их душу расковырять: откуда эта корона и что это за корона и из чего она? Любопытненько.
— Из часов, полагаю, — подзадорил я его. Рассказ его меня чрезвычайно увлек; я весь, сами понимаете как, затрепетал трепетом.
— Из каких таких часов, ты полагаешь?
— Из ящика часов, которые украли в ювелирной и часть которых нашли у братьев Юрьевых.
— Противно смотреть, а не только что слушать. Что ты знаешь? Сухаревские сплетни. В газетах читал? Нет. Не было золотых часов.
— Были.
— Я тебе утверждаю, не было. Когда-то, года три назад, уперли у них из мастерской пять часов. Но не золотых, а фальшивого золота. Заподозрили одного сударика, из служащих, обыскали, не нашли. Поведение показалось подозрительным, все же не вытурили, посмотрим, дескать. Он скоро и сам смотался. Теперь представь, гуляют Юрьевы по Сухаревке, скупают разную чепуху. Корону-то они, верно, желали делать. Знакомятся они с молодыми людьми. Не купят ли, говорят они, часики? Золотые. Не можем, говорят, найти покупателя и рискнули в Сухаревку обратиться. Ювелиры знают, как ловят сухаревцы различных дураков. Пожалуйста, говорят, только не к вам на квартиру смотреть, а к нам. К удивлению, молодые люди согласились. Приходят к ювелирам. Наследство, говорят, получили — и выворачивают из бумажки. Юрьевы смотрят: батюшки мои, клеймо и номер известные! Краденые! Однако, будучи добрыми, с одной стороны, с другой, из-за спешности предстоящей работы желая отделаться от неприятностей, говорят, прищуря глаза: объясните, пожалуйста, откуда у вас часы, когда они клейма нашей мастерской. Парни — трах ювелиров по зубам и, покинув часы на столе, — в двери. Ювелиры за ними. Те в трамвай. Они в следующий. Опять-таки по соображеньям, высказанным выше, с помощью милиции остановить их не желают, а жаждут полной исповеди. Те в подворотню, эти, осторожненько — как бы не подкололи — к подворотне, а оттуда перед ними — шварк девица-раскрасавица. Любопытненько.
— Сусанна?
— А черт его знает, кто. И парней-то я вылечить вылечил, но еще насчет расспросов блюду осторожность. От этого и успех леченья, и вся моя репутация может пострадать. Если загублю их, конечно.
— Воров вылечили?
— Каких воров? Ювелиров. Воры у них оставили. В часах-то вот тут вся загвоздка и находится. Будь бы они золотые, я б и спешил, а тут, к счастью, фальшь — от силы по три рубля, всего пятнадцать целковых инвалютой.
— Невероятно!
— Чего невероятного? В нашей стране все вероятно. Невероятное, вернее, — вероятное-то и началось у ворот. Выходит девица. Ясно, отвести глаза. Они люди робкие, до девиц ни разу не касались — естественно, обомлели. Она с ними поговорила.
— Правильно. Не больше.
— А ты откуда знаешь, что не больше?
— Позвольте, но во дворе, перед дверями квартиры ювелиров постоянно толкутся мальчишки. Они помнят каждого свежего человека, и девицу, посетившую ювелиров, у которых никогда не бывало женщины, тем более. Про мальчишек мне доподлинно известно: я сам ходил и разговаривал с ними.
— Не спорю. Кто знает, возможно, и я сам ходил к ним. Не была. Ясно. Да и зачем ей быть? Достаточно с нее одной беседы — поласковей — у ворот, ювелирам долго ли зачахнуть. Именно, зачахнуть, потому что они с великим трудом обмолвились мне насчет девицы и часов, после того, как я их вылечил, они поверили в мою безмолвность, да и на самом деле, чего ради я из-за пятнадцати рублей буду их ввергать в пучину бедствия. Любопытненько.
М. Н. Синицын обожал пышные обороты. Иногда он эти пышные обороты пускал в рассказ столь изобильно, что из-за них не видно было смысла и толку, тогда следовало — хотя он способен был разозлиться и вообще оборвать рассказ — прервать его и спросить о самом главном, интересующем вас. Если вы могли умело дать понять ему ваше любопытство и уважение к его рассказу, — он забывал о пышности оборотов и смутности выражений, говорят, необходимой для современной прозы. Я спросил:
— Каким же способом вылечили вы, Синицын, ювелиров?
Он опять очертил трубкой воображаемое лицо профессора — и пронзил его чубуком.
— Они, видишь ли, полагают, что если они знают название всех болезней, так это и есть леченье. Дудки! Отъезжают они за границу, ну, естественно, все слухи ко мне. Думал я, думал, беру грузовичок, еду к знакомым в трест точной механики, говорю: дайте на подержанье соответствующие станки для ювелиров — вот, говорю, грузовик. А они хохочут: на грузовик, дескать, пятьдесят станков влезет. Отлично. Отпустили два. Возвращаюсь. Ставлю их к себе в комнату за ширмочки, иду в палату «полуспокойных». Они лежат, бедняжки, желтые, тощие, ноги в пятнах, будто собаки обкусали — и глаза в потолок, и такая на глазах скорбь, просто вздохни и помирай. Ну, я сажусь рядом и говорю: ребята, атанде. Будет, говорю, вам, ребята, валяться, как дураки, пойдемте ко мне в квартирку, водки дернем, все равно — помирать, так с водкой. Они, естественно, накидывают халатики и за мной. Дал я им перцовки — и огурцов.
— Чудовищно!
— Вот и профессор говорит: чудовищно. Конечно, чудовищно здорово, потому что они на другой день самостоятельно пошли, а еще через день раздвинул я им ширмы и говорю: действуйте. Они мне и начали набалдашник для палки из моих чайных ложек выделывать. Красивая, брат, штука получилась. Баба голая лежит и на себя покрывало тянет, а покрывало переходит в трость. Только таскать мне и по общественному и по семейному положению невозможно такую палку. Я бабу попросил в козу переделать. Переделали.
— И они утверждают, что с девицей из подворотни разговаривали всего лишь однажды.
— Я им верю. Ты что полагаешь?
— Ведь возможно, что следующие разы они уже с нею не разговаривали, а встречались молча. Полагаю, что о молчании-то они и молчат.
Мои соображения показались М. Н. Синицыну обидными, будучи человеком справедливым, он хотя и обиделся, но сознался:
— Это я упустил. Молча? Действительно, что расскажешь, если молча? К молчанию у меня нету подхода, да и баба у меня ревнивая.
Он отошел от меня. Гости прибывали. Черпанов крутился вьюном, наливал «встречные» рюмки; помогал резать хлеб; соорудил детям, которых отправили спать, по бумажному пароходишку и голубю, рассказав им сказку о медведе, который в лесу объелся брусники и пришел в город лечиться и как его замучили бюрократы. Прах его знает, откуда появилась у него эта сказка, но он ее повторил и взрослым; затем устремился «обрабатывать» каждого в отдельности. Я нашел его возле чрезвычайно просто одетого человека в черной рубашке и черном, но каком-то странно опрятном пиджаке, возле полки с книгами.
— Из рабочих? — причалил к нему Черпанов.
— Здесь все из рабочих. А вы разве нет?
— Я незаконнорожденный. Но, лаконично говоря, мог бы быть и рабочим.
— Почему нет? — черный взял еще книгу, полистал и положил обратно.
— Приятно, небось, поселиться в новенькой квартире, а? Особенно для рабочего важна ванна! Пришел, устал, двинул газ, залез, вылез. И вот, пожалуйста! — Он дернул за рукав черного. — Чистое белье. Небось, теперь с радости и не вылазишь. И правильно. Моя ванна, хочу — сижу, хочу — плюю. Баня? Баня, брат, отвратительное зрелище. Грязь, миазмы, стой в очереди.
— Чего ж, у хорошей бани приятна и очередь, — сказал черный.
— Не скажи. Придешь ты с работы грязный, вонючий, за версту от тебя пахнет…
Черный крепко побагровел и захлопнул книгу:
— Почему вонючий?
— Потому что гадкая, грязная работа. Не на Урале же ты работаешь?
— Не на Урале.
— И не в лаборатории?
— Нет, не в лаборатории.
— Чего ж нос задирать? Выжимки у вас, брат, а не заводы в Москве. Вот, к примеру, где ты работаешь?
— Я не московский.
— Из провинции?
— Не очень.
— Откуда? Не юли, брат!
— Чего мне юлить. Я торгпред… — И черный назвал один из крупнейших городов Европы.
Вместо смущения Черпанов, наоборот, — словно выкинул тут последние остатки робости. Да, ему надобно дать первый толчок, а после того он мог возделывать любую почву, обезболенно вести любые операции! Он пощупал лацкан черного пиджака, рассматривая, видимо, предыдущий разговор как начало наступления:
— Костюмчик-то у вас не отеребки. Есть у меня к вам вопрос еще из данной области. Хороши ли американские одежды?
— Не покупаем, — кратко ответил черный. — Но передают, есть хорошие.
— Второй вопрос: драгоценности американцы любят? И что же, разводят у себя их или пренебрегают? Какие драгоценности? Ну там золото, камни в оправе или что монументальное на голову. Так, чтобы которое потверже на ощупь.
— Любят.
— И подвоз любят?
— И подвоз и привоз.
— Приятно, приятно. А насчет ванны я тебя, брат, разыграл.
Черпанов подхватил меня под руку. Я хотя и занят был своими мыслями, все же предупредил его, чтобы он не очень надеялся встретить здесь таких жидких и поддающихся обольщению людей, вроде Жаворонкова.
Черпанов попробовал посидеть на одном из приглянувшихся ему стульев. Покатался, потрогал ножки — и пересел:
— Милый Егор Егорыч, папаша у меня был преподаватель логики, а это такое искусство, где обладание языком играет главную и решающую роль.
Черпанов сорвался и подскочил к гостю в сером костюме впроседь, с лицом главаря и указующими глазами:
— Ну, как дела?
— Дела отмечаем.
— В каком виде мы за границей обозначены?
— Смотря кем, — вожаковствующим голосом ответили указующие глаза.
— Вы с ними, небось, больше на коммерческой ноге. Прирожденный вы бунтарь, а приходится быть мнимым купцом. Понимаю, ожидаете. Противно, понимаю. И костюм заграничный одели, и значок ЦИКа сняли, и вид отшлифованный, — а все-таки рабочие чаяния из глаз не уничтожить.
Он смахнул с плеча указующую соринку.
— Костюм-то? — спросил тот, важно оглядывая себя, видимо, очень довольный костюмом. — Да нет, костюм нашей выработки.
— Скажите! Поражен! Здорово вырабатываем. Отличная шерсть.
Черпанов, стараясь быть спокойным соразмерно вожаковствующему, но весь как-то внутренно сопя, пощупал костюм — и руки свои отнял с таким усилием, словно надсадился на этом ощупывании.
— Банкометная шерсть, а по родине, небось, тоскуешь?
— Чего мне тосковать, если по смыслу вдуматься?
— Действительно, раз у пролетария нету родины, то есть социалистическое беспокойство.
Вожак обозначил на лице своем легкое недоумение.
— Ты, брат, насчет Гамбурга.
— Это тоже кооператив?
Теперь подошла очередь Черпанову заводить на лице своем порядок. — Какой кооператив? — спросил он, все-таки важностью своей идя наперегонки с указующим. — Откуда кооператив встрял, недоумеваю.
— Жилкооператив, что ли?
— Да ты скажи мне ясно, кто? Почему кооператив вправляешь?
— Я здешний управдом.
Черпанов впился глазами в костюм, но — пораскинув, должно быть, что управдом живет избыточно, «сполна», — засопел еще сильнее, и глаза его отползли.
— В меру костюмчик, — проговорил он. — Тоже из рабочих? Ты, то есть?
— Тоже, — ответил указующий.
— А я тебя, по крайней мере, за полпреда вполне. Обознался. Думаю: непременно это Сашка Смоленский.
— Да я и есть Сашка Смоленский.
— И не узнаешь, Саша?
— Впотьмах.
— Черпанов, Леон. Из Шадринска.
Указующие глаза задумались. Черпанов переменил шесть стульев, пока тот не заговорил.
— Впору башке лопнуть, а не помню Черпанова.
— Зазнался. А я слышал, тебя в Гамбург назначили.
— Брата, брата назначили. Его тоже Сашкой зовут. Брат у тебя, Черпанов, в примете.
Черпанов с напряжением потер свои глаза:
— С одной стороны, брата твоего видел в проблесках революционных молний, а с другой, — глаза слабы, газами ослеплен.
Указующий важно захохотал:
— Да ты шутник, Черпанов. На гражданской войне и газов не применяли, а для империалистической рановато, даже и для побегушек, тебя мобилизовать, а добровольцев моложе восьми лет не пробовали…
— С одной стороны, Смоленский, существовали беженцы, где детей травили почем зря, а с другой — я отравлен в Германии, на баррикадах в Гамбурге.
— А, там! — И указующий важно замолчал. Не знаю, взял ли его Черпанов впрорезь или сам попался, но вожаковствующий отвратил от нас указующие глаза. Лицо у Черпанова по-прежнему было строгое, держал он себя круто, все же я заметил, что он говорил с усилием и пересаживался с напряжением. Мы двигались к хозяину, Мише Некрасову. Он стоял с женой и конструктором, которого называли Супчиком, пропуская гостей в столовую возле кресла, обитого зеленым плюшем, истертым и неистребимо пыльным. Они щупали кресло и, должно быть, обсуждали, стоит ли его здесь оставить — или порубить: очень уж досыта полон был этим креслом хозяин. Черпанов, перед самым носом хозяина, плюхнулся в кресло, — и задрал одну ногу на другую.
— Хорошее изобретение — кресло! — Он протянул к хозяйке голову, до крайности благожелательную. Хозяйка улыбнулась ему со всей добротой, переполнявшей ее. Черпанов с нежностью похлопал толстые ручки и спинку кресла. — Хорошо полежать вечерком, когда вернешься с манифестации из головы колонны. Хорошо также встретиться с ним при пароксизме скуки. Да, могу сказать, что пришел обещанный срок, когда рабочий получил право на кресло. Ведь откроют же такую удивительную вещь, как мягкое кресло.
И он впритруску начал дотрагиваться до всех частей кресла. Хозяин с хозяйкой переглянулись, — согласие густо лежало в их синеватых глазах, согласие и любовь, — взялись за руки. Даже Супчик взглянул по-иному, не спросонья, как всегда.
— Тебе нравится кресло? — спросил хозяин.
— Очень. С удовольствием бы купил.
— Так я продам, — сказал хозяин, опять беря жену за руки. — Оно у меня от деда еще. Гадость, пыль, клопы еще заведутся. Уступлю я тебе его, Черпанов.
Черпанов снялся с кресла:
— Куда я с ним потащусь?
— Никто не берет, — грустно сказал хозяин. — Всегда так…
— Я взял бы; человек, видишь, бедный я…
— Мы в рассрочку.
Жена подхватила:
— Да чего в рассрочку, лучше уж даром, раз человеку понравилось.
— Даром лучше, — прикасаясь к креслу, но все еще не опамятовавшись от погружения в свои размышления, сказал Супчик. Хозяин его уважал. Он забрал руки Черпанова и усадил его обратно:
— Бери даром, Черпанов. Дарю!
Черпанов выскочил; попробовал приподнять кресло — и еле оторвал его от полу:
— Да оно песком набито, что ли? И жесткое. В нем, брат, будучи впроголодь, трудно лежать. — Он оттолкнул кресло. Он приметно желал вернуться к главному направлению, насквозь пронизывающему его. — Однако, о кресле достаточно. Все собрались? Более или менее? Двоих не хватает. Ну, мы, брат, не в порошке, а вот пока еще за стол не уселись, разреши мне хватить доклад. Здесь все рабочие? Слушай, Некрасов, у меня ведь почти секретное сообщение…
— Обождать бы тех двух, очень любопытствуют…
— Некогда, Некрасов. Вот тут только — торгпред… — Он указал на серого. — Воодушевить его трудно.
— Ничего, возбудишь. Ведь если тут оспаривать, опираясь на чины, так тут прибавь к торгпреду командира корпуса, вот тот, который руками сучит, а тот, у которого лицо вполздорова, он только что с маневров вернулся, командир армии, а вон — наш директор завода. Прострелил тебя, насмешил! Они все свои, рабочие. А это главный инженер.
— Замухрышка-то? Да я б его за трубочиста принял.
— Он и был трубочистом, а теперь шестнадцать книг по авиации выпустил.
Исподволь Черпанов уже достал из бесчисленных своих синих карманов книжки, записочки, тетрадки, несколько остро отточенных карандашей.
— Растопить-то и не таких растапливали, но мало растопить, надо искусить и потрясти, а как им ввести: популярно или тронуть высшую математику?
— Валяй, как хочешь, — ответил хозяин, все-таки просовывая нас в столовую и усаживая за стол. — Парни и в академии учились, заграницу нюхали и поэзию читают не так, чтобы она к одним поэтам примерзла.
— Поэзия крадет у нас честь изобретательства, — ответил Черпанов. — Долой поэзию! Никогда я ее не признавал и не признаю, даже навеселе, ни поэзии, ни…
— А вон и Жмарин! — крикнул Некрасов, оставляя нас. У края стола подсели двое новых гостей. Я тотчас же вспомнил черпановский рассказ о гвоздильном заводике возле Савеловского вокзала — и тревожный холодок малость построгал меня. Я тревожился за Черпанова. Сам он — или не заметил вошедших, или не желал замечать — с судорожным, хмельным интересом перелистывая свои записные книжки, мелькнул, и скрылся пакет под девятью печатями. Двое вошедших — громадный мускулистый Савченко и желчный, худенький Жмарин — сидели, явно ощущая огромное уважение, они не признали Черпанова, вот почему, когда он встал и начал говорить, они страшно были потрясены и даже как-то напуганы, опомнившись только к концу его бестолковой, и совершенно несоразмерной уровню развития собравшихся, речи. Особенно уважал всех Савченко, для него посещение этой вечеринки было целым переворотом, почти откровением. Он воочию увидел и услышал, чего могут достигнуть при упорном труде и желании такие же простые рабочие парни, как и он. И главное, они оставались простыми! Те же широкие, угловатые движения; особый тембр голосов, воспитанных в цехах; особый отрывистый хохот и много такого неуловимого, что делало их близкими ему и удивительными. Торгпред, смеясь, рассказывал приятелям по станку, как он впервые надел фрак и отправился на прием к президенту. Савченко тоже посмеялся вместе с ними, сам мало понимая причину смеха. М. Н. Синицын напомнил полпреду, как не то он, не то другой кто ловко поддел американского миллиардера, — но рассказ М. Н. Синицыну не дал начать специалист по пушнине с необычайно длинными, постоянно вытянутыми вперед руками, чем-то похожими на постромки выносных лошадей, специалист этот коротенько передал, как лучшие пушные мастера снялись с работы и поехали в СССР.
«Разве вам плохо, — спросил их директор фабрики, — увеличим вам жалованье. Что вам нужно?» — «Ничего. Мы коммунисты, а там потребовались спецы по пушнине». Постромкорукий не закончил рассказа. Начал Черпанов, застревая пальцами в бесчисленности блокнотных справок. Румянец, похожий на весеннюю поросль, прямыми, почти коричневыми струями лежал на его лице:
— Осведомляю, что вступление мое, милейшие товарищи, будет кратким, так же как и кратко продолжение, что же касается конца, то наиболее подходящий выбирайте сами. Наше строительство огромно, в нем обитают различные концы, в которых вы и сможете засесть, давая общему цвету ядра свои обозначения. Естественно, вы желаете справиться, кто и что я. Мало прибавишь к слову «изобретатель», оно и почтенно, но и стоит отдельно. Оно мне напоминает один из тех рассказов, которые любит ни к селу ни к городу употреблять Егор Егорыч. Два приятеля находились в коротком обхождении с дамочкой… Один теряет ночью кольцо в ее кровати, второй, следующим утром, находит его, — и на палец. Естественно, сходятся в ее доме вместе — и первый видит украшенный палец. Ну, шум там, крики, почти драка. Является хозяин, его выбирают в судьи и сообщают ему под вымышленными именами причину ссоры. Хозяин решает: «Кольцо принадлежит тому, кому и постель!» — «Одностороннее решение! — восклицают они. — Как же мы вам вернем кольцо, когда вы принципиально против колец…»
— Савченко, да это ж, честное слово, наш поэт! — воскликнул вдруг Жмарин, которому пребывание здесь Черпанова казалось чрезвычайно обидным.
— Голос его, — осторожно ответил Савченко.
— Здорово, поэт! — И Жмарин, вряд ли от желания жать руку, а скорей желая в пожатии этом найти исход или закрепление своей обиды, протянул через стол свою руку. Черпанов по-прежнему был бесстрастен и льдист, полосатый румянец исчез с его лица, лишь пальцы его судорожно собирали бесчисленные записочки. «Эх, бить будут, — тихо, сквозь зубы, сказал он мне, — щипать будут, старайся не завязнуть ногами, Егор Егорыч». Он с треском пожал руку Жмарину.
— Ай да поэт, ай да вербовщик! — язвительно тряс его руку Жмарин. Некрасову эта жмаринская колкость показалась скрывающей тайный смысл, и он заметил, что все поэты — изобретатели, и приделывать сюда намеки надо, сильно сомневаясь в идее изобретательства. Жмарин обиделся: какой он изобретатель! У нас он крыл изобретательство, указывая, что изобретательство обкрадывает поэзию. Притягательный вербовщик! И неужели он считает уместным завербовать вас всех. Конечно, с такими кадрами, какие здесь, с успехом обоснует любую советскую республику хоть в Африке.
Множество возражений толпилось в голове Черпанова: он был задет. Он выпил стакан вина.
— Я о тяготении в коммунизм, о полете, — сказал он, выхватывая лист бумаги из кармана. — Вот здесь схема полета! Вот подписной лист желающих лететь.
— Любопытно. — И Супчик первым взял лист. — Заманчиво.
Не возьми Супчик этот лист, не подстрели его везде применяемая практичность Черпанова, возможно, Жмарин и ограничился бы язвительностью. Что ему за дело? Но тут портился Супчик, любовь всех, человек, чье ученье и работа служили перекличкой многих заводских ребят. Супчику находится указатель, Супчик попадает в кандидаты, аспиранты!.. Очертание жмаринских губ испортилось, глаза воспалились, он зашипел:
— Закройсь, вербовщик! Ни поэт ты, ни техник, а…
Жмарин сплавил кулак. Некрасов подскочил к нему, хозяйка с другого бока — мне становилось жарко. Черпанов, боком, двинулся к дверям, я за ним. Когда мы обернулись — Жмарин, успокоенный и повеселевший, помогал раздвигать стол, а черпановская бумага ходила из рук в руки, и все расписывались. Над нами не смеялись, не ехидничали, нас просто забыли. Черпанов задержал меня в дверях столовой, шепча: «Ловко они придумали. Жмарин отметен, как дурак, они перед ним скрывают свой поступок, тихо отмечая желание поездки. Светлый симптом! Какие люди, Егор Егорыч, едут. Ух, придется мне с ЦК разговаривать, иначе не дадут такого ядра. Смотрите, сам директор выразил желание расписаться. И директор едет, Егор Егорыч! Да, заштукатурили мы с вами сегодня строительство». Мы вышли в коридор. Хозяин вынес нам лист, испещренный подписями.
— А программу чего ж не вернули? — спросил Черпанов, разглядывая лист.
— Поклеп! Вы пустили один лист, Черпанов.
— Докладная записка имелась при листе, Некрасов. Докладная записка насчет системы и смысла Шадринского строительства. Я ее пустил вместе с листом; я отлично помню, что пустил, а пакет с девятью печатями оставил. — Он ринулся в бесчисленность своих карманов. Он рылся долго, держа в зубах притягательный лист. Программа нашлась на дне одиннадцатого кармана. — Зря обвинил, Некрасов, прости. Но что же, значит, почетные гости сразу поднялись на возвышенность в виду всего дела, приятно быть приросшим к присутствию таких холмистых людей. С намека чуют дело своего класса.
Он как-то толчкообразно остановился, — так замирает пароход на якорной стоянке, — впившись глазами в лист.
— Удивляет меня, Некрасов, почему стоят подле каждой фамилии цифры. Вот, например, пятьдесят, а рядом с этой подписью — 5. Я разверстки ядру не даю, я только чуждому элементу. Конечно, если по личному приближению, то пожалуйста. Только вот подле 50 стоит «к», а против 5 стоит «р». Что бы это могло значить, Егор Егорыч?
— К? — сказал я. — На букву «к» много профессий. Клепальщики, каменщики, кружконосы, крючкотворы, а вот «р». Рыбальщики, разведчики, рисовальщики.
Черпанов положил лист в карман и достал наши фуражки.
— Плохо мы знаем рабочий класс, — сказал он удовлетворенно, играя пальцами на фуражке, — я полагал, бить будут.
Из столовой выскочил Некрасов:
— Уходите. А закусить? А деньги? — Он протянул Черпанову сверточек денег.
— Чересчур щепетильный ты, — Черпанов сунул небрежно деньги в карман. — Я и доклада не закончил. Интересно точно знать, почем вы докладчику в час платите. Я не в смысле прилипчивости, а со свойственной мне ориентировочностью, дабы других не обидеть.
— Не за доклад. Подписной лист пустили? Пустили. Мы и помогли, чем могли.
Беседа приближается к смыслу дела
Черпанов достал деньги, пересчитал.
— Шестьдесят рублей. Благодарю. Я верну. Пока!
Но тут вступила жена Некрасова, сердобольная и привлекательная. Боюсь, что она одна из всех присутствующих не поняла происшедшего. Она, заманчиво описывая предстоящий пирог со щукой, выразила крайнее сожаление по поводу нашего ухода. Черпанов объяснился кратко, в походной форме: заседание, съезд, конференция, доклад, ждут. Ко всем этим словам в ней укоренилась известная боязливость. «А кресло?» — воскликнула она. Хозяин засуетился:
— Совершенно верно, ребята, кресло же вам подарено. Я вам сейчас напишу пропуск к дворнику, а то он еще не выпустит.
Он с трудом приволок к выходным дверям громадное зеленое кресло, апатично визжащее, приколол к нему пропуск, и мы, пожав ему руку, поволокли кресло. Он провожал нас по лестнице. В огромные окна приближалась к нам луна. Лестница грохотала, кресло то визжало, то ржало. Соседи высовывали головы. Я безропотно и даже, сознаюсь, трусливо потел. Наконец, мы спустились вниз. Вежливый хозяин крикнул с верхней площадки:
— Благополучно?
Черпанов молчал. Я ответил, что все вполне благополучно. Стукнула дверь. Яблочный цвет луны озарял нас. Дом молчал. Черпанов опустился в кресло, ворча:
— Совсем обынтеллигентились. Этак любой прохвост разовьет перед ними любые идеи, а они будут вежливо улыбаться. Шляпы! Кляксы бюрократические. Морду не могли набить.
— А если они, Леон Ионыч, догадались, что у вас секретные инструкции?
— Ясно. Иначе б непременно побили. — Он вскочил и плюнул в кресло. — Устыжать, посрамлять, уличать — и кого, Черпанова? Человека, который неотвязно понял весь поступательный ход революции. На кой черт мне нужно кресло? Мне надобна рабсила, а не кресло.
— Подарите Степаниде Константиновне.
— Пулю бы я ей подарил, а не кресло. Их, дьявол, переделываешь, заботишься, а они — живи в ванной! Стыд, срам, бесславие!
Мы еле протащили кресло через парадные двери. На ступеньке Черпанов поскользнулся, упал и стукнулся лбом о пол. Вскочив, он отшвырнул кресло, и мы быстро пошли. Но не успели мы выбежать за ворота, как нас догнал с метлой, в фартуке, с бородой, словом — традиционный дворник, окающий и с матерками. Он волок за собой ручную тележку — и в ней дыбилось зеленое кресло!
— Извозчика пошли, что ли, нанимать?
— Извозчика.
— То-то я смотрю: пропуск приклеен. Покараулить, что ли?
— Карауль.
Дворник сел в кресло. Тележка качалась.
Мы огибали сквер. Несколько елок загородили нас от дворника. Черпанов плюхнулся на одну скамейку, перескочил на другую, закурил.
— Вот и дворнику есть сиденье, — сказал он, лежа животом вниз и глядя сквозь елки с чрезмерным вниманием. — Какое отводите, любопытно, место в своих размышлениях вы сегодняшней вечеринке, Егор Егорыч?
— Руководящее, — ответил я.
— Руководящее? — с досадой воскликнул он, перескакивая на соседнюю скамейку. — Почему же это руководящее, простодушный вы человек!
Войдя в скверик, где под вкрадчивым светом фонаря осенняя зелень — в пол-листвы — тщательно старалась казаться молодой и доблестной, я подумал, что сейчас, пожалуй, часа три утра. Впрочем, не все ли равно вам, любимый мой читатель, сколько прошло или сколько есть времени? Закрыто вам или ведомо, что по времяисчислению нашего житьесказанья от начала его прошло, кажется, четыре дня, а в предыдущей главе вы узнали, что делегация вместе с профессором Ч., направившаяся на съезд криминологов в Берлин, уже успела вернуться, уже успели выздороветь ювелиры бр. Юрьевы, и уже сняли М. Н. Синицына.
Знаю, дабы не обижать автора, вы, глядя на сие недоразумение вполглаза, благожелательно решили, что съезд или не состоялся, или продолжался четверть дня, что ювелиры никогда и не были больны, а М. Н. Синицын снят был уже задолго до романа, и только на бумажке об его снятии не хватало подписи известного лица. Сожалея, должен сознаться: съезд тянулся шесть дней, обсуждение снимать или не снимать М. Н. Синицына — пять, выздоровление ювелиров… словом, со дня начала романа прошло три декады. Три декады! Надеюсь, вам понятно теперь мое раздражение против доктора, который в течение трех декад обещал ежедневно выехать — и не выезжал. Отчасти этим раздражением, отчасти и желанием наибольшей связности объясняется то, что в четыре дня я вкатил события трех декад, в чем сейчас и раскаиваюсь глубоко, идя тяжелой бичевой тропой, волоча на лямке «посуду» объяснений — и все-таки оставив читателя вполпитья, не утолив его пытливости. Хотелось мне также не лишить вас дневного освещенья, ибо все события, — если быть откровенным, — в доме № 42 происходили глубокой ночью; необходимо запомнить, что и электричество там горело каким-то особенным, засевающим душевную суматоху, светом. Далее. Мы спали преимущественно днем, — и впредь до конца романа — будем просыпаться никак не ранее 12 часов дня. И напоследок сознаюсь, события последующих глав, то есть второй части нашего житьесказанья, происходят в течение пяти дней, тогда как беспокойство наше о связности настоятельно побуждает нас растянуть их до месяца, то есть проделать как раз обратное тому, что мы натворили в первой части. Дело в том, что событий и приключений — самых удивительных за эти пять дней выросло уйма. Их возможно сделать достоверными только тогда, когда мы расставим их среди длинных промежутков времени — так, примерно, стояли уездные города в царской России, ибо кто бы смог поверить — если б их поставить все рядом, — что может существовать такая чудовищная по неправдоподобию жизнь. Или — пример ближе: мемуары. Представьте, что человек втискивает все происшествия своей автобиографии в один день. Мучайся, хлопочи, бейся — и все-таки читатель вправе сказать: неудачно, беспутно! Вернемся, однако, с полпути к истине, обратно. Подлинно утверждаю я, что все время, хоть я и рискую остаться в душевных потемках, маюсь я жаждой правдоподобия. Всячески стараюсь быть детальнее; с отвращением, временами, принуждаю себя к плоскому и уродливому бытовизму, дабы заставить вас поверить, что все так и происходило, но и сам плохо верю своей удаче. Полезно опять-таки поговорить о времени. Поймите, любимые мои, никак невозможно, — хотя б это и было б наиубедительнейше, — протянуть события пяти дней на год: и героев нет, частью разъехались сами, частью их разъехали, и… забавно и приятно наблюдать, как течет время, грациозно, но и строго смеясь над романистом!., и уже вместо деревянно-колонного № 42 возвышается восьмиэтажная громада с универмагом, прачечной, газоубежищем и прочим; недавно я проходил мимо него — где узнать переулок! — и подумалось мне: а не бросить ли к чертям собачьим весь роман, не ограничиться ли отрывками и не выкроить ли из них какой-нибудь драматургической безделки, но тут же благой мат честолюбия указал мне на участь романиста, — не поиски времени, как утверждает классик и туча его подражателей, — а проецирование теперешнего состояния вашего сознания на прошлое; ведь, по правде сказать, — и мысли у меня тогда были иные, и события совершались по-иному. Извините меня за эту откровенность, но будем искренни: вообще-то смысл человека не вырасти в полного подлеца, а в книге, уверяю вас, это еще труднее, чем в быту, и, если вам не нравится моя манера разговора, то рекомендую захлопнуть книгу, я и то с трудом доволок вас до средины этого благовествования, пора вам прекратить снисходительность, пора найти нечто более казистое, в качестве такового гостинца милостиво разрешите рекомендовать вам моих современников с менее упрямым пером, менее дурно… — э, кому нужны их имена, они и без того у всех на устах!.. — а я поплетусь своей плохой дорогой, считая видной заслугой и то, что вы соизволили допереть до половины, — у меня, собственно, и задача стояла такова, чтоб подсунуть вам треть вместо половины!.. Довольно! Пора вам, читатель, перестать обижаться на сочинителя, пора прекратить милостивые и снисходительные улыбки — приспела пора помогать нам. Извольте-ка вот события последующих двадцати шести глав втиснуть в пять дней — и поверить этому, да втиснуть так, чтобы это не казалось растянутостью. Удивительно, но все мои работы казались редакторам растянутыми. Писал и в десять печатных листов — растянуто, и в четверть листа — растянуто, после всего даже письма мои, правда — ругательные, тоже казались им растянутыми. Однажды, имея привычку для скорейшей ловли мыслей писать без знаков препинания, я ошибкой отправил рукопись в переписку, не просмотрев. Машинистка сама расставила знаки, а так как до сего она работала у В. Б. Шкловского, то рукопись приобрела вид плохо разваренного гороха. И что же? Редактор встретил меня услужливо: «Наконец-то вы прекратили суемудроствовать, перестроились, одолжили, а то, бывало, на фразе застрянешь — и заседание улетит. Не принимаю ваше прошлое за злонамеренность, но доказательство теперешнего моего утверждения: читай хоть одним глазом». Я ответил, что данный случай не более, как заслуга машинистки. «Женитесь на ней, — сказал он, подозрительно ласково, — роль спутницы писателя еще не оценена!» Я ответил ему, что предпочел бы жениться на нем самом, будь бы уверен, что его не снимут хотя бы в течение полугода, то есть пока будет печататься мой нерастянутый роман, и, пожалуй, даже и это не важно, а важна постылая уверенность, что он, редактор, все-таки не будет, — в случае чего, — защищать мой роман. Редактор стянул пояс — и промолчал. Впоследствии я вывел заключение, что и кратко писать вредно, — романа моего он так и не напечатал.
Трудно вести прямую линию романа, особенно романа вроде нашего, где я и сам еще не знаю, которая из многочисленных линий его прямая, все же я чувствую, что побочные размышления вроде предыдущего нам удаются лучше и как нам ни грустно покидать это лучшее, но мы вынуждены вернуться к Черпанову, который, лежа животом вниз, выявлял различные эстетические эмоции. Он подпел, — густо через нос, — гудению проводов возле скверика; обратил мое внимание на изящество, с которым грохотал мимо ломовик, свесив толстые ноги с передка и склонив курчавую голову; двинул соблазн насчет звезд, что, мол, и через тысячу лет будут смотреть так же, а мы уже давно досадно поостынем. И он опять переменил сиденье. Подумают, Черпанов имел привычку менять места так с бухты-барахты, либо посушить зад — нет, здесь перед вами развертывалась некая система, если даже хотите, политика делового сотрудничества. Например, если он сидел сутулясь с вытянутыми вперед ногами и с руками — крест-накрест — возле живота, значит, он размышлял о сущности того трудового процесса, который вы способны исполнить; то же — но с ногами, положенными одна на другую, и откинув голову, он думал об Урале и о своей будущей роли там; то же — но скрестив руки на груди, у подбородка, постукивая в землю носками бутс и колыхая бесчисленностью синих карманов, значило, что он охоч сулить счастье другим. Сейчас же передо мной было нечто новое, а именно — упорное лежание животом вниз; вряд ли это имело отношение к его эстетическим эмоциям, и вот эта неразгаданность его лежания и заставляет меня передать его последующие слова в той старинной манере, как я их от него услышал, то есть в виде монолога, бросив лощить его моими репликами и анекдотами.
— Рукоплещите, Егор Егорыч, исповеди, — посупляя брови, начал Черпанов. — Что поделаешь, ваше лицо апеллирует к моей исповеди. Будьте духовным отцом, Егор Егорыч, верьте, что перед вами не мокрица, а человек, достойный вполне нести пакет с девятью круглыми печатями. Представьте, два брата, — я младший, — переехали в Москву ассимилироваться. Осенью девятьсот двадцать седьмого года! Папаша наш, некогда преподаватель пневмотологии и логики в семинарии, заканчивал дни свои делопроизводителем свердловского архива милиции. Видимо, мало надеясь увидеть нас уже в сем мире, перед отъездом, он призвал меня к себе, — понимаете, я стоял перед ним восемнадцатилетним, надутым румянцем, — и, положив руку на плечо, кстати сказать, он был строгий, хотя и жуликоватый старик, сказал: «Слова имеют ценность постольку, поскольку в тебе ловко вращается язык. Асфальт улучшает город, а благополучие человека есть улица, где асфальт заменен его языком». И вот, чем я дальше живу, тем, Егор Егорыч, слова его мне кажутся мудрей, ибо глупо копать языком хрен. Что такое мысль, которая так и вьется, так и лезет в вашу душу? И что такое человек? Приспособляющееся животное — вот что человек. Вы думаете, зря прославился Дарвин? Он сказал людям хитрую правду, Егор Егорыч. Он им тонко поднес насчет приспособления видов, где побеждают хитрые, а не сильные. Всякий знает, что мамонт был страшно сильное и, наверное, доброе животное, однако выжил и победил его человек. Животное побеждает только тогда, когда приспособляется к жизненному потоку, когда приноравливается, хотя оно и должно соблюдать видимость некоторой обособленности. Против всех враждебных сил, грозящих гибелью отдельным точкам, последние умеючи ведут свою «борьбу за существование». Каждый в отдельности копает, роется и вообще ворочает всеми имеющимися у него силами для самосохранения. Однако свойства этих сил, пункты их установок у разных индивидов: х, у — различны, Егор Егорыч. Общеизвестно, что от яиц одной кладки получаются индивиды, часто значительно разнящиеся между собой: организмы варьируют. Вполне понятно, что ввиду этой вариации неодинаковые индивиды ведут свою борьбу за существование, подкапываясь друг под друга, самым неодинаковым оружием. Яйцо, более богатое желтком, например, имеет при определенных неблагоприятных условиях больше шансов дать жизнь крепкой молодой гусенице, чем яйцо, бедное желтком. Бабочка, очень ловко летающая, с большей легкостью ускользает от насекомоядных птиц, чем плохо летающая. Если оно таково, это устройство доказательств жизненной неспособности, то словно под окованной балкой спокойно перед вами будет гулять такой вывод: когда учащаются случаи, при которых животные данного рода выживают в борьбе, вследствие обладания определенной наследственной вариацией, то характер этого рода изменяется сам собою. Много есть данных за то, что для жизни отца, деда моего и прадеда желтка было отпущено достаточно, Егор Егорыч. Они не достигли высоких постов, но, борясь за себя и свой род, они ловко и умело спасали все, что нам нужно, — при малейших затруднениях. Прадед упер полковой денежный ящик — и не судился. Дед заведовал золотым прииском, разбогател, но не настолько, чтоб дети его выросли лодырями и бестолково шатались взад и вперед по земле. Отец вооружился похитрее, он уже читал К. Леонтьева, заглядывал и в К. Маркса — и чуял, что широкие обшлага рясы скоро многим навредят. Он верил, что расцвет нашего рода будет провозглашен не им, оставляя вопрос этот открытым, он трудился не разгибая спины — как и создавая детей, так и воспитывая их. Он научил нас терпеливо сносить революцию — мы верили ему, ибо он, — предвидя, — реализовал недвижимое и движимое еще в марте 1917 года, и вот он сам направил нас через десять лет понюхать Москву, так как находил, что нэп приобретает какой-то странный чин, для него малопонятный. «В Москве, сказал он, умейте молкнуть и нишкнуть». Поступили мы продавцами в склад машин, к одному нэпману. Молчим да слушаем. Познакомились, между прочим, с братьями Лебедевыми, о которых скажу ниже. Не то, чтоб мы нуждались, важна практика, принюхиванье. Знакомились, через Лебедевых, с Терешей Трошиным, крупье из казино. С Терешей, главным образом, возился брат, а я ходил розовый и малозамеченный рядом. Выспрошенный Тереша однажды по пьяному делу и открой брату, что казино-то через три дня закроют. Ну, вымолил его брат — позволить рискнуть. Я полагаю, что Тереша вряд ли бы пошел на риск, не будь мы провинциалами. Словом, точного их уговора я не знаю, но факт свершился: в один вечер брат мой обобрал всех дочиста, выиграв семьдесят пять тысяч рублей. Молодость, пена, знаете, Егор Егорыч, замерещилась ему ветвистая жизнь, жестоко он решил посягнуть на рисовальное бодрствование. Порисоваться это тоже особенность нашего желтка! Являемся к нашему складчику: «Прощайте, не служим». — «Куда, а я к вам привык!» — «Уходим. Тоже не дешевле вас». Раскрываем чемодан, полный денег. Хозяин наш сразу запыхался и от сверхнормального давления мыслей, что ли, чрезвычайно сволочной план придумал. Немедленно спрашивает нас: «Вы что, желаете открыть предприятие или насладиться?» — «Наш род, — ответил брат, — предпочитает наслаждаться в чужих предприятиях. Мы их, денежки-то, профильтруем так, что вы, хозяин, охнете». — «Суковато мыслите, — одобрил нас хозяин, — и неужели не любопытно вам кутнуть с иностранками! В Париж вам не попасть, да и не стоит, когда вот в соседней комнате весь Париж с его удивительными позами предстанет перед вами. Приехали сюда иностранки гастролировать, а какие, леший, гастроли в нашей стране, просто совестно, что мы их так подвели. Благодаря задержке они и таксу отменят, если не уничтожат совсем». Здесь молчком не отделаешься, да, кроме того, общеизвестно, что русский народ дико падок до иностранного, вдобавок и дешевка. Брат спрашивает: «А доподлинно ли они француженки?» — «Греза!» — Шире-дале, съездил он куда-то на часок, возвращается он и проводит в соседнюю комнату. Ковры, горелка, фарфор, зеркала, абажуры из шелка — все честь честью! И бабы в шелку. Одна, как копнища, прочие — три — помоложе, сверкают глазами, как гусарские кони возле коновязи. И все дело молчком. Естественно, мы мгновенно поверили насчет гастролей, хотя позже — уже с опустелыми карманами — выяснили, что обделывало нас целиком его семейство: мамаша с дочками, да племянница. Весь его расчет, вся его порука — нэпмановская изнеможенность и послевоенная слабость, из-за которой он предвидел жену свою обойденной нашим коротким обхождением, — на дочерей он уж и рукой махнул. Однако перед нами встали провинциальные версты, и они испытали крепкую усталость от данного пробега. Говорят они какие-то слова, дико нам и прелестно их слушать. Покатили мы в Европу, гремя так бубенцами, что хозяин поглядит в дверь — да и охнет. Подъезжая к Варшаве, мы вылакали уже три ящика шампанского — и потребовали пополнения иностранками, так как сопровождающие нас тряской и малоопытным бесстыдством разрыхлели совершенно. Хозяин видит, удержу нам нет, обращается он к помощнику своему Мазурскому. Тот кинулся собирать знакомых девиц. Не утверждаю, посещали ль нас Людмила и Сусанна, я по трехсотой версте почувствовал, что накал мой прекратился — и преимущественно дремал на диване, в углу, изредка поблевывая в атласные подушки, но что Ларвин приносил нам продовольствие, Насель продавал какие-то браслеты для девиц, Осип Львович — кондитерские изделия, Валерьян Львович всучил велосипед, на котором одна из девиц каталась по комнатам, голая и худая, как грабли; да и сама Степанида Константиновна тоже являлась, брат купил у нее шестнадцать гросспуговиц — все факты. Единственно, кто нас не навестил, так это Жаворонков, и то в силу того, что он находился в провинциальной командировке от храма Христа Спасителя, инструктируя церковных старост, да еще дядя Савелий Львович, который тогда правозаступничал, личность его, впрочем, меня и сейчас мало занимает. Денежки сыпались без задержки, но и процедили мы через себя такие события и виды, что если расценивать жизнь с точки наслаждения ею, как таковой, то и в Париже вряд ли возможно встретить нечто крупнейшее, разве лишь размером помещения. Короче говоря, пропив в десять дней семьдесят пять тысяч, посъедали мы все остатки, и хозяин говорит нам: «Иностранки уехали, чего вам еще выжидать?» Наглец! Цыкнули мы на него и ушли. А дома квартплату требуют. Карман пуст. «Пойдем, говорю, попросим хозяина помочь». Возвращаемся. А наши француженки тут же в конторе возле него крутятся, сами отличнейше по-русски шпарят — и мы для них как бы вполне чужие. И у хозяина лицо явно изображающее, что капитал свой, благодаря нам, он удвоил. Брат, без ругани, покачал головой, а тот ему: «Катись вон, мне надоело ваше качанье, ненавижу эпилептиков, в том числе и Достоевского!» Брат, не утерпя, сотворил легкий уральский посыл. Хозяин за милицией. А в дверях — фининспектор, вручающий ему окладной лист в 150 000 рублей подоходного налога. Сразу — хана нэпману со всеми его затеями! Полюбовались мы их бурлящими бешенством мордами, сказали нравоучительно: «Это вам не Париж!» — и брат, случайно чисто, подался к Волге, а я вернулся за дополнительным советом к заметно постаревшему папаше. Отец развесил по достоинству пережитое и продуманное нами, сделав заключение, чтоб не зарываться слишком и держаться полновеснее — вот где торжество черпановского яйца, что мне необходимо подсыхать для воздвижения себя в рабочем классе, ибо он — даже по намекам К. Леонтьева — есть тот, на кого возложена миссия России. Исходя из папашиных нравоучений, поступил я, Егор Егорыч, подмастерьем в государственную штемпельную мастерскую. Бросается в глаза особенность Черпановых: не успокаиваться нахождением данного, а отыскивать, пробовать прочее. Так задумался я над значением и смыслом штемпеля. Задумался — и содрогнулся! Существует много сортов штемпелей: треугольные или восьмиугольные, например, самые презренные, ими обладают крошечные канцелярии или какие-нибудь совершенно безнадежные предприятия, вроде общих бань или прачечных; есть четырехугольные, эти посолиднее, особенно если сверху значится наркомат или что-либо вроде, но и эти штемпеля редко составляют счастье человека, а самый важный и самый поражающий штемпель — круглый, да круглый не резиновый, а медный, тяжелый и гулкий, который опускается на сургуч вроде парового молота, дробя жизнь одним и давая счастье другим. Таким штемпелем, вернее, печатью закреплен мой конверт в девяти местах — и вот, когда мы соберем полный комплект, когда я надену американский костюм и в одной руке… еще целиком не выяснено, Егор Егорыч, что я буду держать в одной руке!.. другой я ударю конвертом по столу, печати отпадут — и выйдет удивительное приказание, остановка, облачающая нас удивительными полномочиями. Вы отчаянным образом, Егор Егорыч, возводите мнение о некоторой моей самовольности в смысле печатей. Не мог же я позволить отволгнуть, намокнуть чепухой своему мозгу. Я создал свою биографию посредством штемпелей. Уверяю вас, что она стала складней иной подлинной. Мешали года, я отпустил усы и добавил к удостоверению лета, и кое-какие совсем ничтожные подвиги. К тому времени вкатываются Лебедевы, у них в Москве произошла какая-то неясность с часовыми механизмами, они — по старой памяти — желали посоветоваться с моим братом. Брат мой уже давно примкнул к северному сиянью! Лебедевы пустились в спортивный инструктаж. Мог бы им прояснить жизнь мой папаша, да он за год до того, насосавшись коньячку, тихо умер в баньке. Лебедевы и начали поджаривать меня. Влезли они в наш домишко, укрепились и развели чрезвычайную драчливость, сопровождая ее целиком издерживающей мои запасы пьянкой. Я совсем было вскипел, не подвернись Шадринское строительство, где требовались бойкие для вербовки рабсилы. Шадринск желал укрепить свою индустриализацию, а ехать туда никто не ехал, так как все застревали в Свердловске. Шадринцы ставят пятнадцать рублей премиальных за рабочего — вербуй сколько хочешь. Кроме того, пришло время военного призыва, а войну я всегда считал пустым занятием — и совершенно несвоевременным. Банк — это вещь, а война? Я и документики припас, а Лебедевы, — жидко разведенная дрянь, — подсмотрели и говорят: «Лева, тебе доступно класть в необыкновенном количестве яйца жизни, нам же доступно просветлять людские страсти кулаками. Соединяешь ли ты наши кулаки со своим количеством?» Разговор идет у оврага, восемь кулаков передо мной — я начинаю понимать. «Беспокоимся, — продолжают они, — часовым делом и тем, почему остался в Москве друг наш Мазурский и почему нам не пишет Степанида Константиновна, что же касается твоей теперешней бедственности, то главный коммерческий вид у Степаниды Константиновны. Вверяем тебе для оборотов зеленую поддевку. Вообще, нюхай, Лева, будешь плохо нюхать, будем сажать тебе в голову наши кулаки, обильно и ярко. Из премиальных отчислишь ты для нас треть, и тем ты прибит к нам окончательно!» Желал бы я видеть отказавшегося от лебедевского предложения: позиции для приема моих отступающих мыслей не было никакой. Попробовал я было им изложить свой проект, болтавшийся в моей голове уже давно, о конденсаторах энергии в виде стальных закрученных пружин, которые вы берете с собой, скажем, в дорогу и, когда понадобится, вставляете, и пружинка, развертываясь, дает вам нужное количество энергии. Проект их раздосадовал. Они яростно желали, чтоб я налюднял шадринские места. Я умею жертвовать собой, даже если и не вколачивать мне эту самоотверженность. Приезжаю в Москву. Возобновляю знакомства, насекретничиваю — и мысль доктора сталкивается с моей, Егор Егорыч! Имеется возможность населить шадринское строительство. Запрашиваю телеграммой. Валяй, отвечают. Государство боится использовать силу и знания этих дураков, преувеличивая их мощь, — и великолепно! Их использует Черпанов, как используют вредных микробов, вводя их в организм в виде сыворотки. Важно, конечно, облокотиться на ядро, но развернем и без ядра, кто знает, не вскормим ли мы сами нужное ядро. Оно необходимо еще и для отпора Лебедевым, буде они пожелают вернуться в Москву и здесь нам пакостить. Всесветная мерзость! — уж если им удастся узнать о чем-либо денежном, у них засвербит, загудит и — сразу с кулаками. Растворимость этих кулаков известна только в Москве — и мы разнюхаем, где таковой рецептик. А кроме того, считайте 23 000 по 15 рублей за рыло, нам перепадает 34 500 целковых. Выходит, что я должен отдать 11 000 рублей ни за что про что Лебедевым на пропой? Съешь меня живым, а не дам! И в этом нежелании я опираюсь на вас, Егор Егорыч. Я за вас и за доктора плачу Степаниде Константиновне десять рублей суточно, я улаживаю ваши драки, а вы лакомитесь — трудиться пора! Вот вы, Егор Егорыч, сидите и размышляете, полагая, что меня невероятно огорчают сегодняшние события в этом доме — и это дурацкое кресло. Напрасно! Пусть я сейчас без пролетарского ядра, вот когда заструится перед нами 2300 человек, воткнем их в какой-нибудь опыт предварительной работы, массовой и успешной; выхолостим изворотами нашей мысли, расцарапаем их до самого нутра, поднимая, понемногу, с земли, а затем явимся в ЦК и скажем: «Назначайте ядро, а сущность готова! Растение застручилось». И тут же разорвем мой девятипечатный пакет — и прочтем, какой огромной важности документ лежит там. Меня не это засовывает в удручение, Егор Егорыч, а то, что неожиданно всходит перед нами Мазурский. Этот гад способен подстрекнуть нас к взаимному уничтожению. Чем? Сбежал он. Да вот и сбежал! Я узнал о бегстве его перед самым уходом сюда — и сбежал он, по всем признакам, на Урал к Лебедевым! Причины его бегства и беспокойства? А прах их знает эти причины, просто струсил. В общем, даже оно и не плохо, если он сбежал на Урал, я боюсь, что он бродит по Москве. Кто его знает, не заходил ли он сюда, к Некрасову, перед нашим приходом? Вошел, брякнул и скрылся! Пользы я от него и раньше не видел, наоборот, он даже бегством своим позволяет нам пустить в дело Сусанну. Она мечтает, если откровенно сказать ее мнение о будущем, сидеть в большой парикмахерской, кассиршей, где много света и зеркал; без конца отражается она во всех зеркалах, тормоша ваши желания; стеклянная будка ее дико прозрачна! Заступимся за нее, посадим ее в парикмахерскую, даже застеклим для нее специальное возвышение — иди слух по всему строительству о красавице кассирше, преграждай путь малодушным и колеблющимся, прибивай их полы гвоздями любви! Вот как я рассуждаю о Сусанне, я полагаю, что она сможет, допустим, не завлекать, но и не вспугивать тех 870, которые предназначены Мурфиным, а мы, тем временем, будем себе наживать да поднажовывать душевный капитал. Денежный в наше время — пустяки; денежный всегда застанете врасплох и разрушите, а вот заставьте нас запропаститься, завязнуть в умственном, организующем капитале. Егор Егорыч, да вы никак остыли, никак замышляете отказ от договора?..
— Просто я чересчур много ночью шатался, Леон Ионыч.
— Завтра вы увидите точный план нашего строительства, вам необходимо глубоко его изучить. Он лежит в «камере хранения» на вокзале, иначе нельзя же, — ванная сыровата, легко испортить. План ценности непревзойденной, не столько по исполнению, сколько по замыслу. Поясню. Кого-кого, но вас в барышничестве, Егор Егорыч, упрекнуть трудно и все же, дабы вас глубже загнать в план, уступаю вам по 2 рубля с рабсилы, таким образом, вы сразу возбуждаете в себе внимание к 4660 рублям. Взболтните душу, пронзите себя предстоящим счастьем. Дабы не быть голословным, вот — шестьдесят целковых задатка, на кои монеты вы обязаны завербовать, считая вас лично и доктора, еще двадцать восемь рабсил, по два рубля со штуки.
— Едва ли за всю мою жизнь у меня наберется знакомых двадцать восемь… Разве считая родственников…
— А мы и родственниками не брезгуем. Берите, застрельщик!
И он перевернулся на спину, распялив ноги и руки. Рассказ ли его ошеломил меня, пугала ли запутанность и какая-то зашельмованность моего положения; встряхнуть ли себя я не мог, — как бы то ни было, я обнаружил странную уступчивость: взял шестьдесят рублей. Шелестели тощие ветви над скамейкой, дворник спал в кресле, его всхрапы доносились даже сюда, а я зашелудивый, прогнав сон бесследно, сидел, вытянувшись, разглядывая Черпанова, который, растопырив конечности, ширился под небом на зеленой скамейке, неутомимо подтягивая части своей походной колонны, неутомимо зашпаклевывая все возникающие щели своего блиндажа, пронюхивая запах малейшей опасности, убирая мгновенно любые препятствия. Я сознавал свою мелкость, внеразрядность, заштатность. Но самое тяжелое, приковывающее меня к сиденью, мешающее подвигаться вперед моим мыслям — то, что Черпанов даже и не пытался спрашивать меня о впечатлении, произведенном его «исповедью». Он искренно и откровенно, наилучшим образом очистил себя передо мной; зашельмовал свои недостатки, отодвигаемые далеко тем высоким общественным подвигом, который он производил, подвигом, уже звучащим в столетиях, а я — защитная личность, колпак, зонт, раскинутый в неурочное время, — снова пытаюсь подниматься, отсрочивать решение, не доверять ему: «Добро бы он говорил правду, а если врет, если желает, чтоб я заплутовал в лесу его психологистики?» Да, секретарь…
Он перекинулся животом вниз, достал колоду карт, тщательно завернутую газетной бумагой, — и предложил мне сыграть в двадцать одно. Мы отодвинулись от фонаря. Уже приближалось утро, и лиловый свет уже разъединял крыши. Прохожий, пьяный и простой, оглядел нас удивленно: «Вот надрались!» — сказал он, останавливаясь и зашнуровывая башмак, который и без того был туго зашнурован. Я немедленно, от волнения плохо разбирая карты, проиграл Черпанову шестьдесят рублей. Он наслаждался восходом, сообщил, кстати, что папаша его был знаменитый преферансист, что в картах важна взнузданность чувств, долго любовался первым трамваем и, когда вошел в ванную, то сразу же пощупал воду: «Тепла еще, а? Вот и буду спать на воде, прогреюсь. Кроме того, влажность способствует сну». — «А если доски раздвинутся и вы грохнете?» — «Я-то, Егор Егорыч!» — И я понял, что он никуда и никогда не грохнется.
«Да, — сказал я сам себе уныло, — секретарь… тяжелая штука секретарь большого человека!»
Смежная с черпановской беседа, посетившая меня в тот же рассвет, заставив беспокойно подумать о себе: не сполоумил ли я, — однако — если не сполна, то кое-что перечислив, — разъяснила мне кое-какие тревоги и душевные состояния обитателей дома № 42, которые заставили их верить и — даже ожидать — казалось бы, изумительный по невероятности вымысел Черпанова (ибо только я один начал догадываться, что здесь, пожалуй, производится единственное в своем роде психологическое испытание, более реальное и более ощутимое, чем все затеи доктора Андрейшина). Буду рассказывать подряд. Я оставил Черпанова споласкивающим на ночь рот. Коридор, бесхлопотный и тусклый, встретил меня толстыми колоннами, толстым гардеробом, толстым трюмо. Я шел, тонко ступая. Настроение мое было сплошь — как бы сказать точнее! — сиротское. К тому же и коридор, — трудно перечислить чем, — способствовал внутренней суете. И вот у последней колонны, за несколько шагов от нашей двери, и увидал Савелия Львовича. Право, достойно сказать, — поприглядевшись к его лицу, — что он рехнулся. Всегда, без разбору, полный неиссякаемой вежливостью и опрятностью, он теперь, разводя ручками, приплясывал возле колонны, словно стараясь свалить ее своими словами. Дополню еще, что я и сам испытывал тогда страшное возбуждение, близкое к бреду. Эта встревоженность, эта взбулгаченность очень меня пугали, хоть я и смертельно устал и еще более смертельно желал спать, — ноги словно распаренные, — и непрестанно зевал, но Савелий Львович, пожалуй, взбаламучен был сильней меня. Его альпаковый пиджачок, застегнутый всегда на три пуговицы, распахнут, причем распахнут не случайно, как распахиваются все, когда им, например, жарко или шатаясь от усталости, нет, здесь полы были разведены с таким отчаянием, что я до сих пор не понимаю, какие обстоятельства помешали вырвать пуговицы с корнем, тем более и времени у него имелось достаточно для вырыванья не трех, а трехсот пуговиц, — он ждал меня здесь с полуночи. Пуговицы эти он непрестанно ласково шнырял пальцами, словно их вскармливая, мало того, что они обнаруживали его всполощенность, но и говорили, что в нем вместо четких размышлений клокотало воображение, увлечение и — надежда.
— Спозараночку я поднялся, Егор Егорыч, спозараночку, — забормотал он, но тут же, через две минуты сознавшись, что ждет меня с полуночи. — Опровергаете ли вы утверждение, что вы являетесь ближайшим советником и другом Черпанова? Открою, была мысль самому с ним переговорить, но не лучше ли расставить, предварительно, силы с вами, при том условии, конечно, если вы работаете с ним, а не просто бродите около.
Вопрос его распахивал передо мной то, что я боялся распахнуть и бродил около. Ответ Савелию Львовичу был ответом и самому себе. Соглашаюсь, что и сейчас, спохватившись, я все-таки задержался с ответом; задержался я еще и от какого-то трескучего и брызгающего волнения Савелия Львовича, с которым он никак не мог управиться, даром что управлял людьми четыре года — и как управлял! — но об этом после. И вот, закрывая свою сонливость и размягченность, наматывая, так сказать, все нити мышления на шпульку разума, я установил перед ним, что «не брожу, работаю и буду работать!». Он отскочил от колонны и, раскидывая полы, сверкая никогда не сверкавшими ранее пуговицами, помчался коридором. Все это меня столь занимало, что я безропотно ходил взад и вперед с ним. Он фыркал, пыхтел, подпрыгивал на одной ноге, его альпаковый пиджачок раздувался, делал его похожим то на мяч, то на рыбий пузырь. Многое от этого спотыканья было в нем искреннего, но кое-что понадобилось ему для выведыванья, для открытья меня толчком. Да и начало он выбрал не зря: обычная здесь ночная суета стихла, изредка скрипела где-то фанерная перегородка, раскачивались железные ножки ночного успокоения, видимо, кто-то попытался вспомянуть молодость — как ему пособить! — со вздохом он прекращал свое бесплодное тщение. «Тишина, — думал Савелий Львович, — удаляет препоны, натыкает на откровенности… случается…» И он набросился:
— Если так, Егор Егорыч, то встречать ли вам вначале экономическую обстановку или вас интересует вышибить на поверхность лицо, возглавляющее эту экономическую обстановку? Вне всяких препятствий, я сознаюсь, что дом, в котором вы сейчас живете, есть одно целое…
— Я давно так полагал.
— Приятно! И эта целостность, за последние четыре года, укрепилась еще круче.
Он обвевал меня хитростью! Я ответил уклончиво:
— Если вы, Савелий Львович, желаете, чтоб я доложил Леону Ионычу экономическую обстановку, то, несомненно, ввиду хотя бы и того краткого времени, коим обладает он, лучше начать с лиц, тем более, что он будет вести с ними переговоры, но с лиц, опирающихся на экономическую обстановку.
Он возбужденно, несколько раз, кивнул головой, запачканной — и затасканной, с какими-то неуловимо грязными глазами:
— Приятно! Без всякой опасливости начну с того, что главная действующая сила здесь не Степанида Константиновна, и не Жаворонков, и не Насель, и не Ларвин, и не Тереша Трошин, и не прочие вообще, а главный здесь — я, Савелий Львович Мурфин, присяжный поверенный, правозаступник. И четырехгодичный план, удачно осуществляемый, тоже мой.
Я бережно сказал:
— Любопытно и неожиданно.
— Еще бы! Неожиданно это не только для вас, мало знакомого с обстановкой дома, но столь же, если не больше, неожиданно было б и для Жаворонкова, Ларвина, Трошина и прочих. Осмотрительность, Егор Егорыч, в наше время самое важное — осмотрительность и недоверчивость. Четыре года назад поведал я свой план Степаниде Константиновне и с той поры вам говорю о нем второму.
— А если я, вместо Черпанова, иному лицу сообщу? Пообъемистей?
— Мало ли какие сны видите вы, Егор Егорыч, нельзя же все сны передавать иным лицам, даже и объемистым. Да и головка может заболеть от неудобного сна. Так вот Степанида Константиновна, после того, как закрыли ее пуговичную, и после принятия моего плана, жить начала опасливо, но лучше. На женщину, да особенно если инвалид муж с ней, который кроме «вон, контры!» и выговорить ничего не может, мало обращают внимания. Ну, спекулирует маслом там, молочишком и прах с ней. А мысль моя о четырехгодичном плане возникла по поводу некоторых странных чисел эпохи, всяческих опасиц…
— Чего?
— Опасиц! Простонародное выражение, Егор Егорыч, нечто вроде такого времени, которое способно вредить. Приятно? Скажем, четырехлетняя война, закончившаяся телеграммой Макса Баденского от 4 октября 1918 года, гражданское неустройство и внутренние войны в СССР с 1918 по 1922 год; мирная, хотя и таящая в себе предначертания весьма грозного свойства, добыча от 23 по 27, когда возникает пятилетний план, опять-таки превращаемый в четырехлетний — и насаживают на нас 28, 29, 30 и 31-й годики-с, Егор Егорыч. Высушливые годики, откуда ни смотри, но касательно высушливости разрешите мне, Егор Егорыч, попозже, а сейчас даю вам растяжимость моего начертания. Растяжимость в том значении, что к концу четверочки обязательно в российских мозгах тушится одно и поднимается наверх нечто иное, часто вывертывая наизнанку первое, образцом совершенства представляя это «иное». Сделали заметку? Причем сила расширения последнего года из четырех иногда перетаскивает свои остатки на пятый. Но тут мы бессильны, своеобразная выслуга лет, выключить ее невозможно, требуется быть равноценным природе, то есть ждать! Ждать! Величайшая из величайших способностей человека, Егор Егорыч, причем способность довольно безопасная. Теперь, касательно высушливости, Егор Егорыч. Опасаюсь, что истолковываете данное слово в смысле выпаривания из нас некоего мелкого духа, а я, мол, охраняю его и жалею. Ошибаетесь, Егор Егорыч, жесточайшим образом ошибаетесь. Я даже, в каком-то смысле, готов распространять коммунизм и социализм, но так, чтоб в него вошли все классы российского общества. Разве мы не дети одной страны, которая придумала — да что там придумать! — осуществила идеалы многих тысячелетий. Стыдно мне б сопротивляться тысячелетним идеалам, Егор Егорыч. Ну-с, вот, вернемся к нашему дому. Теперь, представьте, что я, предвидя худое, надел бы и своим предложил надеть, в «противовес» гибели, — четырехлетнюю выносливость и терпение. Испарись, ответили б они мне, в «противовес» есть люди, оберегаемые прессой, общественным мнением, армией, рабочим классом, и те дрейфят, а где же нам набраться терпения и выносливости? Бог? Исследовал я все небо, а не нашел там бога. Выгорел ваш бог, как лес в засушливое лето. У него рушат храмы, жгут иконы, переплавляют золотые ризы, меняют буржуям на машины бриллианты из рук угодников его, а он сидит себе одесную и ошую, поглаживая выутюженную бороду. Извините, если вы религиозный, Егор Егорыч, но от бога они отказались, то есть не совсем отказались, а вот только четыре года терпеть отказались бы, если понадобится опереться на бога. Следовательно, я должен был развивать перед ними иные сроки, да и та удивительная ловкость, с которой орудуют в «противовесе», не держа субъекта в одном и том же месте продолжительное время, а перекидывая его, как перекидывают мяч, лишает нас возможности укрепиться с сплошным четырехлетним фронтом против одной позиции, то есть черпать жизненные соки из единого участка. Я предложил Степаниде Константиновне решиться на четырехмесячный план терпения. Соглашается. Разбиваю Москву на двенадцать участков, — но для себя! — срок обработки каждого участка четыре месяца: и разнообразно, и безопасно, так как — пришли, цапнули и скрылись. Себя не распустили, связь мелкая, подумают — гастролеры из провинции.
— Простой язык называет подобные действия кражей, — сказал я, волнуясь и весь дрожа.
— Человечество, милый Егор Егорыч, имеет много языков, а самый ценный — философский; Философия, устами хотя того же Локка, учит, что «управление своими страстями есть истинное развитие свободы». Здесь ли, в четырехгодичном плане, не собраны воедино все страсти? Приглядитесь к лицам, которых я веду и сдерживаю! Они, борясь посредством четырехмесячного плана с четырехлетним «в противовес», так научатся управлять своими страстями, так разовьют внутренние свободы, что через четыре года — с другого конца, правда, — целиком присоединятся к коммунизму!
Я только развел руками. Савелий Львович залился вежливейшим тонюсеньким смехом. Чем дальше он говорил, тем больше он становился мне противен. Любопытство, все расширяющееся, неутолимое любопытство сдерживало меня от дерзостей.
— Таким путем, Егор Егорыч, разнообразнейшим путем добрались мы и до сухаревского участка.
— Здесь вам и встретилась корона американского императора, — с досадой сказал я.
— Именно! Приятно! Сейчас мы расширим эту тему. Должно заметить, что сухаревский есть самый вздорный и пустой участок из всех пройденных нами, здесь трудно распуститься. Возможно, вам любопытно узнать, как мы раскидывались и распускались, а мы расширялись, иногда, до того, что снимали неугодных нам завов универмагами и складами. Вначале, конечно, личные знакомства. Появляется перед завом или другим нужным лицом — букинист, — замечу, — что среди подобных людей имеют спрос издания «Академия» вроде «Тысячи и одной ночи», причем мой план имеет, считая високосный год, одну тысячу двести шестьдесят одну ночь, а выкинув праздничные и выходные, тысячу одну ночь, и эта последняя ночь вот кончается сейчас…
Допек он меня этим последним признанием! У меня даже колени задрожали, и я прислонился к вонючей колонне. Он, опахивая меня ладошками, продолжал донимать:
— Букинист не берет, часовщик явится. То же Насель. Или продовольственник Ларвин. Или картежник и винных дел мастер Трошин. Или спортсмены Лебедевы… или, извините за откровенность, но истина всегда останется для меня дороже племянницы, Людмила Львовна, великий мастер сводного дела. Выпускали также и Сусанну, некоторые избалованные люди обожают холодность и сухость, особенно в блондинках, Егор Егорыч. Впрочем, Сусанна не столь холодна, как с первого глаза кажется. Вот вы обругались кражей! Какая ж кража, если мы покупали по твердым ценам и продавали тоже по твердым, но, правда, мною установленным. Государственные вещи? А разве я не государственная вещь, разве на меня не простираются милости государства, разве я лишен карточки или паспорта? Затем. Я ставил перед собой философские цели, я воспитывал свободных людей, пока не выступил Черпанов. Я не позволял им заниматься валютой, золотом, мой план был разработан с удивительной точностью, добросовестностью, если хотите.
— Сухаревка подвела?
— Откуда возникло у вас, Егор Егорыч, такое убеждение?
— Корона!
— Забраковано! Сухаревка кое-что напутала, но сама истекла на этом деле кровью…
— Кровью?
— Иносказательно, иносказательно, Егор Егорыч. Братья Лебедевы, подстрекаемые Жаворонковым, отчасти своей жадностью и умаленностью своей роли, они были у меня чем-то вроде разведчиков, пошли наперекор и, посредством Населя, хапнули из мастерской несколько золотых часов. В мое отсутствие. Я ездил отдыхать на юг. Я вспыхнул, поджарил их следствием, — вел его лично — передал дело в домовый суд, — вел лично, а затем изгнал их, простив Мазурского, так как он жених Сусанны, и вообще — дурак. Впрочем, Лебедевы тоже идиоты. Очень, очень крупное наслаждение, Егор Егорыч, бороться и побеждать. Ходишь осторожненько, по участку — и видишь: вот выезжает вполне благополучный, государственный транспорт. На дугах обозначение правительственного предприятия, против тебя необычайно организованное государство с его табелями, усовершенствованными цитатами из вождей, с путевками возчику, а все-таки воз — твоя добыча, он поворачивает и едет по твоей путевке. Отрада сердцу и взору, Егор Егорыч, управлять людьми, и вряд ли кому возможно выдуть из себя это наслаждение!
— Что ж, вы и мной управлять хотите? И Черпановым?
— Зачем, Егор Егорыч? Я вам развил людей и сам целиком капитулирую, даже не выговаривая себе прибыли в развиваемом вами деле. У Черпанова чересчур опасная грамота, Егор Егорыч.
Мне хотелось выведать у него побольше:
— Неужели так-таки вы мгновенно распались от девяти сургучных печатей?
— Конечно, пропал! Но, заглядывая глубже, хочется мне также, чтоб вы помогли разболтать столкновение двух могущественных интересов, которые выявились в конце самого последнего из четырехмесячных участков. Работая вполне благоприятно, я все же понимал, что Степаниду Константиновну нельзя слишком усиливать, она возомнит бог знает что, пожелает самостоятельно решать сделки, напортит, а главное — не пускать ее в основной замысел предприятия, а попасть она туда могла, так как я часто пользовался услугами ее дочерей. Начал я ей разыскивать противника. Насель, он послушен и робок, но его, знаете, могли тоже на избранность, отборность — в смысле руководства — толкнуть его родственники, а через них он, сговорившись со Степанидой Константиновной, столкнет и меня. Очевидно, оставался Жаворонков. Поговорил я с ним наедине, начал его разгибать и раздувать, а он, — опираясь на бога, извините, — притянул к себе Лебедевых, а те чуть всего дела не повалили. С глазу на глаз выражаясь, я следил с живейшим участием за развитием конфликта Жаворонкова и Степаниды Константиновны, и этот конфликт, если его не прекратить, способен их разметать…
— Но вы ж его начали, вы и прекратите.
— Зачем? Кончается тысяча первая ночь, и люди, с внутренней свободой, переходят к вам. А вы так-таки без единого конфликта имеете поползновение их принять? Черпанов избран для сплочения. Здесь вам нечего выпытывать, Егор Егорыч, я все открыл.
— Уловки! — воскликнул я, вспыхивая. — Вы струсили из-за бегства Мазурского, он вам мешает выползти, Лебедевых трусите!
Он словно ждал моего выпада. Он перестал меня беречься, внешнее его беспокойство исчезло, и голос, прежде угасший и дрожащий, он перевел на обстоятельность и спокойствие:
— Ясно, что при плановом хозяйстве не может быть кризисов, но, как ни планируй, международная обстановка такова, что без затруднений не обойдешься, — социализм строить не легко, всякий понимает, — и вот тогда, то есть при затруднениях, возникает мысль: не помогут ли вывести понизу ползущие силы. И тогда появляется Черпанов. Черпанов есть развязка. Он их выпускает, эти силы, прощает им прошлое…
— Иначе?
— Иначе они продолжают осаду, но с гораздо большим успехом, потому что приобрели внутреннюю свободу, то есть возможность найти любой исход.
— Вы черт знает что говорите, Савелий Львович! Иной исход! Да вас истребят, как мух, если вы будете сопротивляться строительству.
— Во-первых, я не сопротивляюсь, а помогаю строить, а, во-вторых, попробуйте истребить мух. Мух истребить совершенно невозможно, да что совершенно — хотя бы на две трети, как истребили младотурки, Энвер и Талаат-паша в 1915 году две трети армянского народа, после чего имели право сказать: «Армянского вопроса уже больше нет, потому что армян нет». А невозможно вот почему. Тысячу лет мы прививали народу, через посредство церкви и философии, привязчивый и неистребимый гуманизм, однако сами не будучи гуманистами. Попробуйте-ка вы, появившиеся правители из народа, отбросить от себя гуманизм. Жалко человечка! Гадкий он, ничтожный, хитрый и вредный, а жалко резать! И нож бритвой, и возможности полные, и результат впереди прекрасный, и тратить сил много ли! — чик по горлу и все! — а жалко. Не в состоянии слезы удержать. Иную дорожку выбираете. Пустой спор, Егор. Егорыч, не получится с мухами! Ну вот, возьмем вас, Егор Егорыч, к примеру.
— Какой же я государственный деятель, я выпадаю.
— Финтите! Однако же вы секретарь большого человека. И вот, допустим, вам бы приказали физически уничтожить всех живущих в доме 42. Допустив наличие чрезвычайной у вас необузданности, все-таки на шестом человечке истощились бы ваши силы и поблекла бы вывеска. Да, сказали бы, вот если б у окопа, винтовка в винтовку, — а вообще не лучше ли их использовать, ну хотя бы временно…
— Ага, временно!
— Да, временно. Четыре года передышки и общественного спокойствия. Имейте в виду, что я говорю не про себя и не про тех, которых я вел и переделал, а про других — их еще много, ибо помните, что в 1927 году частное капиталовложение в государственное дело достигало 30 %, которые готовы к борьбе и борются. Вот я и не допускал валютных дел, бандитизма, а они не брезгуют ничем. Четыре года солидирования! — кричите вы. Приятно, отвечают они, через четыре года неизвестно еще, какие силы возобладают. И тут для разливки спокойствия появляется Леон Ионович…
Я испытывал крайнее негодование:
— Не равняйте Леона Ионыча со сточной трубой. Полагаю, Черпанову вы не менее омерзительны, чем мне.
— Боюсь, вы слишком однообразны, Егор Егорыч, в своих суждениях. Ваша обязанность, как секретарь, доложить Леону Ионычу мои предложения.
— Вносите их, — завопил я.
— Я внесу лично.
— Выторговать хотите побольше!
— Пускай так. Я предлагаю прекрасно сделанный аппарат, чудесную материю в две тысячи триста восемьдесят восемь рабсил, готовых хоть сейчас для выставки и пробы труда, надо вывести только смысл наименования. Касательно же вашего утверждения, что я боюсь Лебедевых, — они, пускай, грубияны и вообще готовы для пули, то я племянников своих, Осипа и Валерьяна, рекомендую вам познакомиться короче, вооружил финками, кроме того, разве мало способов заиграть вредную личность, будь их и пятеро.
Вязкие грязные соображения внезапно шевельнулись во мне: а если Черпанов направил Савелия Львовича испытать меня, если он тащит меня к тому, чтоб я проявил малодушие? Взволнованность его, искательство и то, что он покорно выслушивал мои оскорбления, убеждали в противном, но я не мог отцепиться от своих соображений, они плелись за мной, кисли во мне, — особенно странное появление этой цифры 2388 рабсилы, — я чувствовал себя уходящим в какое-то топкое дупло, в какую-то болотистую вымоину… или я устал слоняться туда и сюда по коридору… как бы то ни было, выморенным голосом я сказал ему:
— Припоминается мне по этому случаю… был он настолько вежлив, что когда знаменитый человек посетил его и стал коротко обходиться с его супругой, то он, сидя на диване, притворился спящим. Брат жены, воспользовавшись случаем сна, потащил со стола, возле дивана, деньги. Он вцепился ему в волосы, сказав свирепо: «Неужели ты думаешь, идиот, что я сплю для всякого?» Про него же говорят, что, когда жена упала с порога, грохнув блюдо и жареную курицу в пыль, он заключил: «Так-то и я могу носить». — «Можешь-то можешь, — ответила жена, — но поскольку ты увидал это от меня!»
Когда я отделился от колонны, чтобы идти к себе, Савелий Львович исчез. Еле-еле, полусонный, добрел я. Доктор спал на спине, правая ладонь его уткнулась в левое ухо, у изголовья лежал лист бумаги. Я прочел: «Разбудите в 11. Выезжаю завтра Негорелое». Я горько ухмыльнулся. Как и что теперь мне ему сказать?
Ну и нагрузка — секретарь большого человека!
Токмо волнением объясним мой сон в течение почти целых суток. Я, если вы помните, лег ранним утром, а проснулся глухой ночью, часа в три; проснулся с выученной крепко-накрепко фразой: «Э, так вот ты какое задумал!» И фраза эта относилась к доктору. Он шнырял по комнатке, настолько горбясь, что казалось, он пробует приспособленность своих четверенок. Глаза его неимоверно блестели, хоть гаси. Я привстал, чувствуя себя страшно легким и очищенным. «Лежите, лежите, я на минуточку, за ножиком, — сказал он. — По очень сходной цене приобрел петуха. Будем стряпать, того ради будет обед небывалого размера». И точно, под мышкой его теперь лишь я разглядел петуха. Как ни толкуй вкривь и вкось причины важности этой птицы, одно бесспорно покамест, что пред нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы, с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный, гребнем и с огненно-рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спокойно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд, истоки чего-то обезьяньего, если не человеческого. На мгновение даже я смутился, глядя в его вразумляющие глаза, на мгновение подумал даже: «Не сплю ли я!?» И отвел взор. Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, с каким ни один человек не смотрел на меня никогда, и опять я подумал: «Нет, сплю, откуда петуху так смотреть?» Побуждаемый, скорее всего, этой тревогой, я сполз с тюфяка и босой ногой начал шарить на полу ботинок, все еще глядя в удивительные, я бы сказал, изливающие повеление глаза петуха. Заноза впилась под ноготь большого пальца. Я тотчас же выдернул ее — и рассмеялся. «Чего вы?» — спросил доктор. «Да мне показалось, что сплю», — ответил я. — «Сквозь рассвет вставая, всегда кажется, что спишь, — ответил весело доктор, шаря в узелке, где мы хранили пищу. — Вам йод?» — «Прошло», — ответил я, поспешно натягивая ботинки, вместе с тем искоса взглядывая на петуха. Из-под синего гребня петух наблюдал за доктором. Скоро доктор достал ножик, из тех, которые именуют «сапожным» — откуда он у него? — попробовал пальцем лезвие — и, честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. «Сами будете резать?» — «Другие», — ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал: «Разрешите мне прирезать!» И опять доктор с несвойственной ему уклончивостью ответил: «А там видно будет». — «Да вы не опыт ли какой намерены производить?» — «А там видно будет», — опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы и будто говоря своим поразительно умным взором: «Нет ли у тебя, доктор, резака крепче сего?» Подстрекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул платье. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно, и если б не его глаза, то вы б подумали, что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы — еще более торопливо — почти бегом, устремились коридором. Молча, по лестнице, глядя на выходную дверь, с мертвенно-вялым лицом спускался Жаворонков. За ним плелись старушонки, жена, дружно, с внезапным натиском, скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали, и все они жадно смотрели пристально на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опоражнивали бутылки! Показался Насель в гладко выутюженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин, с велосипедом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна, с запахом йодоформа, с баночками медикаментов; Людмила — подмигивающая и подсматривающая — с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес; Сусанна, холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто внакидку; старик Мурфин, багровый и задыхающийся; нырнул и скрылся Савелий Львович, и, напоследок, я увидел Мазурского и за ним четырех стройных молодцов в спортивных костюмах и с кулаками величиной с хороший табурет. «Лебедевы, — подумал я, — да и Мазурский, видимо, пошутил — остался в Москве». Шли не только перечисленные, но и вокруг каждого теснилось — на три, на четыре стороны — много чужих, но все-таки чем-то знакомых людей, должно быть, из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью, — неискоренимые! — грузили в подвалы, в чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало. Где же Черпанов? Давно людской поток широко лился на двор, а коридор все еще был полон. Розовато-голубой с каким-то фарфоровым блеском преувеличенно настойчиво превознося свежий воздух, показывала двор и булыжник — распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось по толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. «Пожалуйста!» — воскликнул он отменно-протяжно. Когда он ускользнул от меня? И почему все нет и нет Черпанова? И опять я подумал: «Да не во сне ли это все я вижу?» И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне их, не глядя на меня, а рассматривая розовато-голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, тряся петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне обожгла палец. Отвратительный табак и волдырь совершенно разуверили меня, исчезла мысль о сне, но снизу, сознанье истощая, накинулось: «А не глава ли он какой-нибудь мистической секты? Да не простой, а с древними ритуалами. Петух! При чем здесь серый петух?» С тех пор, как я его узнал, он всегда проявлял редкую ненависть ко всему мистическому и метафизическому, но мало ли найдешь людей, которые говорят одно и кои думают: обведем, будет ладно и ладан будет. Я начал искать Черпанова. Он, плохо выспавшись, стоял у дверей ванной, сплевывая и почесывая о косяк спину. Я — к нему. Шаг. Другой. Дальше: пустая ванная, и от воды пар. Какой смысл из этого всего выбирать? «Пожалуйста!» — еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая меня с собой. Ни около, ни близ, ни внутри — нигде не нашел я Черпанова. Широкий двор, подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстыжий и наглый, мгновенно сплошь наполнится толпой. Особенно густо набилось вкруг доктора. «Егор Егорыч, да вы поближе!» — крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож, — страстное любопытство отразилось у всех на лицах, — петух наклонил голову, и я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вздох, тихий, выстраданный и какой-то вывихнутый, проплыл по толпе. Но доктор, — признаюсь, я плохо разглядел, — промахнувшись, что ли, полоснул петуха меж ног.
Петух взмахнул крылом, бессовестно и дерзко топнул ногами, повел плечом, фыркнул, — уверяю вас, — фыркнул. Два белых жгутика — половинки распоротого платка — упали на землю. Петух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул — и через головы толпы — перелетел к распахнутым воротам, где некогда доктор пытался сковырнуть сконсовые усы Леона Черпанова. Толпа молча хлынула к воротам, нога в ногу, — к петуху. Петух — шаг вперед. Толпа споткнулась. Петух присел. Выпрямился и чинно зашагал переулком. «Лови!» — крикнул чей-то трубный голос. Я кинулся. Я услышал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь, бежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже населевские родственники, стараясь пересечь путь петуху, далеко забежали вперед. «Пускай его бежит», — думал я, однако опережая всех и уже протянув руку, дабы схватить его за огненный хвост. Петух чуть-чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились, я остановился — и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги, — тем более, что я сильно запыхался, — я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на Остоженке. Брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили трошинцы, на ходу засовывая карты в карман. Петух несся далеко отсюда, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошинцы раскраснелись, капли пота катились с висков. «Лови! — легонько оттолкнув меня, проскочили трошинцы, добавив: — Рутина! Отстаешь, а в деревне что скажут?» Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я, уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу самое важное — привыкнуть, остальное зависит от таланта, затем более важное — проспаться. Да и что размышлять? Помочь размышления не помогут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, то я кое-кого обгонял. Там отстал Трошин и его трошинцы, теперь они мелкой рысцой трусили возле меня, ощипанные какие-то и запыленные; здесь вперед выбежала Степанида Константиновна, мелькнуло алебастровое лицо Сусанны и карельской березы ее локон, топкие губы Людмилы — но сдали, отстали; тут опередил всех, возле храма Христа Спасителя, Жаворонков, в руках его я увидел перочинный ножик, искореняющий зло возглас вылетел из горла! «Этот прирежет, поймает», — подумал я, но — чудное дело! — и Жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух! Допустить бы ему нас еще шага на три, — и готово, а куда там, и на пятнадцать он прибавлял такого шагу, так махал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил с самого нутра и струился непрестанно от ушей до пяток. А тут еще различная рухлядишка на руках, поневоле отстанешь. Мы страшно сердились и обижались друг на друга, если кто перегонял — куда ему, дураку, идти вперед? — а раз перегонял, общая тревога, ругань наша сменялись благожелательством и даже заискиванием: мы спешили перекинуть ему ножик. Уже по городу двинулись трамваи, я думаю, было начало пятого; я не могу восстановить точно, потому что часы Пречистенской площади завешены были почему-то номером «Известий», уже последние грузовики вывозили из-за дощатой ограды вокруг храма Христа Спасителя «облагороженные» детали древнерусского стиля; уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортируя отбросы; уже из окон трамваев раздавались в наш адрес до конца изнеможенные возгласы: «Я понимаю мертвеца пропустить, автомобиль, но надоели нам пробеги!» В трамвае, наверное, до того их давили, что петух, — к слову сказать, покрасивевший очень от бега, — не пробуждал ни негодования, ни даже внимания, разве что слаб был выбор ругани, предназначенной для птиц. Подумают, бежали мы сломя голову! Бежали мы, я б сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться и не бег. Да мало ли к чему надо поприглядеться, мало ли где попригнездиться и мало ли кого поприголубить!
Не спорим, Егор Егорыч, не спорим, — поприглядитесь! Москва, она еще среднего роста, но она упирается уже в тысячелетнее величие, уже многие будущие века она омеблировала советскими скамьями и воздвигла трибуналы. Москва! Иной уже нет, иная есть, иная будет. Москва!
Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее расхлябанность и рыхлость, ее пыльность улиц зальется асфальтом, — уже поздно. Вот Егор Егорыч выбегает на площадь, где был Охотный ряд, еще он помнит и церковь Парасковьи Пятницы с ее удивительно подобранными колоколами, ему б полюбоваться дольше, но он, ощущая сегодня удивительную легкость, уже выскочил, вслед за серым петухом, на Театральную площадь, к Дому союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстры — на догорающий бенгальский огонь, уже заседает очередной съезд, уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной диаграммы, выше портрет вождя. Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплуатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции на Вокше, у сердца Памира, там, где за две сотни километров за горами стоит, прислушиваясь к шелесту красных знамен, Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватой вуалью; когда ринулись ночами к этой вуали телеги, выгоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом; какие картинные возчики в оранжевых балахонах от кирпича сидели на возах; как в закоулки вылезли рельсы, голубая сварка визжала над ними!.. Пусть через столетия покажутся наивными — (так же, как и эти строки) — все эти машины, черпающие и перевозящие землю; эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие из человека отвратительное покровительство прошлого; эти самолеты, это оружие, эти танки и эту конницу, пусть, но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма!..
Петух свернул на Тверскую!..
Петух повернул на Тверскую!!.
Тверскую!!!
Извините меня, дорогой составитель, что я столь нагло прервал ваши размышления. Помимо того, что вы влезли в роман, присвоив самый отборный кусок, который я хотел приберечь для себя (мы с вами близки, но не до такой же степени!), вы еще изводите нас прорицаньями, и со всем тем петух, действительно, повернул на Тверскую. Прекрасно, мы еще лучше изловим тебя на Тверской. Прекрати широко шагать! Уткнись в здание почтамта, его силуэт вырезан прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки; здесь долгие годы стояли развалины, ютились беспризорники и бандиты, и как раз относительно этих развалин Б. Пильняк утверждал когда-то составителю, что здесь на него, Б. Пильняка, писателя, напали бандиты и вернули золотые часы, узнав, что он писатель, и, главное, видимо, считая его за отличного писателя! Сколь чувствительны наши бандиты! Однако петух, услышав о Б. Пильняке, переметнулся через голову и забежал в Камергерский, где, остановившись перед Художественным театром, крикнул: «Ку-ка-реку!» — Но они еще спят, эти великие актеры: Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие, иначе б они непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом с человечьим взглядом, не только б сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они б обнаружили нечто поприбодряющее; нечто от уловок зверя и лукавства человека, словом, какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь свою систему. Пустые отговорки! Петух бежит дальше. Вот выемка: багровое здание Моссовета, статуя Свободы. Отсюда начинают клики манифестанты, здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть — да здравствует! — чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади — и ничего не запомнить, а увидев фотографию вождей, глядящих с мавзолея, машущих фуражками, попрекать: почему ты не видел эту фуражку, шляпу, эти брови, эту руку с саблей, эти трубы оркестра, словно переплавляющие солнце! Люблю Страстную, памятник поэту, которого наивный скульптор превратил в великана, — люблю, пройдя, взглянуть на решетку Музея Революции, а затем выйти на кольцо «Б»…
«А ведь, знаете, тяжелая штука — секретарь…»
Петух несется неудержимо. Отсюда, от кольца «Б», без отговорок разворачивается во все стороны заводская, лихая, фабричная Москва! Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лаборатории: от молний ВЭТ и до крошечных колбочек любителя; ампирные особняки; деревянные домишки с палисадниками… Но ты, чье стальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращается, кидается вперед — переулками, бульварами, улицами; вот мы промчались мимо Сухаревой башни, знакомые ринулись с рынка. «Куда, куда?» — кричат они нам, изумленно смолкая, потому что мы пробегаем мимо. «Нас не проведешь, — думают они, — тут найдется пожива!» И они устремляются за нами. Мы, не останавливаясь, обгоняем грузовики, трамваи, мимо везут кирпич, строят дома, мимо нас мелькают вокзалы, катят поезда, груженные шпалами, чугуном, лесом, гвоздями, везут хлеб, сено, мясо, тысячи свистков, тысячи рельсов, дорог, мостов, вокруг все строится, льется бетон, сталь, ползет нескончаемо текстиль… Я призадумался. Куда он бежит? Уже перед нами Воробьевы горы, уже Нескучный сад прилег изворотливыми тенями. Здесь-то, среди березок, мы его и поймаем, петушка! Уже за полдень. Река согрета купающимися; сталкиваются лодки, гудит глиссер, мелькают пароходики — и чертовски хочется жрать, тем более, что и река похожа на нож, коим перво-наперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится?.. По шоссе едут в город колхозники; уже вплетены мы в бесчисленные ленты огородов; уже наливаются сивые кочаны капусты, они похожи на растрепанные пакеты, которые идут из Камчатки в Тифлис, и находят там уже ликвидком, откуда их, на всякий случай, направляют в Москву, а последняя, слегка подумав, шарахает их в Ташкент, тот, скосив узкие глаза, гонит их в Ленинград, а из Ленинграда идут они, растопырив бока, многоглазые, круглоглазые, обратно на Камчатку, — все-таки добившись слабого сходства с кочаном капусты. За кочанами — золотые кочаны Новодевичьего монастыря. Фу ты, штука какая, здесь бы попригорюниться, хватить бы насчет неудачной любви к курчавой ученице художника, прибывшей из Тифлиса и поселившейся у Новодевичьего, был у меня такой случай, да где там отмечать неудачи, успевай подбирать пятки, ибо петух заворачивает влево, перед нами встают Фили, — петух опять влево. Кончено, я не могу больше бежать — пусть бежит, если хочет, составитель! — этак он черт знает куда добежит, до Кунцева, до Звенигорода или до Смоленска! Ага? Устал! Зевает!! Нюхает по ветру! Петух остановился на Поклонной горе, изнеможенный и клубящийся паром. Близ него копает картофель деревянной лопатой трухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли, но меня больше, чем судьба петуха, занимает: «Почему старуха роет деревянной лопатой и почему не взглянет на эту прибежавшую сюда громадную толпу?» А петух? У, противно и помыслить, что кто-то сейчас чикнет ножом по тоненькому горлышку — и судорожно ударят о землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. «Гума-а-нисты…» — несся откуда-то рядом вежливейший шепот Савелия Львовича. «Да ну вас, — я ненавижу петуха, истинно! — режьте все же его сами!» Выбраться лучше на простор, погулять полями, — ради того я тронулся из толпы. Меня остановили, кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попризатихло. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давят вниз. Ага! Мы приседаем на корточки, дабы петух не проскользнул между ног, а перемахнуть через нас у него нет сил, — это ясней ясного! — он распустил врознь серые свои перья, его клюв раскрыт, он тяжело дышит, впрочем, глаза его по-прежнему умны и, пожалуй, еще умней. Я креплюсь, но все шире во мне распластывается неодолимое желание: пора отполоснуть эту маленькую голову, туда ей и дорога! И мы, словно вприсядку, полуползем. Круг уменьшается — и вот, когда кому-то лечь и сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод разомкнул руки, низко склонил выи и лбами коснулся земли, изрыгая препротивную почтительность. «И если мне тоже быть почтительным, — с озлоблением думаю я, — то перед тем, как лишиться остатков уважения, не надо ль взглянуть, кого ради я лишаюсь?» Я и поднял свою, уже почти склоненную голову. «Вот тебе и секретарь большого человека!» — шепчу оторопело лишь для того, чтоб шептать.
Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден крап белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании.
— Егор Егорыч, — услышал я, — хватит спать. Ибо долгие сны похожи на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры: «Чего вы, идиоты, ищете здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно». Кроме того, надо варить петуха.
— Петуха! — вскричал я, вскакивая и протирая глаза. — Чрезвычайно странный сон! А кто прирезал серого петуха?
Доктор сказал, что, к великому его сожалению, он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного и прирезанного. И точно, на руках его лежал петух. Переложив его на левую руку, а правую подняв к уху, доктор заметил, что, наверное, целебные свойства петуха помогут ему, доктору, почувствовать себя лучше, с рынка он возвращался совсем ослабевшим.
Затем он вернулся к положению с Сусанной, видимо, вид у меня был оторопевший, и он пытался найти тот мотив в разговоре, который бы заинтересовал меня.
Он все еще не нашел фразы, которая проникла б до самой сущности холодного Сусанниного «я», в то время как все данные ее конституции указывают на чрезвычайно яркий темперамент (характеристика), значит, надобно употребить точно измеренную фразу, но пока, он убеждается все больше и больше, необходимо выступать с поступками, которые в виде извлечения могли б достать из нее скрытые эмоции. Он, например, с удовольствием влез бы в курятник и прирезал чужого петуха, но, к сожалению, нет ни одного чужого курятника, затем, как она посчитает его поступки, просто ли хулиганством или хулиганством, так сказать, возвышенным, ему кажется, что ее конституция позволяет так и думать, что здесь необходимо чрезвычайно возвышенное хулиганство, кроме того, надо во что бы то ни стало, раз мы сюда попали, вскрывать всю мерзость этого дома и все их мелкие страстишки, обобщать их, ибо ей будет сообщена вся мерзость их поступков, и она должна полниться нашей миссией и тем обследованием, которое мы производим. Исправление заключается не в том, что она сознается, а в том, чтоб ее натолкнуть, что мы знаем об организованном ее преступлении, мы ждем от нее перелома, зная, что она выдающийся человек и произошла ошибка, которую мы ей поможем исправить. Вот если б натолкнуться на одну фразу, я могу произнести речь по любому поводу, начиная от и до истории Винландии, о которой говорил еще Вашингтон Ирвинг, вероподобное повествование об этом находим у С. Стурлесона в его саге о короле Олая, Мальбрун и Фольстер не сомневались в истине этих простых и правдоподобных повествований, исследователи допускают, что северный берег Америки открыт еще за 500 лет до Х. Колумба.
Впрочем, мы, кажется, отвлеклись от истории Сусанны, но вот нет ли у вас какой-нибудь фразы, с тех пор как вы ушли сюда, у вас непременно должны быть такие фразы, к тому же… Прошел уже день, мне пора протрезвиться, и, кроме того, прекрасный мотив для того, чтобы у ней выступило наружу…
Он кинул мне внезапно на руки петуха и выбежал.
Здесь я опять умолчал, но если я молчал там, во вчерашнем дне, то я сейчас просто обязан был рассказать о Сусанне, но история ее тесно переплеталась с историей Савелия Львовича, а это последнее упиралось в Черпанова, в его план и в его документ чрезвычайной важности за девятью печатями, тут как ни приукрашай, но задумаешься — пускай его доктор бежит, я подумаю.
Но тут в дверь постучали; мальчик, спросив, я ли Егор Егорыч, кинул мне сверток бумаг, я развернул его, и мысли мои потекли в другую сторону, отделывая жизнь, так сказать, и заставив меня отложить беседу с доктором, предоставив его самому себе. Доктор вбежал на минутку, осмотрелся, примерил что-то такое в воздухе, сказал, что здесь посредине будет стол, и вскоре исчез, даже не посмотрев на меня, посоветовав натянуть мне штаны, ибо скоро придут гости, я все-таки порадовался, решив, что он желает, наконец, объясниться с Сусанной, и я скажу ему, что и мне уже поздно ехать в дом отдыха и ему в Негорелое тоже поздно.
Если вы около меня поставите то смущение и нерешительность, о которых я говорил выше, без особого удовольствия я раскрыл планы, но вряд ли я провел когда-нибудь минуты, ярче тех, которые я провел там. Это были чертежи того комбината, о котором неустанно говорил Черпанов, причем планы и чертежи тех зданий, которые относятся к бытовому обслуживанию рабочих, служащих и инженерного состава. Я разом понял Черпанова, его восхищение, преследующее его сухое лицо, понял, что достаточно взглянуть на эти планы, чтобы стало понятным стремление совершить такое, чтоб поразить всех.
Я не особенно верил его исповеди, может быть, ему казалось странным, что человеку поручили такие полномочия, может быть, он стыдился, и роль, по его масштабам, казалась ему малой, есть такие странные честолюбивые люди, почему он должен собирать рабсилу, и, возможно, Лебедевы приплетены тут сбоку, и выигрыш, и 75 000 рублей, и то, что он таким странным способом, как набор рабсилы, хочет вернуть себе обратно эти деньги, странным казалось, например, что это за пакет и кем отдан, и, если он совсем без полномочий, то кто и что ему написал, здесь полнейшая путаница; я, падкий на таинственность, ко всему присматривающийся человек, и то задумался. Я брожу окрест, и Черпанов меня испытывает. Пускай. Меня не так скоро поймаете. Я умею молчать и держать про себя, посмотрим.
Здесь мне, во-первых, попалась баня. Такой чудовищной приспособленности, как я сразу же понял, чтобы выжать из человека грязь, пот и мерзость, добраться до его кишок, промыть их, прополоскать мозги, пропарить мозг на полке — и все это, учитывая особенности уральского климата и уральского человека, все это видно по тому, как сложены камни и бетон; дома побежали с газом, лифтами, дружно встали разноцветные клумбы перед домами, даже выпал листок отдельно с рисунком частокола: в жизни я не видал подобного частокола, затем я увидал библиотечный зал в клубе, и даже можно было разглядеть, что все читают… и, наконец, появился сам клуб; из уютной шахматной выкатитесь в огромный зал, облицованный камнем; здесь говорит, скажем, чахоточный оратор, но вы все 500 человек имеете возможность курить, так как чудовищные вентиляторы выжимают воздух, гнилой и тягучий; в конце концов понял я: вредно не столько то, что мы курим, сколько то, что не проветриваем наших прокуренных помещений. Я долго любовался клубом.
Я медленно обошел все его залы и комнаты, особенно долго задержавшись в детском театре. Что вы там ни говорите, но мало, слишком мало заботимся о детях, подумал я, т. е. мы заботимся о них много, во много раз больше, чем раньше, лет 20, но все-таки мало им даем чудес, книжки для них скучны, как требники, игрушки однообразны и дороги, а здесь предо мной развернулись все чудеса надземного и подземного мира, я увидал полет аэроплана среди облаков, плывет подводная лодка, акула жрет и не сожрет человека, он в резиновой одежде, и многое другое.
Затем я спустился вниз, в подвалы, в аппаратную, обслуживающую клуб, в кузни, отопительные и прочее. Этот блеск нельзя набросать легкими штришками, здесь, на глубине четырех-пяти сажен под землей, было не темнее и не грязнее, чем наверху, здесь человек, занимающийся трудом, чувствовал себя не хуже, чем люди в зрительном зале. Затем я поднялся на крышу, в ресторан, буфет увидел, заставленный закусками, сыры, колбасы в бревно, водка, наконец, но нельзя пьянствовать в таком клубе, здесь никто не напьется, ибо каждому хочется трезвыми глазами ощущать и видеть все его чудеса. Затем опять передо мной побежали чистые улицы, залитые светом, прямые, голубые горы, леса вокруг, полные ягод и грибов. Нет, несомненно, великие художники задумывали этот план.
Я увидел удивительное творение, я простил Черпанову ложь ли, правду ли — все равно.
Я решил умолчать о подвигах Синицына, исповеди Черпанова, Сусанны и Савелия Львовича, умолчать и остаться — впредь до особых его распоряжений. Я только не знаю, говорить ли о предложениях Савелия Львовича или пусть он сам расскажет. Я просто стеснялся теперь перед Черпановым и понял, что настолько легкомысленны и глупы были мои размышления насчет легкости жизни секретаря большого человека. Поприберег бы я их для себя, а то суюсь туда же. Размышления мои были прерваны. Запыхавшийся, но с лицом чрезвычайно воодушевленным, вымазанный в известке и кирпиче, в дверях стоял доктор. «Где вы в кирпиче-то успели вымазаться?» — спросил я. — «А вот», — сказал он, отступая. Каменщик, в фартуке, белобрысый и рослый парень, стоял за ним. В руках он держал, ухмыляясь, громадный противень с замороженным поросенком. Второй, еще более ухмыляясь, — подальше, с бутылками. Затем росли еще улыбки и каменщики: с сырами, сардинами и проч.
Я опешил. Откуда столь быстро он мог достать закуски. Я осведомился, что не свадьбу ли мы справляем. «Нет, смелость, — ответил доктор. — Чрезвычайно удачный план. С одной стороны, лихое как будто бы и нападение, с другой стороны, я выиграл пари у Тереши Трошина. Ибо прошло более суток, как он должен был представить пятьдесят голодных и не представил, а я решил собрать пятнадцать сытых, которые и разделят со мной выигранный обед. Я имею ведь право распоряжаться им, как хочу». — «И он выдал его вам безропотно?» — спросил я. Каменщик с поросенком сказал: «Чудной гражданин. У вас, граждане, говорит, обед. Они разбирают храм Христа Спасителя, они безбожники, смелый и беспечный народ». — «Без водки?» — «И правильно, — отвечаем, — без водки, потому мы водку вечером пьем, а на перерыве — редко, так вот, говорит, не желаете ли со мной выпить?»
Сначала и не поверили, а затем решили, что с женой развелся, рассказывают, что в Москве много таких, с женой разведутся, она ушла неизвестно к кому, знакомого позвать невозможно, может быть, она к нему и пошла, ну и приглашают первых встречных, и вот, как разведутся, обязательно такой обед устроят.
— Сносно сказано, — завопил доктор. — Расставляйте закуски, Егор Егорыч, я Трошина позову.
Я спустился в погреб, поставить петуха, но затем вижу: сундук открыт. Ясно, психологически рассуждая, он признает свой проигрыш и не дорожит своей пищей. Это на языке психологии называется… «Рассаживайтесь, ребята. Главное, промолчать, здесь только не обижать человека, главное в нашем деле, — осторожность». Он исчез. Каменщики расположились рядами, один выше другого.
Комнатенка наша набилась до невероятия.
— Отличная закуска, — сказал каменщик. — Успеем ли в перерыв обмозговать?
— Калуцкие да не успеют?! Успеют. Где хозяин-то? А… вот и хозяин!
Доктор проталкивал заспанное лицо Тереши Трошина. Я напряженно смотрел, чем это кончится. Т. Трошин, конечно, не узнал свои закуски.
— Не к нему ушла? — спросил каменщик, наливая водки, затем раздумал и хватил хересу.
— Нет.
— А то что-то он скучный.
— У меня сегодня вечером крупная вечеринка, хочу, знаете, Черпанова вовлечь в игру, что-то он скучный, вот и готовлюсь, на какую бы он игру пошел… есть… и вот вина. Отличное вино. Где достали?
— Он достал, — сказал каменщик, указывая на доктора, уже захмелев, — то есть до чего чудной гражданин. Непременно, значит, жена сбежала. Ты ее только не бери, она сволочь. Конечно, Москва, от Москвы мы, несомненно, ждем чуда, учимся, воспитываемся, перед нами разворачивается новый мир, и разве не чудо пятилетка, где мы не работали и чего только не разбирали и не сооружали, и везде пьют преимущественно на тему, что развелся с женой. Везде. Я как бригадир утверждаю, приходит мокрый человек, в лоск пьяный. — Он погрозил пальчиком, величиной с огурец, доктору и сказал: — Вижу, что уже предварительно напился и теперь говоришь: не пью. Приходит в лоск пьяный и говорит: «Вы калуцкие?» «Калуцкие». — «Хочу выпить за калуцкую губернию!» — «А кто ставит?» — «Я ставлю». — «На скольких?» — «На всю бригаду». — «Да нас пятнадцать!» «А на всех пятнадцать». — «Кишка тонка». — «Пожалуйста, можете проверить, об заклад — ставлю золотые часы».
Бригадир показал золотые часы и, держа их на мизинце, вышиб пробку, крякнул, положил перед собой голову поросенка, ломоть хлеба, прожевал и, еще хватив, отдал часы доктору.
— Тут я подумал, что непременно с бабой развелся, и баба та из Калужской губернии. У нас бабы ехидные.
Доктор, здесь я только заметил, что он ничего не пьет, а чрезвычайно внимательно наблюдает, как никто не желал угощать Трошина, его очень ловко обходили, все они почему-то решили, что жена доктора непременно ушла к Трошину, и его ловко обносили, я заметил, и у него просонь проходила, и он уставился в голову поросенка.
— Позвольте, но у вас поросенок? — протянулся Трошин к поросенку.
Плотник почему-то чрезвычайно был обижен.
— Ты, брат, не тянись, еще жену взял, да и поросенка сожрать хочешь. Сосунок, — подтвердил он, все пили из единственного стакана от бритвенного алюминиевого прибора доктора. — Но к тому же, вы вегетарианец.
— Ухо! Могу ли я отведать ухо? — вещь почти вегетарианская.
— Выдать Трошину ухо!
Доктор наблюдал за ним, выбирая момент, когда можно ему сказать, что самое легкое и благоприятное впечатление — от шутки, чтобы всех развеселить и все бы посмеялись, но Трошин делался все мрачнее и мрачнее, белобрысый каменщик слопал, хрустя, хрящеватое ухо, поднес ему стакан и ловко опрокинул его себе в рот, спустил перед его вытянутыми губами пузырьки, естественно, что доктор не мог найти места для вступления с шуткой.
Каменщики уже начали обниматься и целоваться. И когда они сплелись, обнявшись, откинувшись, и запели что-то калуцкое, Трошин, увидев разгромленные припасы, спросил, откуда это, и доктор, который вообще ложь в данном случае считал излишней, — попросту говоря, я, увидев кулаки и побагровевшее, одутловатое и налившееся кровью лицо Трошина, выскочил, с трудом пробившись сквозь запах каменщиков.
У дверей стояла Сусанна, и чрезвычайно близко от нее Черпанов.
— Утверждаю, что вчерашнюю неудачу он хотел наверстать сегодняшним успехом.
— У вас есть твердые убеждения, что вы провинциал? — спросила томно и протяжно Сусанна.
Я по ее голосу понял, какова она и почему ей завидует ее сестра; если она может и способна сдерживаться и теперь даже, если б Черпанов сказал, что он не провинциал, она, уже решившись, едва ли бы сдержалась. Словом, они сближались.
— Вы, если способны, отвернетесь, — сказала, и все это проделано было с тем, чтобы я передал доктору, или из подхалимажа, или потому, что эта нелепая девица действительно думала, что Черпанов провинциал.
В другое время я бы отошел, но здесь я с полной безнадежностью попер за ними. Очень мне хотелось избегнуть кулаков, и вообще мне драки надоели, но и оттуда я видел, что спор разгорается и что Трошин обижен и тем, что съели его закуски, которыми он желал угощать Черпанова, и что еще более обидно, — что он пробовал вина, но и не узнал их, во-первых, а во-вторых, ему и не дали поесть.
Мы вошли в комнату сестер.
Я думал, что объяснение затянется надолго, но Черпанов, не смущаясь моим присутствием, приступил к такому детальному обследованию, что я потупился — и все-таки не уходил, просто хочется иногда повергнуться в пакость. Я тщательно разглядывал белый сундук, обитый жестью, громадного кота, дремавшего на нем. «Какая девическая чистота комнаты!» — услышал я за сопением голос доктора. Они не разошлись. Черпанов изогнулся и убрал что-то — точно, он провинциал, грубый и безнадежный в данном деле. Доктор стоял мокрый. Улыбаясь.
— Он не понимает шуток, — сказал он брезгливо. — Кроме того, говорит, что пища Ларвина, с которым он в пае, и вино его. И если даже выиграно пари, и слушать не хочет о нем, то я обязан был тратить вино. Они облили меня водкой…
— Да вы мокрый.
Доктор хотел сказать, что высох бы мгновенно, если б она прислонилась так же, как она прислоняется к Черпанову, но он не мог сказать этого еще и потому, что смотрел смущенно в пол и сам не понимал, я думаю, как он сюда попал, и, возможно, он даже нашел фразу, но, несомненно, потерял ее немедленно же. Я вначале подумал даже, что он трусит, нет, он не мог трусить, это ему и в голову не приходило, он просто пригласил нас быть свидетелями, в частности, меня и Черпанова, в его споре с Трошиным.
— Вы же мокрый, — повторила Сусанна, глядя нагло на Черпанова, тот только извивался и сопел.
— Есть способ вас высушить.
Доктор был чрезвычайно обрадован, он держал в руках сверток. Он молчал и потуплялся еще больше, но бумажный сверток все-таки не отслонял от себя.
— Вот сундук.
— С котом? — довольно непонятно спросил доктор.
Сусанна смахнула кота.
— Это тоже имеет смысл. Вам не кажется странным, что кот лежит на сундуке?
— Сколько я знаю жизнь, — вставил я на молчание доктора, — коты всегда дремлют на сундуках.
— Однако этот кот даже печке предпочитает сундук. Это потому, что все последние дни в нем стояла керосинка, в сундуке, мы из него вынули платье, он приобрел сырость, мы его просушивали, он громадный и прожарился, у него кирпичные стенки.
Она все время смотрела на Черпанова и боялась, видимо, что его провинциальность исчезнет.
— Это самый лучший способ сохранить имущество от воров, ведь любые железные стенки можно вырезать, а попробуйте-ка вырезать кирпичные — тотчас же услышат и поймают. У него даже крышка выложена кирпичом.
— Впервые слышу о таком сундуке, — сказал я.
Доктор напряженно смотрел на ножки Сусанны. Ему было безразлично.
— Разрешите просмотреть?
— Зачем же? Уйдет тепло. Вот в нем можете обсушиться, — сказала она внезапно доктору. Она взяла два полотенца в руки. — Я открываю. Вы ныряете, и, чтоб вам не задохнуться, я с краев кладу полотенца, остается достаточная щель для прохода воздуха и для того, чтоб вы не выпустили тепла. Сверток можете оставить здесь.
В другое время я бы не пустил доктора, но он принял это как ощучивание жизни, как намек на шутку. Он, не посмотрев даже ей в лицо, схватив сверток, приподнял крышку и нырнул. В другое время я бы предупредил, но здесь — я бы и сам нырнул с великим удовольствием, так мне не хотелось присутствовать при развязке трошинской истории.
Сусанна свернула полотенца жгутом и положила их на край сундука, затем, как-то подпрыгнув, села на сундук. Бесчисленность карманов устремилась к ней.
— А вы можете отвернуться, — сказала она мне. — Вы просто рохля, подумаете совсем иное.
Трудно было подумать что-либо иное, хотя я отвернулся, и, чтобы действительно подумать иное, я преодолел свою нежелательность встретиться с Трошиным и вышел в коридор.
— Дверь-то закройте, — крикнул мне вслед Черпанов, — а то тут еще простудишься!
Я стоял у дверей и стерег Черпанова, думая, сколько же я все-таки получаю жалованья. С другой стороны, я полагал, что, стоя у дверей, в случае, если Трошин кинется на меня, картина, которую они увидят, вполне перенесет их внимание на другое и заставит рассмеяться и помириться даже, но и Черпанов может быть скомпрометирован. Так как же, растворять мне двери или нет в целях защиты? Пожалуй, лучший способ — превратить все это в шутку и посмеяться, и, пожалуй, доктор тоже бы посмеялся.
Но тут дверь из нашей комнатушки распахнулась и по лесенке скатился Тереша Трошин. «Началось», — подумал я. И точно, началось, видимо, уже давно. Боюсь, что Трошина били давно и били усердно, потому что, когда он выкатился, даже несмотря на сумрак, можно было рассмотреть у него синяк под глазом. За ним выбежал каменщик, белобрысый бригадир с французской булкой в руке:
— Я тебе покажу калуцких баб отбивать! — вопил он. — Я тебе покажу калуцких упрекать!
Трошин бежал. В руках у него была обглоданная донельзя поросячья ножка. Прижимая ее к щеке, он бежал по коридору, направляясь ко мне. Я уже готов был распахнуть перед ним дверь. Он видел меня, потому что привел поросячью ножку в такое положение, как будто хотел вспороть мне ею живот.
Я плохо верил вообще-то в возможность вспарывания живота поросячьей ножкой, а здесь в особенности, но все-таки поставил свой кулак так, чтобы никак не допускать столь позорной гибели своей.
Однако кулак мой не понадобился. По лестнице катились каменщики. Грохот от их сапог стоял неимоверный, он похож был на грозовую тучу, я сам понимаю банальность сравнения, но сами видите, что мне было не до сравнений, хорошо, что и это подвернулось, а то бы вообще пришлось обойтись без сравнений, разве что…
К тому моменту, когда я напряг все свои силы не столько для удара в кулаке, сколько для сравнения, я увидел, что сравнение мое было излишним, ибо французская булка с такой силой опрокинулась на затылок Трошина, что он выронил из всех карманов карты, даже из глаз и рта посыпались тузы и марки вин, язык его лизнул пол, зубы проползли где-то подле моего ботинка, затем вскочили и побежали, и Тереша Трошин их догнал и, так сказать, поймал их на лету, я не утверждаю это, но для вас будет, надеюсь, понятна вся стремительность этой драки. Он бежал, хотя и знал, что бежать некуда.
Один мой знакомый… Я тогда же вспомнил, как только они пробежали мимо меня, — рассказывал о своей поездке на автомобиле по казахской степи с фарами чрезвычайной мощности. Степь там настолько ровна, что автомобиль бежит там без дороги, прямо, как корабль по компасу. И вот в луче прожектора показывается заяц. Не оборачиваясь, не пытаясь даже выскочить из луча, он бежит перед автомобилем, ослепленный и залитым светом. Зайца можно застрелить или взять голыми руками.
Нечто подобное было и с Трошиным. Он бежал в прожекторе каменщицкой брани, плюясь кровью и зубами. Каменщики кричали, что они умеют мстить за калуцких баб. На крыльце французская булка нанесла ему уже второй удар, уже в область таза. Он перевернулся в воздухе и грохнулся.
Каменщики, даже не взглянув на поверженного, потрясая плечами, прошли через двор и скрылись в переулке. Обалделый, забыв обо всем, я вбежал в комнату. Черпанов встал, потер руки:
— Очень помогает напряженности шум, привычка общих квартир, вот, например, попробуй в лесу — ничего не получится.
Сусанна была довольна: он оказался провинциалом и не спросил ни до, ни после о подвязках. Он похлопал меня по плечу:
— Вы очень любезны, Егор Егорыч, что постерегли, а то превратное толкование могло получиться, сказали б, что служебное положение Сусанны использую. Она едет с нами и будет сидеть в парикмахерской. Видали вы планы? Там нет парикмахерской? Я закажу или, вернее, заказал специальный план для нее.
Сусанна сияла и была довольна, холодок находил на нее, когда она думала: а вдруг проспится и уже на правах близкого человека? Самое страшное для женщины в мужчине — это когда он начинает чувствовать себя близким человеком. Он спросит: а где же, милая, подвязки? Она холодела, и, когда Черпанов ушел, мы услышали стук, и не сколько раз она сказала: «Войдите», — подошла к дверям, там никого не было, крышка поднялась, и смущенный, глядящий в пол доктор сказал:
— Это я стучал.
Он вылез и, держа сверток в руках, смотрел на странно изжеванные жгуты полотенец:
— А действительно жарко, — сказал он, наконец, и вот он взял сверток в левую руку и, с трудом поднеся правую к правому уху, начал:
— Я говорю не о всех, но об известных состояниях человеческого организма, которые бывают в нашей жизни несколько раз, а у некоторых и часто, у многих никогда, и тогда человек резко осматривается, задумывается: мысли его, словно направленные на иное, задерживаются, когда он смеется беспрестанно, то когда ему надо рассмеяться — самым дурацким образом молчит. Несомненно, эти шесть способов для того, чтобы извергнуть из себя это состояние, не есть, может быть, самые главные, но лучшего я не знаю пока, а я прочел много книг и, главное, опросил множество свидетелей, свидетелей, чрезвычайно заинтересованных и близко знающих это состояние нашего организма.
Он потупился, покраснел и посмотрел на бумажный сверток.
Я говорю о любви. Первый и наиболее удачный способ — это, никогда раньше не говоря выбранному вами объекту, не намекая даже звуком о своей любви, выбрать такую минуту, когда, даже не пожимая рук предварительно, обнять его и поцеловать, причем удача зависит от того, как вы сможете, с какой выразительностью, я бы сказал, поцеловать. Правда, степень обратного поцелуя разъяснит вам те затруднения, которые вы предвидели до того, когда намеревались приступить к этому способу. Но способ этот дурен тем, что люди, в силу им свойственной нетерпеливости, ослепленные кажущимися им благоприятными обстоятельствами, часто в обратную сторону истолковывают и вышибают ударом там, где надобно брать выбором. Ведь как ни странно, любовь мы знаем, как будто, и хорошо, а на самом деле совсем мало, то есть, когда чувство это вламывается в дверь, тогда-то мы задумываемся.
— Я предполагал, — продолжал он, — что возможно организовать институт любви, где бы любовь преподавали практически, где человек, сколько бы то ни было нуждающийся в любви, проходил краткие курсы и тогда пускался… Но здесь-то выступает человеческое нетерпение более, чем когда-либо, и я боюсь, что в институт попадут педанты, болтуны, у которых не только выболело, но и никогда не болело. Вы возразите: книги и театр? Помимо того, что любовь сейчас вы видите преимущественно в опере и балете, то есть наиболее вульгарные воплощения любви, всякий театришко опошляет неуловимость жизни. Да и по времени театральное зрелище не имеет места, чтобы заниматься длительно любовью. Герой едва сказал: люблю вас, как уже должен спешить на заседание, или на прорыв плотины, или на производственное совещание. В то время, как в жизни, наоборот, — он уходит с производственного совещания или говорит, что пойдет на него. Опять-таки и художники, в силу кустарного изучения любви, дают вам самое ничтожное и грошовое понятие о ней. Убежден, что будущий институт в первую очередь уничтожит беллетристов, признав их выдумку наиболее скучной и спекулятивной процентов на 90.
Он, помолчав, опять заговорил:
— Теперь перейдем ко второму, тоже прославленному способу, который тесно примыкает к только что веденному разговору о беллетристах, — это сказать: «Люблю вас»… Но если первый способ имеет какие-то, что называется, созвучия современности, хотя и ухабистый, но человечество уже давно идет зажорами. В нем есть известная даже доля возвышенности. Правда, возможности выплескаться целиком. Но второй способ довольно пошл, глуп и ничтожен. И я говорю о нем, чтобы поскорее покончить. Хотя, как ни странно, в жизни он встречается довольно часто. Но тут опять-таки играет роль нетерпение, когда человеку кажется, что он способен чрезвычайно выразительно говорить это. Причем, беллетристы прошлого уверяли, что мужчина при этих словах падал на колени. По-моему — совершенно невероятно, потому что данный объект, на которого устремлялись слова и падание на колени, видел, тоже из практических зачастую целей, много спектаклей, где актеры падают перед дамами на колени, а так как хороших актеров вообще всегда мало, а преобладают преимущественно или подхалимы, или родственники, то падал актер обычно толстый. Склонялись жирные складки брюха, толстые воловьи ляжки, апоплексическая шея, пропитой голос. Все это, если вы встанете на колени, вызовет в девушке самые неожиданные и смешные мысли — и она хохочет! Вы встаете сконфуженный, и без того вам неприятно опускаться на колени. И книжные традиции совратили вас — то, опускаясь, вы от застенчивости не поддернули кверху брюки и брюки у вас лопаются, к счастью, на коленях. Девушка ваша хохочет уже совершенно неудержимо. И, во-вторых, тоже по тривиальному обычаю, вы, сказам «люблю вас», должны добавить: «И прошу вашей руки». Не говоря уже о тусклой качественности, не каждый имеет твердое намерение просить именно руки. А так как вам неинтересно говорить о руке, то вы, смолчав о том, солжете и тем самым оболваните слова «я люблю вас» совершенно.
Этим способом объясняются актеры, начинающие беллетристы и грузчики волжских пристаней, народ чрезвычайно чувствительный и любящий литературу. Третий способ — это написать к объекту письмо. Способ увлекательный и широко распространенный. Но потому ли, что секрет эпистолярного творчества нами, в XX веке утерян или просто нет времени и терпения водить пером по бумаге, а на пишущих машинках как-то не принято писать подобные сообщения. Или мы из-за обилия бумаги, испорченной и волокитной, потеряли всяческое уважение к ней, но, как бы то ни было, способ этот не приносит требуемой от него пользы. Пишут чаще всего после, а мы разбираем преимущественно «до», нас мало занимают исхудалые ключицы после. Теперь, дальше, четвертый способ. Сущность его заключается в том, что человек ходит вокруг желаемого объекта, пялит на него глаза и вздыхает. Как ни странно, но этот грубый и чисто животный способ воздействия, употребляемый в большинстве очень юными молодыми людьми, потому что трудно вообразить, чтобы уважающий себя человек с плохим сердцем, лысый и с бородой, начал пялить глаза — хотя глаза я допускаю, но вздыхать и выдыхать это совершенно маловероятно, повторяю, такой способ приносит иногда пользу, но польза эта непродолжительна. Как только после первого объятия девушка начинает припоминать, каким способом покорил ее мужчина, ей делается слегка совестно, и так как все наши девушки ученые или собираются учиться, — она понимает, что всякая наука есть способ применения сложнейших и запутаннейших рецептов для достижения простого результата. А здесь уж очень несложен рецепт. Девушка начинает раскаиваться в своей малоопытности и ослепленности: «Пора отблажить, думает она, пора остепениться». Раскаиванье, милые мои, есть первый шаг к охлаждению! Это все равно, что если бы мы стали выдавать покупателю пшеницу вместе с колосьями, не дожидаясь обмолота. Бесспорно съедобно, но не питательно.
Теперь разрешите осветить пятый способ. Он малоизвестен и мало обследован. Я говорю о сводниках, как профессиональных, так и не практикующих, и часто даже не подозревающих, что они сводники до конца своей жизни, и самые подлые и злостные. К этому способу, чрезвычайно распространенному, прибегали в древности, и так как обычно к нему прибегают трусливые люди, то я заключаю, что древность преимущественно хвасталась храбростью, так же как Антанта хвастает теперь победой над Германией. Но на этот счет можно сильно посомневаться.
Трусливые люди необычайно скрытны, но об этом способе сообщим, многое невозможно, не впадая в преувеличения и ложь, что опять-таки будет вызвано нашей трусостью высказывать истину. Во всяком случае полезно утверждать, что он полезен как для атакуемого, так и для атакуемой. Здесь благодаря присутствию свидетеля у вас есть все данные не зайти слишком глубоко в наступлении, и если отступить, то с пользой, прикрываясь третьим лицом, и свалить на него все свои ошибки и трусость, так что трусом окажется сводник, а ему уже нет оправдания, ибо по самому ремеслу своему он обязан быть трусом. Много раз я приходил к выводу, что необходимо подражать трусам, если даже хотите как-то восхвалить трусость. Трусы придумывают самые умнейшие способы завоевания, так как они дико властолюбивы и жадны. Мне кажется, очень показательна для этого история Англии и ее правящих классов. Причем, должен заметить, что трусливая нация создает самую воинственную литературу. Люди самые героические — самые трусливые. Но как уловишь труса, как у него поучиться? Он настолько от нас удален, что его никогда не найдешь! Трус необычайно искусно прячет свое лицо, ибо иногда самый прославившийся по храбрости человек окажется подлейшим трусом, но трусом, который настолько перетрусил, что его уже невозможно уловить, потому что все бежит в нем, все течет, и уловить его — все равно, что рукой удержать реку, так как его берегут и поддерживают страшные трусы и прикрывают, и попробуйте сказать ему: трус! Какое поднимется! Какие всплывут защитники! Вы проговорились — открыли страшную тайну. Вам все могут простить, но нельзя никого упрекать в трусости. Вот почему об этом мало пишут и говорят. Можно говорить и осуждать нетерпение, говорить, что человечество чересчур нетерпеливо, многого хочет, но трусить его лучшие представители не могут! А как люди держатся за самые глупые предрассудки. Как они цепляются за прошлое! Как боятся оторваться от крова и постели у теплой печки! Какие хитрые извороты придумывают, чтобы прикрыться богом!
Итак, про пятый способ, я скажу, что очертания его имеются только грубой наметкой — остов, который, боюсь, никакие институты любви не могут наполнить конкретным содержанием, потому что трусы вас будут постоянно обкрадывать. Этот пятый способ будет постоянно неуловим. Даже я не могу найти в себе достаточно смелости, чтоб в него углубиться. Отсутствие материала — уже есть трусость. Я знаю, что он есть, но я его сам и прячу.
Предостерегаю, что секция института, разрабатывающая пятый способ, несомненно, будет наиболее неудовлетворительной, потребует огромных дотаций. Вечные склоки, от которых я предостерегаю как будущее советское правительство, так и высшие планирующие органы, в ведении которых будет находиться институт. Причем, очень характерно, например, что люди струсят назвать его просто институтом любви, а назовут его институтом оплодотворения, что совершенно неправильно, ибо биологические основы — основами, генетики или что-то в этом роде, а институт любви — это, что же, сводничество и вообще пошлость? Что такое любовь, что такое за гегельянство, за такая идея, летающая над всем? А я говорю: любовь — это то, о чем я говорил в начале речи и чему вы подвержены нее, но из трусости скрываете, а я не могу скрывать, и вот тут-то я прихожу к шестому, последнему из исследованных мною способов объяснения и любви. Я люблю этот способ. Он красив и краток. Человек, скажем, к примеру, вы, подходит на Пречистенской площади к будке, где продают квас, платит за кружку клюквенного кваса, смотрит задумчиво в лицо продавцу, и продавец сразу понимает вас, ухмыляется, и лицо его, как взболтано, и он на несколько ступеней спустился к вам ниже в понимании человека человеком, ибо он тоже когда-то испытал нечто подобное и засыпался в крупные неприятности, он ловит ваши добавочные деньги и…
Доктор быстро разорвал бумагу свертка. Четыре багровые розы сияли среди газетных столбцов. Не поднимая глаз, красный, держа дрожащим палец возле правого уха, он левой рукой передал розы Сусанне.
— Есть шесть способов отказывать в любви, — сказала Сусанна, держа розы в руках и подобрав под себя ноги на сундуке. — К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, я лишена была возможности изучить вопрос этот научно, а изучала практически-житейски, а, значит, недостаточно широко и жестко.
— Наука также часто изучает вопрос хуже, чем даже житейски, а совершенно обывательски. Но в ее распоряжении огромный арсенал справок и терминов — и наука имеет видимость науки. Однако, продолжайте, Сусанна.
Я выберу из моих способов наиболее характерные. Способ первый, нами редко употребляемый, но, по мнению мужчин, наиболее распространенный среди нас, — это: «Идите-ка вы к чертовой матери!» Чаще всего так думают мужья о своих женах. Они же так обращаются к другим мужьям или к холостякам. Грубая ошибка. Женщина тщеславна. Это одно из ее главных достоинств. Достоинство, которое вы так любите и так культивируете. Каждой женщине льстит, что к ней обращаются с любовью. И если она видит, что есть хоть малейшая возможность не воздвигать проволочных заграждений, то, будьте уверены, она их не воздвигнет. Она будет до последней минуты давать знать влюбленному, что есть надежда, а он будет вздыхать. (Доктор вздохнул.) Правда, она часто не замечает своих, до известной доли, даже чем-то преступных поступков, ибо не легкомыслие, а даже известная доля наследственности, что женщина, постоянно находясь в угнетении у мужчин, должна была выработать сама способы своей защиты, но это хорошо. Правда, женщина иногда говорит приведенные выше слова, когда это происходит или от болезни, или ей не до любви, или испробовав ее настолько, что уже любовь становится однообразной, и это явный признак глубокой старости.
Второй способ. Мелкий. Не стоило и говорить о нем. Но он, — я опять-таки хочу сказать, что согласно задачам вашего института, — вы их ставите чересчур узко, — женщины многое скрывают, приблизительно столько, сколько и мужчины, лгут и трусливы, способ этот очень уж распространен, хотя нами в каждом отдельном случае выдается как исключительный. Женщина говорит: «Я вас люблю, но до решительною шага разрешите подумать», — хотя этот решительный шаг зачастую есть самый нерешительный, но люди любят хвастать страхом, там, где его нет, и смелостью, когда трепещут при одном произнесенном ими даже мысленно слове. Понимайте это хотя бы в творческом, литературном, что ли, порядке. Люди начинают бродить, каждый пустяк выдают за решительный шаг, каждый взгляд — и заметьте, это хотя и мелкий, но самый верный способ отделаться от нежелаемого объекта. Сначала это мужчину увлекает, ибо если он даже чихнул в сторону своей будущей возлюбленной, то это уже рассматривается, как страшно решительный шаг. Но затем ваше раздражение растет, как если бы рядом с вами жил человек, постоянно боявшийся захворать. Вначале это даже смешит. Кончается обычно ненавистью, переходящей часто из поколения в поколение. Этим, например, можно объяснить причину кровной мести. Практикуется это обычно молодыми женщинами, как наиболее смелыми и не боящимися потерять по службе.
Способ третий, — вам, наверное, более известный даже, чем мне, — и не будем на нем останавливаться. Это отказ письменный. Эти отказные письма во все времена странно похожи одно на другое, как вся современная литература на Л. Толстого. Это объясняется тем, что люди много думают, но пишут как раз не то, что они думают. И притом стараются быть вежливыми. И вежливость берут из старых книжек хорошего тона. Выбуксировать себя себе на прошлом. Отсюда сухость изложения. Их рвут немедленно, настолько они оскорбительны и пошлы, так что нигде и ни в каких архивах вы их не найдете, хотя, когда придет время создавать архив института, — это понадобилось бы. Возможно, это для вас оскорбительно. И вам кажется, что я выдаю женские тайны? Уже многие тысячелетия женщина выдает свои тайны, и никто их не принимает, потому что им не верят, считают парадоксами, а парадокс — это выброс софизма.
Четвертый способ — это уже крайность: отсылают узнать к родственникам за мотивами отказа, а сами плачут. Я работаю чисто эмпирически, на личном опыте, и этот способ вам маловероятен. Это все равно, чтоб, скажем, к наркому пришла комиссия, а он ее направил за мотивами к буфетчику. Буфетчики, как известно, самые грубые из всего человеческого рода, обитающего в СССР. Я — буфетчик в юбке. Способ этот указывает на крайнее душевное разложение, цинизм какой-то уже уходящих классов, которым терять нечего. Я привожу его потому, что родственники обычно заняты склокой или чем-либо иным. И вдруг человек приходит с любовью. Брань поднимается невероятная, хуже, чем в трамвае. Бывают крупные членовредительства, и одному влюбленному даже откусили нос. Я привожу это просто как штришок, нимало не упираясь в этот факт.
Остановимся поподробнее на способе пятом. Это удивительный способ, очень легкий и простой, к сожалению, малоизвестный не только мужчинам, но и женщинам. Не я изобрела его, но многие применяли. Да и что такое изобретение? Условное понятие. Изобретений нет. Есть только усовершенствования, одно удачнее, другое нет. «Хорошо, — говорит она, — я люблю вас и согласна на все, но предупреждаю: могут ли мои прежние не только мужья, но и любовники посещать меня, а также и дети мои прежние, которые частью живут у них, частью в другом месте? И гостить у меня?» Самый передовой, воспитавший себя на успехах разума и общепринятых утверждениях, слегка опешивает и соглашается. Но тут надо взять с него расписку или чтобы он публично подтвердил, что согласен. Обычно же он робко спрашивает: «Сколько же у тебя мужей?» — забыв даже, что он и не обещал жениться. Вы спрашиваете: «А как ты предполагаешь?» И он робко отвечает: «Ну, три». Конечно, вы сейчас подумаете, надо сказать, триста. Вот и глупо! Никто не поверит. Да и по законам, — хотя я и плохо разбираюсь в юриспруденции, — полагается не более семи. Вы говорите: «Пять!» Это действует наверняка. Редкий честолюбец вынесет такое конкретное доказательство вашей пригодности к жизни, но все-таки если он и найдет в себе силы сказать «очень хорошо», тогда у вас имеется еще один козырь — дети. Причем, детьми рекомендуется орудовать мулатами, и чем больше помесей, тем лучше. Конечно, мы стараемся утрясти национальную рознь, но это не так-то легко, и на таком, казалось бы, беззащитном и милом материале, как дети, она и вспыхивает. Если вы скажете, что первый ребенок от русского, второй от еврея, третий татарин, четвертый черемис, пятый негр, а два близнеца — китайцы, — уверяю вас, искатель вашей любви больше к вам не придет, хотя бы работал в Совете национальностей. Почему вот, объясните мне, будет распутством, по его мнению, дети различных национальностей, едва ли он и сам объяснить сможет, а все-таки он будет испытывать к вам брезгливое чувство! Вот вы говорите, люди трусливы, а я полагаю, что самое страшное в них — это любопытство, но не закрепленное, а быстро исчезающее. Всем хочется полюбоваться, но никто не хочет долго сидеть над этим и, больше того, раздумывать. Вот и в данном случае с детьми. Всякий немедленно пожелает увидеть их, но не усыновить, скажем, — извините, — и тем более жить с ними вместе. И вот что любопытство, иногда закрепляется не на детях, а на чуждых совершенно любви предметах, оно распространяется, когда говорят, что у нее замечательное ожерелье, к влюбляются в него из любопытства, вот что должен поставить себе своей задачей институт, который вы создаете на Урале. И это-то я и передам Черпанову, тем более, что у меня есть данные, что он-то, как провинциал, как раз мало занят любопытством, а мыслит конкретно. Это чрезвычайно ценное качество у всякого провинциала. Качество, которое теряют люди столицы. Вот первая и основная задача института. И рада я, что вы собираете сведения. И тем более обратились ко мне.
— Все? — спросил доктор уныло.
— Нет, еще есть шестой способ. Он очень короткий.
Сусанна наклонилась и поцеловала доктора.
Тот вспыхнул настолько, насколько перед тем побледнел от обиды, что она не так поняла или не хотела понять его. Он вскочил, и я видел, как он внутренне боролся. Ему и хотелось действовать, но, с другой стороны, страшно хотелось проверить мысли, которые возникли в нем по поводу поцелуя.
Преодолело последнее.
Он встал прямой и низенький и, держа руку возле уха, размышляя и классифицируя, причем, он не мастер был на классификацию, Р и С бегали как хотели, да он и не признавал логики традиционной, словом, у него была такая сумятица во взоре, что Сусанна сидела совершенно разинувши рот. И хотя холодность из нее выкачал Черпанов, и она остывала, но тут она была поражена, смотря, как задумчиво выходил доктор, и как многозначительно роились мысли возле его поднятой руки. В лице ее я увидел страх.
Когда мы мчались по коридору, нам встретился Насель. Он посмотрел на нас испуганно; он был с каким-то мешком за плечами и с кошелкой в руках. Отметнулся прочь. Доктор пробежал мимо него торжественно.
Он мгновенно разделся, и мы легли на матрац. Доктор, видимо, чувствовал необычайное возбуждение. Он катался с боку на бок, завернувшись в одеяло. Мне тоже не спалось. Он сел и поднял ладонь к уху. Я попросил его погасить свет и говорить про себя.
— Заметили ль вы, как на нас воззрился Насель?
— Я устал, избавьте меня от ваших выдумок.
— Он увидел соперника! Что же касается ваших анекдотов, они более неправдоподобны, чем мои «выдумки», всегда основанные на конкретном материале. Насель! Чем больше я думаю, тем он встает передо мной с большей опасностью. Населя необходимо осмеять. И осмеять немедленно же, абстрагировать его, превратить всю его жизнь в шутку. Ничто так не уничтожает людей, как легкая шутка. Смех сразу донесется до Сусанны, и она утром посмеется вдоволь. Уже одно то, что я подсмеялся над Трошиным и тем заработал поцелуй. Она смеялась вдоволь.
— Э, мало ли кто получал от нее поцелуи!
— Вы ничего не знаете! Правда, с Населем будет труднее. — Он вскочил и накинул на ноги туфли и на плечи одеяло. — Надо идти немедленно! Пока ночь, я чувствую в себе гуманность, иначе возбуждение пропадет, и легкая шутка, которая во мне сейчас, исчезнет. Мысли ускользнут. Впрочем, надо оттрезвонить, и тогда можно спокойно спать.
Я знал, что все-таки мое присутствие его способно сдерживать. Затем я не желал будить Черпанова, сам надеялся отговорить его. Накинув тоже одеяло, я побежал за ним. Коридор был пустынен и гулок мягким гулом, каким-то подземным. Кроме того, мелькнула мысль: так как Насель отчасти еврей, не будет ли рассмотрено выступление доктора врагами как юдофобское? Мне, главное, проникнуть в щелку его речей и втемяшить ему… Но где там!
Доктор несся по коридору; из-под развевающегося одеяла видны были штрипки кальсон и волосатые ноги. Он придерживал одеяло левой рукой. Насель все еще стоял у дверей своей комнаты, прислушиваясь к голосам, доносившимся оттуда. Он косо ухмыльнулся, хотел было пожаловаться, начал было:
— Добыл, знаете, случайно вещь. А они так же, как из-за гардероба, вот он наш. — Насель и с ненавистью и с любовью постучал по стене. — Купил случайно, знаете, он принадлежал Лебедевым, они здесь хранили имущество, купил по дешевке, так, знаете, спорили три месяца. Хорошо, что призвали мебельщика из комиссионного магазина. Выяснили, что гардероб настолько мощен, что его вывезти нельзя, скрепы обессмерчены.
Доктор схватил его за руку. Он, видимо, находил, что весьма уместно ему встрять. Тут приоткрылась дверь, и чей-то скрипучий голос сказал: «Утюг готов». Насель поморщился. Он желал скрыть свое унижение, что его ночью заставляют разглаживать брюки. Я же подумал: «Не заграничный ли костюм?» — и поэтому, хотя Насель нас оттеснял, я все-таки протискался вслед за доктором.
Угловая комната. От окна к окну проложена гладильная доска. На венском стуле гора брюк. Какой-то предмет ускользнул под матрацы, расположенные на полу. Люди лежали, завернувшись в лоскутные одеяла. Проходить надо, ступая осторожно, чтобы не наступить. Часть уже спала. Один спал даже в гамаке. Это были все населевские родственники. Спали те, которым уже не было надежды получить свою долю; они спали, все еще споря. Я слышал: «…отличное сукно, первоклассное сукно».
Спали все вперемежку, торчала чья-то жирная нога, я все время смотрел на нее, пока она во сне, когда доктор взял особенно высоко, перевернулась, и я увидел такую сальную рожу, что мне стало муторно до невероятности. И я думаю, поздний час не удивил их и то, что доктор пришел, завернувшись в одеяло, кто-то даже сказал, что спать ему здесь негде.
На окне стоял паровой утюг. Как они не угорали? Правда, окно открыто, но, по-моему, и в нем спал населевский родственник. Вам, наверное, встречались такие паровые утюги, с громадной согнутой в виде Г трубой? Он был наполнен углями, клокотал, шипел.
Насель явно был удовлетворен тем, что спор его родственников прекратился, — может быть, даже вследствие прихода доктора, — он даже чувствовал благодарность. Он хорошо поторговал, продал какие-то книжки, кому-то часы, и теперь ему казалось чрезвычайно естественным гладить брюки. Отдых! Он мог теперь вслушиваться и даже предложил доктору тоже погладить его брюки и сказал как-то даже весело: «Продолжайте, очень любопытно», — из чего я понял, что он всецело поглощен был спором за своей дверью и не слышал ни того, что бормотал доктор, ни того, что я бормотал доктору. Насель дунул в утюг. Брызнули искры, и с подоконника слетел воробей.
— Можно соблюдать достоинство и без брюк, — сказал доктор, осторожно ставя ногу между двух подушек, на одной лежала, раскрыв рот, рыжая волосатая голова, на другой — лысая, повязанная платком, причем, платок сполз на ухо. — Древние ходили вообще без брюк, и тем не менее искусство красноречия стояло у них высоко. Возможно, оттого, что оно поддерживало достоинство, а не брюки.
— И хотя это правильно, — совершенно доброжелательно сказал Насель, усердно водя утюгом вдоль брюк с заплатами и осторожно поднимаясь вверх и вниз.
— Теперь вот и перейдем к основному вопросу, — донесся до меня голос доктора, пока я разглядывал ногу, на которую, казалось мне странным, никто не обращал внимания. — Мы коснемся родственников. Что такое родственник? Если по правде говорить, то это обман.
— Почему же это обман? — спросил Насель, раздувая утюг.
— Обман воображения. Надежда и остатки какого-то родового быта, а на самом деле теперь более, чем когда-либо, поставлены мы перед вопросом о том, как мучают нас родственники. Если человек женится, то лишь бы люди почувствовали его тяготение к родственникам. Мгновенно набегут уймы. Он женится, и, как правило, у жены окажется десять детей, десять бабушек и двадцать дедушек, которые и поселятся у него. Это преимущественно лодыри и негодяи.
Поднялась какая-то рыжая голова. Лысый поправил повязку и спросонья сказал в подушку: «Ты не очень». В это время обладатель ноги повернулся ко мне лицом и начал разглядывать лысобородого. Он смотрел и на штрипки доктора, зевая, и на кончик одеяла, и я видел, как раздражение постепенно осмысливало лицо его, только он имел вполне трамвайный вид. Я его узнал — человек человеком. Он ждал, когда ему наступят на ногу. Он даже руку протянул для держания за какой-то ремень.
— Пока вы находитесь в их власти, исполняете их приказания, причем, это не отдается прямо, а вы как-то косвенно их начинаете чувствовать, все идет хорошо, но вот попробуйте полюбить. Да будем говорить открыто, Насель! Полюбили вы Сусанну, и тут-то перед вами и встает задача, как жену примирить с родственниками. И вы начинаете мучиться, вы думаете, что все это утрясется само собой. Вам не выдержать этого боя, у вас астма, вы задыхаетесь, Насель.
— Я задыхаюсь всю жизнь.
— Следовательно, вы не уступите Сусанну? Родственники! — и то не всегда. Боритесь с ними, Насель!
— Давайте ваши брюки или идите спать.
— Не уступайте!
Но здесь раздался дикий вой. Доктор наступил на нос лысому человеку. Тот готовился к сопротивлению. Все вскочили, Насель едва не уронил утюг. Дикий испуг возник на его лице. Доктор изобразил чрезвычайное удовольствие.
— Приятно, что вы проснулись, — легким и грациозным движением поднимая к уху правую руку, сказал он. — Приятно будет вдохнуть в вас бодрость и веселье, утреннюю зарядку, так сказать, потому что вам пора спешить на службу. Егор Егорыч может вам рассказать даже по сему поводу анекдот.
Лысый понесся к Населю. «Мне наступили на нос!» — орал лысый.
Насель шел, ведомый под локти, через руку у него висели брюки чьи-то, приготовленные для глажки, он держал утюг, он важно кивал головой из стороны в сторону, я понял, какими ничтожными крохами может питаться человеческое честолюбие.
Кто-то сказал — может быть, он из домкома. Толпа несколько отхлынула от нас. «Невообразимо потное и грязное белье, спутанные волосы и тусклая лампочка над всей этой грязью, и тут же прячут платки, лампочка с накинутым рваным шерстяным платком, который уже никого нагреть не может. А самому впору греться от лампочки. У них 16-свечовая, такой жалкий вид, что просто сердце сжимало от жалости», — думал я.
Лысый кричал:
— Уходите, никакие силы Осоавиахима не остановят моей ярости.
Насель важно ответил:
— Именно, никакие силы Осоавиахима не остановят меня. И про какую девушку вы говорите?
— Я говорю: оставьте Сусанну! Она не приготовлена для ваших родственников. Так же как и не приготовлена для Жаворонкова. Не в том ее сверхценная идея. Сверхценная идея! — оттопырил губу доктор и обернулся. — Это не о том ли?
— О том? Идите вон, доктор! — сказал Насель. Его толкали к доктору. Он поднимал утюг все выше и выше, и вот это-то поднимание тревожило меня, ибо не может же Насель поднимать его без конца. Из трубы утюга шел пар и клокотал дым, хорошо, что ладонь к тому была приспособлена, и не потому ли доктор держал ее у уха, что всегда отгонял дым и говорить ему приходилось в прокуренных комнатах, он теперь и дым утюга считал за чье-то куренье.
Доктор смотрел в пространство и говорил, и говорил. Он был в ударе. Я знал, что здесь драки не будет. Здесь все интеллигенты, лентяи, любящие рассуждать, в иное время они бы не без удовольствия выслушали доктора, но тут они мало-помалу начали понимать, что доктор уговаривает Населя не жениться, и оттого их уважение к Населю не уменьшилось, а увеличилось. Они никак не думали, что его заработки исчезнут, нет, ничего подобного. Девица с толстыми ногами даже подыскивала место, где могла бы спать Сусанна. Они верили в неколебимую мощь и работоспособность Населя. Им хотелось просто спать.
— Подите вон!
Насель повторил это, поднял еще выше утюг, из него брызнули искры, и кто-то охнул. Насель уронил утюг, и он проплыл по доктору и затем по мне, и мы отскочили с такой силой от дверей, что вся толпа упала, а Насель так напугался, что ему казалось, наверное с испугу, что негде ставить утюг, он просто онемел. И он несся за нами, чтобы поставить утюг.
Доктор произвел еще прыжок, спиной назад, чудовищный прыжок. Я сам никогда не испытывал такого испуга. Вообще я вам скажу, вряд ли наступление танка может быть так страшно, как это наступление утюга. Его труба выросла, как труба парохода. Утюг просто сбесился, как будто шофер потерял руль. Становилось совершенно понятным, как машина тащит за собой человека. Утюг с собачьим проворством хватил меня за бок, словно я сделал малый прыжок. Я догнал доктора. И вот здесь-то произошло чрезвычайно странное событие, которое я не могу объяснить и до сих пор.
Я помню отчетливо, что раздался крик, затем мы оба прыгнули и ударились о гардероб.
Громадный гардероб покачнулся, и мы — направо, налево. Гардероб был чрезвычайно удивлен, по-видимому, что нашлись какие-то силы, которые встревожили его вечный покой. Подался назад. Дотронулся до стенок кладовой. Ему сочувственным рокотом ответили дрова, перекликаясь с удивлением, что гардероб тронулся и пошел.
Но тут утюг щелкнул еще раз доктора по низу живота. Гардероб упал. Дверцы его крякнули. С великим грохотом гардероб упал на спину. Мы очутились в неимоверно густом облаке пыли. Дверки прихлопнули разнос барахло, которое висело. Гардероб лег на спину не сразу спокойно. Дверцы были вышиблены задом доктора, страшным задом, в котором явно сказалось его крестьянское происхождение. Гардероб упал навзничь. Стенка откатилась. Она побежала по коридору, а на другой мы погрузились в недра гардероба.
Неслись мы долго. Это падение было странно. Нас окутывали облака пыли и нафталина. Я зачихал, зажмурился и подумал: «Что же будет?»
Но тут я почувствовал жар возле спины, открыл глаза, и мне захотелось, чтобы Насель упал вместе с нами в гардероб. Насель бегал вокруг гардероба. Представьте, он был с громадную комнату! Насель всплескивал руками. Запах гари доносился до нас.
Я лежал вполне удовлетворенный. И отомщенный. Мне даже не жаль было одеяла, которое несомненно тоже сгорит. Я твердил: «А вот тебе и не тычься утюгами». Мне это казалось страшно остроумным. И внутренне подсмеиваясь, я опять закрыл глаза. Но тут я услышал голос доктора:
— Обороняйтесь, Егор Егорыч! На нас пустили газы. Толкайтесь ногами!
И здесь, надо сказать, большую услугу оказали нам ноги доктора. Он оборонялся ими с отменным усердием. Он поднял неимоверное количество нафталинной серебристой пыли, известки, и едва в этой серебристой пыли показывалась какая-нибудь голова, он так ловко поддавал, что голова с визгом скрывалась, и действительно наше положение было чрезвычайно удачно.
Мы бились на спинке гардероба. Внизу и вокруг нас лежало платье, причем, все это пружинило, и если уж толкнуть, то человек откидывался метров на двадцать пять и скользящим полетом. Вообще мы здорово садили. В этом было известное большое наслаждение. Мы бились внутри гардероба. Доктор командовал. Вонь распространялась все больше и больше. Доктор хохотал, орал. Море? Говорят, что водоросли пахнут нафталином. Не орите, ибо бой еще идет! Они оглушат нас веслами. Нужно грести от себя, тогда водоросли не заплетутся вокруг ваших рук!
— Мы на испытательном судне, Егор Егорыч, направляемся в море!
Я думаю, все это воспоследовало в ответ на то, как кто-то полез ко мне. Я укусил за локоть, а затем саданул его в бровь. И раздался голос:
— Они сожгут все имущество! Лей воду! Буди Черпанова! Занимай ванную!
Затем я увидел, что в столб пыли и дыма ринулось ведро воды, затем второе, но дым поднимался все выше и выше.
Я услышал голос Черпанова, командующего и распоряжающегося. Он говорил, что ванную легко снять и притащить. Затем послышались новые голоса. Я плотно завернулся и решил, со стыда, лежать до тех пор, пока уже явственно не загорюсь.
Затем на нас ринулся поток воды. Честное слово, я уже мог плыть!
Доносился, сквозь заткнутые мои уши, веселый докторский голос:
— Страшные водоросли, Егор Егорыч? Мы что, в Средиземном? Вы замечаете берег, Егор Егорыч?
Это было так нелепо, что в иное время я бы захохотал. Я открыл глаза.
Дым клубился по коридору. Гарь и чад. Я поплыл. Под руки мне попадались подтяжки, которые облепили мою голову. Какая-то тяжесть висла у меня на ноге. Я нырнул и достал утюг. Ярость овладела мной.
Доктор кружил вдоль стенок гардероба. Он устал, и радость сияла на его лице.
— Я не могу плыть, Егор Егорыч, меня здорово обожгли. К тому же, водоросли облепили меня. Скажите, что, мы все-таки осмеяли Населя?
Вода доходила мне до пояса. Я схватил утюг для защиты, схватил неподвижно повисшее тело доктора, перекинул его через плечо и потащил.
У дверей столпились родственники Населя.
Я кинул утюг в их сторону, и они брызнули в комнату. Доктор был в одежде, с него струилась вода, голова его была похожа на фонарь в дождливую ночь, из носу его, когда я его втаскивал на ступеньки нашей крошечной лестницы, выскользнули — он чихнул — два нафталинных шарика. Так вот отчего он гундосил и тонул?
Он лежал, стонал, ему казалось, что он все еще тонет. Я смазал его свиным салом, лучшего лекарства у нас не было; он благодарно пожал мне руку и улегся спать.
Я сидел возле его тюфяка, который, как и пол в комнате, еще не убранный после пиршества каменщиков, был закидан объедками и свиными костями, пустые бутылки торчали отовсюду… Я размышлял об этой чудовищной ночи. И с чего, собственно, может долбануть в голову, что доктор обладает неистощимыми запасами веселости, когда он так плохо переносит то, где страшного нет. Доктор вскакивал, щупал голову, попросил поставить термометр, который показал 36,4. Доктор успокоился и заснул.
В дверь постучали, Черпанов передал мне обгорелое одеяло. Я принял этот мокрый комочек.
— Спрашивали совета, — разбудил? Спите, пока не понадобились.
— Значит, не пошлют в милицию?
— Ожоги на теле есть?
— Есть.
— Не пошлют.
Ванная стояла боком. Рассохшиеся доски гардероба лежали как громадные рыбы. Сушили платье, все было чрезвычайно буднично. Мне было стыдно. Голова болела, то ли от ушибов, то ли просто от волнения.
Черпанов держал какую-то смятую бумажку в руках, вид у него был торжественный. Несколько человек стояло у ванной, разговаривая и обсуждая происшествие с гардеробом. Жильцы всякие бывают, вон один укусил за икру — так, ни с чего, взял да и укусил, освидетельствовали: не бешеный ли? И ходит по-прежнему на службу, а та с испугу прививалась в пастеровском институте.
— Совсем противоречивые сведения о жизни, — сказал Черпанов, глядя в бумажку. — Жаворонков представил тех, которых он должен вести. А вы можете идти. Я составлю более разумную анкету. А тут только рост преимущественно. И надо ли оскоплять или не надо? Никого оскоплять не будут. Мне важно выработать, какая конституция больше подходит. Тут бы, собственно, комиссию создать. Пока они ждут, когда их отправят, комиссия выработает типы, необходимые для перерождения в первую очередь, затем — во вторую и так далее, по шкале. А то — полная дезорганизация! Где я вас ощупывать буду? Здесь полная невозможность, причем вон установка: верить ли в бога и возможность возобновления храма Христа Спасителя и надо ли оскоплять? Идите, я не могу беседовать на такие дурацкие установки. И это что за графа: «— Уч. во взрыве стд. Нет?» И одинаково у всех.
— Чем же это дурацкие? — сказал человек с длинными рукавами. — Оскопить людей может и дурацкое, а ведь дальше-то как же с ними поступать, если вы признаете свою ошибку? А [последнее сокращение] означает в предположении о взрыве стадиона — не участвует.
Черпанов захлопнул ванную. Он был доволен. Он посматривал на меня чрезвычайно хитро!
— Вы полагаете, я спал? Нет, зачем же! Я приглашен вечером к Трошину, но я нарочно лег полежать и посмотреть, что-то будет. Он ведь хитрый и наглый! Списка составлять не хочет: «А вдруг, говорит, конъюнктура переменится и вас по шеям?» Так я лежу, а он все-таки трусит. Заглянет в дверь, и видно на морде такое желание разбудить. И не решается разбудить. Вот и сидят. Это доктор их здорово поддел. А как вы думаете, не было желания у доктора мобилизовать каменщиков для нас и с этой целью он и устроил обед?
Я только изумленно поник головой.
— Все возможно. А теперь мы пойдем к Трошину?
— И зачем вам нужен этот шулер, крупье и вообще сволочь?
— Поверхностно вы смотрите, Егор Егорыч. А вдруг это в прошлом был инженер-литейщик, специальность, которую, небось, из-за границы выписывают, а тут чем-нибудь обиделся и скрывал ее. Мы ж внимательным и нежным к нему подходом приспособим его. Человека нельзя не рассматривать разносторонне, если вы его ведете в бесклассовое общество.
— Это Трошина-то в бесклассовое общество? — произнес я в чрезвычайном изумлении.
— А чего нет?
— Шулера?
— Дался ему шулер! Ну допустим, нет у него никаких добавочных и скрытых качеств. Так вы полагаете, что и шулера нельзя приспособить. Мы из него карточного фокусника сделаем. Пускай ребятишек забавляет. Но в конце концов меня занимает не столько Трошин даже, сколько костюм.
— Костюм?
— А как же? Он у Трошина же. Вот здесь еще раз… — Он показал список. — Жаворонков подтверждает свои показанья. Вы понимаете, глупо, конечно, искать костюм для себя, но я его надену один раз, а затем передам для общего пользования всей коммуны. И здесь, с известной какой-то точки, начинается и для самого меня какое-то перерождение.
Я заколебался:
— Но стоит ли брать ради того шулера? Он же всех обыграет и картам научит.
— Неужели вы думаете, что социализм создают какие-то особенные люди? Люди создают самые обыкновенные, с присущими им задатками зла, но надо пресекать это зло и направлять зачатки добра, которые у них и раньше были, но они в них не нуждались, ибо при капиталистическом строе — это вещь очень неудобная, почти нелегальная. И вот — направляй человека в изыскание его благородных чувств, добра, самопожертвования и прочего! Разве бы мне раньше могла прийти в голову мысль поделиться костюмом, с таким трудом добываемым, с другими? Вы увидите еще не такие случаи самопожертвования. В дальнейшем.
Я согласился. У дверей Трошина я еще поколебался: не спят ли? Не могли спать. Мы вошли. Комната была густо набита. Здесь курили, сидели на полу, на деревянной кровати, смотрели на нас с величайшим вниманием. Черпанов держался гордо, я бы сказал, даже повелевающе. Он зевнул, потянулся, сказал, что дела и выспаться не дадут. Вообще высказывал полное пренебрежение обществу, и это действовало, лица становились все почтительнее, хотя и морды здесь были самые отъявленные. Не знаю, то ли я не проспался, то ли действительно был такой подбор рож. Трошин был чрезвычайно озлоблен, и вот здесь-то еще мое появление. Он сидел с завязанной головой, ему и мне тоже было совестно смотреть друг на друга. И вот здесь-то даже и его озлобленность помогла. Черпанов спросил:
— Что же, по списку принимать буду?
— Нету списка, — ответил Трошин. — И не будет! Вообще я собрал самую отъявленную дрянь. Лучше нету, знаете, все лучшие ушли, сознаюсь, на более подходящие места. И вот если вы эту дрянь желаете вылечить и можете вылечить как от телесных, так и душевных недугов, то тем и лучше.
Черпанов осмотрел все эти испитые, пропитые, опухшие и высохшие рожи. Отвращение скользнуло на его лице, но он сдержался. Он ткнул в лицо первому попавшемуся:
— А ну, открой рот!
Тот открыл. Черпанов постучал по остаткам черных зубов.
— Вылечим. Вставим. Но как же без списка? Вот видите, Егор Егорыч, что значит нет у нас подходящих анкет. Надо вам поскорей созывать комиссию. Тут главное, я их, конечно, могу записать.
— И записывать не позволю, — взвизгнул Трошин, видимо, радуясь возможности причинить побольше пакостей. — Если хотите, принимайте на память!
— Здесь люди все осторожные. Доставите на место, там и можно составить список, — сказал какой-то осипший бас.
— Что же касается того, запомните ли, так я вам ручаюсь, что могу рассказать такие пакости и вообще вопрос пойдет совершенно в открытую. Принимаете ли вы их с такими недостатками или отвергаете? И если отвергаете, то укажите им ближайшие перспективы.
Черпанов вдруг замахнулся кулаком. Они отхлынули. Он прошел и сел впереди, положив нога на ногу, выставив сухой и громадный кадык. Они посторонились:
— Это даже становится интересным. Хорошо! Говорите истину, как ни перед кем не говорили, и я даю слово, что перспективы будут открыты.
Что-то человеческое и даже страшное промелькнуло в их глазах. Черпанов понял, что обмануть их не удастся. Он так и сказал перед тем, как Трошин приготовился говорить. Страшное дело, это волнение захватило и Трошина; он-то никак не думал, что вопрос Черпанов сможет поставить так глубоко. Пожалуй, я не совру, если скажу, что он первый раз в жизни говорил правду, причем, и озлобленность в нем играла и жажда как-то возвыситься.
Черпанов смотрел на каждого подводимого внимательно и даже с усмешкой, но по мере того, как продолжался рассказ Трошина, он строжал.
— Здесь отобраны преимущественно люди, которые до известной степени связаны еще с обществом. Нам необходимо представить двести человек, в общей сложности я их и разверстал. Характеризуются они, — как вы сами понимаете из моей профессии, — не теперешней, о ней и говорить не стоит, а прошлой, — пристрастием к вину или же к картам или к тому и другому вместе. За ними много грехов. Как, сам кандидат будет рассказывать или же мне?
— Пускай, кто как может.
— Здесь, сами понимаете, в каждом деле, самое трудное начать. Поэтому скажу вначале я. Вот этот. Он, видите, подвержен аффектации. С детства он не приучен владеть собой и попал в обстановку, благоприятствующую безделью, кутежам. Он и перенес это. Он был даже на высоких постах, до секретаря губкома. Держала жена. Затем она надоела. Он мгновенно сорвался, хапнул деньги, проиграл. Быстрая смена качеств совершенно противоположных. Доброта и дикая нелепая жестокость, гнусные выходки, чрезмерное самомнение. Страдает болезнью печени, страшно мучается. Вы посмотрите в его глаза.
— Дальше! Следующий!
Рассказывал сам. Удовлетворение некоторых влечений — желудочных и половых. Все, что возвышает и облагораживает, отступает обычно на второй план; обжорство и грубый разврат; выиграв в карты, он может много жрать и спать с кем попало, иначе не встает. Изнасиловал дочь и тем мучается. Погубил старуху мать, проиграл у ней казенные деньги, старуха научилась грамоте на шестом десятке и умерла от потрясения. Вот теперь и ноги отнялись, но при виде вина удержаться не может: «Все проем и пропью».
— Следующий. Противоположный.
Черпанов махнул рукой. Выступил противоположный.
— Постепенно постигал сознательную эволюцию народа и общества. И все это разрушено. И тогда выкинул благоразумную расчетливость и осторожную сдержанность и решил, что можно нажиться и в карты. Никогда не придерживался крайних убеждений. Умеренно либерален. Определенные, прочно сложившиеся привычки. Боится всяческих новшеств и, странно, в картах тоже имеет уже привычки, но не играет крупно. Подчиняет любовные увлечения требованиям рассудка, и вот странный тип: начали играть в карты, и обыграл и предал лучшего друга. Убежден, но совершает всегда противоположное. Надо поставить на средний уровень. Если можно сказать, самая главная вина в благоразумной расчетливости, и вот надо даже не карт лишить или вина, надо его научить или, вернее, найти место, он много ли совершил преступлений? Да нет, просто умеренностью своей и либерализмом вогнал в гроб всю семью. Он ученый, даже мог бы быть большим ученым!
— Поэт. Бурная эмоциональность и огненная фантазия. Любит карты и вино, потому что находит что-то за их пределами. Совратил этим многих. Сам не знает и таблицы умножения, но сосредоточенная мощь и глубина, жизнь спиной к мелочам и лицом к идеалам, питающим его вдохновение. Чрезвычайно трудолюбив. Он целен, но, однако, он губил друзей, всех, близко соприкасающихся с ним. Моральная стойкость, несмотря на все невзгоды жизни. Он свободен. Республиканец, демократ, аристократ, ему наплевать на все, лишь было б искусство. Вино и карты непременно. Иначе он не едет. Что его мучает? Любит детей, но не может их держать при себе. И загубил трех, они умерли, потому что жена его слушалась. Вот если вам удастся включить детей, он приведет не восемь человек, которых надо привести, а сто восемь.
— Активный. Склонность к деятельности. Почему его не пригласили, а он только должен исповедоваться? Что это за предприятие, к которому он не присоединен?
— Замолчи. Я скажу про него. Склонность к душевной борьбе и самообладанию у него отсутствует, поверхностна и примитивна психика. Деятельность его лишена планомерной и целесообразной последовательности, я его держу для разнообразия, перекинешь на то, на другое. Он немедленно хочет осуществлять многое, без сомнений и колебаний. Он погубил целую группу людей, строителей, большого дела, он инженер, и его презирают, а он сам до сего времени не знает, за что его презирают. Любит карты и вино, потому что здесь какие-то намеки деятельности. Страдает катаром, и вообще-то дурак, и на него не стоит обращать внимания.
— Дальше!
— Расчетливый эгоист. Все будто в порядке, он даже и костюм другой надел, вообще он любит переодеваться. Демагог, он и в разврате, втихомолку и потихоньку, никогда не доведет дело до крупного расстройства дел и разорения. Я даже и сам не знаю, какая его истинная профессия и чем он занимается. Он стоит, ухмыляясь, не выражая беспокойства. Видит здесь какой-то чрезвычайно утонченный разврат. Осматривался плотоядными глазками, и вид у него чрезвычайно благоразумный. Ограниченность умственных, эстетических и идейных интересов толкает его на чрезвычайную чувственность. Он весь лоснится и не верит, что я его выгоню. Только его постоянная сдержанность не даст ему полный простор, и он соглашается ехать только потому, что я его припугнул. Он поедет не с нами, а, смазав, где нужно, он получит еще командировку двойную. Он мне многое обделывает и во многом сам меня спасает. Еще?
— Дальше.
— Говорит сам. Скоро говорит. Богат мимикой, жестами, быстро изливает все свои чувства. Энергия находит выход в этих чувствах. Весь интерес направлен на окружающее. На первый план общественная жизнь с ее нуждами, планами и потребностями. Карты и вино — это развлечения, не на душевном интимном мире каждого. А междучеловеческие отношения ему нравятся. Например, что так много картежников и винознакомцев соединилось. Это можно развить, только поработать. Он большего ничего и не хочет. «Я могу привлечь и организовать людей». Мало 15, прошу увеличить эту сумму! Не только подберу приглашенных, но и сгруппирую их интересы! Кто любит Сотерн, кто Шабли, кто Шестьдесят шесть, кто железку. У интересных людей надо придать разговорам известное течение! Для удовольствий и развлечений я объединяю людей. Чем мучаюсь? Да ничем. Бойкий, расторопный, могу услужить. Все было б хорошо, но погубила беспринципность. Прошу привить принципиальность и направленность. В этой надежде и еду. Человек голый, никаких принципов. И как только будут принципы — и все хорошо. Здесь же невозможно, ибо благодаря беспринципности отовсюду изгнали, даже из собственного дома, чем и несказанно огорчен.
Но огорчения на его лице не читалось. Наоборот, он даже радовался, что разворачивается жизнь.
Я устал. Прошли неудачники, истерики, прошли люди, измотанные в результате напряженной работы, и целая гигантская теория карточной вины, с результатом осознанного порока. И Черпанов обещал представить это в обширном докладе, и отсюда его отправные цели, что он намерен поставить точкой опоры в его будущей деятельности. Прошел человек, единственный из всех, он желал вчувствоваться в наши горечи и радости, которые мы пережили с Черпановым, он желал направить свою деятельность на помощь страдающим и нуждающимся, ибо за последнюю игру он здесь всех, нас дожидаючи, обыграл, но оказалось, что он выиграл даже души их. Оказалось, что он в лоск пьян.
Затем прошел человек, который желал реформировать карточную игру, чтобы придать ей глубоко научное значение, чтобы люди, играя, проходили целые научные дисциплины, математику. Он даже соединил филологию с картами. Все это получалось страшно интересно: Он преодолел внушения авторитета многих веков и желал нас спасти.
Прошел и такой, который, всецело за подчиненность внешней толпе, не верит, чтоб люди не могли играть, он не видит из этого выхода, и если удастся устроить, то потому, что вы сами станете играть вместе с ними, то просто — лишние мучения и горесть об утраченных жизненных возможностях. Он был когда-то красив, и его могла полюбить девушка. Его ожидало счастье, но и это прошло за картами, как заигранная карта. Видите, и лица нет! Только большие знатоки могут отличить.
Черпанов слушал их все более с гордым видом, он возносился на какую-то необычайную высоту. Он задирал голову, кивая ею, и в конце концов торчала только его одна нога, и перед нами колебалась подошва, которая в этом сумраке, где было и тесно и накурено, вполне могла заменить лицо. Она и заменяла до известной степени.
Люди были чрезвычайно взволнованы и потрясены всеми этими откровенностями, тем более, что и сам Трошин тоже чрезвычайно гордился тем, что это ему удалось вызвать такое возбуждение, такую откровенность, и думаю, что это его потрясло настолько, что он начал больше верить Черпанову и в конце довольно утомительных жалоб, которые в сущности все сводились к тому, что здесь перед нами прошли и люди с большим воспитанием, и мелкие лавочники, и, боюсь, чуть ли не князь один, но все это подействовало на нас страшно возбуждающе. Все с нетерпением ждали, что же скажет Черпанов, когда последний преподнес свою жалобу.
Мы видели, что Черпанов начинает спускать подошвы. И вдруг он мгновенно кинул их на пол. Вскочил и облобызал первого попавшегося. Затем второго. Жал всем руки. Сухое всегда его лицо сияло. Уверяю вас, что он плакал. Затем откинулся прочь и заговорил, выпятив вперед грудь:
— Для начала мы произведем вспрыскиванья! И не думайте, что так и мгновенно намерен отучить и лишить всех ваших мучений. Нет, я не пройду мимо! Мне вас не жалко, в сущности, вы бы должны погибнуть, но только недостаток рабочей силы вынуждает нас произвести данный опыт или даже не опыт, а использовать вас. Вы даже играть будете. Здесь я беру замысел сего гражданина, который хочет придать картам какую-то научную окраску. Возможно. Но пока вам вспрыснут химические препараты, посредством которых вы и излечитесь от мучающих вас физических болезней. Но не от душевных! Душевные я вам лечить буду! Никто из вас не сказал, что и как воруете, да это и хорошо. Я вас всех запомню. Я имею привычку заходить к каждому на дом и проверять анкетным способом. В данном случае придет мой секретарь. А теперь идите, и, если встретитесь на улице или в учреждении, сразу увидите, насколько вас запомнил Черпанов.
Это были поцелуи, тонко рассчитанные. И это свержение их гордости и высокомерия. А слезы даже на Трошина подействовали. Он сидел потрясенный. Когда те вышли, нас осталось трое, Черпанов приступил:
— Показывай костюм, который получил от Жаворонкова!
— Он у Населя, — упавшим голосом, все еще не опомнившись и без озлобления, сказал Трошин.
— Променял? Вот гад! На что?
— Часы отдал.
— Покажи!
Черпанов посмотрел:
— Ты думаешь, золотые? Они фальшивые.
Я подумал, что это из-за часов, ювелиров, Насель испугался и замыл их поспешно.
— А черт с ними! Костюм требуйте с доктора. Я занял поросенка для закуски, а часы я отдам Ларвину, а поросенка сожрали. — Он впал в обычную свою озлобленность. — И вообще, что такое счастье, Леон Ионыч? Вот вы говорите, полное счастье, а по-моему, мне при полном счастье никак жить невозможно. Кто же при полном счастье будет в карты играть? Слышали ль вы, чтоб когда-либо влюбленные, не до того, когда они объяснились, а когда получили полное счастье, играли в карты, хотя бы в покер? Нет, они пользуются своим счастьем. Исчезнут карты в вашем строительстве, Леон Ионыч!
— Зачем же, но невинные карты могут остаться? Скажем, в подкидные дураки.
— Не будет. Если человек счастлив, то он и подкидным дураком не пожелает быть! К, кроме того, если имущество общее, то на что же играть?
— А по носу бить? Любопытно.
— Разве что по носу. И зачем тебе костюм, если полное счастье? Может быть, ты Егор Егорыча желаешь одеть? Так ему все к лицу. Но, вот что. Ты мне по рублю дашь за человека. Двести десять рублей, а я тебе тогда и анкеты заполню, а то не буду заполнять.
— Дам. Но за каким чертом тебе надо было продавать костюм? Насель? Это с которым вы сегодня плавали? Препротивная фигурка. Книжками торгует? Придется к Населю идти.
Трошин повторил с озлобленностью:
— Ну, у этого не получите, он ни в карты, ни вина, за ним никаких грехов нету.
— Найдем и у него грехи. Пошли. Ты насчет представителей в комиссию подумай и свяжись с Егор Егорычем.
Я мучительно раздумывал. Какого же сорта анкета и что в ней должно содержаться? Мне казалось легкомысленным то, как я согласился быть секретарем большого человека. Надо, конечно, иметь крупную подготовку, и мечты мои совершенно не имеют под собой ничего реального. Надо бы посоветоваться с доктором, но, боюсь, он придаст этому внесоциальный вид, ибо он говорит только о социологии, а на деле опирается на одну биологию. Я перебирал лиц, к которым обратиться за советом, — М. Н. Синицын? Но его отношение ко мне резко отрицательно, и, кроме того, имею ли я право выдавать тайну?
Доктор поднялся стеная, он был одет очень прилежно. Сверкая глазами, он в то же время стонал; черт его знает, как он мог соединять все это в себе, он сообщил мне, что давно поджидает меня, что уже давно ходил по коридору, встретил старуху Мурфину, она, дьявол, молодится, тогда я ее подвел к трюмо, которое возвышается рядом с разрушенным нами гардеробом, и сказал, как от носа курицы проводят черту, и она не может отойти. Она мучительно боится смерти. Он сказал: «Обратили ли вы внимание, что тусклое зеркало придает лицу удивительно трупный и пыльный вид? Пойдемте посмотрим на нее и, кроме того, погуляем по двору. Надо б сегодня, но уже не успеть, завтра же мы непременно выедем за границу. В сущности, все дело ювелиров ясно, и уже проведена черта».
Я не знаю, какую черту провел доктор, но разговор, который вели две бабы, по-моему, был совершенно ясен.
Доктору все казалось, что Степанида Константиновна смотрит в зеркало. Признаться, его мысли казались мне странными.
Баба ясно обратилась к нам с заявлением. Баба утверждает, что дала ей на хранение вещи. А та орала — будет ли она, во-первых, хранить добро какой-то контры, а, во-вторых, ее муж действительно сослан. Баба вязалась: оставила на хранение серый заграничный костюм, пианино, подушки, одеяло, а приехала — нет ничего и все!
Вошел старик, багровый, и сказал: «Вон, контры!»
«Какая тут, к черту, курица», — подумал я, но тут же обратил внимание на разговор их насчет серого костюма, значит, есть какая-то истина в разговоре Черпанова и в его поисках? Значит, он не поддевку ищет?
Степанида Константиновна толкала бабу. Та шла медленно, заливаясь слезами.
Доктор взял меня под руку, мы бродили по булыжному голубому двору. Прекрасный осенний день. Тепло, даже душно. Несомненно, разговор у трюмо преломился в душе доктора, он его несомненно слышал, но преломился по-другому. Он даже как-то затуманился, но мгновенно вспыхнул:
— Разве возможно грустить в такой день? Здесь надо только повод найти рассмеяться! И вообще с легкой шуткой отнестись ко всему! Несомненно, семейство Мурфиных сейчас более чем когда-либо нуждается в шутке. Ряд удивительных шуток скопился у меня в голове. Я наслаждаюсь жизнью. Хотя странно, на меня находит страх, например, в гардеробе мне казалось, что я тону, а теперь я убежден, что у Сусанны впечатление обо мне как о лихом человеке. Самое важное — подождать. И когда придет победа, люди уже сами наполнят своими выдумками все ощущения победителя, очень постыдные, может быть. Но он же не может сказать истины, потому что эту истину могут сказать и понять как рисовку. Поэтому я нахожусь в редко выгодном положении. Я еще не победитель и могу делиться своими чувствами. Но вот когда я одержу победу и когда будет рассеян туман бреда о короне американского императора и то, что мне кажется наиболее достоверным, то, что в этом доме ничего не говорят об этой короне, и воображаю, что творится за границей и какое важное значение придали тому, что я не приехал, и я должен принести для них уничтожающее объяснение. И я его принесу! Я сделаю особый доклад здесь. Аудитория будет переполнена. Мне будут аплодировать. В качестве экспоната выйдет Сусанна. Для нее будет решающим днем. Ее уже, сверхидею, она получила, и ей будет смешно рассказать о своей выдумке. Но она расскажет. Аплодисменты. И где-то будет сидеть юноша и мечтать о славе доктора Андрейшина! Слышали ли вы что-либо о короне американского императора здесь?
Я мог, не совравши, сказать, что ничего не слышал. Как я жалел, что беспомощен в таких делах, мне надо ж было что-нибудь сказать доктору Андрейшину, он находится в диком заблуждении, но сладострастие и даже злорадство было во мне, и я молчал, наблюдая за его веселым лицом.
— Замечательно весело я себя чувствую. Расскажите какой-нибудь анекдот, Егор Егорыч. Сегодня-то я непременно расхохочусь, дайте повод огласить этот убогий двор смехом.
Я рассказал. Парикмахер спросил мужика, который вез на коне мешок сена на рынок: «Сколько он возьмет за то, что на коне?» Мужик запросил умеренную цену, которую парикмахер и обещал заплатить. Когда же мужик, сложив мешок, потребовал деньги, то парикмахер потребовал также и седло, как находившееся на коне. Мужик спорил-спорил, но принужден был отдать. Спустя некоторое время после того мужик пришел к парикмахеру и спросил его, что он возьмет за бритье его и его товарища. Парикмахер запросил тридцать копеек. Мужик, обрившись, привел после этого своего коня и сказал: «Вот мой товарищ. Или брей, или отдавай обратно седло». — Один подагрик, увидев вора, ведомого на виселицу, сказал: «Желал бы я иметь твои ноги». А вор отвечал: «А я б желал иметь твою голову».
Доктор с удивлением помотал головой:
— Нет, неудачные рассказы. — Он опять отошел от меня, посмотрел и поднял к уху руку. — Непременно необходимо крайней шуткой разрушить их семью! Если мы так могли разрушить семейство Населя, то здесь, конечно, гораздо легче.
— Разрушайте сами. Ведь у вас еще ожоги по всему телу, вы еле ходите. Вот пробежитесь.
Доктор попробовал побежать, но, стеная, остановился.
— Вы правы, я думаю, что и не рассмеялся вашему анекдоту, потому что внезапно почувствовал боль в какой-то части тела, но сознание так великолепно налажено, что оно отодвинуло эту боль, и тем не менее, конечно, не поступками, но смехом и вообще шутками всего возможно достигнуть.
Помню я, в гражданскую войну был у нас в полку петух. Мы отбили у белых несколько музыкальных инструментов, нашлись музыканты, раньше они работали в вольнопожарном обществе, а при скудости общественного движения при царизме сюда шли люди, как-то склонные к общественности. Всю ночь мы репетировали «Варшавянку». Помнится, когда уходили из села, то из-за школы вышел петух. Он шагал в ногу с оркестром. Я никогда более не видел петуха, который столь бы любил музыку. Он спал на музыкальных инструментах, любил больше всех капельмейстера. В одной операции возле Златоуста наш полк зарвался, и нас окружили. На нас двигались «голубые гусары» и сибирские казаки. Мы были молоды и решили погибнуть с музыкой. Мы играли, на нас кинулась «лава» казаков. Когда петух увидел, что на капельмейстера несутся, он кинулся под ноги коню, конь вверх, офицер наклонился, чтобы его рубануть, — это был лихой, видимо, парень. Как нам было жаль, сколько раз были голодные, но мы не резали петуха. Офицер тотчас же сковырнулся. Мы отбили атаку и даже штыковым ударом, на конницу — подумайте, что значит молодость! — вышибли их из леса. Шестнадцать пуль было в башке офицера. Разговор о петухе отвлек наше внимание от опасности и дал нам возможность продержаться до подхода помощи…
Доктор выдумал психоз относительно стадиона, сам я понял — откуда он пошел. Синицын ему говорил о новом психозе при последнем свидании: как бы не взорвали стадион. Приехал Юсупов, а все застроено, он остановился, бросил кому-то костюм, и ходит, закладывая шашки необычайной силы, отыскивая свои сокровища.
— Мой доклад, — начал Черпанов, — будет краток. Я только дам чистую пометку работ, так как по общим вопросам мы уже столковались. Но, раньше чем приступить к докладу, мне бы хотелось сказать несколько вступительных слов, в частности, направленных в сторону Ларвина.
— Правильно, — словно и ожидая только этого выступления, сказал Ларвин, — дайте мне слово!
— Нет, я вам не дам, пока не скажу своего, — с непонятной всем злостью вдруг сказал Черпанов и даже стукнул ладонью по столу. — Вот вы, товарищ Ларвин, надели сюда на заседание лучший свой костюм, и этот поступок был правильный со стороны вашего желания предстать более опрятным, чем вы есть, данному собранию, но по существу в подобную духоту одеваться глупо!
— Дайте мне слово! — крикнул Ларвин и вскочил.
Черпанов тоже вскочил. Их злость несомненно всем казалась непонятной.
— Нет, не дам! — еще громче сказал Черпанов. — И я знаю, что вы желаете сказать, товарищ Ларвин, но раньше вы все-таки выслушаете мое мнение и о вас, и о вашем костюме, и вообще о костюмах, хотя для некоторых здесь присутствующих этот вопрос и первостепенной важности, но не для меня. Если я забочусь о костюме, то я забочусь о костюмах для всех, и нельзя посредством какого-то мифического костюма вводить раздор в нашу коммуну. Сядьте, Ларвин, и будем говорить спокойно.
Ларвин сел, но торжествующий пот уже стекал у него под мышками. Мне кажется, что от него пахло, но Людмила, которая сидела рядом с ним, испытывала чуть ли не большое удовольствие, точно она его загнала — как коня — и радуется тому, что конь не издох.
— Итак, я продолжаю. Костюм, конечно, важен, но все-таки сущность не в этом, и боюсь, что мы можем обмельчать, если будем думать, что войдем в коммуну в одном костюме и он, так сказать, будет прикреплен к нам, ничего подобного, мы в самом начале должны изгнать зависть в каких угодно проявлениях, и самое страшное — не загонять ее внутрь.
Не знаю: то ли рассказ его утомил, который он передавал мне, то ли его волновала наглая торжественность Ларвина, причину которой я сомневался, чтобы он мог знать, но речь его была очень бесцветна и, главное, запутанна, так что все смотрели недоуменно, и даже ошалевший от своего подвига Жаворонков прислал ему записку: «Уверяю — у Населя — Часовщик в нашей квартире». И эту записку Черпанов изорвал в мелкие клочки и положил в карман, вскоре же после прочтения этой записки он остановился на полуслове, словно ожидая кого, но всюду было тихо, и он сказал: «Теперь, когда мелочь отметена и мне хотелось, чтобы вы поменьше мелких фактов вгоняли в себя, в эти несколько дней, когда вы готовитесь к полету, да безмоторный полет по социализму в коммунизм, куда вы шагнете и уже будете наполнены новыми чувствами…» Опять вскочил Ларвин, но здесь дверь широко и с силой распахнулась — и, клянусь чем угодно, или я устал от всего виденного и, заскучав над речью Черпанова, от которого я ждал большего, я задумался о докторе Андрейшине, но мне показалось, что в дверях мелькнуло его круглое лицо, но все внимание было сразу же поглощено фигурой старика Мурфина, который стоял совершенно багровый, босой, в длинном пледе, который прикрывал необычайно рваную и грязную рубаху далеко ниже колен. Он трясся, он говорил с трудом, он опирался на палку, вообще, в нем было много и страшного и много смешного, на пледе, на груди была прицеплена английской булавкой краюшка хлеба для того, должно быть, чтобы он сразу наклонялся и откусывал, а не тянулся руками, а на руках были почему-то длинные шоферские, засохшие и чрезвычайно паршивые перчатки… Смотрел как-то особенно внимательно в пол, и особенно торжествующая улыбка показалась у него на лице. «Ну, подумал я, будет жару тебе, Ларвин». Прошли две-три минуты, не более, но вдруг старик взмахнул рукой в шоферской рукавице, и так сильно, что рукавица взлетела и обнажилась пухлая рука, обычная старческая, которую прикрывать было незачем, и вообще старик был бы благообразен даже, а что он, наверное, очень силен, то это было без сомнения, подержать бы его только в большой чистоте, так вот старик в эту поднятую руку всунул другой рукой палку и затем проговорил медленно: «Вон, контрреволюционеры!» Начал он на высоких нотах, а кончил бормотанием, так что никто не понял, да и не поняли еще потому, что очень уже слово было совершенно неожиданное, поэтому он счел необходимым повторить и повторил: «Вон, контрреволюционеры!» А затем опустил палку, сильно стукнул ею о пол и засопел. Гнев ли его душил, говорить ли ему трудно было — не знаю, но на Черпанова возглас его произвел просто какое-то освежающее действие, он встрепенулся, оглянулся, до того он сидел, низко склонив голову, он даже встал. Я почувствовал, что он в ударе, но тут в дверях появилась запыхавшаяся Степанида Константиновна.
— Опоздала? — сказала она и, увидев старика, еще более приосанилась, вообще она его запугивала, уничтожала его своей видимостью и мощью жизненной силы. — А его еще зачем притащили?
— Сам пришел, — сказал Жаворонков.
Увидев Степаниду Константиновну, старик испугался, она его подхватила под мышки и повела, а он сразу как-то осел, у него опустились губы, и огромная любовь и еще какое-то сладострастие появилось в лице, так что дочери отвернулись, ее власть над ним была безгранична, и мне было противно, что развалина может сладострастничать, и, кто знает, не ревностью ли вызван был его возглас, потому что почти умоляюще он бросил ей, уходя: «Убери их, Степанидушка!» Он с трудом перевалил за порог, уперся в стену, дверь за ним закрылась сама собой.
Я уже окончательно убедился, что д-р Андрейшин впихнул его — это его глупая шутка, вроде ходуль, недаром у него были такие озорные глаза. Все смотрели на старика в полном недоумении и даже дочери как-то с отвращением, уж очень он был неопрятен, и выходил он, видимо, редко, так как окно у нас было открыто, то он вдыхал не без удовольствия воздух переулка.
Молчание прервал Ларвин чрезвычайно подлой усмешкой:
— Еще один член президиума! Кооптируем, что ли?
Черпанов посмотрел, я бы сказал, на меня изумленно. Я стукнул кулаком о кулак. В конце концов надо и мне приобрести некоторые привычки. Я повторил: «Ну, к Ларвину, так к Ларвину». Поскольку теперь для меня выяснилось, что дело, видимо, не грозит смертоубийством, я готов. Но в каком отношении он с братьями? Мы их там не увидим, не очень-то я бы их хотел видеть. Признаться сказать, такие зверские рожи даже во сне, зная, что это сон, нельзя увидеть с удовольствием.
— Скажите, — это детские игрушки? — Извините, что-что, а детские игрушки я знаю. Я жил вместе со служащим Мосторга, он приносил. Он не любил переписки, да его приятель запил, утром распакуют, а к обеду они уже развалились, так мой сосед по вечерам их склеивал и сгвоздивал. Родители изумлялись: «Отчего только в вашем ларьке крепкие игрушки?» Он вежливо говорил: «Получаем первый сорт». Так вот там я видел, что игрушки совершенно с благополучными лицами до непристойности. Такой представляешь свою будущую жизнь в шесть лет.
Любопытно, какова же, однако, роль Ларвина в этой интриге? Мне, по вашим рассуждениям судя, он представлялся довольно-таки вялым и ничтожным человеком.
— И я сам думал до последнего времени, — сказал доктор совершенно серьезно, — если б события не разъяснили мне многого. — События заставляют иногда и самого вялого человека быть бойким.
— Сентенция, совсем не достойная вашего ума, Матвей Иваныч. Но, может быть, в углубленной, так сказать, значительности Ларвина играет роль история со стадионом? Любопытно было б пройти и по комнате. Любопытно было б знать, что это бабешка, ворующая медикаменты, выдумала взрыв?
— Не столь важен порох или нитроглицерин, из чего будет сделана мина, а возможность; подведет ли эта клика, этот клуб.
— Клуб!
— Да разве это не похоже на клуб с его обширными знакомствами и связями? Иногда мысль имеет значения больше, чем взрыв. Но об этом мы побеседуем дальше, а сейчас мне хочется вернуться к истории с Ларвиным, посвятить вас в нее. За последние дни, как вам известно, произошло много событий в этом доме в саду. По-прежнему шумят тополя над верандой, но многое изменилось. Когда Ларвин вступал в министерство, у него был ряд проектов. Они, руководители, — считайте, что дело происходит в Болгарии, — знали отрицательное отношение рабочего класса к войне и что рабочий класс будет сопротивляться, может даже объявить политическую стачку, и в первые дни войны работа военных заводов, хотя туда и подбирались соответствующие кадры из профсоюзной бюрократии, затормозится, кроме того, поскольку весь удар должен быть в этой войне направлен со стороны газовой, а в стране газовых заводов, тогда, когда Ларвин вошел в министерство, было мало, то одним из его проведенных проектов была заготовка страшного количества газовых баллонов. Теперь, в период его работы, количество газовых заводов удесятерилось, заметьте, что им дала заем заокеанская держава, чего Ларвин не учел, и теперь уже шла агитация против него, что он зря запас газы, плохо предвидел — и Ларвин желал войны. Он провел большое постановление о маневрах, мы с вами приглашены туда, повторяю, что Ларвин заигрывает со всеми, кто есть в доме Мурфиных, ему чудовищно необходима поддержка, он утверждает, что страна наполнена шпионами соседней державы, маневры будут грандиозные, военные-атташе все приглашены.
Я расхохотался. Доктор, тоже смеясь, полузакрытыми глазами смотрел на меня.
— Конечно, смешно, Егор Егорович, что мы с вами, глубоко штатские люди, думаем разрушить военного министра.
— Ореол войны несомненно поднимет его в глазах Сусанны, Матвей Иваныч.
— Гигантски, Егор Егорович.
— И этот же ореол войны задушил военную прессу.
— Несомненно!
— Оскорбления военного министра нам припаяют как оскорбление государства.
— Всенепременнейше! — радостно воскликнул д-р.
— Смертная казнь.
— Вот и любопытно мне, каким же способом вы его думаете скомпрометировать и отогнать, так сказать, от Сусанны. Кроме того, у него невеста Людмила, хотя мы только что и слышали, что Людмила отказалась от него.
— А мы возбудим в нем любовь к Людмиле, во-первых, во-вторых, докажем, что Сусанна не столько-то любима матерью, чтоб мамаша пожертвовала своими капиталами, а, в-третьих, вы слышали об овсе?
— Война механизирована, и поставка овса не имеет большого значения для армии.
— А если овес идет на изготовление газов? И если Людмила закупила все его наличные запасы в стране?
Он неистощим на выдумки, в конце концов вся эта игра начинала мне нравиться, сумасшествие — это только чужой язык, который мы не понимаем, в конце концов это не так страшно и даже весело, а затем, если я сделал первые шаги к сумасшествию, то что же мне отчаиваться и сопротивляться, оно находило на меня, как гора.
И мы пришли к Ларвину. Он щеголеват, в нем было, действительно, что-то военное. Он ходил по комнате, всюду были расставлены бумажные кошелки, на стене висела карта зоофизическая и чучело тетерева, изъеденное молью. Хозяин, видимо, любил путешествия. Другая географическая карта Африки висела напротив. Комната была щеголевата и опрятна, стаканы вымыты. Сам хозяин читал книгу об охоте. Встретил он нас приветливо:
— Ну, как вам нравится наше кафе? — спросил он, и все в его обращении говорило, что он готовит себя к будущей жизни и все называет именами своей будущей мечты или прошлого, черт его разберет!
— Кафе — я так называю это место. Кафе или клуб. Конечно, есть опасность, когда собирается группа одинаково мыслящих людей, и волей-неволей будут одинаковые поступки. Вот я убежден, что если б мы трое, как я, и мечтали о путешествиях, то, может быть, трое и не уехали, но если б нас было десять, я убежден, что экскурсия была бы готова. Так и с нами. Не думайте, что мы сразу поселились в этом доме, нет, это вышло как-то случайно; дом гнилой, зимой в нем дикий холодище, всякий рад или обменять квартирку, или продать под каким-нибудь удобным соусом, и так как некоторые были просто домовладельцами, сознаюсь, им нужно было выматываться из прежних квартир, все это соединило нас. И что же, вот я — продовольственный спекулянт, жулик и прочее, я говорю откровенно, а что создало меня? Случайность! Думаете, мы не обеспокоились, когда выяснилось, что в этом домишке собрались лишние, очень обеспокоились, нам вовсе не хотелось иметь клуба. И, во-вторых, что это за дом, в котором нету даже ни одного коммуниста. Мы даже в милицию ходили — так, мол, и так, но странное явление: нет в доме коммуниста. Милиция тоже удивилась. Неужели, говорит, нету? Нет. Но, говорит, может быть, есть какой-нибудь ветеран гражданской войны? И тоже нету, а есть, мол, только из чиновников госказначейства, первый перешел на сторону существующей власти и теперь пенсионер. Ну вот, говорят, и напирайте на него. Да чего ж, говорим, на него напирать, когда он до того ослаб, что из второй категории скоро в первую перейдет и ничего, кроме «вон!», говорить не умеет. Обучите, говорят, но в общем, если будете вести себя смирно, то можете жить и без коммунистов. Ну, мы вернулись, научили Льва Львовича к слову «вон» — «контра» добавить и начали жить смирно. Но судите сами: если десять человек, любящих путешествия, собравшись, непременно пустятся в экскурсию, то не могут же пятьдесят человек, одинаково мыслящих, не пуститься в спекуляцию.
— Но ведь вы, небось, опасались друг друга?
— До последнего дня опасались, всякого лишнего человека обнюхивали, и, не попади вы вместе с Леон Ионычем, вы б увидали примерных служащих, которые только и говорят о службе.
— Следовательно, Леон Ионыч развязал отношения, а вы говорите, клуб господ.
— А мы ни о чем не разговаривали, все было страшно втихомолку; если и останавливались нужные люди, так все родственники и не больше одного-двух в месяц, а если и больше, так у нас часть людишек на дачках живет. Повторяю, даже анекдотов о текущей политике вы не услышите.
— Очень любопытно. Следовательно, Леон Ионыч вскрыл какое-то подземное течение?
— А как же? Разве я бы стал с вами разговаривать и предлагать вам: вот, мол, Матвей Иваныч, уважаемый, сыр есть ворованный, прямо ящик с сыроварни, шофер ехал и просто мне к извозчику, в переулке, да и извозчик-то прямо знакомый, свалил. А теперь, что же, если Леон Ионыч предлагает счастливую жизнь и переход в бесклассовое общество, мы и готовы перед уходом, кто сможет, конечно, сказать правду.
— А если Леон Ионыч вас выловить желает, переодетый милиционер, так сказать.
— Не исключена такая возможность, но ведь мы и ждали, согласитесь, что в таком мощном государстве, прикрываясь одним стариком, который говорить только и умеет: «Вон, контра!», долго и невозможно и скучно. Конечно, мы бы могли и разъехаться, но человек легковерен и ленив, думает: а ну, может быть, это и не сегодня. Что же касается вашего предположения о Леоне Ионыче, то зачем же на такую ораву такую мощную силу тратить?
— Вы, что же, думаете, что ваши дела мелки или просто вас забрать, вы все и выскажете.
— Зачем высказывать? Мы тоже люди твердые, мы не интеллигенты. Да нет, нельзя, говорю, идею тратить зря, не будет наша власть. Они миллиона не пожалеют, пропадай, дескать, а идею тратить не будут, а ведь у Леона Ионыча, согласитесь, крупная идея.
— Идея крупная.
— И государственная?
— И государственная.
— Следовательно, государство к нам подошло с известного конца. Что же, мы государству благодарны и будем работать. Я, например, — путешествия люблю, но так как теперь открывать нечего и последний путешественник был Пржевальский, — путешествием называется и открывать земли, где говорят не на ваших языках и люди все слабые.
— А как же насчет полюса?
Доктор ухмыльнулся.
— Итак, вы отказываетесь от путешествия?
— Отказываюсь. Я люблю военную жизнь. Я могу комбинат, например, охранять, комендантом быть.
— Теперь разрешите, Ларвин, задать вам вопрос. А любовью вы в вашем клубе, кафе и вообще здесь никак не были связаны?
— Да, да, — встрепенулся доктор и поднял ладонь в уровень со своим лицом. — Ведь у вас же есть невеста?
— Ну какая же это невеста? Перекидная сума это, а не невеста. Мне Мазурский говорит: уступи!
— Кого, Людмилу? Негодяй. Такая невеста!
— Да нет, не Людмилу, а Сусанну. Вначале я себе Сусанну наметил и до известных степеней проверил, все-таки надо было родниться, что ли, в доме, соображения чисто коммерческие, а Мазурский — мне станок нужен был… а ему продовольствие, но станок-то мне все-таки больше. Я и уступил. Присмотрелся к Людмиле, говорит она, конечно, мало, но в нашем деле и лучше, а теперь, пожалуй, и вредно молчание, в новой-то жизни, там нужна общественность, а какая же у ней жилка общественная, если она любовников описала с самой пакостной стороны, я даже думаю, и с медицинской точки зрения это не любопытно.
— Нет, почему же?
— Ненормально, когда человек только об этом и думает. Не знаю, свободный человек, может быть, и может так думать, но нам, борющимся за существование, надо — ткнул, вынул и пошел пищу добывать. А теперь-то я думаю Сусанну взять.
Я думал, что д-р начнет свое извержение, но он как будто вдумывался в слова и большим пальцем трогал мочку уха, ухмыляясь, словно предоставлял беседовать мне, если я действительно заинтересовался этим делом. Я спросил — и мне не хотелось говорить о Сусанне. Что мне Сусанна?
— Скажите, а вот вопрос о стадионе, недавно или же давно о нем рассуждали, мне как-то не верится, что все разворотил Черпанов.
— Разрешите и вас, Егор Егорович, спросить — вы на Урал едете?
— Еду.
— О стадионе сегодня узнали?
— Сегодня.
— Не думайте, что мы умнее вас, Егор Егорович. Конечно, мысль о стадионе очень опасна, и, если были колеблющиеся, то теперь они исчезнут. За Черпановым поедет весь дом, тем более, что дом и разрушат, наверное, весной эквивалентных квартир нам не дадут, так как если порыться в нашем прошлом, то окажется, что мы все с какой-то стороны бывшие люди, следовательно, не вселят нас и в бараки рядом с трудящимися, хотя, по документам, и мы все трудящиеся, а дай бог, если дадут нам какие-нибудь кутки в дачной местности, а, кроме того, и холод, Егор Егорович, не знаю, отношу это на счет воздушного отопления; мало беспокойства за дрова, но с каждой зимой становится все холодней и холодней.
— Так у вас же связи, что вы, дров не можете достать?
Доктор потрогал мочку, его узкие ладони и тонкие линии пальцев напоминали камыш.
— Приятно, Ларвин, что вы заговорили о дровах. Вы любите березовые, конечно.
— Я люблю тепло.
— Березовая роща. Я наблюдал ее остатки у Петровского парка, когда ехал к вам на маневры.
Удивительно, как д-р обладал способностью выводить людей из себя. Ларвин мгновенно вспыхнул.
— То есть вы хотите сказать, что я люблю Сусанну?
— Именно, именно, и за этим только я приехал к вам, сообщить также, что Людмила скупила овес, вы напрасно к ней так пренебрежительны.
Я думал, что Ларвина не так-то легко вывести из себя, когда вопрос идет об овсе, тем более, что Ларвину теперь, когда он уезжает на Урал, какая-то спекуляция с овсом, но он разозлился очень.
— Вот дьяволица, но ведь это я должен был променять свои остатки продовольствия на овес, а овес Мазурскому.
— Мазурский сбежал.
— Как сбежал Мазурский? А может быть, он поскакал один вперед, проверить на месте, как же идет строительство комбината. Не мог Мазурский сбежать.
— И очень разумно поступил. Вообще, Ларвин, маневры ваши не удались, и вы публично должны отказаться от Сусанны. Возможно, что она, обидевшись на бегство Мазурского, действительно пойдет за вас.
— Э, я могу отказаться. Но я не могу сбежать, потому что меня под вела Людмила. А я — запас, вы бы посмотрели. Вы в хороших отношениях с Черпановым. Он об вас отзывается отлично. Если вас можно было б просить, конечно, я понимаю и приемлю его мысль. Вообще, будем рассуждать по мотивам доброго старого времени, как будто бы мы с вами сидели и кафе. Не знаю, но мне кажется, что Черпанов не очень прилично относится ко мне, но нельзя ли ему замыть все припасы? Ведь вот у Трошина сожрали все, а он специально ходил в милицию и представлял список гостей, люди все с профсоюзным стажем с 18-го года, а там говорят: да ну вас к черту, зовите кого хотите, лишь бы соседи на вас не жаловались, а он говорит: опасаемся, так как нет ни одного коммуниста. И очень ловко вы эту стерву подцепили, и действительно — не обжирайся. Я вот работаю на общество, я сам есть не могу, потому что страдаю животом, у меня катар, а ведь тот же Трошин может пустить безумную мысль о том, что теперь вообще хранить не к чему и не лучше ли перед общностью имущества сожрать все сообща. А у меня запасено столько, что мы спокойно можем, отлично питаясь, доехать до Урала. Мне и деньги не нужны. Зачем, если я перехожу в бесклассовое общество? Мне нужно только расплатиться с долгами, ликвидировать, так сказать, свои отношения, даже смазать кой-кого, чтобы люди не навредили мне там на Урале. Я вам даю проценты. 10 % продаю по себестоимости. Ведь не зря же вы сюда пришли и не зря живете. Вы желаете нажиться. Может быть, вам тоже необходимо какие-то щели в рамах замазать? У вас будут средства.
— Да, на маневры зря не ездят.
— Именно. Желаете, Матвей Иваныч, осмотреть продовольствие?
— Предупреждаю вас, господин министр, что я глубоко провинциальный ум, что я никакого отношения к бирже не имею, что моя осведомленность в продовольственном снабжении вашей армии весьма слаба, и если я осмотрю ваши склады, то только из любопытства, чисто провинциального любопытства.
— А что? Ум у меня, действительно, министерский, и вы правы, я их снабжал продовольствием, и здорово и дешево снабжал. Меня познакомьте, говорил я, только с тем-то, а я к нему сам найду ходы. Вот я им и говорю: мне не надо Черпанова, черт его знает, как он истолкует мое выступление, дайте мне или Егора Егоровича или доктора. И вот видите, столковались. Идем в чулан.
— В березовую рощу.
— Именно в березовую. Я заложил их поленьями, и они там лежат.
Я предвидел, что дело добром не кончится, очень меня тревожило спокойствие д-ра. Правда, он был весь в повязках, залитый йодом, и только теперь, когда он пронес на кончиках пальцев Сусанну над отверстием погреба, держа за локотки, я понял, какое у него чудовищное здоровье, чем я похвастаться не мог, все тело час от часу ныло у меня сильней. Я сказал, что не плохо было б отложить все это до завтра, что я могу взять на себя обязанность переговорить с Черпановым, но я не знаю, какой черт дернул за хвост Ларвина, я думаю, ему льстили слова доктора о министерстве, военном вдобавок, он понял их как лесть, причем весь этот разговор происходил столь стремительно, а я при моей склонности все медленно обдумать, я больше попадаю в действия, поэтому я не успел прочистить носа, как мы уже очутились в дальнем конце коридора у крайнего чулана. Ларвин оглянулся. Дверь действительно была солидная, наружная стена чулана была оцеплена колючей проволокой, электрическая лампочка горела весело, в чулане было так же опрятно, как и в комнате Ларвина, даже висели открытки. Полки были уставлены банками с вареньем, консервными коробками, мешками с крупитчатой мукой, и все это было небрежно заложено березовыми бревнами длиною метра в два. Ларвин объяснил, похлопывая по банкам, что он не очень прятал, так как все равно найдут, зачем и им причинять излишние хлопоты и себе также, им искать, а мне думать и волноваться — найдут или не найдут. «У меня составлен уже реестр, видите, как я вам доверяю, в конце концов государству приятнее продать, чем кому либо другому». — И он протянул сложенную бумажку доктору. Доктор протянул ладони к уху и наклонился к банкам с вареньем.
— Страшные запасы, господин военный министр, чудовищные запасы. Какое количество смертей хранится в этих баллонах. Мне ни разу не приходилось видеть их с глазу на глаз, и какое слабое у человека воображение. Он думает: вот для тебя любимая девушка, как это важно для жизни твоей и для жизни всей планеты, а тут же, где-нибудь в городе, хранятся тусклые баллоны, каждый из которых в одно мгновение ока прервет жизнь и твоей любимой девушки и твою и докажет всю ложную направленность твоих размышлений. Человек удивительно ловко умеет прятать смерть, он всячески изгоняет ее со страниц книг, со сцен театров. Шекспир велик только тем, что огромное количество разнообразнейших смертей конец трагедий его превращает в комедию — отпускаются нити — и марионетки падают, могилу человек украшает цветами, кладбища наполняются деревьями, возле мертвеца ставит почетный караул, как бы напоминая, что вот стоят друзья, которые ждут, когда ты встанешь, а если не встанешь, то они не хуже тебя исполнят твое дело, вплоть до соответствующего утешения твоей вдовы. Но вот человек попадает в подвал, где баллоны, где он совершенно бессилен и понимает целиком ужас смерти. Раньше, допустим, он попадал в пороховой склад, он зажигал спичку, склад взрывался к чертовой матери, и таким путем человек ухитрялся хоть один раз в жизни определить свое истинное отношение к ней. А теперь, допустим, я грохну этот баллон о землю. Исчезнет бездарный военный министр и бездарный военный доктор. Что изменится в этом страшном мире? Ничего. И бездарного министра и бездарного доктора заменят другие — не более даровитые. Даровитый бы министр просто не привел сюда, не рискнул бы похвастаться, а эта бездарность, ослепленная интригами и смазливой мордочкой, — все же достойна смерти. — И он поднял огромную банку над головой. Она блестела, как шар. Лампочка закачалась. — Я стою на возвышении! — кричал доктор. — Стреляйте в меня, все равно ваши подрядчики столь небрежно и некрепко сделали эти баллоны, что они лопнут, едва коснутся пола. Стреляйте, но все равно вы не успеете добежать к выходу.
— Матвей Иваныч, да никто не думает стрелять в вас. Во всем доме всего оружия, что у братьев две финки, но ведь они и нагоняют панику. Может быть, все равно уральская коммуна должна будет оплатить мои убытки.
— Бегите к выходу, надейтесь еще на то, что спасете свою жизнь, но доктор понял ее бессмысленность, и надежды его кончились.
— Идемте, — сказал я, — он один не будет безумствовать. — Но мы не успели добежать. Банка грохнулась, обрызгав меня вареньем. Вслед за ней — другая. Ларвин в диком ужасе выбежал. Ему в спину грохнулся кулек с крупчаткой и весь рассыпался. Доктор с такой силой бросил его, что разорвал. Затем упали несколько сплющенных консервных банок, дверь чулана отпиралась от себя, затем треск, видимо, консервная банка ударилась о лампу, все потухло. Я сказал что-то в темноте, но Ларвин рассвирепел, консервная банка попала ему в лоб. Я говорил, что чулан помещался в конце коридора, было очень темно, но все-таки по отношению к доктору мы стояли на относительном свету, и он мог видеть, как мы вздумали б пробираться в чулан.
Ларвин особенно рассвирепел, когда огромный балык упал ему на лицо — откуда его д-р достал — неизвестно, — да еще вдобавок я на него наступил ногами. Ларвин решил избить доктора, откинул балык, а ребятишки уже подхватывали консервные банки, я думал, что это легкое полено, и откинул балык в сторону. Ларвин бежал, я попробовал уговорить доктора.
— Лезьте сюда, Егор Егорыч, я стою на достаточной высоте, чтобы не отравиться. Газы идут в долину.
— Опомнитесь, ведь это же просто приступ буйного помешательства.
— А вы крикните капиталистическому миру, чтоб он опомнился. Что он вам ответит? Он вам ответит, я в полном уме и твердой памяти, а вы безумны. Пожалуйте сюда, господин министр!
Ларвин хотел проскользнуть, но банка огрела его по зубам, и он опрокинулся. Я думал, что теперь, пока Ларвин встанет, я успею вытащить доктора, и я, сгорбившись, тоже хотел проскользнуть в щель, но я отделался более счастливо, чем Ларвин, — доктор огрел меня по спине кульком муки, я поскользнулся и упал. Все покрылось туманом, мука ела глаза; доктору тоже, видимо, приходилось не сладко, он чихал, хрипел и кашлял. Но мне приходилось хуже всех. С одной стороны на меня наседал Ларвин, с другой меня бил доктор; не знаю, хорошее ли мое отношение к доктору или отсутствие желания попробовать финок заставило меня еще раз более энергично проскользнуть в дверь. На этот раз меня ударила по плечам картошка, она неслась с огромной силой. Доктор закричал:
— Внимание, друзья! Я, кажется, попал в волчью яму! Я тону. Меня окружает что-то сладкое!
Ларвин оглянулся:
— Ну, теперь-то я не могу терпеть, он попал в бочонок с маслом. — И он, вскочив, ринулся в дверь.
Я прикрыл голову полурассыпанным кульком муки и бросился за ним. Нас не встретило ничего. Но если Ларвин знал, где находится его бочонок, то я — то должен был следовать за ним, т. е. по слуху, что было затруднительно, потому что Ларвин, из жадности, не имея возможности использовать средства обороны, кидая их обратно, дабы они не попали в руки мальчишек, вынужден был отбрыкиваться, и отбрыкивался он, надо прямо сказать, с большой силой отчаяния. Он очень искусно, между шагом вперед, ухитрялся влепить мне в зубы каблуком. Я закусил язык. Но, видимо, доктор забрался очень высоко, но тут бревна, — он, наверно, находился на верхних полках, — помогли ему в том сохранении равновесия, чтоб он не полетел вместе с бочонком, оттуда доносились только одни шлепанья. Ларвин буквально взревел, но благодаря движению и брыканью Ларвина выведены были бревна из равновесия, полки затрещали, что-то грохнуло, я еще крепче натянул на себя мешок с крупчаткой, и очень удачно, потому что какая-то доска огрела меня очень сильно, и я почувствовал, в чем заключается преимущество пружины. Что-то большое неслось на меня, но Ларвин, который злобно кричал, вдруг замолк. Я почувствовал, что по моему лицу скользнули сапоги доктора, я, вернее, угадал их по запаху сливочного масла, я понял, что это сапоги доктора, в то время как ботинки Ларвина заегозились передо мной, уже в полном отчаянии, совершенно безо всякой системы, мало, видимо, стремясь войти в соприкосновение не только с моим лицом, но с чьим бы то ни было вообще. Меня удивило это смятение ботинок Ларвина. Я протянул руку — и нащупал обручи, а затем и край кадушки, из которой выходили полы френча Ларвина. Я вскочил, увидел в дверях темную фигуру, схватил его на руки — это был доктор, он брыкался, бил меня по шее и орал:
— Осада продолжается!
Я внес его в нашу комнату и опустил на пол. Он был весь в топленом масле, он вытер его с лица и сказал:
— Говорят, древние умащали себя, и я понимаю их — это, действительно, помогает при ссадинах. Заметьте, у меня нет уже ни одной повязки.
— Вы их просто утопили в бочке.
Он пощупал голову:
— У меня была всегда органическая неприязнь к помаде, и я таки понимаю теперь почему.
— Боюсь, что эта неприязнь закрепится теперь за вами надолго, — ответил я.
Он не был безумцем. Он действовал с холодным умом. Но это редкий случай безумия, чтобы из одного состояния мгновенно почти переключиться в другое.
— Глядя на вас, мне хочется наконец знать, что же такое безумие. Если это похоже на то, что вы проделываете, и если вообще каждое безумие может так благополучно кончиться, то это просто даже любопытно.
Я оставил доктора. Мне хотелось объясниться с Ларвиным. Я вышел в коридор. У дверей стоял Черпанов, который манил меня. Я просто жаждал защиты — и я устремился к нему. Он взял меня под руку. Мне было это приятно.
— Вы слышали, — сказал он, — Мазурский сбежал? — Он показал бумажку. — Однако оставил письмо на имя Населя, что костюм у Ларвина и Степаниды Константиновны. Боюсь, что не составил ли это письмо сам Насель, да и вообще не липа ли это с костюмом.
Я вспомнил свекловидную женщину.
— Нет, костюм существует. — И я рассказал ему.
— Да я и не сомневался никогда. Итак, идемте к Ларвину и Степаниде Константиновне.
— Я? К Ларвину? Нет, лучше я пойду к доктору. — И я поспешно ушел, оставив Черпанова в полном недоумении, я ждал от него помощи, а он ждет от меня. Нет, уж лучше быть с безумцем доктором и увезти его в больницу, в конце концов я могу сказать, что пошел сопровождать его, я давно, мол, подозревал!..
Я отсутствовал несколько минут, однако доктор уже успел исчезнуть. Найти мне его было легко, масляные следы вели прямо в комнату дяди Савелия. Я застал их за оживленной беседой, т. е. оживленной, конечно, по-своему: дядя Савелий вежливейше поддакивал, а старик Лев Львович — он тоже был здесь, — кутаясь в потертый плед, ворчал вначале неразборчиво «вон», а затем, чем больше доктор болтал и рассуждал, тем даже любовнее, тем более, что у обоих в руках были сигары из докторских запасов. Доктор сидел опять на скрещенных ногах, прямо на полу, перед ним стояли снятые два сапога, рядом лежал лист газетной бумаги, и он доставал масло из сапога и выкладывал на бумагу.
Увидев меня, он поднес палец к мочке.
— Вот спор идет о стадионе и масле…
— Собственно, Матвей Иваныч, спора нет… — вежливейше откладывая сигару в сторону, сказал Савелий Львович, примеру его последовал и старик.
— Нет, зачем нам затемнять мысли? Спор есть, даже если я только сам с собой спорю. Я утверждаю, что масло из сапога — вряд ли был такой повод и с таким количеством аргументации, как у меня, — есть нельзя, а Савелий Львович утверждает, что можно, косвенно намекая этим на неопрятность наших магазинов. Что же касается стадиона, то я с ними согласен, что надо идти на стадион.
— Идти на стадион! Еще этого не хватало! — воскликнул я. — Вам вообще выходить нельзя, вас теперь мухи обсидят.
— Это, собственно, не моя мысль, а уважаемого дяди Савелия. Он говорит, что надо быть вежливым, если о тебе говорят и тобой интересуются, то лучше самому пойти, нежели тогда, когда тебя приведут.
Старик с седыми волосами и дряблым лицом отставил сигару, взял папироску и придвинул свой стул ближе к доктору.
Доктор вгляделся в его лицо:
— У вас совершенно моложавое лицо, и вы модно одеваетесь. Любопытно, конечно, здесь есть ее отец…
— Вон! — прошипел старик, пыхтя папиросой. — Именно, вон! — Но кто? Здесь он умалчивает. — Итак, вы любите Сусанну…
— Трудно не любить такое существо, — вежливейше начал дядя Савелий, очень уклончиво.
Я знал, что разговор скоро не кончится, и пока разглядывал комнату дяди Савелия и его самого.
У него стояла этажерка с книгами — это были комплекты модных журналов, две книги о светском тоне, по стенам были развешаны картинки из французских журналов, это удивительная пустота, какой никогда в жизни не бывает. Он сидел, сложив руки на животике, был тщательно выбрит и выглажен, пиджачок из альпага блестел, но все это удивительно было — словно нарочно рвано. Модный журнал — последний — мужской был захватан, его, видимо, действительно рассматривали.
— Я не имею возможности следить за новейшими модами и слежу поэтому за старейшими.
— Оно и не накладно.
— Совершенно верно. Традиция одеваться, быть вежливым? Говорят, знаменитая актриса Э. Дункан пыталась есть руками, без вилки, но, как видите, даже пример такого великого человека не помог. Однако масло, которое, собственно, принесено ногами, вы покупаете.
— Однако, как же стадион? Вот вас обвиняют в том, что вы хотите взорвать пролетарский стадион.
— Да что вы мелете! — разозлился я. — Кто их обвиняет! Если б было что, то, поверьте, не нам с вами б их устрашать пришлось.
— Жизнь меняется быстро, кто знает, — вежливейше сказал дядя Савелий. — Если Матвей Иванович интересуется стадионом, сознаюсь, что и нас всех здесь этот вопрос волнует.
Они очень много курили, я не знаю, доктор, наверно, разорвал две пачки папирос, видя, что они не берут сигары; они курили папироску за папироской, комната была тесна, и скоро модные картинки приобрели какую-то жизненность, чему я не мог не радоваться, однако, два старика волновались:
— Мне снятся странные сны. Парады необычайно странно одетых людей, необычайно вежливых, ведь вот я весь мелом исписан, вот посмотрите на ладони — везде отметки химическим карандашом, вот он ходит, сейчас у нас в промежутке между очередью час времени, он ходит, и так как он пенсионер и вообще вид страдающий, то его пускают, но почему же получаю я?
— Да, почему же? — спросил я, радуясь, что вопрос отвлекся несколько в сторону, до того, что доктор заерзал странным образом на месте, видимо, очень недовольный мною.
— Видали ли вы плакаты о вежливости: «Продавец, будь вежлив с покупателем, и покупатель также!» Боюсь, что я самый вежливый человек в стране, и недаром гражданин Черпанов пригласил меня на Урал. Очень возможно, что буду преподавать вежливость на стройках. Меня пропускают только исключительно в виде вежливости необычайной, очень всех это удивляет.
— Но вы мне не ответили, хотя и вежливы, на мой вопрос о племяннице вашей и Ларвине. Вам много известно.
— Ну, вам тоже известно не меньше, если уж вам не известно, то кому же?
— Вон! — сказал старик, закуривая папироску от папироски.
Комната все более и более наполнялась дымом. Старики приблизились еще ближе. Боюсь, что они чувствовали отвращение и страх перед доктором. За кого они его принимали? То, что доктор сидел без сапог и сапоги стояли перед ним, вряд ли могло дядю Савелия вызвать к такой легкой беседе, мое незваное появление — тоже; старик же попросту вначале ласковый, по мере того, как неудержимо накуривался табаком и его багровая кожа начинала отливаться синим, делался словно шар, и слово «вон» были как булькание воды, выходящей из шара, тоже злился — одно его, не знаю, не то нечаянное, не то намеренное движение убедило меня еще больше в этом.
Доктор имел привычку держать распростертую ладонь у мочки уха, и вот старик нес пепел с папироски на пепельницу, ему вовсе не было нужды проходить над ладонью доктора, я это утверждаю, но он прошел над ладонью и уронил туда пепел — и, уронив, вздрогнул, причем, движение это заметил и дядя Савелий, который в иное время поспешно сдул бы этот пепел, но здесь он отвернулся. Правда, то, что говорил доктор, давало полное основание для негодования:
— Вы способствуете тому, что ваша племянница, при ее жажде к интригам, при ее желании иметь связи, легко может продаться. Да, я ее люблю, я говорю это открыто, при отце.
— Вон!
— Нельзя же быть такими холодными, если вы ненавидите друг друга и даже желаете друг другу смерти, то зачем вы живете? Вас держат миллионы, этот позор, это лицемерие надо разорвать. Вы старик, неужели вы, обманывая весь свет и всю жизнь, спокойно пойдете в могилу? Вы обманывали людей, угнетали рабочих, но даже мещанство не найдет вам оправдания в прекрасной семейной вашей жизни. Бог, конечно, чепуха, и раньше люди взывали к справедливости, а здесь я не знаю, к чему и взывать. Я вас ненавижу, вы мне омерзительны, я говорю с вами только как с отцом и только для того, чтобы высказать вам презренье. Тут вы распахиваете ваш чудовищный и гнилой мозг и думаете: «А доктор материалист, а как подхватила биология, как влюбился в дочь и не может отказаться от нее, несмотря на весь свой материализм!» У д-ра недостаточно организовано сознание, а если я вам сознаюсь в том, что мое изобилие интриг и путаница, которую я веду, именно это и прельстит вашу дочь. И она сбежит с провинциальным доктором. Я уже заставил сбежать Мазурского, а перед ним разворачивалась какая карьера!
— Вон!
— А я вас только что понял, — сказал дядя Савелий. — Вы говорите о Сусанне. Девица невежливая и грязная. К принятию ванны у нас мешает недостаток дров, а также и то, что в ней постоянно сидит какой-нибудь посторонний человек, но ведь она же могла бы ходить в баню. Вы нюхали, как у ней пахнет из подмышек?
— Нюхал! — с восторгом воскликнул доктор.
Этому восторгу даже и дядя Савелий удивился:
— Но что вы находите в этом хорошего, не понимаю, вы просто какой-то болезненный человек. Грязная и мерзкая девчонка — и чему восхищаться?
— Но вы не менее мерзки и грязны, и если в жизни присматриваться и размышлять по поводу всякой грязи, то тогда просто пулю в лоб или по крайней мере всю жизнь не покупать мыло, дабы уравняться. Я же не присматриваюсь к вам и к той чепухе, которая вас окружает, и вот вы, смеясь, хотели купить у меня масло для собаки, когда заведомо знали и вы и я, что никакой собаки у вас нету, и масло из сапога, где лежала моя потная и грязная нога, будете есть вы, дядя Савелий, парижанин, бывший в Париже три сезона.
— Жил. В молодости. Даже учиться хотел.
— И все врете. Никогда вы в Париже не были, не потому, что побывать в Париже я считаю подвигом — мало ли идиотов бывает в Париже, — а потому, что, по вашему куриному уму, быть в Париже вы считаете очень важным; всю вашу жизнь вы торговали мелочью на барахолке.
— Но в Париже я был. У меня фотографии хранятся.
— Чепуха. Чужие выцветшие фотографии.
Но дядя Савелий все так же невозмутимо стряхивал пепел — и боюсь, что последний раз он стряхнул на руку доктора уже не пепел, а тянул папироской, доктор отдернул руку, но голос его не повысился, он не вознегодовал; рука его напружилась, его глаза сверкнули. Он даже испытал удовольствие. Он тоже захватил папироску и начал курить. Курили мы страшно.
— А вот заграничный галстук. Какой галстук в течение 15-ти лет быть может неизносимым, как только парижский. Я жил на улице Сан-Мишель.
— Чепуха. Русский галстук, лодзинский галстук.
— Я извиняюсь, что поступаю невежливо, но разрешите снять воротничок.
Он скинул действительно воротничок, расправил любовно на коленях галстук, долго им любовался, он был синий с тоненькой, где-то тонущей и глубокой синеве красной полоской. Какое надо питать уважение, чтобы носить его, не попортив, он даже не истерся в сгибах, он не засалился, не зря он читал модный журнал, потому что без обширных знаний так галстук сохранить невозможно. Я вообще за все время спора молчал, поэтому тем более удивительно, что дядя Савелий протянул галстук не доктору, а мне, и тотчас же, как только я взял галстук в пальцы, я подумал, что произошло это потому, что дядя Савелий не желал, чтобы доктор приводил в иное положение свои руки, особенно правую, она стояла возле уха не очень наклонно, не дрожала — и вся унизана была пеплом. Повторяю, что шло какое-то безмолвное состязание на то, кто больше выкурит. Стоял густой дым, но и сквозь дым я мог рассмотреть пепел и ожоги от папироски на руке доктора, однако он продолжал говорить:
— Допустим, что вам одному не страшно понимать, но вот когда вы собираетесь вместе, не кажется ли вам, что вы, два седых человека с дряблыми лицами, позорнейшим образом прожили вашу жизнь. Вы были паразитами, и теперь — по вашему делу, я не буду вдаваться в подробности, этот паразитизм вами укрепился, даже в семье, оплоте вашей жизни, что же мы видим в семье — одобряют, как продаются дочь и племянница!
— Я был в Париже, видел Венеру Милосскую. Она стоит в бархатной комнате, и бархат на скамейках так же потерт, как и у нас в Большом театре. Очень трогательно.
— А я бы разбил Венеру, если на нее ездят любоваться такие гады. И, несомненно, найдется человек, который разобьет ее.
Если я себя раньше бранил при прижигании папиросками, мне кажется, меня просто даже тошнило от невероятного папиросного дыма, и мне захотелось подвигаться поближе, и мне казалось, что пепел они ссыпают рядом со мной; меня удивляло одно: во-первых, бестрепетное лицо доктора, а во-вторых, то, что он не менял положения руки, а ведь если мне это положение руки казалось неподвижным и странным, я ближе знаю доктора, то каким же оно должно было казаться им. Две папироски они докурили почти вместе, я от волнения плохо слышал их голоса, но они закурили еще и одновременно протянули папироски — и потушили их о руку доктора. То есть они углубились в тело, а затем синеватый их дым прекратился, и папироски были оставлены на некоторое время, покачались, мне даже показалось, что пахнет жженым волосом, но это, конечно, только показалось. Я разозлился. Я просто не нашел ничего лучшего, — дядя Савелий попросил меня, боюсь, что они даже сами испугались, рука д-ра по-прежнему была неподвижна, и он говорил все то же, развивая мысли, нисколько не повысив голоса, — передать галстук д-ру. И я, вместо того, чтобы передать галстук, со сладострастием погрузил свою пылающую папироску в галстук. Запахло тряпкой. Вначале на это не обратили внимания, но дым распространялся, признаться сказать, впервые я испытывал такое удовольствие от огня. Я начал понимать людей, которые любят огонь.
Дядя Савелий, конечно, должен был опомниться первый, обеспокоиться. Я, так сказать, проверил воочию, так ли он любит одежду, и должен был сознаться, что он действительно любил, он перестал курить, заерзал, — я наблюдал с удовольствием, — приподнял ноздри, убрал ладони свои с животика и завертелся на стуле. Лев Львович продолжал курить, доктор сидел молча, с опущенными глазами, тогда дядя Савелий отнял папироску у брата и бросил ее на пол.
— Осмотрите себя, Лев Львович, не горите ли вы где.
— Вон, — прохрипел Лев Львович.
Дядя Савелий ощупал его.
— Может быть, вы, доктор, опалились? — сказал дядя Савелий, однако же не подходя к доктору.
Доктор пощупал обнаженную свою до локтя правую руку, понюхал и опустил рукав — и я вдруг облегченно подумал, что если рука у доктора в масле, то он, несомненно, не обжегся, черт подери, и тогда я зря сжег галстук. Но дыра в нем расширялась. Я загасил ее пальцами.
— Доктор!
— Нет, я цел, — ответил доктор, — осмотрите себя.
— Я не могу гореть. Я всегда очень осторожен.
— Если б я верил в совесть, я бы сказал, что она у вас запылала.
— Перестанем кривляться. В комнате пожар. Вы всюду приносите несчастье, доктор, это я вам должен сказать откровенно.
— Если считать несчастьем откровенность, то, пожалуйста, я рад быть таким почтальоном. Очень возможно, что вы сейчас сгорите, и вот теперь, когда смерть стоит у вашего порога, может быть, вы все-таки примете меры к тому, чтобы спасти вашу пленницу и вашу дочь, Лев Львович.
— Разрешите вас осмотреть, вы безумец, вы сами горите, не замечая пожара. Папироска упала на ваше платье, и вы, не замечая этого, горите.
— Не подходите ко мне. Да, я горю, но горю негодованием. Я не видал более подлого дядю и более холодного отца.
— Слушайте, — приглядываясь к доктору, сказал в ужасе дядя Савелий, — но на вас все тлеет.
— Вот вы побежите из горящего здания на стадион, и посмотрим, что выйдет.
— Вас необходимо залить!
— Меня уже заливали, все Средиземное море было опрокинуто на меня, и все-таки я выплыл.
Мне эта переброска надоела, и я протянул галстук.
— Это просто я. Но я затушил пожар, хотя и не вовремя. Самый странный пожар. Когда прогорело окно.
Дядя Савелий схватил тряпку, попробовал пальцем, посмотрел на свет, вся вежливость его слетела:
— Вы просто негодяй!
Передо мной встало одутловатое и темно-багровое лицо Льва Львовича, и он прохрипел:
— Вон!
Я щелкнул его в нос, и он присел и дополз до стула.
— Вы уходите, доктор.
— Нет, я еще посижу, я не знаю — имею ли я право продать масло? С одной стороны, я его завоевал, но с другой стороны — какой же это трофей — топленое русское масло? Что это за репарация?
Я ушел.
Я вышел удовлетворенный. Вообще я все чаще и чаще начал чувствовать удовлетворение. Я боялся, что это удовлетворение исчезнет, хорошо б с таким чувством уехать на Урал. По коридору расхаживал Черпанов. Я ре шил, что он поджидает меня. Я резво подошел к нему.
— К кому идти? — спросил я храбро.
Он посмотрел удивленно:
— Вы слышали, Мазурский удрал?
— Неоднократно, и от вас. Что ж, одним дураком меньше. Знаю также, что костюм он продал Ларвину и старухе за продовольствие и лекарства. Я себя чувствую прекрасно и на худой конец, если вы меня поддержите в смысле драчки, то я могу помочь вам столкнуть лбами старуху и Ларвина в надежде, конечно, что из этого толчка вырастет костюм. Вспоминается мне по этому случаю рассказ…
Но Черпанов не выразил удовольствия по поводу моего рассказа. Он прошел в ванную, я за ним. Я настаивал, что необходимо идти к Ларвину.
— Да что вас огорчает! — воскликнул я. — В конце концов я один могу пойти.
— Но Мазурский исчез.
— Однако костюм-то здесь. Или вас огорчает, что вы его не имеете возможности захватить на Урал? Боюсь, что он организовал бы пропажу лучших ваших станков на комбинате.
Черпанов сидел на ванне и перебирал книжки.
— На Урал ничего, когда я его повезу, но вот когда он сам поехал…
— Так, вы предполагаете, что Мазурский поехал на Урал?
— А куда ж ему ехать иначе?
— Он может выбрать место потеплее.
— Но ведь там же нету шести братьев Лебедей.
— То есть вы думаете, что он поехал к ним? Он же не спортсмен.
Черпанов вздохнул:
— А какие они спортсмены? То есть они спортсмены, и даже хорошие, но редкий человек занимается прямым своим делом. Эх, Егор Егорыч! Было б хорошо, когда б они были только спортсмены, а не интриганы.
— А если такие интриганы предупреждают меня: больше всего, Черпанов, остерегайся Мазурского, то, значит, предупреждение их очень и очень не лишнее. Остановись, говорят, но остерегайся.
— То есть я должен понять, что вы приехали сюда по предложению так называемых шести братьев Лебедей?
— Не от них прямо, но по их совету.
— Позвольте, они, что ли, принимают участие в строительстве комбината?
— Не принимают прямо, но косвенно имеют большое значение. Физическое возрождение человека, к которому там стремятся наряду с психическим, которым заведую я, вдруг выдвинуло их на первый план. Судите сами, люди приехали с полным набором физических инструментов в виде тенниса, футбола, волейбола, бокса и тому подобного, вплоть до городков, а что я могу предложить в области психической — ни одной умственной игры. Я только всему этому планы составляю. Скажем, волейбол — натянул себе сетку и кидай мяч да веселись, а мне, скажем, театр организовать, уже не говоря о пьесе на местном материале, актеров попробуйте набрать. Вот они вышли вперед меня и начали влиять на дирекцию. А Мазурский приедет и разоблачит меня перед ними, и они захватят психическую часть, черт его знает, что он наболтает, они могут все даже и Мазурскому передать.
От всего услышанного и я пришел в полное недоумение.
— Послушайте, Леон Ионыч, но ведь это же получается черт знает что такое. Но ведь это же протекционизм, если дело обстоит так, как вы освещаете.
— Именно так.
— Но с этим необходимо бороться. Это нужно вскрывать. Если хотите, дайте мне полномочия, я поеду за Мазурским и все вскрою, это безобразие необходимо прекращать в самом начале.
Черпанов потрепал меня по плечу:
— Хороший вы человек, Егор Егорыч. Но тут помимо протекционизма есть масса и других причин, по которым придется поручить решение дела его в наше отсутствие, да и кроме того, я думаю, что я преувеличиваю значение шести братьев, хотя они и по психической чисто линии в моей области сделали многое. Судите сами: я пил, и пил зверски, почему — я должен вам открыть — и низвергнут был в бездну со всех постов, которые до того занимал, и был я библиотекарем в библиотеке, книги в которой от долговременного чтения и плохой бумаги, на которой их печатают, пришли в такую ветхость, что только ненормальный, свихнувшийся глаз может соединить их листы и, прежде чем читать, надо было рассказать содержание книги, после чего читатель обычно брался, но от слипшихся литер и ветхой бумаги либо ее раскуривал, либо возвращал обратно, но дело это было трудное и без пьянства невозможное, потому что совершенно безнадежно, книг было мало и надо было их повторять, унылые беллетристические измышления, и на таком труде многие спивались, и решили назначать туда грамотных пьяниц, так как считали, что даже, может быть, подобная работа вызовет известное отрезвление. И вот приехали шесть Лебедей, стали думать, кого же пустить по психической работе, и тогда говорят: мы его вылечим, хотя он и наследственный алкоголик, для нас это даже и легче, мы предпочитаем наследственные болезни лечить. А для меня пора была самая тяжелая, я в жару не пью, разве что пиво, но тут при ситуации рассказа должен был даже пить голый спирт, если б его находил. Они приходят и говорят: ты, говорят, никуда, Черпанов, от нас не выскользнешь, наши кулаки тебя всюду найдут, хочешь ли излечиться и приняться за психическую обработку общества?
— Пожалуйста, — говорю, — только от рассказывания книг освободите.
— Мы, — говорят, — будем создавать рефлекс пьянства. За одну рюмку — удар кулаком, но удар кулаком своеобразного характера, будет бить один из шести, а есть разные — холодные, горячие, до крови, до икоты, и так как ты будешь ждать и где бы ты ни пил, мы тебя везде достигнем и найдем. И точно: в лес, бывало, уйду, не говоря уже про людей, налью рюмку, осмотрюсь кругом — никого, только выпью рюмку, как шарахнет каким-нибудь колющим ударом, так кишки перевернутся, смотришь — а один из Лебедей сидит где-нибудь за пнем или за кочкой!
— Излечили?
— В две недели всю наследственность рукой сняло, но и с тела и со смелости я спал. Дали мне тогда психическую переделку людей и направили сюда, так как я пока планов не составил, собирать рабсилу и изучать каждого в отдельности в его быту и составлять на каждого психологическую ведомость.
— Следовательно, выходит, что главную роль там пока играют 6 братьев Лебедей?
— А как же иначе? Какие за мной заслуги, кроме пьянства, а они в ужас и сокрушение чувств Урал привели тем, что в декадный срок, в одних трусиках, обежали весь Урал с юга на север, причем, было у них на севере крупное столкновение с бандой бродячих кулаков, так они их лбами разогнали.
— Как так можно лбами разогнать банду?
— А вот и можно. Банда на них с оружием, а один из них подбегает сбоку — и трах, как козел, лбом в живот предводителя, а тот и кувырком, он вторично… Они, опираясь на лоб, подкову выпрямляют.
— Очень уж вы невероятные вещи рассказываете.
— А вот увидите, когда приедете на Урал. Вот вам фотография.
Он достал. Стояли, действительно, пятеро здоровенных дядей с узкими полосками лбов, в полосатых майках и вытаращенными глазами.
— Позвольте, их здесь пять, а что касается лбов, то нельзя же эту полоску в палец считать за лоб.
— Их и есть пять.
— Но почему же шесть братьев Лебедей?
— Не знаю, не догадался спросить, может быть, шестого они подбирают, или умер, или в тренировке, они постоянно тренируются. Что может там наплести Мазурский?
— Так давайте я поеду, если вас это так беспокоит.
— Надо здесь дело покончить, а не ехать. Очень мы разъезжать любим. Костюм упустим.
— Да я могу пойти и достать.
— Войдите!
В дверях стоял Жаворонков, он плотно прикрыл дверь, перекрестился, полез в глубокий карман, запустив туда руку по локоть. Черпанов сидел, поставив ноги. Жаворонков достал грязный платок и положил его на ноги Черпанова. Платок завязали узлом. Черпанов положил платок в карман.
— Спасибо.
— Да чего ж не пересчитаете?
— А зачем считать, разве их тут дюжина?
— И побольше дюжины, — самодовольно сказал Жаворонков.
— Измял ты их?
— Да не измяты, а сложены.
— Шелковые, что ли?
— Бумажные.
— Маленькие размером, значит?
— Нормальные.
— Ну да черт с ними, есть о чем разговаривать! Спасибо. Где нашел-то?
— А у себя в сундучке.
— Любопытно, как я их мог только засунуть под сундук.
— Да нет, в сундучке.
— Извини, но в сундук я твой не лазил.
— Да зачем вам туда лазить? Кроме меня да бога никого туда не пускается.
— Что ж, выходит, что ты у меня их и спер.
— Я спер? Мои кровные.
— Твои. Зачем же ты мне их даешь?
— На дело.
— Делов у меня много.
— А на то самое. На несчастную религию, в пользу вашего скрытого креста. Мне одно только желательно, хоть я и погибнуть могу в этом деле, — скажите, что помощь вам оказывает Жаворонков, и он всегда с вами.
— Платками.
— Да нет, не платками тут, а делом.
Черпанов пощупал деньги в кармане.
— Действительно шуршат. А я думал, мои носовые платки, я их всегда теряю. Сколько же их тут?
— Двести пятьдесят. Вы бы мне расписочку о вступлении в коммуну от вашего скрытого креста.
— Какого скрытого?
— А скрытого Красного Креста, который пришел в лице вас на помощь запуганным. Я могу вести молитвы, даже так ловко, что никто и не догадается, которые опасаются, я знаю такую краткую и убийственную на врагов молитву, которую, можешь и в компартии состоять, — читай, и все простится и все в нашу сторону повернется.
Черпанов передал ему платок обратно.
— Ты ошибаешься, Жаворонков, у нас атеистическая коммуна.
— Человек с такими удостоверениями, как у вас, в нашу трущобу не залезет. Мне тоже известно и про стадион. Никто, кроме вас, не может повернуть и увести нас от стадиона. Вам дали неограниченные полномочия, и вы, увидев вокруг меня бога, как я им поворачивать могу, поняли, что возможно только при этом условии нести жребий.
Жаворонков наклонился и прислонился к его коленям.
— Не я обнимаю, а бог тебя обнимает.
— Давай монету, — сказал Черпанов. — Но деньги нам, повторяю, твои, Жаворонков, не нужны, и было б лучше, если б ты достал мне костюм, который ты упустил, но я беру деньги в кассу коммуны, а в общем, пожалуй, надо тебя ввести в президиум.
Жаворонков все держал платок в руках, получил он его обратно не без удовольствия, и возвращать его ему не особенно хотелось.
— Когда же будет заседание президиума коммуны?
— Скоро. Я тебя извещу.
— Народ-то здесь вредный и не особенно верующий, их надо держать в руках. Вот если б вы мне позволили, я бы их сдержал.
— Ладно.
Черпанов ударил его по руке, он выронил деньги. Он наклонился. Черпанов наступил сапогом и сказал:
— Действительно, пока не уничтожат деньги, они могут употребляться совершенно в ложную сторону. Так государство изготовляет оружие, которое может быть направлено против него самого же. Вот здесь 250 рублей — это зачастую равняется 250 выстрелам из револьвера. Скрытый крест! Представьте, Егор Егорыч, сослан куда-то в Сибирь кулак или убийца или охранник. Получает от неизвестного лица 5 рублей. До этого он почти в полном отчаяньи, вокруг себя он наблюдает строительство новой жизни, в дебри проходят изыскательные партии, прокладываются дороги, находят уголь, нефть, торф, воздвигаются соц. города. Какое он чувствует одиночество! И вдруг — 5 рублей. Перевод. Есть, оказывается, люди, которые его помнят, которые сочувствуют ему. Весело становится убийце, он начинает надеяться на лучшую жизнь, он начинает думать: отлично, выстроить-то соц. города можно, а вот как в них прожить и кто в них будет жить? Он начинает искать вокруг себя друзей, он не доверяет, конечно, особенно, но все-таки начинает пронюхивать, нащупывать почву, и вот однажды он бежит. Он спокойно идет по глухим тропам. Далекий московский друг ведет его. Вот он приходит под Москву, ложится в канаву и ждет. Пятьдесят ударов камнем — по пяти рублей, пятьдесят револьверных выстрелов. Да, страшная жизнь при деньгах. Иди, Жаворонков. Оставляешь деньги-то?
Он мало понял из речи Черпанова, но расставаться с деньгами ему было тяжело, он понимал, что бьет правильно, но все-таки опасался. Он старался не смотреть на ногу Черпанова, не слушал его речь — но странно, в его речи звучали нотки. Черпанов явно подражал или передразнивал доктора, я не знаю.
— Да ведь оставляю, сказал.
— Но твердо ли оставляешь?
Жаворонков сказал медленнее и, если б сказал это Черпанов, менее дразня его, он бы взял их обратно.
— Раз топчешь, значит, знак от бога, чего ж тверже.
— Я бы тебе рекомендовал все-таки расписку взять, что на благотворительные нужды взята от тебя, Жаворонкова, такая-то сумма!
Жаворонков молчал. Черпанов отнял ногу, взял платок, пересчитал.
— Да, двести пятьдесят. И долго копил?
Жаворонков ответил почти со злобой:
— У нас без копления не обходится.
— Ну, иди. Благословляю тебя. — И он перекрестил его.
Жаворонков выкатился.
— Ишь, дурь какая! Скрытый крест! У меня против этих супчиков, подобных этому, такой удар, Егор Егорыч, приготовлен, что лопнете со смеху.
— Напрасно вы взяли, — сказал я.
— А чего напрасно, надо же коммуне оборотный капитал иметь, а, кроме того, поскольку есть оборотный капитал, фактически коммуна оформилась, можно и защищать ее интересы. Я думал, хорошо бы послать эти деньги Мазурскому, чтоб он там не очень нам портил, вам только бы адрес его найти, а на этот предмет лучше всего у старухи.
— Слушайте, но это будет чистейшей воды взятка.
— Почему? Взятка — это когда не возвращают денег, а тут же мы возьмем с Мазурского их обратно, как только мы развернем дело, да, кроме того, он сам нравственный человек, принесет их, когда поймет, что взял их неправильно. Кроме того, переведем мы их по телеграфу, а в телеграмме вы же сообщите, что вот, мол, вам за молчание, а он их получит и несколько дней растерянно промолчит, а мы тем временем сядем всей коммуной в поезд — и в комбинат. Согласны вы идти к Степаниде Константиновне?
— Согласен, — ответил я, — но было бы лучше, если б не было там Ларвина. — И я объяснил свою встречу с ним последнюю.
Черпанов рассмеялся:
— Видите, попробовали б вы в иное время разрушить имущество Ларвина, да он бы вас и на версту к нему не подпустил, мой психический метод ущемления действует безошибочно…
— Все-таки здесь вы правы, но вот с деньгами!
— Ну, не пошлем. Поставим вопрос на обсуждение коммуны, дались вам эти деньги Жаворонкова, подумаешь, не видал я денег! Хотите, я могу вам их дать для сбережения?
Я промолчал, и он не стал настаивать.
Степанида Константиновна нас ждала и, видимо, приготовилась, но в то же время видно было, что она польщена нашим приходом. Степанида Константиновна была в особенной панике, повышенной против обычной, она, как всегда, старалась и не говорить и в то же время не могла не говорить. Едва Черпанов уселся и начал хвалить, как она одевается отлично при еще слабо развитой легкой индустрии, она, не слушая его, прервала. Черпанов, собственно, попробовал, шепнув мне, что номер его и Степанида Константиновна может «защемить» чрезвычайно.
— Окаянный дом, не зря его похожим на яйцо сделали, таким, знаете, что его всем хочется съесть. Вот, возьмите, 50 тысяч будет на стадионе, и каждый про нас знает…
— Ну уж и не каждый, — прервал ее было Черпанов.
Но она уже понеслась:
— Мне доподлинно известно, что каждый. Я вынуждена была вернуть одеяла и подушки этой свекловице, потому что она разгудела, она приходит и вытягивает из меня постепенно. Раньше она нас преследовала кладами. Видите ли, мы переменили несколько квартир, и в каждой после нас ищут клад.
— И находят? — спросил с необычайным интересом Черпанов.
— А вас это интересует?
— Если клад в области готового платья — очень.
— Вчера, говорят к тому же, на стадионе какой-то сарай сгорел. И все на нас. Что же касается кладов, то они все найдены, но в этом проклятом доме непременно найдется, и ваше, Леон Ионыч, предложение, скажу вам по правде, совершенно уместно. Но я поставлю условием при переезде, чтобы нам дали квартиру в новом доме, чтоб никаких кладов, мне это все надоело…
Но, думаю, что ее вряд ли беспокоили клады, паника — паникой, но она искусно прятала истинную причину своей паники.
— Вот шесть братьев Лебедей, шуточное прозвище, они тоже на Урале, — она вздохнула. — Видимо, раз им понравилось, очень оборотистые и умные ребята, но чересчур отважные, я им всегда советовала: не рискуйте. И вы нас не очень заставите рисковать.
— Рискнуть один раз — это поехать.
— Ехать-то мы согласны, но вы, может быть, как-нибудь по-особенному заставите ехать?
— Нет, все будет по-обычному. А тут стадион…
— Но ведь совершенно дурацкий и глупый слух.
— И еще как дурацкий. Из нашего дома, видите ли, ведем подкоп. Ведь тут нужно десять бочек пороха.
— Есть более совершенные средства, чем порох, — сказал я, мне очень хотелось спросить о «шести Лебедях».
— Но ведь и совершенных средств бочку надо. А вы же сами видели все бочки в нашем хозяйстве. И, кроме того, у меня даже мысль мелькнула, что доктор не умалишенный, а отыскивает клад или порох. Все бочки рассохлись.
— Портфеля, наполненного новейшими взрывчатыми веществами, достаточно.
— Портфель! Так он, может быть, не клад ищет, а этот портфель?
Черпанов страшно переполошился при слове «клад», он заерзал по карманам, что выдавало его чрезвычайное волнение.
— Кто ищет клад?
— А доктор.
Черпанов успокоился.
— Десятки раз вам говорю, что это влюбленный, но не надо привлекать врачебного внимания. Потерпите два-три дня, а то у вас время в обрез, а в случае чего, так все можно свалить на доктора и на ту суматоху, которую он производит, надо разоблачить его любовь.
— Впервые вижу такого влюбленного, когда девушка может дать ему все, что он пожелает.
— Да что, разве моя дочь сопротивляется?
— Нет, я этого не сказал.
— Так чего ж, каких еще доказательств внимания он желает? Жениться — пусть женится.
— Я сам видел, как она ему отказала в любви.
— Странно, зачем ему говорить, она запуталась, он ее переговорил, и ей захотелось ответить тоже красиво.
— Я у него все бы выкрал. Я бог духовных воров, однако он чистой воды влюбленный, и я думаю повезти его на Урал. Вы знаете, я введу в инвентарь чувств и это чувство, я все-таки не могу не налюбоваться на него, очень красиво любит, редкая женщина может устоять перед такой любовью, но теперь разрешите перейти к другому вопросу: какое ваше отношение к одежде?
— А что, разве вы возражаете против одежды? Я без одежды ходить не согласна. Необходимо хоть купальные костюмы оставить.
— Никто вас раздевать не собирается, да вряд ли это кому и любопытно, хотя, конечно, это есть чистейшее дело вкуса, следовательно, ваш вывод не отрицательный по отношению к одежде?
— Бежать-то нужно одежду полегче.
— Я так вас понимаю, — ответил он ласково на ее улыбку, — что вы намерены распродать все перед отъездом.
— Совершенно верно.
— О зятьях ваших не беспокойтесь, им костюмы будут доставлены первый сорт. Я знаю, вы беспокоитесь о Ларвине.
— Отчаянный, вот если б он меня слушал. А как вы думаете, это не опасно для жизни, вот и коммуна и переезд!
— Нет, только целебно. Распродать — вы правильно. Я рекомендую вам продать мне.
— Как же так, вы сами и организатор, сами и покупаете.
— А может быть, я покупаю в общее пользование?
— Они бесшабашные, да вот Лебедевы, а жаль, что один остался здесь.
— Позвольте, один из них здесь?
— Да Мазурский, — сказала Степанида Константиновна, блестя своим скафандром. — Он первый по бегу был, но совсем за жульнические проделки дисквалифицирован.
— Да я вам об этом уже и говорил! — воскликнул Черпанов.
— Ничего вы мне не говорили. Когда же это?
Я был крайне этим изумлен, и поэтому мне становился все понятнее испуг Черпанова и бегство Мазурского. Но размышлял я недолго.
Черпанов напер на старуху:
— Будем говорить коротко: отдаете вы мне или нет то готовое платье, которое получили от Мазурского?
Старуха замялась.
— Выбирайте: в общее пользование или за наличные деньги. Вот выкладываю.
Он достал платок Жаворонкова, развязал.
— Да я не понимаю, для каких вам целей нужно? Совершенно же странная вещь. То есть ваши поступки, Леон Ионыч, я только на другой день понимаю, а этот и на третий не пойму, хоть вы мне объясняйте, хоть не объясняйте, но я просто пугаюсь, это страшнее, чем уехать на Урал. — Она начала багроветь и злиться. — Дайте мне отойти.
Черпанов понял это и отошел.
— Не понимаю, как можно простым предложением продать готовое платье навести на вас панику? Не годится оно мне?
— Да вполне годится.
— Чего ж тут удивительного!
— Но вы нас не за границу же ведете?
— Нет.
— Зачем же вам такое платье?
— А вот и нужно.
— Отойдите от меня, я начинаю гореть.
Черпанов отошел.
К сожалению, этому поучительному разговору нельзя было развиться, помешали и вошли Насель, Жаворонков и Трошин. Они, всякий по-своему, но были чрезвычайно взволнованы. Насель подошел к Черпанову, потряс ему руку и сказал:
— Ну да, он сбежал.
Старуха побагровела, она напугалась и готова была выскочить в окно: кто-то сбежал раньше нее, кто-то учуял панику лучше нее, но ее успокоило то, что она знает, куда нужно убежать, паника мгновенно как-то мяла всю ее фигуру, но затем следовал поток брани, который как бы направлял ее чувства по твердому пути. Она выпустила несколько изящных и ловко построенных ругательств, она готова к бегству.
— Кто еще убежал? — спросил Черпанов.
— Никто еще, а убежал Мазурский.
— Позвольте, но ведь вы мне от него записку передавали, чего же вы обеспокоились?
— Но беспокоишься, когда вы на записку не реагируете общими для всех средствами. Нас надо успокоить, в конце концов мы желаем знать, если ехать на Урал, то хотя бы какой-нибудь местком, что ли, избрать, чтобы кто-нибудь обеспокоился билетами; у меня на шее родственники, они требуют ясности.
— Ясность. Пожалуйста. — Черпанов вынул письмо Мазурского из одного из своих бесчисленных карманов и прочел. — Видите, человек сбежал. Неизвестно куда, но все-таки заботился обо мне. Чем эта забота вызвана? Да тем, что я его испытывал, может ли он поехать на Урал, и он испытание это не выдержал и удрал к Черному морю.
— Почему вы думаете, что он удрал к Черному морю?
— Да все жулики направляются туда, все неприспособленные, а может быть, он чахотку у себя нашел, — одним словом, он почувствовал тяжесть, и его бегство вынуждает меня сказать вам, что вы выдержали испытание, а он нет. Вы можете войти в бесклассовое общество, а он нет.
— В чем же выражались эти испытания?
Но тут вошли Ларвин и Сусанна. Черпанов очень даже обрадовался приходу Ларвина, а тот шел разухабисто и развязно.
— Вот отлично, что пришел Ларвин, — сказал Черпанов. — Я рад буду развить перед ним свои идеи относительно того, в чем же происходило испытание, но раньше всего попрошу выслушать меня внимательно и особенно вас, товарищ Ларвин. Очень хорошо, что вы все столь быстро поняли необходимость поездки в бесклассовое общество, что вы так быстро согласились, и вот уже требуете путевки и местком. И ваши попытки к созданию месткома и требования совершенно правильны, но я должен сказать одно, что вы очень быстро начали возноситься. Все-таки мало того, чтобы попасть в бесклассовое общество, надо заработать себе право на жизнь в нем, а право это развивается на внимании к старшим товарищам, которые вас ведут.
— А чем же вам не оказано внимание?
— Всем. Понимаю, но в одном пункте все здесь присутствующие нагрешили. Я буду говорить прямо. Это всем вам известное готовое платье. Вместо того, чтоб честно передать его старшему товарищу, вы начинаете его перебрасывать из рук в руки и не видите даже в этом насмешки надо мной, а продолжаете делать свои выгодные дела. Костюм — что. Я на нем не стал бы и настаивать, если б не рассматривал этот вопрос принципиально. Дело в том, что вот и разговорчики о кладах и все прочее — это не годится. А, кроме того, ну, за каким чертом вы натянете костюм? Ведь вас же и совесть и все окружающие засмеют, когда вы будете ходить в лучшем костюме, чем ваш старший товарищ, да вам, наконец, и самим будет стыдно. Вот возьмем Ларвина, — человек, к которому прекрасно идет военный костюм, который будет комендантом охраны комбината, и вдруг нарядится черт знает во что…
— Именно, — сказал Ларвин и, наклонившись ко мне, сказал: — Собственно, он прав, надо бы достать костюм да и отдать ему, зря я его замыл, перебросил.
— Кому? — спросил я тихо, но Черпанов позвонил в стакан:
— Внимание! Для возражений будете иметь слово, фактически я вам сейчас читаю почти официальный доклад о комбинате. Не ждали? Вы подробно узнаете о целях и задачах. Ошеломляющие сведения. Сейчас Егор Егорыч доставит вам планы, которые нами только что получены, и здесь, надо сказать, без ослепления, даже я, человек привыкший и принимавший сам в этом участие, и то был ослеплен и не могу без ослепления смотреть на это дело. Но раньше, чем спуститься нам в подробные планы комбината, раньше, чем я изложу вам те принципы, установки, опираясь на которые мы выберем местком, я позволю себе еще раз вернуться к тому вопросу, который я не зря, конечно, поставил в начале своего доклада. Я говорю опять-таки о готовом платье. Товарищи, если мы вначале будем себя вести так, то, извините, с какими же мы лицами приедем в комбинат? С лицами, наполненными собственностью, и мелкой собственностью вдобавок. Я должен буду дать исчерпывающий отчет людям в каждом проведенном мною часе, а я буду говорить, извините, что я гонялся за костюмом. Но ведь это же странно, по меньшей мере, скажут мне. И они будут правы. А между тем, костюм американский, нужный не только для представительства, а вот скажите-ка вы все, здесь присутствующие, — ради каких целей вы его прятали? Кто в нем приезжал, с кем вы переговоры вели и на какой предмет? Черт побери, не возникнет ли вопроса, из какого вещества этот предмет? — Черпанов проявил странную горячность и запальчивость. — И этот вопрос к вам, как к военному, будет обращен в первую очередь, Ларвин! С какими целями вы вели переговоры с иностранцами? Может быть, вы продали какое-нибудь странное изобретение, нужное для страны? Кто приезжал?
— Никто не приезжал, — ответил Ларвин.
— Как никто? Что же, этот костюм с неба свалился? Ведь он готовый к вам попал?
— Готовый.
— Никто не шил?
— Нет. Мы и разучились шить, мы все в старье ходим.
— Отлично. Вы его получили от Мазурского. А Мазурский получил от Населя.
— То, что он получил от меня, иностранец не мог привезти, он получил от другого.
— А Насель от кого? Виляете, финтите! Отвечайте правду! Но не будем вести глупого допроса, допустим, что Мазурский взял не тот костюм, а здесь он определенно намекает на американский, следовательно, к вам-то, Ларвин, попал явно американский костюм. И это легко проверить. Несите его сюда, и тогда мгновенно между нами рассеется очень неприятное недоразумение, и мы сможем приступить к выбору временного месткома. Тащите.
— Да, я вот уже и Егору Егорычу объяснил, что не могу его принести. Вы правильно говорили, зачем мне собственность. Я и отдал его. Может быть, он и обменяет на нужное дело.
— Отдали? Кому?
— Ну не все ли равно кому.
— Нет, вы обязаны сказать — кому. И общее собрание подтвердит, дабы я скорее начал свой доклад.
Общее собрание действительно подтвердило. Ларвин замялся:
— Но ведь у меня вот имеется в связи с вашим докладом ряд совершенно конкретных предложений, и мне от них не хотелось бы отступать.
— Не отвиливайте и говорите: у кого костюм? Здесь, черт знает, что происходит. Я скажу вам в глаза: много я всякой дряни отправил в свой комбинат, но подобной еще не видал, чтобы задерживаться на такой чепухе, — это уже совершенно странно. Кто этот человек, темные дела которого я, даже уполномоченный высшими инстанциями, не могу знать, в то время как все ваши дела узнал. Мне все известно, кто и что делает, а тут не могу. Доберусь до него, он прячет золото, я понимаю. Недаром ходит здесь легенда вокруг дома о короне американского императора. Все это необходимо вскрыть.
Слово о короне и о легенде произвело потрясающее впечатление на всех. Несомненно, об этом здесь знали, как и всю легенду, что ходила по городу. Но они напугались. Ларвин мгновенно стих.
— Я отдал его дяде Савелию, через Людмилу. Он действительно ведет все дела.
— Ну вот и кончено. Кто приведет дядю Савелия? Нет таких желающих? Он страшен для всех. Вы, Егор Егорыч, беретесь его привести?
— Нет, — ответил я, — меня мало занимает это. Мне вспоминается одна история… А кроме того, мне любопытно прослушать предложения Ларвина.
— Никаких предложений выслушано не будет, я вынужден прервать доклад.
— Нет, вы должны выслушать мои предложения. Все идет совершенно зря, не предпринимается никаких мер, тот же Черпанов говорит о возможности приезда комиссии, которая проверит его работу, но комиссия не увидит нашей подлинной перестройки. И если он производит испытания, я не знаю, как он их над нами производил, но я по себе чувствую, что этого недостаточно, и поэтому надо произвести общность имущества. Мы взяты на учет, надо поломать перегородки, устроить общее зало, создать общность жен и детей, если мы буржуазия, обреченный класс, то наш переход надо показать по-подлинному, чтоб они увидали, если мы вздумаем сломать перегородки и, скажем, устроить общую кухню, и если мы топили плиту по полену, — это уже указывает на то, что мы можем столковаться и об общей кухне и неужели не столкуемся об общей жене?
— Правильно! Таким образом возможна и разрешена проблема стадиона, увидят, что мы переродились, и, если домкомтрест согласится на сломку перегородок, то об этом заговорят все, при сломке будут члены домтреста, и они увидят, что никаких кладов нету.
Черпанов волновался:
— Но опять-таки дядя Савелий продаст костюм в другое место, и я так и не узнаю, кто же сюда приезжал.
— Да плюньте вы, — сказал я, — здесь развиваются более крупные события.
— А вы думаете, Ларвин предлагал серьезно?
— Не знаю, но похоже на то, что он не шутил.
— А, даже вы, Егор Егорыч, так думаете. Хорошо, я берег для дальнейшего свой удар, но обрушу его сейчас.
Он вернулся на прежнее место. Вокруг Ларвина стояли шум и крики. Людмила была довольна — она может управлять, у нее тоже слова нашлись, она оживилась необычайно.
— Отлично! — воскликнул Черпанов. — Предложение Ларвина удивительно по своей меткости. Я согласен организовать его, но предупреждаю, что организация будет жестокая, и так как никто мне говорить по моему вопросу не дал, то все, значит, согласны с Ларвиным. Я тоже поддержал и беру на себя все осуществить.
Он ушел. Я спросил:
— А где же ваш удар?
— Но вы видали.
— Но ведь предложение Ларвина только что всплыло, не могли же вы знать об этом раньше?
— Не мог, но я то же самое хотел предложить.
Слова эти возмутили меня. Шум продолжался. Сусанна смеялась. Я понял, что ничего не выйдет, тем более, что Черпанов убежал — и я ушел вслед за ним. Странно, но он побежал на улицу, он остановился на крыльце и рылся в бумажках. Я устал, суматоха несказанно ослабила меня. Я ушел к себе.
— Ее страдания все возрастают, — встретил меня доктор, сидя на скрещенных ногах. Он ел хлеб с маслом, койка под ним качалась от движения мощных его челюстей, к ним прибавилась тайная симпатия ко мне.
— Чем же закончилась ваша беседа с дядей Савелием?
— Я перекурил их. Они обалдели, и я ушел. Впрочем, я высказал им все свои соображения касательно их поступков. Так как прямо в лоб говорить не достигает цели, то я решил говорить иносказательно.
Я выразил сомнения, что доктор может выражаться иносказательно.
— Почему же? Я сказал, что если мы можем курить плохие папиросы так долго, следовательно, нам нужно в чем-то объясниться.
— А они?
— Они в голос сказали: «Вон!» Помните, мы шли от Жаворонкова с антресолей?
— Вернее, падали.
— Не помните ль, там под носилками лежали ходули?
— Нет, я заметил сани, так как об них расшиб лоб.
— Вам больше нравится лето.
— Я просто не люблю пыли. Вспоминается мне один случай…
— Итак, вы осторожно приподнимаете носилки и видите под ними ходули, вы их встряхнете от пыли, если хотите, можете, в целях обезопаситься от заразы, обернуть их газетой. Я буду стоять в конце лестницы, с мокрой тряпкой, я бы пошел сам, но у меня болят ноги, мы их вынесем во двор и славно походим. Мне надо поразмяться, во дворе ветер, а забор заграждает ветер, попробуйте — сразу увидите.
— Вам не терпится превратиться в такую же ходячую легенду, как корона американского императора…
— А кто говорил об этом?
— Я рассказал.
— Давайте ходули. Мужайтесь, Егор Егорыч, мы перекроем славу короны. Слава посредственностей, вы ее еще не знаете, — это самая мощная и крепкая слава, гений может погибнуть, надоесть, а посредственность будет жить, ей необходимо научиться, посредственности нужна посредственность, и она начинает меня любить. Кроме того, вам это любопытно в том смысле, что вы за мной будете бегать, это тоже вас развеет. Достаньте ходули, Егор Егорыч.
Конечно, в конце концов, если я постоянно возвращался к нему и Черпанов утомлял меня даже больше со своей последовательностью, то сидеть зря и спорить не стоит, да и лучше, конечно, дать ему ходули, пока он не придумал чего-нибудь более мощного.
Я пошел. В комнате… все еще слышался шум, там набилось много народу, доносился бас Жаворонкова. На лестнице был сильный полумрак и пахло затхлым еще больше. Я старался идти осторожнее, но наткнулся немедленно на какие-то ведра, тазы, коромысло щелкнуло меня в бок, я раздавил какой-то пузырек, липкая жидкость с запахом дегтя облепила мои пальцы. Я стал жечь спички. Я увидел темные — больничные — носилки с белыми крашеными ручками. Я — через газету — встряхнул эти носилки, но пыли на них не было, мы ее выбили нашими телами. Под носилками лежали, действительно, ходули, очень крепкие на вид, то место, куда ставится нога, было обтянуто кожей. Я их встряхнул и держал в руках — может быть, это из циркового барахла, все, что могла подарить Сухаревка, а может быть, это заложено, да и вообще у меня мелькнула мысль: ведь это имущество не Жаворонкова, а заложенное, но кто же может быть здесь ростовщиком, и неужели они еще водятся, потому что странно было появление этих предметов: весов, гирь, письменного стола. Доктор ожидал меня внизу. Я поделился с ним своими мыслями. Доктор ничего не ответил, в руках у него была, действительно, мокрая тряпка; он быстро обтер ходули, легко вскочил в них и сразу вырос на полметра. Едва он двинулся по коридору, как страшный грохот, словно коридор исполнял обязанности барабана, понесся. Я зажал уши, но мне было страшно смешно.
— Неправда ли, я на ходулях кажусь гораздо красивее. Я заметил, что вы всегда смотрите на мои ноги, они у меня, действительно, несколько коротки, а здесь я величественен.
Здесь он поравнялся с комнатой… В дверях ее показались Людмила и Сусанна. Сусанна была очень оживлена, в коридоре было темно, но походка ее даже казалась крепче и не такая сонная:
— Вот и на ходулях он будет ходить.
— Конечно, — сказал доктор, останавливаясь перед ними и топоча, он не мог стоять и, покачиваясь, ходил перед ними, даже, пожалуй, танцевал.
— Это легкий и пошлый способ упрекать в ходульности, но если я нахожусь на ходулях, то я имею на это право. Но что поделаешь, вы, Людмила Львовна, я говорю это в полном уважении, имеете право сделать мне этот упрек, опять-таки про ходульность, а как же иначе, если человек не умеет найти и заставить человека поверить в любовь? Иные приподнимаются на пышные слова и сверзаются с них, другие — на пышные поступки, к сожалению, это легче, если у вас отличное здоровье, совершить такие поступки, но жизнь идет своим чередом, самопожертвования совершаются, все равно говорим ли мы наши слова или молчим. Я совершил много поступков, но теперь пришел к выводу, что все это зря, и в конце концов у вас одной есть ко мне сожаление, и вы мне можете дать совет богини, которая, как никто, может знать про любовь.
— Какие у меня советы?
— Не давай совета, Людмила, от твоих советов люди гибнут.
— Как приятно, Сусанна Львовна, погибнуть от хорошего совета, чем погибнуть от своего бледного разума. Куда хуже сверзиться с ходулей и разбить о булыжники лоб, нежели погибнуть от огня вражеской артиллерии. Я признаюсь в своей беспомощности, я добился только совета от лица, которое знает, как разбогатеть, но вас не удовлетворит богатство, а сейчас держать богатство — все равно что держать реку, столь же трудно.
— Кто вам дал совет разбогатеть? — сказала Сусанна.
— Я поднялся на ходули, чтобы успокоить себя. Вот вы не говорите: разбогатейте, а говорите: кто это, что за дурак и как можно дать совет быть талантливым, в нашей стране талант — это богатство единственное. Дайте мне совет, Людмила Львовна.
— Да какой она вам может дать совет, вы совершенно обалдели.
— Вам все почетно, Сусанна, она может дать совет. Можете ли вы дать такой совет, что Сусанна меня полюбит и пожелает жить со мной?
— Могу!
— Нет, не можете.
— Могу.
Народ уже начинал собираться. Вокруг доктора образовался круг, и он носился по нему с большим искусством. Все стояли отупелые, видно, «прорабатывая» в себе те мысли, которые возбудил в них Черпанов, а еще больше всполошило их предложение Черпанова. Ларвин стоял совершенно торжествующий, и еще торжествовала Людмила, они стояли бок о бок.
— Почему же ты раньше не могла дать совета, а теперь можешь?
— Он не входил в коммуну.
— Правильно! — воскликнул доктор. — Совершенно правильные оценки. Я должен, граждане, перед вами извиниться в том, что я проделывал, но это просто было какое-то ослепление, я просто временами болен, и это уже больше не будет повторяться, так как Людмила Львовна меня вылечит, она мне даст совет, она мне даст прочесть свою книгу.
— Книги нет.
— Где же она?
— Отдана читать.
— Кому?
— В редакцию.
— Какой же совет вы можете дать?
— Будьте проще.
— Врет, — сказала Сусанна, — врет, не надо мне простых людей, совершенная ложь!
— Это мне самый трудный и почти самый неисполнимый совет, но я попытаюсь его исполнить, однако мне очень бы хотелось отблагодарим, вас и всех вас, граждане, за то внимание, которое вы оказали моим больным нервам, в том заблуждении, которое я испытывал. И мне кажется, что та помощь, которую я могу существенно сейчас оказать вам, может быть чрезвычайно полезной. Вам сейчас абсолютно необходимо спокойствие, вы должны и вы сами понимаете, как вы глубоко должны продумать тот поступок, который вы думаете совершить, да и мне необходимо успокоиться, я тоже еду с вами на Урал.
— Вы?
— А вы как думаете, Егор Егорыч? Разве я могу остаться здесь, мне интересно посмотреть психический перелом, может быть, я излечусь от своей боязни посредственности и шагну вперед, но суть в том, что вас сейчас чрезвычайно беспокоит история со стадионом. Я понимаю всю нелепость слухов, но их можно опровергнуть только одним способом. Я, к сожалению, могу дать совет только как воздействовать на посредственность, — это пойти самим и присутствовать на водном празднике.
— Невозможно.
— Почему невозможно? Вот жаль, что здесь нет ни Мазурского, ни Черпанова, но первый исчез бесследно, а второй может вам устроить пропуск. Конечно, идти прямо туда — это очень трудно, сразу вы увидите 50 тысяч глаз, устремленных на вас, но праздник этот через несколько дней, а сейчас там в играх и прочем идут непрерывные тренировки, почему бы нам не потренироваться и, скажем, сегодня же вечером небольшой компанией не явиться на стадион, согласитесь, что когда люди являются на стадион, то своим появлением говорят всем в лицо: вы ждете взрыва от нас, но вот мы пришли вместе с вами веселиться, и что же вы думаете, мы стадион намерены взорвать вместе с собой, что ли? Как ни рассматривайте, но поступок этот — поступок глубоко героический, как вы думаете, Егор Егорыч?
— Мне вспоминается такой случай…
— Мысль ваша совершенно правильна, хотя и не так ясно выражена. Итак, вы согласны, Жаворонков, Насель?
— Придется идти.
— А нельзя уехать до праздника?
— Нужно спросить Черпанова.
— Говорят, трудно достать билеты.
— Следовательно, возможно, что и останемся на праздник, но тут главное духовное волнение помешает завершить наши дела. Репетиция поступка займет у вас час, а затем вы сразу себя почувствуете лучше, и все ваши дела мгновенно провернете.
— А что, там много народу?
— Не так много, но все-таки есть.
— Возгласы какие-нибудь в нашу сторону будут?
— Помилуйте, мы ли не отпарируем? Ручаюсь вам за полную благопристойность. Степанида Константиновна, как вы?
— Надо посоветоваться с дядей Савелием.
— Я советовался.
Она изумилась:
— Вы? Он и Лев Львович сказали: «Вон!» А затем, зачем же вам советоваться, если у вас полный семейный развал.
— Развал-то развал, но все-таки.
— Или вы думаете скрепить семью, нет, ее не будет на Урале…
— Хорошо, мы идем.
— Я вас должен вылечить от испуга…
Немедленно, как только выяснилось, что на стадион идет весь дом, не исключая дряхлых стариков и детей, то мы пожелали идти туда днем. Доктор настаивал на вечере. Вообще, как выяснилось, доктор любил театральные эффекты; если б было возможно, он не прочь бы был и зажечь факелы и пустить парочку соответствующих плакатов. Между Населем и Ларвиным возник спор о Черпанове — нужно ли его брать. Насель говорил, что нужно, поскольку его идея имеет скрытый характер, опытный, так сказать, то он пока является тоже обывателем и простым жителем дома, Ларвин же, который после того, как высказал свои поправки к проекту, начал, видимо, уже считать, что Черпанов пользуется славой почти понапрасну и что неизбежно слава уральского предприятия должна перейти к нему, Ларвину, говоря, что никто не подумает обвинять Черпанова во взрыве стадиона, так как виду него совершенно советский, разве что скажут, что он раскрыл заговор. Насель же настаивал, что вид у него такой же и обилие карманов не боль шее, чем у Ларвина. Спор, к счастью, так как спорящие разгорячились и он мог затянуться, прервался тем, что выяснилось, что Черпанов исчез. Одна ко, все придали этому событию большое значение; так как доктор, хотя и по иным мотивам, отложив до вечера, оказался прав, собрались только-только к девяти часам.
Вначале большие споры и пререкания вызвали костюмы. Часть обитателей, особенно в верхней части дома во главе с Жаворонковым, настаивала, что необходимо надеть лучшие одежды, но не показывать, что мы подмазываемся, другие же во главе со Степанидой Константиновной говорили, что необходимо надеть похуже и даже самые худшие, что люди, оклеветанные, загнанные до величайших несчастий и все-таки сохранившие необычайную гордость и мужество, к третьим же принадлежал Насель, он воздержался от спора, потому что его родственники имели перемен меньше, чем одну, но, как ни странно, задержали именно не споры, а вот эти последние, которые, казалось, и не должны бы задерживать, они, видите ли, начали чистить и приводить в порядок свои костюмы. Вначале они чистили в коридоре, но так как их мельчайшая пыль, чрезвычайно двусмысленного свойства, не желала садиться на стены и на пол, а устремлялась в двери, в квартиры, они объясняли, что в комнатах открыты форточки, но квартиранты объясняли это просто привычкой вышеобозначенной пыли жить в одежде, и поэтому вынуждены были сами тоже чиститься. Теперь пыль летала просто от команды к команде, как летает хороший волейбольный мяч, это называется на языке игроков «пасовкой».
Чистка обратилась в переругивание и упреки, и так как возникла возможность появления в море брани Степаниды Константиновны при ее способности дико всех оскорбить, кто-то очень ловкий предложил пойти рассыпаться для чистки по двору. Здесь все уладилось, к счастью, подул ветер, пошла пыль от разбираемого храма, и Жаворонков высказал неосновательное, на мой взгляд, опасение, что эта пыль может посчитаться религиозной пылью, что всех вдохновил бог и что все перед тем, как идти на стадион, молились. Ему возразили совершенно основательно, что в разрушенных храмах молятся только дураки, да и те воздерживаются, так как они хранят свою голову, на которую может упасть плохо взорванная стена, поэтому опасения совершенно напрасны, но что пыль может возбудить опасения, что они шли слишком медленно и, так сказать, раздумывали — стоит ли им идти. Эта мысль всем показалась достаточно увесистой, и все с особенной тщательностью начали очищать пыль постройки, правда, я попробовал их убедить, что вопрос идет только о репетиции, не более, необходимой больше для себя, но они никак не могли понять, как может быть репетиция без зрителей, идея накопления внутреннего опыта им — в данном случае — казалась бессмысленной, они просто думали, что доктор, боясь, чтобы они не напугались, назвал этот поход репетицией, и хотя им было известно, что на стадионе никакого увеселения сегодня и не предполагается, однако они верили в какое-то неожиданное увеселение, может быть, для них специально организованное, может быть, люди собрались для того, чтобы посмотреть на их храбрость. Как бы то ни было, но лица старались выразить полный наплыв героических чувств и внутреннее достоинство было необычайное.
Любопытный читатель спросит меня, как же в данном случае держались женщины, они все-таки вознесены на какой-то пьедестал, и как понимали они слово «репетиция», — повторяю, что споров по этому вопросу не было, и споры были чисто формальные, как видите. Назвать состояние их движений — женщина больше всех выражает состояние своего духа в движении — абсолютно спокойным, было б просто назвать самого себя лжецом. У них были подруги, девицы достаточно бесцветные, из родственниц Населя, из окружения Жаворонкова, они меняли платья, прически, завивали одна другую, затем вдруг размачивали, то красили губы, то стирали, пока не пришла полусонная Людмила, и хотя она тоже беспокоилась, но не назвала эту затею глупой, она даже желала расставить парочки, доктор думал, его поставят с Сусанной, но с ней встал Ларвин, это обстоятельство, видимо, очень огорчило доктора. Кто знает, не задумал ли он всю эту затею для того, чтоб иметь возможность повести Сусанну под руку на стадион. На том, как мы строились, необходимо остановиться особо. Когда начались пререкания относительно того, в каком порядке идти, доктор совершенно основательно заметил, что история военного искусства вся, главным образом, заключается в том, как и в каком порядке построить войска. Он привел несколько примеров, превосходных по эрудиции, но не применимых в данном случае. Вначале хотели детей и подростков пустить вперед, но решили, что они могут учинить какую-нибудь пакость или разворовать лотки у торговок фруктами, причем, как только высказали это предположение о воровстве, глаза детей и подростков разгорелись, и тогда их решили пустить с краев шествия, но тут возникли препятствия: во-первых, они будут постоянно глазеть в лица старших, оборачиваться и тем замедлять шаг, а во-вторых, из-за глазения плохо соизмерят шаг и попадут под ноги. Возник в связи с этим проект пустить их в середину, а взрослым замкнуть круг, но тогда в кругу детей плохо будет видно, и получится опасная для впечатления искусственная пустота, искусственное увеличение своих рядов, как поступают с куклами в театре. В этих спорах дети утомились, их постоянно переставляли с места на место, и, кроме того, если они будут внутри круга, будет утеряно моральное воздействие: какой же взрыв — мало того, что пришли сами, но и детей привели рассеять эту клевету. Однако, чем дальше шли пререкания, тем становилось очевидней, что дети удерут, и тогда возникло пожелание пустить их с краю, но связать шнурком как друг с другом, так и с родителями — этот проект всем понравился, начали уже связывать, чему дети очень обрадовались, но кто-то высказал опасение, что создастся впечатление у стадиона, какое же это разрушение клеветы, когда дети являются связанными, и была высказана мысль, что детей нужно просто выпороть вначале и обещать им более жестокую порку, если они разбегутся Мысль эта всех воодушевила, и родители расхватали детей и увели их в комнаты пороть. Напрасно доктор взывал к их благоразумию, даже отказывался вести, ему возразили, что коммуны и яслей еще нет, и поэтому дети их полное достояние, и они могут их пороть, когда и сколько захотят, что здесь мог бы сказать авторитетное слово Черпанов, но он благоразумно исчез, дабы они сами наивозможно быстрее и наивозможно удачнее покончили со своим прошлым. Пока доктора вразумляли, какой-то нетерпеливый отец уже начал пороть, и раздался вой ребенка. Доктор устремился туда, но, воспользовавшись его уходом, началась порка в противоположном конце. Пока доктор бегал от одного отца к другому, пока один отец вытирал вспотевшую руку, порка урывками прошла, и дети стояли смирно. Доктор даже отказывался вести, тогда спросили его совета, как же он посоветует поступить с детьми, и он сказал, что проще всего их взять на руки и нести, если они считают необходимым появиться с детьми. Его совет вызвал пренебрежительный смех. Дом наполнился суматохой.
Наконец, зажглись фонари, и мы тронулись. Дети шли очень хорошо, и родители ими были довольны. Возник вопрос, в нем все приняли участие — кто же пойдет вперед? Доктор хотел пойти с Сусанной, но, как я уже говорил, она шла под руку с Ларвиным, а ее вперед никак никто не хотел пустить; если Ларвин имел какие-то общественные заслуги, то она-то никаких, и даже, наоборот, всегда мешала общественности, в частности, никогда не подметала коридора, и после нее всегда в уборной перегорали лампочки. На последнее замечание, последовавшее сверху от Жаворонковых, она обиделась и утащила Ларвина в толпу. Доктор, таким образом, получался ведущим, он хотел взять с собой меня, но ему возразили, что если доктор имеет какие-то заслуги, то я — то, Егор Егорыч, хотя и милый человек, но путаюсь у всех между ногами и вообще неизвестно, для чего выпущен на свет, с детьми меня пустить невозможно, так как я не порот, со взрослыми тоже — в силу моей умственной отсталости, да кроме того, и вид у меня очень всегда странный. Лучше всего мне остаться и караулить дом, хотя тут и оставили несколько дряхлых старушонок, но им может прийти в голову мысль направиться в гости друг к другу, стукнутся лбами и сдохнут, а что ж им сдыхать, когда на них и проездные деньги еще не получены. Доктор категорически настаивал на том, чтобы я шел. Я с удовольствием бы остался. Черпанов, конечно, поступил благоразумно. Доктор извинился передо мной от имени всех. Нам нужно было пройти два переулка, небольшую площадь, излюбленное место торговцев фруктами, и там стоял через бульварчик окрашенный под сталь чешуйчатый забор стадиона.
Молчание, с каким мы вышли за ворота и направились по улице, показалось мне тревожным. Я замыкал собой шествие; пожалуй, лучше привязать было ребятишек за веревочки, нежели они нагоняли тяготу своими вздохами, а после того, как их выпороли, они потеряли всякий интерес к посещению, и взрослые, едва только исчез из наших глаз наш яйцевидный дом, стали замедлять шаги, так что я вынужден был крикнуть доктору: «Куда вы бежите!?» Он остановился нас дожидаться. Здесь сразу кто-то высказал предположение, что как же мы попадем на стадион, когда Черпанова нет с нами. Ряды зашатались, и они бы, несомненно, расстроились, если б порка не заставляла ребят не идти на провокацию и, крепко схватившись рука за руку, не выпускать взрослых, они помнили, что подобные обещания держались взрослыми точно.
Доктор утешил, сказав, что Черпанов ждет у ворот стадиона, и я на этом случае мог проверить степень своей доверчивости, ибо я немедленно поверил, что Черпанов нас действительно ждет, но Ларвин первый выразил сомнение и высказал желание пойти вперед и проверить.
— Никто не пойдет, — сказал доктор, — я знаю, вы склонны удрать, держите, дети, их крепче!
Странно, в силу ли того, что он заступался, или детям просто было более приятно вести взрослых, чем быть ими ведомыми, но я и доктор с той минуты получили среди детей много союзников, они крепче схватились за руки и двинулись. Взрослые легонько заупирались, но направились вперед. Доктор посоветовал, что если все-таки для него понятна робость, он и сам-то трепещет неизвестно почему, то лучше всего твердить фразу: «Мы не желаем взрывать!» Если повторять это неизменно, то это получится прекрасное и успокаивающее средство, а если желают, то можно это петь хором на какой-нибудь общеизвестный мотив.
Совет его не встретил никакого участия, а я попробовал. Мне приходилось все время идти в хвосте и видеть, как толпа колеблется, волнуется и ручонки детей меняют положение: вначале они держали друг друга за локти, затем должны были взяться за кисти, а затем и за пальцы. Наше шествие, имевшее вначале вид овала, постепенно приобретало вид змеи со всеми ей присущими особенностями, вихлянием и шипением. Вдруг толпа дрогнула. «Сомкнись крепче!» — крик. Оказалось, что под руки детей прыгнул дядя Савелий и словно раздвоился, или он на руках вынес Льва Львовича с его багровым лицом, но, в общем, они солидно, но в то же время до странности быстро удалились от нас, причем я даже не слышал обычного «вон!» Льва Львовича. Начались пререкания, зачем же идти, когда одни будут отдыхать, а другие страдать, да и вообще бессмысленно, так как не поверят, потому что получится уже не дом, а только представительство от дома. У нас к шествиям привыкли и потому не обращали внимания, только несколько прохожих с удивительным однообразием в голосе спросили: куда же мы затеряли наше знамя?
Доктор всех утешил, что и этого вполне достаточно, к тому же мы прошли два переулка, и видна была площадь, утыканная лотками с фруктами, и бульварчик, а за ним уже виднелись высокие ворота стадиона, фонарь, афиши. Но вот как раз площадь, лотошники уже убирали свои лотки, торговый день кончался. Наша толпа никак не решалась выйти на площадь. Насель высказал предположение: как же так, надо б от милиции разрешение взять, известить, что все-таки получается демонстрация, урегулировать движение, когда была толпа, он шел, но когда они вытянулись в нечто осязаемое, он уже не может без извещения соответствующих органов. Ему возразили, что он мелет глупости, однако исчезновение дяди Савелия всех смутило до крайности. Я посмотрел на лицо Степаниды Константиновны, оно выражало крайнюю степень паники и готово уже было разразиться бранью, и тут бы мы все перебранились, но она вдруг остановилась, найдя такую причину, по которой уже никто ее упрекнуть не мог. От нее повели носами и отшатнулись, девицы взвизгнули.
— Вперед, граждане! — воскликнул доктор, трепля детей по головам, их подталкивали взрослые, направляя лица их к лоткам, но они, то ли помня наказ, то ли запах, издаваемый Степанидой Константиновной, казался им более удивительным, чем запах фруктов, но они смотрели ей на ноги.
— Отчего вы остановились, Степанида Константиновна?
— Оттого же, отчего убежали мой муж и брат, — ответила она с необыкновенным достоинством.
— Но вы двигаетесь иль нет? — стали ее понукать, прекрасно зная, что она двинуться не может.
— Я двинусь, когда совсем стемнеет и опустеет площадь.
— А до той поры будете стоять?
— Буду, — отвечала она твердо.
— Удивительно. Но что ж, у вас ноги стали чугунные?
— Вам хорошо рассуждать за кругом, а вы просуньте сюда нос.
Доктор протянул голову над головами мальчишек.
— Уважительная причина, — сказал он, отворачиваясь, — однако мы не можем разомкнуть круга и не можем совершенно бесцельно приходить на стадион без Степаниды Константиновны.
— Абсолютно. Решайте скорей.
— Ребята, распускайте руки.
Но ребята не желали распускать рук, хотя им и заманчиво было оставить Степаниду Константиновну среди площади, подобную монументу. Наконец, самый смелый потребовал от родителей торжественного обещания, что они не будут пороть. Родители дали согласие с удивительным единодушием, тогда ребята, осмелев, просили, чтоб им разрешено было погулять по площади, вплоть до ухода Степаниды Константиновны.
Та выразила протест, что не позволит над собой такое публичное осмеяние ее поступков, но родители возразили, что дети желают позабавиться возле лотков с фруктами, а не возле нее. И детям было дано разрешение. Однако, они ждали команды доктора, и тот, наконец, сказал: «Пускай!» Цепь упала, родители, подростки поспешно направились домой, дети сгрудились, усевшись на булыжники, и Степанида Константиновна присела на корточки и разразилась дикими ругательствами. Доктор пошел через площадь, я его догнал в надежде встретить там Черпанова, но его не было. Мы купили билеты, без всякой рекомендации, и прошли. Доктор заказал пива.
— Говорю вам твердо, Егор Егорыч, что на последние деньги заказал бы для всех пива, если б все дошли.
— Из прошлой вашей речи можно было понять, что вы отказываетесь от гипотезы касательно любви и войны. Вы же подтвердили то, что они думают о вас.
— Пусть думают. Я никаких ошибок не совершал, Егор Егорыч. Я вам даже рассказывал не сон, но я просто не хочу быть однообразным для вас, так как вы стали отшатываться от меня. Вы изволили заметить, что я очень напирал на них, и чем дальше, тем меньше я им рассказывал и, так сказать, говорил о том, что они называют моралью. Вы куда встаете? Неужели спать?
— Спать, — ответил я, уходя.
— Сосните, сосните, а я посижу и подумаю.
Возле ванны перегородка была разворочена, три доски были выкорчеваны вместе с гвоздями, в четвертую был вбит топор, на топоре висела фуражка Черпанова, здесь его застали или прервали. Я поспешно вошел в ванную. Черпанов сидел, как обычно, роясь в книжках и записочках. Лицо у него было недовольное. Он протянул мне телеграмму. Там было только два слова: «Выехали. Лебедевы».
— Это что же, Мазурский наделал? — спросил я, тоже чувствуя смущение.
— Может быть, и Мазурский, а может быть, их и комиссией назначили по проверке всех вроде меня, но тут что главное? Главное — то, что они на первого меня наскочут.
— Почему же им на вас первого наскакивать?
— Потому, что пока я не поднимался, они были спокойны, а как я показал психичность работы, так они и почувствовали, что скоро будут уничтожены и свергнуты.
— А какая же психичность работы, ее разве что мы здесь на месте чувствуем, вот если б вы им послали поезда два с рабочими.
— Но они могут думать, что у меня здесь приготовлено десять поездов. Но в общем-то, все обстоит благополучно, мне бы только костюмчик достать.
— Дался вам этот костюм.
— Встретят по-другому.
— Но многие, знаете, пословицы революцией опрокинуты.
— Пословицу, конечно, не кувыркают, ее измять легко. А вы чувствуете, что должны понять люди, которые всю жизнь в трусиках проходили, когда перед ними пройдет человек в миллиардном костюме?
— С чего вы решили, что этот костюм с миллиардера?
— Иначе и быть не может. А корона? Вот тут еще перегородку начал рубить, да телеграммой помешали. Несомненно, Мазурский доехал. Может быть, он даже на аэроплане летел. Очень уж он скоро там очутился. Теперь я жду от вас большой помощи, Егор Егорыч, и совета.
— Я рад вам услужить.
И я, действительно, был рад. Хотя Черпанов очень и хорохорился, но смущение его все более возрастало, пока он со мной говорил.
— И я тоже рад. Вы отличный товарищ и умница, Егор Егорыч, хотя вам часто и не хватает сообразительности. Вот вы одобряете или нет то, что я начал ломать перегородки?
— Почему же не одобрить, если люди, действительно, желают уничтожить перегородки, но ведь одного желания мало, надо сообразить и то, что сможешь ли ты прожить. Для меня более странным кажется то, что самое большее через три дня уедут на Урал.
— Почему через три дня?
— Но ведь через три дня праздник на стадионе, и здешние почему-то опасаются, а, наверное, десятки праздников было, и никто не опасался, а тут в нашу сторону обернулось. Может быть, они опасаются, что со стадиона какая-нибудь комиссия приедет проверять их поступки или решено будет на стадионе устроить субботник и разнести этот дом к чертовой матери.
— Но вы совершенно не знакомы с правами и особенностями физкультуры, Егор Егорыч.
— Я не знаю, какие права теперь присвоены, судя по тому, как меня лупцевали здесь, и если в этом сказывается влияние стадиона, я могу сказать, что большие права.
— Ну-с, вот, однако, мы уклонились от нашего разговора, именно о костюме и о перегородках. Я теперь глубоко раскаиваюсь, что поддержал Ларвина при его предложении. Ну, я думал, что это, так сказать, бытовая болтовня, и через час откажутся с тем, чтобы испытать, болтовня ли это; когда люди возвращались со стадиона, я для проверки и саданул топором по перегородке, и что же: вместо отговора, я всюду и от всех услышал только одобрение своему поступку. Признаться вам, не столько меня расстроила телеграмма, сколько вот это одобрение, я из-за него остановил и рубку.
— Значит, люди твердо решили сломать свой быт. Очень приятно и даже любопытно посмотреть.
— Для меня любопытен только дядя Савелий. Он всех тверже, и фактически все здесь ему принадлежит. Вот и страшно то, что костюм к нему перешел, доказывает, что это ценная вещь. Я долго все это рассматривал и пришел к убеждению, что жизнь идет, приспособляясь, и, надо сказать, мы с вами умело к ней приспособились, но дядя Савелий…
— Однако, если вы считаете его ростовщиком и ему все принадлежит, то я видел массу всяческой дряни в его и окружающих квартирах.
— Это все только для декорации, для того, чтобы резче подчеркнуть свою бедность. И разговоры об искусстве он вел с вами, видите ли, тоже для той же цели. Однако, как бы вы предполагали взять у него костюм?
— Прийти и поговорить…
— Нашли с кем разговаривать! Он вас двадцать раз обведет вокруг пальца, а затем, как вы думаете, почему он убежал раньше всех от похода на стадион?
— Просто раньше всех почувствовал то, что позже его почувствовали другие.
— Ой ли? А не думал ли он: зачем это Черпанов в доме остался и не с тем ли, чтобы обследовать, а если и удастся, то и обворовать мою комнату? Уверяю вас, вот какую гадость может подумать обо мне человек. Вот почему он начал проверять свои двери, их у него три, и во всем доме только в его комнате ставни. За ним надо следить, правильно, потому что, если есть интерес создавать общность имущества, так только из-за него, потому что только от него и можно кое-чем поживиться, для коммуны, конечно, а не для себя. Но вообще-то он, конечно, обманет и улизнет. Ведь что Мазурский? Чепуха. Куда он может убежать? А этот убежит так, что вы его и с ищейками не отыщете. Ему все должны и обязаны, и каждый рад его приютить. А ходит такой вежливый, разве можно подумать, что пол-Москвы такой человек может оплести?
— Мне кажется, вы преувеличиваете. Какие же ростовщики в эпоху социализма? Да и вообще, это персонаж из устарелых романов.
— Ну не ростовщики, так валютчики. Черт знает, что это такое — покупщик наиболее ценных вещей и умеющий, главное, хранить их. Вы не думайте, что он выдаст их, — нет, вся его слава покоится на своеобразной честности, он не выдаст, ему вы можете доверить хотя бы золотую корону…
— Далась вам эта легенда.
— К слову пришлось. Но дело не в том. Удерет. Ей-богу, удерет. Я убежден, что собирает и сплавляет свои манатки, да у него они, черт знает, где и хранятся, а здесь у него есть самое главное, чем он себя передо мной выдал, на чем я его поймал, и Лебедевы, хотя и много лет здесь жили, но не могли его поймать. Вы обратили внимание, какие там сундуки, у дочерей их — один, а у него нет, и все-таки главное добро не здесь, но это неважно. Надо его только из дома не выпускать. Надо нам за ним следить, иначе все ценное сплавит.
— Не понимаю вас, Леон Ионыч. Если человек добровольно не желает передавать имущество, то какая же ценность в нем, если мы его поймаем. Разве только для очистки коммуны.
— А может быть, американский миллиардер и есть дядя Савелий? Может быть, это и есть тот человек, который приехал из Америки покупать драгоценную корону, может быть, это и есть американский дядюшка? Тогда все понятно. И костюм, и его хитрое поведение, и то, что он улизнуть хочет.
— Извините, Леон Ионыч, но мне даже обидно, что вы мне говорите такие нелепости и, глядя на вас, заставляете думать, что и вы таким нелепостям можете верить.
— Гипотеза — не более, Егор Егорыч, и было б плохо, если б вы этому могли поверить; если и верить этому, то надо иметь такое же железное сердце, как у меня, дабы не растеряться. Ведь если действительно факт, что американский миллиардер, то факт американской короны…
— Да полноте меня разыгрывать. По этому случаю мне вспоминается такая история…
— Позвольте, Егор Егорыч, но верите вы тому, что дядя Савелий может убежать?
— Если у него есть хотя бы доля сотая приписываемых ему вами грехов, то что же ему остается делать?
— Вот вы и заговорили правильно. Теперь, есть ли возможность его уговорить продать мне костюм?
— Опять-таки при правильности хотя бы части ваших установок — то нет.
— Ну вот, видите? Я верю в силу своего слова, а тут и я могу сдать, да не в силу слова, сколько в силу своего положения. Поэтому так как время не ждет, вы не удивляйтесь, но другого выхода нет, сколько ни думайте, сколько ни заседайте…
— Любопытно, что же вы придумали?
— Я думаю, что его надо обокрасть.
— Это что же, со взломом, убийством или как по-легкому?
— Совершенно по-легкому. Мы можем заставить его ломать перегородку, хоть он и трусит, но от субботника не откажется, а если он откажете и, можно легкий пожар на кухне устроить. Я так и думал, что доктор работает, но, признаться, он меня своей методой сбил. Сознаемся, попросту вы новички в этом деле. Я подсыпался к нему по-всякому. Я ведь все-таки многих в лицо знаю, вижу знакомое лицо, но кто такой и что за странная манера работы, и я все-таки его поддерживал и Степаниду Константиновну уговаривал, говоря, что это агент ловит кого-то, и соглашалась она терпеть, но теперь, когда подошел нужный момент и нам совершенно необходимо объединиться, мы раскроем карты.
— Странная манера у вас шутить, Леон Ионыч!
— Чего странная?.. Будет волынить! Давай план разрабатывать.
— Я отказываюсь.
— Слушай, это идейное воровство, это же имущество коммуны, другою выхода нет.
— Мне надоели ваши шутки, Леон Ионыч.
Он встал и начал собирать свои бумажки:
— Это не больше, как проверка, Егор Егорыч, испытание на честь, о ко тором я уже докладывал. Я пошутил. А общность имущества — ну черти ли в этом дерьме, кому оно нужно? Насчет костюма мы проверим, сходим к нему, и вы увидите, каков он, дядя Савелий. Я пошутил, может быть, мы костюм и получим, вот его бы продать кому-нибудь, ну на кой черт везти это барахло, и будут еще думать: ах, Зоя в моей юбке ходит, ах, Жаворонков мои часы взял, небось, если б свои часы были, так не одел бы каждый день. Не можете ли, Егор Егорыч, подыскать такого покупателя, кому бы мы имущество замыли, а, во-вторых, не можете ли, опираясь на мои доводы, докладик закатить, соответствующий общему собранию?
— Это что же, продолжение шутки?
— Почему?
— Да какая же это общность имущества, если вы его продадите?
— А что же, я себе деньги, что ли, предполагаю брать? В конце концом приятнее иметь общие деньги, чем барахло, которое, кстати сказать, на Урале никому и не нужно будет.
— Нет, я отказываюсь и доклад делать и, тем более, покупателя искать.
— Обиделся! Обиделся! Ну вот что: испытание окончательно закончилось. Я вам даже и программу испытания могу показать, если вы думаете, что я не шутил.
— Очень мне нужна ваша программа!
— Да не обижайтесь! Есть на что? Неужели вы в себе воровские чувства ощущаете, если обижаетесь? Нет, Егор Егорыч, сейчас нам должно быть не до обид. Вы вот изволили по стадионам прогуливаться, а я вот в ванной сидел и думал. В сущности, зря я согласился на предложение Ларвина. Ну, общность имущества; откидывая выводы, разве я неправду вам говорил, что имущество это ни черта не стоит и для меня важны люди, а ведь теперь сколько может быть и лишних разговоров и склок. Ну, отлично, общность имущества, а общность жен? Во-первых, принцип дурацкий и глупый, хотя бы и потому, что и без этого все жены общи.
— Извините, но вы говорите пошлости.
— Пожалуйста, пошлости. Проверьте. Не прошло и… дней, а Людмила и Сусанна были моими? Были.
— Когда это и Людмила успела быть вашей?
— А тут как-то по дороге. Людмила и Сусанна все-таки лучшие представители женского пола в нашем доме, а на остальных и смотреть противно. А как только они будут общими, так они же на меня могут претензии заявить; ведь тогда черт знает какая буза может получиться, мне же работать нужно, а после каждого раза я должен отдыхать четыре дня, у меня кровь древняя.
Я не мог не расхохотаться.
— Откуда вы решили, что у вас кровь древняя, Леон Ионыч? Кровь у всех достаточно древняя, если мы действительно от обезьяны происходим.
— Во мне есть цинизм, а это признак древней расы. Видите, как я вас нехорошо испытывал. И я еще могу сорваться, но меня запутали с этой ответственностью и с этой общностью.
— Должен вам заметить, что у вас странные понятия о коммунизме.
— Чем же они странны?
— Да вот рассуждения об общности жен и прочем. Они не выскакивают дальше буржуазной клеветы на наш строй.
— Позвольте, но я, что ли, придумал все это? Здесь кто? Последние представители буржуазии. Так это я коммуну-то придумал?
— Однако же вы ее одобрили.
— Просто брякнул. Не думал же я, что они всерьез меня примут, да здесь поход и на стадион многое показал. Для них выяснилось, что они героями быть не могут и что вся теперь надежда на спасение — надежда на меня, так как они даже на стадион не в состоянии прийти.
— Невероятно что-то. А братья Валерьян и Осип?
— Они же шли в толпе.
— Шли.
— И тоже отстали?
— Отстали.
— Ну так в чем же дело? Оказывается, и они ни к черту со своими финками не годятся. Да вы не верите.
— Трудно поверить.
— Хорошо, я продемонстрирую вам.
И он повел меня на кухню. Зрелище, свидетелем которого я был, можно было б назвать одним из удивительнейших, если б мне не пришлось быть свидетелем более удивительных зрелищ. Имя Черпанова, улыбка в его сторону, лесть и одобрения не сходили со всех уст. Вот что есть слава! Ему поставили сами чайник на огонь, причем, подбрасывали вне очереди дрова, и не чужие, а свои, смотрели на его руки и говорили, что ему все перегородки разбить ничего не стоит, какая-то разбитная девица сказала, что как только создастся «комиссия любви» — ну, распределит всех комиссия по любви, — Черпанов повел оком в мою сторону, — то она, не стесняясь, выставит кандидатуру на любовь Черпанова.
— А если дети? — спросил он грубо, но все признали его шутку чрезвычайно милой, часть нашла, что присущая ему грубость придает колорит внеклассового общества, которому чего ж скрывать свои чувства! Черпанов мог нюхать безнаказанно, чем пахнет в мисках, он даже запустил пальцы в миску и вытащил плавающий сверху кусок сала, Жаворонков крякнул, но он его дернул за бороду, и тот тоже пошутил, т. е. дотронулся до его подбородка. Вот можно было чувствовать даже упоение какое-то на кухне. Черпанов прошелся, съел, хотя ему и не хотелось, стакан сметаны. У Ларвина отнял баранки, которые он кому-то принес, влез ему в карман и достал конфеты, саданул по животу Степаниде Константиновне, его поход был стремителен и мрачен. Хотя все и улыбались, он пронесся по кухне — и исчез. Даже на меня, как на его секретаря, попадала часть благодеяний — мне налили тарелку манной каши, и я, черт ее знает, почему, вообще-то я терпеть не могу манной каши, но я съел. Я рад был исчезнуть. Однако, когда я доел манную кашу и пошел к Черпанову, его уже не было.
А в коридоре передо мной стоял доктор. Я почувствовал, что нуждаюсь в его разъяснениях, хотя и знал, что их не получу. Так оно и случилось. Едва я заговорил о коммуне и об испытании, производимом надо мной Черпановым, как доктор меня прервал:
— У буржуазии всегда странные понятия о коммунизме, не более странные, правда, чем у аристократии о капитализме, но тем не менее это не помешает ей погибнуть, подобно аристократии, которую она погубила. Но чем нелепее она думает, тем быстрее и легче она погибнет — это закон сохранения энергии.
Рассуждая подобным образом, он увлек меня во двор. Здесь, гуляя по кирпичным дорожкам, посреди пыльной и почти лиловой травы, он неожиданно спросил меня:
— Думали ль вы когда-нибудь, Егор Егорыч, о финках и о любви?
— Я мало знаю Финляндию, а о том, о чем я мало знаю, я стараюсь не думать.
— Вот и получился плохой каламбур, я спрашиваю о финках — ножах. Если вы обращали внимание, то финки навсегда, как ни странно я думаю, в силу своей портативности, заменили шпагу. Правда, опять-таки ввиду занятого времени, а наверное, не оттого же, что люди стали более трусливыми и нападают на своего противника из-за угла; раньше, как вам известно, вызывали, была довольно кропотливая канитель с нахождением секундантов, да и как найти подходящее поле; согласитесь, что с такими длинными штуками в рост человека для свободного упражнения надо площадку не менее футбольной, а теперь финка свободно прячется в карман, и только редкие щеголи, вроде Валерьяна и Осипа, имеют ее наружу.
— Я рад, что вы рассуждаете о жизни так, как о ней надо рассуждать, т. е. не приукрашивая ее.
— Разве перенесение действия в капитализм есть приукрашение? Ах, Егор Егорыч, вы продолжаете рассуждать кинематографически. Изменились ли происшествия, которые с нами происходили, оттого, что я их перестал переносить в условия капитализма? Нет. Значит, дело не в словах. Однако, вернемся к вопросу о финках. Признаться сказать, я много думал о них. Каким это образом произошло, что спортивный невинный ножик превратился в орудие хулиганства и пьянства? Разве этому способствует его форма? Не думаю. Сапожный ножик приблизительно такой же формы, разве что только потолще, однако, он почти не применяется в тех сражениях, которые происходят в темных закоулках нашей провинции и недаром носят почти эпическое название «поножовщины». Упоминая провинцию, это не значит, что я забываю столицы, нет, и здесь такого не меньше, но это характерно, как провинциализм, как признак душевной отсталости, мало культурности и дегенерации. Финка и любовь, к сожалению, очень тесно соприкасаются, теснее, чем мы думаем. Видите ль, в этих переулках, как ни странно, женщина трудно добывается, например: чтобы вы обладали девушкой с другой улицы, вы должны за нее сражаться, потому что парни считают ее принадлежащей именно этой улице, своей, хотя, правда, и на своей улице Ванька с легкостью может подколоть Ваську, из-за этой девки, но не всегда, а если Васька придет с другой улицы, то финка в бок к нему неизбежна. Кроме того, финка, несомненно, значительно расширяет кругозор, человек, приобретший ее, может считать себя на пороге новой, исполненной опасности, жизни. Когда владелец впервые впустит ее в тело, причем она не всегда убивает, а то что называется «подкалывает», то человек, распарывая другого, распарывает и свою собственную жизнь, он приобретает обширные знакомства, связи, правда, — это вначале, потому что позже круг этот смыкается, после того, как человек попадает в так называемое преступное общество. Преступное общество редко состоит из большого количества субъектов, оно обычно доходит до десятка, остальное преступное знакомство не выходит за пределы того круга знакомства, который вы приобретаете, служа в каком-нибудь предприятии. Но, несомненно, вот этот-то круг незнакомых людей воздействует на вас больше, чем круг ваших друзей. В нашей с вами жизни женщины достаются легко, Егор Егорыч, мы не употребляем финку, и ее даже сравнить с пером нельзя, причем, странно, что сопоставление «пера» и финки одинаково, но я думаю, что это скорее всего случайно, потому что, что мы можем сделать пером? Оклеветать в стенной газете соперника? Написать письмо в редакцию, составить плохую эпиграмму или сообщить о том, что ваш соперник, напившись третьего дня в дурной компании, рассказал несколько контристо пахнущих анекдотов? Пустяки. Такой укол незначителен и пуст. Правда, и там много уколов пропадает неоткрытыми. Раненый, если вы спросите врача, редко указывает того, кто, по его мнению, подколол, — он боится мести, мы же зачастую молчим от презрения, и опять же потому, что нам легче достать женщину. По-моему, первый удар бывает из-за любви, из-за настоящей плотской любви, когда самец не желает уступить самку более мощному самцу. Обратите внимание, Егор Егорыч, что наиболее ревнивы импотенты, когда человек ревнив, рекомендую вам смотреть на его половую силу сомнительно, а если человек прибегает к оружию, тем более. И вот когда человек узнал силу первого удара, то, несомненно, ему уже легче ударить и по иным поводам — по неправильной игре в карты, по обиде, зачастую призрачной, потому что просто ваша харя ему — в пьяном виде — показалась чересчур благополучной, но редко бьют из-за родственных связей, может быть, потому, что дама нужна для каких-то грубых целей. Вы правы, Егор Егорыч, в одном: нам на жизнь нужно глядеть грубо, меня только смущает одно, почему вы считали, что, когда я вам говорил об иксах в капиталистическом мире, вы находили это приукрашиванием? Я же вам не давал никакой роскошной и лживой любим, правда, я намекал на традиционность литературной девушки, жертвующей собой, но это не только особенность русской литературы, но литератур вообще, а я просто попал в эпигоны, но опять же я не выдаю свое эпигонство за новое искусство и никогда не буду писать романов. Да, так вот очень любопытно знать, как братья В. и О. в иных условиях желают заступиться за оскорбленную сестру и будут убирать доктора. Они подкупят прессу, они сагитируют избирателей, его легко могут избить, много способов, но вот им вдруг показалось, что сестра поставлена в унизительное положение, и они доктору А. решили нанести рану…
Мы прошли уже несколько раз. Я посмотрел на него с удивлением, Мы присели на траву. Доктор достал из кармана яблоко и угостил меня.
— Вам что же, жизнь надоела, Матвей Иваныч?
— Вряд ли она мне когда-нибудь надоест. Для этого она слишком коротка.
— Но вы желаете говорить с братьями.
— Я желаю их разоблачить. Вы обратили внимание, как они держали себя, когда мы подходили к стадиону? Они держались за ноги, и создалось у многих такое впечатление, что доктор испугался их и дал стрекача.
— Совершенно ложное впечатление.
— Нет, не ложное. У меня прекрасный ход. Я не хочу, чтоб вы попа дали в свалку. Это мой последний поход. Я связываю вам руки, и мы приходим и говорим: да мы вот даже связаны, вы одного можете подколоть, но двух вряд ли, мы наперед знаем, что вы не рискнете. Все дело в том, Егор Егорыч, хватит ли у вас смелости.
— Странно было б рассуждать. Конечно, хватит, и согласитесь сами: если они вас будут колоть, я что же, танцевать должен?
— Вы можете выбежать и крикнуть на помощь. Это единственный способ, по своей безрассудности, заставить их замолчать.
Мы препирались долго. Я возражал ему, но, видимо, слабо. Правда, мне и самому нравилась его мысль и, кроме того, приятно было осознавать то, что он не употребляет проклятых иксов и рассуждает нормально. Одним словом, мы пришли в нашу комнату, и он крепким ремешком, который был у меня в запасе, — я надевал иногда рубашку, — связал мне руки сзади. Он поправил их. Я не мог не рассмеяться. Он тоже улыбнулся. И мы направились к братьям.
— Но вы даете слово, — что это последний наш поход?
— Даю, — сказал доктор торжественно и пожал мои связанные руки.
— Завтра же мы выезжаем в Негорелое.
— Позвольте, но уже 2 недели.
— И прекрасно, мир на 2 недели ближе к катастрофе, любопытно посмотреть…
В комнате братьев Валерьяна и Осипа я был впервые. Людмила сидела на койке и курила. Валерьян был в одной стороне комнаты, Осип в другой, сестра посредине, так они во все время разговора и крутились, как маятники, показывая часы.
Мое появление со связанными руками действительно несколько ошеломило их, даже Людмила посмотрела на меня с любопытством, чем наделила меня частицей благ при будущем распределении любви. В комнате стояли три велосипеда, валялись велочасти и формы для тортов, печений, банки с печеньями, конфеты. Людмила вынимала из кармана овес и сыпала на руку, пробовала на зуб.
— Так брать, что ли? — спросила она нерешительно.
— Брать! — воскликнул брат.
Мы услышали обрывок разговора, из которого можно было понять, что вопрос шел о покупке, но сметенное время или слишком большая партия — все это заставило Людмилу прийти в комнату братьев, вообще же она смотрела на людей в том смысле, как ловко их можно было обдирать, но уважать она могла только людей, которые могли любить, и, кто ее знает, — не пожертвовала бы она все человеку, который может любить. Одно могло показаться странным — и я поэтому не особенно верил в докторскую любовь, что и Людмила не особенно верила этой любви, я не понимал этого, она-то любовь могла понять; братьев же она не уважала и презирала за полную их неспособность любить как физически, так и морально. Братья и ей, как и всем остальным, внушали страх, но боюсь, что только до сегодняшнего дня, и так как она понимала, что доктор не может не явиться, а произойдет нечто странное, то она смотрела с любопытством. Мне думается, что она изучала доктора как раз в смысле любви, и когда он вошел, она даже начала прихорашиваться.
— Я надеялся видеть здесь Сусанну Львовну, — начал доктор.
— А она вас ждала, но не дождалась и пошла выпить с Ларвиным и Населем.
— Она меня ждала?
— Как же, вы же непременно должны были нас посетить.
— То есть потому что посещал других.
— Она высказала такое предположение, но так как ее нет, то мы можем с вами пройти или к ней, или выматывайтесь отсюда.
— Мы вам мешаем?
— А как вы думаете, легко войти в бесклассовое общество? Это не то, что взял котомку, как вам, безродным, за нами груз предков.
— Вы дурно поступаете с вашей сестрой. Я, собственно, затем и пришел вам сказать.
— Дурно! Только что мы уговаривали ее не пить, а она говорит: неизвестно какого рода будут напитки в бесклассовом обществе. А по вашему мнению?
— Не исключена возможность, что врачи приобретут большое влияние в бесклассовом обществе, кроме того, врачебная наука приобретет то единство, которого ей сейчас не хватает, а если мы приобретем достаточное влияние, то бесспорно алкоголь будет применяться как врачебное средство.
— Чепуху порете! А чем вот Людмила вам плоха? Выматывайтесь отсюда. Или хотите пойти туда?
— Нет, я бы хотел видеть Сусанну здесь.
— Прекрасно. Вы хотите ее тело, Людмила любопытна и знает все ее повадки, будем говорить в открытую, при закрытых глазах вы их не различите, а даже получите большее удовольствие, она сильнее, и ловчей, и опытней.
— Нет, я хотел бы видеть Сусанну на очной ставке с вами. Я знаю те соображения, по которым вы ее подпустили к Населю и Ларвину. Здесь даже нет расчета, какой мог бы быть, если б вы ее… здесь просто надругательство. Я хочу его вскрыть.
Людмила захохотала.
— Он мне нравится.
— Видите, Матвей Иванович, вы ей нравитесь, а это полное согласие. Бери овес, Людмила, отличная партия, и вполне обернешься до того момента, когда попадем в бесклассовое, дядя Савелий…
— Опять он.
— Без него не обойдешься. Бери овес и уходи с Матвеем Ивановичем.
— Идемте к нам. Сусанна не придет до вечера.
— Я не хочу к вам. Мне, какой бы то ни было ценой, необходима Сусанна. И разговор с нею в вашем присутствии.
— То есть, что это значит, какой бы то ни было ценой?
— А все, что вы можете понимать под ценой.
— Но я не знаю, сколько вы стоите на рынке. Вот овес, его необходимо испробовать, мне кажется, он затхлый, большая партия, очень ответственно, надо вывезти из склада. Это тот овес, который съели классические крысы, ах, сколько они несут в своих желудках возможностей жить тунеядцами. Овес трудно перевезти, и надо распродать извозчикам незаметно, вообще, с ним столько хлопот. Так не хотите ли ради Сусанны? Я, пожалуй, смогу ее сюда доставить, если вы отведаете овса.
— Сухого или вареного? — спросил доктор.
— Кони любят сухой.
— Я могу. Нужно вычесть пропорционально, сколько же я должен съесть, но мне надо запивать его хотя бы чаем, но, с другой стороны, кони же не пьют чай.
Людмила насыпала на тарелку. Все-таки поступок доктора ее изумлял.
— Кто бы вы ни были, но вы будете удивительным человеком, и я верю вам, что вы любите сестру.
— Мне только это и необходимо, вы тогда устройте мое счастье, мне необходимо только убедить вас, что существуют необыкновенные любовники, для которых половая любовь важна, но духовная все же стоит на первом месте.
— Вот это и кажется мне сомнительным, как так на втором животная часть?
— Но, извините, я не интересуюсь прошлым Сусанны.
— Да вы и настоящим не очень.
— Однако же вы утверждаете, что у вас было 400. Однако у вас нет ни одного ребенка, значит, вам мужья не дали того удовлетворения, в результате которого появляются дети. — Вы плохо знаете современную индустрию. — Доктор положил в рот несколько овсинок. Разочарование выразилось на его лице. Он думал, что овес приготовлен по особому способу, об этом он успел мне шепнуть, или он желал меня успокоить или показать, что Людмила сочувствует его любви; я тайком, ведь все смотрели на доктора, положил в рот овсинку и понял, что овес был самый обыкновенный, даже и не поджаренный, уж не говоря о каком-то особенном способе. Понял, что Людмила не испытывает к доктору никакого сочувствия, а желала его испытать. Как вы уже обратили внимание, руки у меня были связаны и мне надо было наклониться головой к столу. Доктор очень ловко придумал, когда завязал мне руки за спиной; мне стало противно, что он меня обманывает, делая этих людей выше той подлости, на которой они стояли, и я бы немедленно ушел, если бы мне не было противно обратиться с просьбой открыть дверь, открывавшуюся в комнату. Между тем доктор уже поднес миску с овсом к самому рту, затем попросил ложку и стал хлебать. Разжевывать ему было трудно, но легкий овал лица блестел и челюсти двигались с присущей ему твердостью. Он не хотел показывать, что производит какое-то особенное действо, он просто из любезности пробовал овес и тем временем вел с хозяевами разные любезные разговоры. Едва он доел миску и это гнусное зрелище кончилось, как Людмила, сказала, что он ел с одного конца, а теперь необходимо попробовать с другого, подвинула ему миску. — Человечество должно есть овес, — сказал доктор, продвигая миску, — мне просто кажется странным, что мы раньше не догадались это проделать, в этом есть особенная легкость, страшно хочется увлечения и молодости, хотя, конечно, не даром кормят детей овсянкой. — Вы сами ребенок, доктор, — сказал я, — с той разницей, что дети обычно ненавидят овсянку.
— Нужно их приучать есть овес, а не овсянку. Твердая шелуха, облекающая его, создает перегородки в желудке, за каждой перегородкой он будет отлично гореть, тысяча печей, если б средства вам позволяли, несомненно более равномерно нагреют вашу комнату, чем одна.
— Ваши рассуждения придадут любому безумству реальность.
И Людмиле мое замечание, видимо, не понравилось. Боюсь, что она подумала так же. Доктор посмотрел на велосипеды:
— Меня всегда удивляло коллекционерство. Я имел много книг, но пришел к заключению, что различия мнений только кажущиеся, особенно испытанные временем, и достаточно иметь по любому вопросу десяток книг, не исключая и литературы, чтобы иметь исчерпывающие сведения в данной области. Не думаете же вы, В. Л., из десяти велосипедов выстроить один автомобиль?
— Это будет не простой, а ракетный велосипед.
— Чрезвычайно любопытно, и тем более, что в нем я не вижу никаких особенностей.
— Особенность легко представить. Вот ставится консервная банка, наливается бензин, подносится спичка, бензин вспыхивает, и вы летите на желаемое расстояние. Хотите попробовать? Кстати, вы доели овес? Или вы желаете покушать еще?
— Я, собственно, сыт, но если Людмила Львовна желает продолжать испытание…
— Нет. Мне хватит.
Однако, она не шла за сестрой. Верила ли она в любовь доктора? Завидовала ли она сестре? Не знаю, но все-таки она не двигалась. Или ее заинтересовала выдумка братьев?
— Видите ли, я понимаю, что, вполне возможно, вам даже неприятно идти к Ларвину и Населю, но я могу проделать этот опыт, чтобы вы могли свободно его продолжать. Вы обещаете привести Сусанну?
— А почему ж не обещать?
— Доктор! — воскликнул я. — Но ведь это же чепуха. Как от взрыва бензина в консервной банке может возникнуть ракета?
— Вам неизвестна конструкция консервной банки, неизвестно и качество бензина, да и что вы знаете о велосипеде, какие в нем произведены улучшения. Я сам должен поджечь бензин, или есть фитиль, или вы подожжете?
— Нет, вы зажигаете спичкой, сами.
— Да вы и сами сгорите, и спалите дом.
— Где будет происходить опыт? На улице или в коридоре?
— Я думаю, в ограде.
— Прекрасно. Который велосипед, где банка, давайте бензин! Я спешу!
Доктор схватил первый попавшийся велосипед. Валерьян подал ему бензин. Осип — какой-то помазок и консервную банку. Я попробовал сказать, что велосипед сломают, но тот сказал мне, что надо его отучить, чего он хочет от девицы, зачем обижает, она и без того на все согласна, детей хочет, но это глупости: кто сейчас хочет детей? Многие из отцов сейчас «кукушествуют».
Злоба на доктора была огромная, но, с другой стороны, их смущала такая решимость, совершенно безрассудная, и мягкий овал его лицевой ясности. Конечно, Валерьян лгал, когда говорил, что ему не жалко велосипеда и что ему цены никакой нету, в смысле дрянности, он был такой оборотистый и такой специалист по этой части, что мог продать велосипед, приведя его в годность, хотя бы он целый год лежал в воде на дне речном.
Правда, и велосипед он дал самый дрянной, но я думаю, что его тревожило то, что к ним в комнату при нагоняемом ими ужасе никто не заглядывал, и они даже открыто сделали из своей комнаты склад, чего никто из всего дома не осмеливался сделать, все-таки первым пришел доктор. Осип же подуськивал брата потому, что ему надоел этот склад. Как можно торговать такими непортативными вещами? Недаром он твердил, то ли дело шоколад, в одном портфеле вы имеете полное состояние; кроме того, им хотелось и вытурить поскорей из своей комнаты нас.
«Видите ли, уже все ясно, все давно открыто, почему же не арестуете, ведь ясно, что мы сплавляем и нам разрешено сплавлять, а вы даже взятки не берете, ясно, что Черпанов действует по тайным инструкциям», — думали они, так я полагал. Выкатили велосипед, привязали консервную банку, там, где обычно привязывают разную ерунду. Велосипед скрипел и визжал, доктор понесся на нем по коридору, крича; «Прекрасный велосипед, великолепный велосипед! Какая быстрота полета! Давайте бензин, я прямо отсюда выскочу, лейте!»
Он держал в руке коробку со спичками, Валерьян бежал за ним, плеща бензином из бутылки; затем доктор вдруг начал стрелять спичками. Вам, наверное, помнится эта детская забава, прижимаете головку спички к черной полоске на коробке, другой конец сжимаете пальцем и щелчком бьете в сердцевину, спичка летит, горя. Тот вначале и не думал, что доктор осмелится с ним так шутить, доктор кричал: «Пропадает взрыв, я вас приближаю к себе взрывами, вы выплескиваете взрывы!» И начал стрелять во всплески.
Валерьян вначале не понял, а затем, когда спичка горящая пронеслась совсем было у локтя, он разозлился и швырнул в доктора бутылкой, но так как он напуган был возможностью взрыва в его руке бутылки, то он кинул ее недалеко, и на средине, приблизительно на расстоянии между доктором и Валерьяном, спичка встречная соприкоснулась с бутылкой. Доктор стрелял так метко или это чистая случайность, но спичка попала прямо в горлышко бутылки. Последовал взрыв. Через дым и пламя доктор пронесся на велосипеде. Валерьян стоял с растопыренными руками, и доктор наскочил на него, велосипед подпрыгнул, и произошло то, что зовется на языке велосипедистов «восьмеркой». Доктор перелетел через голову Валерьяна, велосипед впился ему в ноги, доктор упал ко мне в ноги, и мы вместе с ним опять очутились в комнате братьев. Доктор мгновенно уселся на корточки и спросил:
— А как вы думаете? Они не обиделись?
Лицо у него было испуганное и в то же время счастливое, он и сам, наверное, недоумевал в таких случаях — как он дешево отделался!
Я стал говорить, что наш последний поход завершен и нам надо вернуться на вокзал, опять мы опаздываем к поезду.
— Еще есть время, — сказал доктор, посматривая на часы, которые давно уже остановились.
Вошли братья и сестра. Я думал увидеть и Сусанну, но ее не было. Больше всего, думаю я, братья были ошеломлены тем, что все-таки после всего происшедшего мы опять сидим в их комнате. Валерьян накинулся на Осипа и начал бранить его, упрекая в том, что он подвел его и испортил ему отличный велосипед, который теперь нет времени починять, а есть только возможность продать на слом, благодаря чему нельзя «закрепить» денег.
— Вот свои конфеты ты продал, оставил вонючий торт, который никто не согласится есть, торгует всякой дрянью, я не знаю, ты только запугиваешь покупателя.
— Как я запугиваю? Вы, граждане, видите? — Он достал из чемодана картонную коробку, круглую. Мгновенно в комнате запахло кислым хлебом. Он открыл: — Говорят, испорченный. Вы понюхайте.
— Плохо пахнет.
— Откуда? Это из твоего рта пахнет. Просто ты давно не видал настоящих тортов, а может быть, ты в жизни их вообще не видал. Такие торты дарят только женихи невестам. Если бы мне не нужны были деньги на дорогу, я бы, очень возможно, купил всему обществу, в его брачной всеобщей ночи, когда сломают перегородки и когда ни у кого не должно быть имущества; откроют перегородки — у всех пусто, и у меня торт, вот как я люблю окружающих. Попробуйте, доктор! Да вы понюхайте!
Доктор понюхал и сказал, что, по его мнению, запах странный. Это можно было определить на большом расстоянии.
— Чего ж странного! Вполне возможно есть. Угощайтесь!
Ему не хотелось ссориться с братом, и, действительно, когда я видел у каждого различные выражения лица, то они были обычны, они были страшны только тогда, когда были вместе, а особенно, когда имели одно выражение лица.
— Видите ль, я исполнил ваше желание, поехал на ракетном велосипеде, но вы не исполнили своего: позвать Сусанну из дурного общества. Вы возразите, что взрыв произошел не у самого велосипеда, но уверяю вас, что ноги мои дали велосипеду совершенно такой же силы толчок, какой могла дать только ракета, не я виноват, что из-за дыма и тряски я спутал двери и попал в вашу комнату. Уверяю вас, что у меня было желание направиться именно во двор. Но все это легко исправить, давайте следующий велосипед!
— Это велосипеды не мои, я их продаю на комиссии! — вскричал Валерьян. — Загубили велосипед, а этот стоит как дурак и любуется гнилым тортом. Это возмутительно, вместо того, чтобы помочь продать мне велосипеды, продать все свое и изображать торговлю, когда в руках только один гнилой торт и дрянные конфеты!
— Это исключительный торт, его можно попробовать, доктор, не бойтесь, я обладаю таким искусством, что любые раны на торте будут залечены. Да не бойтесь кушать.
— Я сыт.
— Какая вонь! — сказала Людмила, наблюдая доктора с любопытством. — Он позовет Сусанну.
— Ради Сусанны Львовны я могу, — сказал доктор, еще раз нюхая торт. — Торт прекрасно пахнет, просто это больше было бензину и его смесь давала такой своеобразный запах. Порядочно времени мне не приходилось есть торта.
— Слушайте, доктор, это отрава.
— Что вы понимаете в отраве, Егор Егорыч? Большей отравы, чем любовь, нету. Об этом вы можете узнать в любой песне.
Осип проделывал это и с целью помириться с Валерьяном, и с целью рассмешить его. Он положил торт на блюдо, доктор сел за стол. Я был возмущен до крайности, а главное, — за кого же они меня принимали? Я стою с заложенными за спину руками, и в тот момент, когда они проносили мимо меня — возможно, что если б руки у меня не были связаны, я, размахивая руками, сказал бы только нравоучительные слова, но тут опять-таки мне мешали руки, я не знал, что сказать, да и вы сами можете заметить, что в описанном выше моем поведении нет многословия, — и вот, повторяю, когда Осип шел мимо меня с тортом и поравнялся со мной, я стоял поближе к доктору, доктор уже протягивал руки, изображая желание покушать, хотя ему было до чрезвычайности противно, я отступил на шаг назад и ногой ударил в торт. Торт метнулся кверху, оставив на волосах у Осипа основательный кусок своего бытия, описал мягкий круг над его головой и мягко шлепнулся на пол, еще более, чем прежде, наполнив комнату вонью. Валерьян и Людмила захохотали.
— Какой прекрасный торт погиб! — воскликнул доктор.
Я думаю, как и это замечание, так и смех брата и сестры заставили Осипа, который упал руками в торт, вымазав их — на них налипли куски торта, — быстро вскочить. Я думаю, что вряд ли они и видели, Валерьян и Людмила, — во всяком случае, они были на противоположной стороне стола, — что торт подшиб я, они подумали это на доктора, да еще его жалобное восклицание, после которого все рассмеялись, даже я не мог утерпеть. Осип, перегнувшись через стол, на другой стороне которого все еще сидел, полунаклонившись к тарелке с ложечкой в руке, доктор, упал на стол, рассыпав конфеты, он протянул свои руки, вымазанные кусками торта, и мазнул ими по лицу доктора.
— Прекрасная мысль! — воскликнул тот, не отклоняясь, а еще более протягивая голову по направлению к Осипу. — Но вы мне попадаете в лоб, кладите прямо в рот. — Это меня возмутило окончательно. Я подпрыгнул и саданул ногой в зад Осипа, затем другой ногой опрокинул стол, и доктор вылетел ко мне.
Должен заметить, что ногами, при отсутствии рук, как произошло со мной в данном случае, можно драться, но трудно управляться со своим туловищем. Осип не успел подняться, как я саданул ему ногой в грудь, удар был кривой в бок, что способствовало тому, что он перевернулся и упал лицом в торт, а Валерьян, устремившийся к нему на помощь, споткнулся, и я очень ловко саданул его ногой по шее, совершенно с твердым намерением свернуть ему таковую.
Людмила тоже устремилась в драку, желая заступиться за братьев. Тут я понял, что доктор со своей деликатностью может мне напортить. Кто-то крикнул «режут!», и сердце у меня упало. Я вспомнил о финках. Я думаю, что крикнула Людмила, так как братья мгновенно вскочили, полезли в карманы, я увидел черную рукоятку с кольцом, выпали две пары кожаных ножен, лица у них были одинаковы, и я подумал, могу теперь сказать, что такое смерть, когда у человека не связаны руки, он еще может размышлять не только в смертельном направлении, Валерьян кинулся к доктору, я закричал ему: «Бегите!» Передо мной лежала табуретка, прекрасный велосипед, которым я мог бы при других обстоятельствах чудно воспользоваться, даже торт, который я попирал ногами, но ноги мои отяжелели.
Доктор стоял неподвижно, спиной ко мне. Я не видел его лица, но, признаться сказать, мне хотелось его видеть — тут бы я мог решить, что же, наконец, за характер у этого человека.
Валерьян шел медленно, со зверским лицом, совершенно как в кинокартинах, но там торопить не желает зритель, а тут двери замыкал Осип, тоже с финкой. И вдруг доктор наклонился, схватился рукой за финку, выдернул ее и ударил лезвием о край опрокинутого стола!
Честное слово, но она сломалась с обычным деревянным стуком. Это были щепки, и в ту же минуту Осип уронил свою финку на пол. Людмила сказала презрительно или радостно, в общем она тоже, пожалуй, не любила «мокрого дела»:
— Дураки!
Я так и не узнал никогда, были ли у них всегда деревянные финки или доктор нашел возможность подменить им лезвие, мне было мало дела до этого, я устремился на них ногами и, пихая, хотя доктор и уговаривал меня, выгнал их в коридор, я не желал даже развязывать рук, дабы не портить кулаков о такую гадость.
Они выбежали в коридор, эти два серых паршивца, я их подогнал к дверям комнаты Ларвина, полуоткрытым, — и я отстранил их, и вошел туда. Сусанны там не было. Компания Ларвина: Насель, Жаворонков, несколько родственников Населя — пьянствовали. Они меня встретили подобострастно.
Доктор, увидев через мое плечо, что Сусанны нет, тотчас же ушел, скрылись, было, и братья, но, увидев, что может пропасть закуска, подсели и тоже начали выпивать. Людмила тоже села. Я не знаю, еда ли их соблазнила, или, может быть, песня. Пели известную — с припевом «Уходит жизнь». Пели плохо, грубо, вся дикость была здесь, когда еще недостаточно пьяны, что называется, «в лоск», но когда проявляется грубость.
Право же, если прислушаться, то это походило на волчий вой. Лица у всех были мрачные, сухие, с широкими носами, с железными скулами, поджарые — особенно в припеве выпадали все звуки и оставался один: «у… у…» Мне подумалось, что все звериные вой опираются на этот звук, мне стало противно, припев расширился, особенно вытягивалось лицо Ларвина, а за ним тянулись Насель и его родственники с тоненькими мордочками и бухал «у» Жаворонков!
У притолоки вырос Черпанов. Я его не заметил раньше среди них.
— Хороша песня? — спросил он, щурясь.
— Песня хороша, но не вы ли хор составили?
— Нет, знаете, они природные певцы, я и сам-то у них учусь, где мне… «У-у-уходит жизнь, у-у-у…» Очень трогательно, с одной стороны, и есть нечто похоронное и нечто возвышенное. Ведь в похоронных мотивах никакой возвышенности нет, что будущая жизнь? Там ведь Черпанова может и не быть, а на земле он всегда будет.
— Неужели всегда?
— А как же? У меня отец был фокусник, тоже Черпановский, тогда в театре мода была на «ский» оканчивать, для благозвучности, что ли, дед был старинного дворянского рода, а женат на купчихе…
— Но прошлый раз…
— Да что прошлый раз. Экая у вас память на ошибки! Вот вы записочку почитайте.
Тем временем он меня вытеснил в коридор. В записочке, очень сложной и витиеватой, — приводить я ее не буду, — дядя Савелий приглашал зайти Черпанова. Я заинтересовался, почему же он не пошел.
— А я, знаете, и от успеха и оттого, что братья Лебедевы летят, совершенно обалдел, и дядя Савелий! Эх, если б вы знали, какая это хитрая бестия! То есть всю правду мне, если захочет, скажет. Я теперь только его и понял.
— Какую ж вам правду надо?
— А вот, например: стоит ли мне всю эту шпану вести или нет? Подозреваю, что все ключи у него, и, тем не менее, удерет, я сегодня только и делаю, что по коридору и у ворот бегаю, — в окно убежит, нет, не убежит, — опасно, на дрова церкви разбирают, могут увидеть и поймать, а во дворе — махнул через забор — и кончено. А за каким чертом ему меня по письму приглашать? Очень страшный человек!
Разговор Черпанова меня заинтересовал чрезвычайно, кроме того, мне хотелось отдохнуть, а в комнате дяди Савелия было так тихо.
— Птичек держит. Скажите, какую ж волю надо иметь, чтоб, будучи в таком положении, волю иметь птичками заниматься. А они мне не верят, будто я уже все заполучил.
— Да что вы могли заполучить? Кто Лебедевы?
— Одним словом, идемте!
В комнате дяди Савелия по-прежнему чирикали птички, по-прежнему он играл в шашки с Львом Львовичем, лицо у которого стало еще багровей. Дядя Савелий вежливейше подвинул к нам стулья. Мы сели. Черпанов нервничал. Особенно его возмущали птички.
— Мешают? — спросил Савелий.
— Не люблю птиц.
— Так ведь и я, Леон Ионыч, думаете, люблю? А так, видите ли, для полного комплекта держу.
— Для какого полного комплекта?
— Надо, знаете, приверженность к старому быту показать. Ко мне ведь люди приходят и должны видеть: живет старичок мирно и ловко и все атрибуты сохранил: и птички в окне, герань, коврики, иконки, а мне, в сущности, Леон Ионыч, на все наплевать, но раз нужный человек воображает меня в таком виде, отчего ему не польстить? Вот вы вещичку тут из готовой одежды ищете, а ее мне принесли, все в силу той же ко мне веры.
— Я не думаю, чтоб вы мне ее уступили, дядя Савелий, но хотя бы посмотреть.
— А почему не уступить? Если б еще до поездки на Урал, я бы интересовался одеждой, но она хлопотна, моль ее ест.
— И на Урал вы не поедете, и одежду вы у себя не храните, и вещь мне не уступите.
— Совершенно верно, я вещей не храню, но из того, что говорю с вами искренно, можете понять, что на Урал я поеду, Леон Ионыч. Вы же мне там тулуп на бараньем меху непременно выдадите?
— Выдам. Вам-то зачем ехать?
— Я очень сгожусь. От меня, если вдуматься, самый вред происходит. Я очень атмосферу чувствую. Вот у меня сестра — Степанида Константиновна тоже прекрасно чувствует, но однобоко, а я могу ото всех атмосферу собирать, и вот вижу, жить мне в дальнейшем невозможно.
— Совсем или на срок? — спросил я.
— Да ведь много ли мне до смерти осталось? Очень незначительный срок. У меня рак.
— Врете.
— Ну не рак, так малярия.
— И малярии нету.
— Откуда вам известно?
— Лебедевы говорили.
— А я и не знал, что вы с ними знакомы, Леон Ионыч. Очень любознательные молодые люди. И выходит, что с вами, Леон Ионыч, надо говорить откровенно, поскольку вы знаете Лебедевых. Я думаю, молодой человек, касательно нашего уничтожения, на срок!
— Нет, навсегда!
— Фу, какой вы горячий, Леон Ионыч, сразу видно человека высокой партийности, никаких противоречий. Вижу гибель собственно в гибели своего прейскуранта. Он у меня чудной. Смотрите на лицо. Вот как все можно прочесть, скажем, хотя бы потому, что этот человек может воздействовать на шофера, что, скажем, свалил ко мне на двор сахар с грузовика, а сам грузовик без мешков утопил в Москве-реке. Вот ко мне и обращаются. Я иду, говорю, самое важное — это умение вести сейчас переговоры, вежливость и доброта голоса. Или кипе материи в складах гигантских затеряться трудно ли? Ну они и теряются. Возчика подговорить легко, его, в крайнем случае, и напоить можно, а вот как ты прочтешь душу заведующего? Он и ко мне придет, поговорит, и в шашки сыграет, и птичку послушает, противно, но слушает, и пошлю я его к разным лицам, он и рекомендации моей поверит, и тогда — пожалуйста, бери с него. Но самое главное, то…
— Ну, ну!..
— А что, любопытно?
— Почему ж не любопытно? Мне любопытно, чем вы можете мне полезным быть на Урале.
— Самое полезное во мне не только прейскурант находить и соответствующих людей подсылать, которые могут с данным предметом обращаться, а самое главное, чем я и смогу быть полезным и без чего вы без меня сдохнете на Урале, — это осторожность.
— Только-то?
— И очень много. У вас только этого не хватает, отчего и может произойти полное крушение планов и освобождение меня раньше срока. Вот вы начнете комбинат строить, так в квартирах всем зеркальные окна, ведь это глупости, при нашем климате такие окна строить. Так мой прейскурант чем ценен и почему многие товарищи не попадались из нашего дома? Потому, что берет Ларвин, скажем, у данного человека продовольствие, берет и берет, а я прихожу, смотрю и говорю: будя, Ларвин, не перемахни через край. И Ларвин дает обратного ходу.
— В чем же вы почувствовали гибель?
— Птичка не действует, и обстановка не действует. Переменить, что ли, надо, не понимаю, забывать начал.
— Поэтому и едете с нами? Ой, врете, Савелий Львович!
— Опять дамку фук, что-то ты нонче, Лева, неудачно играешь. Ну, зачем мне открывать карты, Леон Ионыч? Вон вы подойдите к столу и посмотрите списочек, в нем все мои заказчики переименованы, я его закончу и отдам.
— Зачем же, вы мне его в таком виде дайте.
— Да нет, зачем же? Я лучше закончу.
Он встал и положил в карман.
— Да тоже ложный список, наверное. Зачем вам выдавать?
— Как зачем? А если я искренно хочу перестроиться?
— Но ведь вы же сами говорите, что не бесконечно.
— Но у меня рак.
— Просто хотите перехитрить. Опять врете. Все в шутку обращаете. И список ложный.
— Но вот насчет осторожности…
— Насчет осторожности — правда. Жаль только, что я вот поздно заметил.
— Ну, что ж, можно и поздно с приятностью побеседовать. Не хвастаясь, могу сказать, что без моей осторожности они давно бы погибли.
— А вот что интересно, что они советовались с вами перед тем, как собрались в поездку на Урал?
Савелий передвинул шашку, держал ее долго в пальцах и осторожно поставил.
— Советовались, — сказал он твердо.
— Все?
— Почти все.
— А кто же не советовался?
Он ткнул в меня шашкой пренебрежительно:
— А вот они с доктором.
— Что ж, мне их и брать, по-вашему, не стоит?
— Зачем же, возьмите. Вот он раньше ко мне относился без почтительности, а теперь полная почтительность, Егор Егорыч. Образумятся. Молоды, неосторожны, папиросками обжигаются, я вот со злости на них и костюм-то перепродал. Очень обидные у них были поступки.
Черпанов не удивился, вернее, он не верил тому, что костюм может быть продан.
— Костюм дрянной, вот и продали.
— Зачем дрянной? Как раз в рост Егор Егорыча.
— Опять же, вы и обижаться не можете.
Дядя Савелий срубил три шашки. Лев Львович вздохнул, начали новую партию.
— Это вы совершенно верно насчет обид. От лишних обид много зла, где мне обижаться; я из себя обиды, как говорится, раскаленным железом вытравляю да и остальных учу.
— Вот и доучили.
— До чего же?
— Да жизнь-то вокруг вас совершенно пакостная.
— Неужели? Просто обстановка неподходящая. Живем в тесноте, в грязи, а ведь если расставить по-настоящему, будет даже очень красиво. Я вот как-то мимо каморки проходил, где Егор Егорыч с доктором остановились, и доктор различные мысли развивал, я подслушал. Я, сознаюсь, люблю подслушивать — поучительные мысли иногда схватываешь. Так доктор очень метко нас поставил. Я послушал и тоже, сопоставив со своей жизнью, решил: нет, надо тебе, дядя Савелий, отказываться, а тут, кстати, и вы, Леон Ионыч, подъехали, как бы чувствуя мое решение. Однако, вы можете подумать, что я увиливаю, насчет того, кому продал я костюм, — так я его на сладкие вещи променял, хотя мне их и есть нельзя, у меня диабет.
— Не диабет, а рак.
— А я думал, что это одно и то же, хотел вот доктору показаться, так он, оказывается, специалист по другим болезням. Видите, и память начало отшибать, очень я болен, Леон Ионыч, придется вам, вскоре по приезде на Урал, помещать меня в дом отдыха.
— Поместил бы я вас в другое место.
Дядя Савелий встал и, указывая рукой на дверь, строго сказал:
— За грубиянство прошу покинуть помещение! Если вам поручено нас набирать, так набирайте без надругательств, а с полным уважением. Я перехожу с вами на чисто официальную точку зрения. Список будет вам доставлен завтра, всех моих клиентов, а костюмчик я продал Валерьяну, Осипу и Людмилочке. Так как они знают, что это ценности большой не представляет, раз я его из рук своих выпустил, то они его вам уступят по себестоимости или даром, может быть, подарят. А теперь, прошу выйти.
И мы вышли. Черпанов был потен, но необычайно возбужден:
— Как хитрит! — он схватил меня за руки и тряс. — То есть, до чего ж хитер! Как вы думаете, верит он мне, что я есть Черпанов?
Я удивился:
— Странно, почему же ему вам не верить?
— Ой, не верит. Если б верил, документы бы потребовал. Удерет, непременно удерет. То есть, какими надо дураками быть, этим Лебедевым, у них кулаки вместо головы; если б они сказали, что он здесь главный, я бы сразу к нему пришел и все было б сделано, а то Степанида Константиновна! Идиоты! Вот если б, Егор Егорыч, вы решились обворовать.
— Да что у него есть!
— Все есть, чего мы даже и подозревать не можем, не осмелимся.
— Извините, но, кроме ловкости, у него ничего нет, да ничего ему и не надо.
— А жадность? Думаете, он может преодолеть жадность? Тьфу! Всю ночь буду караулить, и вы, Егор Егорыч, обязаны, это государственное дело.
— Ну вот, выдумали, буду я какого-то гнусного старикашку караулить!
Он посмотрел мне в глаза и сказал:
— То есть, вы просто дурак и больше ничего.
И он ушел от меня, оставив меня в крайнем изумлении. Я впервые видел его таким сердитым и расстроенным.
Встретил доктора. Он шел веселый. Веселость его мне малопонятна, причиной ее бывают всегда странные выводы.
— Как же рефлексы, пришли ли вы к каким-либо выводам?
— Иногда я не считаю свое мышление грубым, но все же мне кажется, что здесь нет ничего, кроме жестокости.
— Завтра уезжаем, — ответил доктор, — мне вас жалко, вы станете пессимистом, а это в двадцать пять лет опасный случай бешенства.
— Но не заразный.
— Нет. Так как мы уезжаем завтра, то нам не мешает переговорить с Сусанной. Мне хотелось бы, чтобы вы были свидетелем.
— Я и так достаточно был свидетелем ваших безумств.
— Согласитесь, что никакого безумства с Сусанной не произойдет и драться я с ней не буду. К сожалению, наш поход был, действительно, последним. Словами их не прошибешь, очень странно, что в столкновении с капиталистическим миром я оказался моралистом, а не материалистом.
— Вы искусственно выключили всяческую общественность, вам не к кому, оказалось, апеллировать, кроме как к их совести, а это вещь шаткая.
— Я рад, что вы так рассуждаете, Егор Егорыч, встреча с вашим ясным умом доставляет мне всегда искреннее удовольствие, я рад бы с вами побеседовать, но мне нужно просто поразмышлять, ведь согласитесь, если это был последний поход, то вышло, что я не нашел виновников истинного падения Сусанны Львовны.
— Да, может быть, и нет никакого падения, может быть, вам это кажется падением, а она просто не в состоянии задуматься над этим, да, может быть, ей и не нужно задумываться над этим, может быть, вы, если вам удастся произвести в ней соответствующий душевный переворот, сделаете ее просто несчастной.
— К глубокому моему сожалению, должен вам сознаться, что падение было. И такое падение не могло ее не потрясти. Ваши соображения меня б глубоко порадовали, я посижу, подумаю.
Доктор меня смутил, он говорил весело, но, правда, он иногда падением считал такое, что вряд ли могло считаться падением, если особенно это происходило в его воображаемом «неизвестном государстве», да и способ размышлять возле помойной ямы у всех на виду был уж слишком нелеп. Я посмеялся и лег. Если я раньше не верил, что мы уедем, то теперь для меня становилось совершенно ясно, что доктор, увидев, что у Сусанны взаимности не получить, решил смотаться. Прошло 10 дней. Отпуск мой кончался. Жалел ли я, что потерял свою путевку в дом отдыха? Нет! Я видел достаточно много, чтобы быть удовлетворенным. Так я лежал и думал. Постучали в дверь. Я уже знаю стуки. Это Насель. Так оно и оказалось.
— Доктор любит подумать, — сказал он, садясь возле меня на койку. — Это хорошо, я пока успею с вами поговорить.
— Вряд ли нам есть о чем с вами разговаривать, — сказал я, — я решил на Урал не ехать.
Решение, которое я высказал Населю, вылилось из меня внезапно. Я очень обрадовался этому. Мальчишеский конфуз, что оконфуженный вернусь в больницу, прошел, кроме того, мне надоела истеричность Черпанова и особенно последние разговоры с ним, кроме того, я просто гордился тем, что перенес столько испытаний с доктором и мне будет приятно поделиться в будущем воспоминаниями. Я только жалел, что не сказал этого доктору, но и то, что не сказал ему, доставило мне удовольствие.
— Понимаю, — сказал Насель, — вы снимаете с себя всю ответственность, но я просто хотел с вами лично переговорить, безразлично к тому же, едете ли вы на Урал или нет.
— Поговорить можно. Мне, кстати, вспоминается одна история…
— Маленькая история, — сказал Насель, — а скажите, до такой ли вы степени близки с Черпановым, чтобы знать, получил ли он телеграмму от Лебедевых, как я слышал?
— Получил.
Чрезвычайное беспокойство отразилось и без того в беспокойной фигуре Населя.
— Следовательно, мои родственники не обманулись, и вы читали ее.
— Читал.
— Они выезжают сюда?
Я кивнул.
— Ну вот, так и знал, а все родственники, все им надо зимние шубы, а нет чтобы на приличную работу поступить, переквалифицироваться. Убьют они меня, Егор Егорыч.
— Родственники?
— Нет, Лебедевы. Как вы полагаете, громадное влияние имеет на них Черпанов, боятся они его?
— Я думаю, что наоборот.
— И я тоже так думаю. Следовательно, если нам навстречу им поехать и разъехаться, то и это невозможно. Черпанов до их приезда не согласится выехать, он напугался, как, по-вашему?
Я подтвердил его соображения.
— Какую власть могут приобрести голые мускулы? Ведь ума нисколько нет, будь бы ум, я бы не согласился, а мне и родственники и они говорят: действуй, Насель.
Что, всучили кому-нибудь какие часы?
— Ох, больше, Егор Егорыч. Убьют они меня. Ведь это же звери, а не люди, они, озверев, все могут кулаками раскидать. Единственное спасение, Егор Егорыч, это Ларвин правильно придумал, — устраивать нам коммуну и побить эту грубую силу высотою наших идеалов. Но ведь вот вопрос: кого же нам избрать председателем коммуны?
— Кого? Черпанова, конечно.
— Мы уж думали, Егор Егорыч, но какой же он коммунар, если Лебедей боится? Надо лицо авторитетное, чужое и спокойное. Мы думаем пригласить доктора Матвея Ивановича.
Я рассмеялся.
— Кто это мы? Доктор вас страшно обижал, и вы все его обижали.
— Ну, мало ли кто кого в государстве обижает, а здесь некоторым образом государство.
— Скажите, но кто же это мы?
— Да есть у нас такая ячейка. Валерьян Львович, да я, ну еще некоторые примкнут к нашему движению. Доктор Матвей Иванович — человек стойкий, крепкий, кроме того, можете быть уверены, что Сусанна Львовна на все согласится, и можете ему передать.
— Извините, я такие гадости не передаю.
— Зачем же гадости, если девушка соглашается быть матерью.
— Матерью? Согласилась?
— Как же, как же. Так что посодействуйте, Егор Егорыч. Ведь если б я согласился поехать с Мазурским, все бы шло более прилично, но я отказался ехать с ним к Лебедевым, а он на меня такое наплетет!
— Да что вас с ними связывает, спекуляции, что ли?
Он со злостью плюнул:
— Родственники меня связывают! Просто не решаюсь вам сказать, но вы и на доктора несомненно имеете влияние, укажите ему, как важно и лестно ему быть председателем, тем более, что и Сусанна Львовна соглашается.
— Позвольте, но ведь вы говорите, что Сусанна Львовна любит до такой степени доктора, что соглашается быть его женой и матерью его ребенка, но для меня тогда кажется странным, как же вы думаете провести в вашей коммуне общность жен? Ведь это же — один из лозунгов Ларвина, который вы поддерживаете?
— И буду поддерживать. Повторяю вам, что это единственная возможность воздействовать на Лебедей. Усмирить их неистовство, так сказать. Что же касается доктора и общности его жены, то для него мы проведем исключение.
— Как же так: первая коммуна такого рода в СССР и председатель коммуны будет иметь отдельную жену?
— Это для него будет отдельная, а для всех будет как бы общая.
— То есть вы его будете обманывать?
— Зачем обманывать? Это он нас будет обманывать.
Необыкновенная мысль осветила мою голову.
— Позвольте! — воскликнул я. — А не дядя ли Савелий дал вам такие советы?
Насель смутился.
— Что ж, Егор Егорыч, я буду откровенен: он.
— Не советую я вам говорить это доктору.
— Почему же? Разве уж вы так точно знаете его душу? Если он столько времени и с такими лишениями добивался любви Сусанны Львовны, причем даже, извините меня, ревновал, то ведь ему счастье даром идет. Я вас только попрошу передать дословно, о чем мы говорили, а кроме того, с ним и Сусанна Львовна будет говорить.
Тут вошел Черпанов.
— Я служу у вас скоро две недели, Леон Ионыч, но я не знаю, какой у меня оклад и получу ли я его.
— А хоть завтра.
— Нет, благодарю. Я должен вам сказать, Леон Ионыч, что я отказываюсь от поездки на Урал.
— И прекрасно. Не будете под ногами мешаться. Вот мне надо насчет костюма к Валерьяну и Людмиле идти, а вы туда раньше попали и напакостили, обидели, подрались, а еще сознательные.
— В данном случае, если я с вами пойду, это ничего, кроме пользы, вам не принесет.
— Почему так?
— Они желают доктора избрать председателем коммуны.
— Мысль хорошая. Позвольте, но ведь ее именно дядя Савелий выдвинул?
— Он.
— Ой, убежит, ой, до чего ж хитрый. Слушайте, Егор Егорыч, тогда я вам говорил как испытание, а теперь серьезно. И даже отлично, что вы у меня не служите, иначе можно было б рассматривать подобный разговор как служебное насилие. За две недели все-таки я вам выплачу, об этом не беспокойтесь. Разрешите вас спросить, Егор Егорыч, как вы относитесь к золоту?
— Да безразлично.
— Нет, к личному пользованию?
— Никогда не было.
— Плохо. Силы не знаете. Но деньги любите?
— Если они нормально добыты и без хлопот.
— То есть жалованье. Обюрократились вы, а всего только 25 лет вам. Хорошо, но хотите за одну ночь получить пять тысяч жалованья, самое меньшее?
Я промолчал — и от неожиданности и от любопытства, кроме того, я знал, что молчание заставляет всегда Черпанова говорить более связно. Он продолжал:
— У вас нет оснований верить в корону американского императора, а у меня есть. И по-моему, корона эта хранится у дяди Савелия. И я даже знаю где. Видели вы, на полу стоит плевательница, какая в вагонах употребляется, причем верх у нее снимается, и он в нее усердно сплевывает. Почему такой человек, который так стильно выдержал свою комнату, будет держать отвратительную плевательницу, постоянно напоминающую о вагонной пыли. Вы возразите, что купил случайно… Окно открывает. Нет, ветер. И что тут такой гнусный фонарь? Ничего не видно. Нет, такой человек ничего случайного не купит, а она тяжела, ногой не опрокинешь, а по размеру как раз для короны, потому что ее делали не громоздкой, дабы легко было через границу перевезти. У меня есть пять тысяч для организации этого дела, и я их вам отдам, а мне корону. Иначе меня убьют.
— Кто убьет?
— Лебедевы убьют. Никакая это не комиссия, и вообще это несчастьем было для меня, Егор Егорыч, познакомиться, да, собственно, какое это убийство?
— Убийство?
— Мое убийство, духовное, меня, как лица. Было у меня маленькое граверное заведение в Свердловске, занятие у меня родовое, и папаша у меня, Константин Пудожгорский, его имел, он был антрепренером, но, спасаясь от воинской повинности в империалистическую войну, открыл для работы на оборону такое типографски-граверное заведение, штемпеля и печати. Тут я и подучился и, когда дело перешло ко мне, — его расширил и даже очень отличную спекуляцию проводил с печатанием библии, но тоже лопнул и вынужден был поступить на службу. Сами знаете, Егор Егорыч, каково из командования в подкомандование попасть. Скучно! А тут ко мне на улице однажды субчик подходит и прямо спрашивает — не желаете ль подзаработать? Пожалуйста, говорю, но только чтоб нелегальщины никакой. Нет, говорит, мы по спекуляции. И заплатили мне за штемпель солидные суммы. Наделал я штемпелей, знакомства завел в данной области. И вдруг все исчезло. День, неделя, две — нету заказчиков. Значит, кто-то влопался, а меня заберут. Думаю, надо драпать. Забираю манатки и на станцию. А тут мой заказчик в поезде уезжает, и его провожают несколько здоровенных дядей. Он за несколько минут подводит меня к ним и говорит: вот окружите и используйте, он у меня деньги и документы украл. Кричать мне бесполезно. Или я карманник или жулик? Что лучше? Молчу. Кончилось, они ему руки пожали, а мне говорят: иди, беги от нас. Я и ушел. А в переулке — раз, по уху. Смотрю — один из пяти. На улице — раз по зубам. Смотрю — другой из пяти. Я убежал и на бульваре, уже вам описывал, как они меня по затылку огрели. Но сути главной я им не открыл… Они меня привели, и верно, говорят, мы тебя везде найдем, от нас не скроешься. И я поверил. Система воспитания удивительная, я вам скажу. Дают они мне документы, велят усы отрастить. Отрастил. Документы, говорят, на имя Черпанова, поезжай и корону американского императора выкради. Я и в больнице был, и точно, меня там доктор видел, удостоверился, что есть такая корона и весь город говорит о ней.
— Почему же они сами ее не могли найти?
Они ее, было, совсем нашли и решили, что у Степаниды Константиновны, но мозги у них деревянные, ошиблись, а корона-то у дяди Савелия. Почему они уехали — мне неизвестно. Вообще в этом деле много неизвестного. И зачем им возвращаться, что им мог Мазурский сказать, и куда я побегу с короной, особенно костюм меня убедил. Они мне дали поддевку, чтобы я ее для завязки знакомства продал. А теперь, если я их не встречу с короной, они меня убьют.
— Да бросьте, это чепуха, никакой короны нет.
— Как нет? А ювелиры украли золото. Были бессребреник, энтузиасты своего дела. Ведь вначале Мазурский был по обвинению в золоте арестован…
— Мазурский?
— А как же? Но его отпустили. Они с ним и разошлись, чтобы с дискредитированным человеком дела не иметь. Очень жаль, что вы с Мазурским на эту тему не поговорили.
Его рассказ о Мазурском меня взволновал. Вначале я думал, что он шутит, но теперь я начинал ему верить. Кроме того, и обычной его самоуверенности было мало и по карманам он не шарил.
— Мне жаль, Леон Ионыч, но мне просто не верится, что вы самозванец. Такой умный человек, такие удостоверения!
— Да что мандаты! Я гравер. Я вам в течение одного дня сотню удостоверений могу наделать. Это дело плевое. А, кроме того, документы на имя Черпанова были.
— А телеграмма от дирекции?
— Я должен был пойти и кое-что сделать. Я сходил к инспектору. Затем послал телеграмму. Я легализовался. Телеграмма эта меня и смутила.
— Позвольте, но мог настоящий Черпанов появиться?
— А что дурного я сделал против дела настоящего Черпанова? Я же вербовал. Я даже увлекся этим делом. Вот сейчас смотрю и думаю: может быть, этот административный восторг и погубил мою жизнь? Никак не могу припомнить, кто мне эту первую мысль о нелегальной вербовке дал — или доктор или дядя Савелий. Если доктор, то все правильно, а если дядя Савелий, то обкрутил, он почувствовал, что корона уходит из его рук. Надо, Егор Егорыч, действовать. Я вам открылся.
— Боюсь, что вы шутите, Леон Ионыч, тем более после того, как я отказался от службы. Мысли же о короне мне кажутся совершенно нелепыми.
— Ну, что ж, можете на меня донести. А вообще советую вам смотаться отсюда. Ну, придут, заберут меня. А что узнают? Если не я, так никому не поймать дядю Савелия с короной! Ведь иностранец-то приезжал.
— Да вы пошутили.
— Пошутил. Пойдите в Уральское представительство, и вам скажут, что Черпанов стоит здесь-то. Единственный способ развязать ваши сомнения. Только мне не мешайте. Идите сейчас же.
— Сейчас ночь.
— Можно и ночью, раз такое спешное дело. Валяйте и не собирайте зевак своим растерянным видом.
Я ушел из комнаты чрезвычайно смущенный. Не скажи мне Черпанов о представительстве, я бы пошел, но мне было как-то неловко. И если б не разговор с Населем. Доктор все еще сидел на разбитых кирпичах. Несколько раз выходил я ночью. Черпанов все еще стоял во дворе. Доктор вернулся вскоре.
— Вы не спите? — спросил доктор. Я вскочил. — Мы с вами славно напугали братьев. В конце концов сейчас вы вряд ли будете спорить, что удар мы с вами нанесли правильно. Сусанна Львовна освобождена из семейных оков.
— С вами говорил Насель?
— Да, у меня с ним и Валерьяном был продолжительный разговор. Валерьян основательно испуган нашей неустрашимостью.
— Они вам предлагали председательское место?
— Нет. Они передали только, что Сусанна согласна быть моей женой. Я думаю, что необходимо сейчас же, по горячим следам, пойти и объясниться с нею. А что это за председательство?
Я объяснил предложение Населя и Валерьяна, не убавив нисколько цинизма их.
— Ах, об этом, видимо, будет особый разговор. Странно, но я никак не думал, что у Черпанова могут быть-таки полномочия, да и вообще могут ли существовать такие полномочия? Нам необходимо сейчас же поговорить с Сусанной. Если они точно желают сделать мне такое предложение, то они, несомненно, оставили Сусанну одну. Идемте.
Я долго отказывался, но любопытство, а затем разговор с Черпановым так взволновали меня, что я чувствовал, что мне не уснуть. В доме была странная тишина, какой, пожалуй, не было во все дни нашего обитания здесь.
В коридоре перегорели лампочки, что ли. На крыльце тоже лампочки не было, да и огни в комнатах были потушены, хотя едва ли было и 11 часов вечера. Зажигая спички, мы, спотыкаясь и невольно говоря шепотом, дошли до комнаты Сусанны. Лампочка была завешана, или просто кто-то вывинтил, и я подумал, что, пожалуй, Черпанов прав, когда опасался, что дядя Савелий хочет удрать. Сусанна, сверх обыкновения, была приятно одета и даже кокетливо.
— Сватать пришли? — сказала она. — У меня столько женихов перебывало, и вот ведь и сестру из комнаты не выселишь, а у нее или подруги, или тоже женихи, и постоянно про любовь говорят.
— Нет, мы вас пришли пригласить на вечеринку. Нам нужно поближе познакомиться. Знакомство в своем доме, где вы находитесь среди своих вещей, не есть в сущности знакомство с характером человека, надо увидеть человека в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми, только тогда его поймешь целиком.
— Куда же вы поведете? Меня легко уговорить.
— Мы думаем пойти в Петровский парк.
— В Петровский парк? — переспросила она с удивлением.
— Да, а предварительно пошатаемся по Смоленскому рынку. Любите ли вы рынок? Я люблю. Приглядываешься к лицам, встречаешь знакомых и вдруг — уйдешь не туда, куда нужно.
— Позвольте, но какой же рынок в 11 часов ночи?
— Хотят открыть ночной рынок. Он же существует, рынок преступлений и убийств.
— Не-ет, — она посмотрела на него с презрением, она словно бы вспоминала, я не придавал особого значения его болтовне, да и она тоже, но тем не менее, она слушала напряженно, всем телом.
— Нет, я не пойду с вами в Петровский парк. Я не люблю вообще Петровского парка.
— Однако, вы в него когда-то ходили.
— Ах, поймал, поймал! Ну да, ходила и буду ходить! Подумаешь, беда!
— И стоило, стоило столько несчастий терпеть. Вот здесь ожегся, и здесь спалил, и глаз подбитый, бедный, и все ради того, чтобы узнать, ходила ли я в Петровский парк. Нет, не ходила. Угадала, прямо с рынка, решила проследить за торговцем, вдруг вспомнила, позвольте — и сама напугалась.
— Вы ли вспомнили?
— Нет, не я.
— А кто?
— А ты кто такой? Агент?
— Нет, я ваш жених.
— Совершенно верно, но разве агент не может быть женихом? Забыла, кто вспомнил.
— А это очень важно?
— Разве важно? Ведь только напугали.
— Однако, испуг им тяжело достался. Да не напугали.
— Ну, говорят вам, напугали.
— Позвольте, но почему же идет слух о короне американского императора. А вдруг вы нашли корону.
— Неужели она есть? Вы знаете, я бы много жизни отдала, чтобы хоть померить корону. И неужели так-таки и делается руками вот таких людей корона? Ведь это ж были пустяковые люди.
— Но вы их любили. Женихи ревнивы, и мне хочется знать. Вообразите, что я это из ревности сделал, чтобы узнать, любили ли вы их.
— Интересно, откуда и как вы могли узнать?
— А я намекал. Вот здесь, грубо. Я вам всем говорил одну фразу об одном предмете, и неизбежно всех, кто ни участвовал, возмущало это, но так как при повторении одной фразы вы бы легко могли понять, то я и возмущал всех, дабы дать всем возможность не сговориться между собой, и не встревожиться, и не расстроить поимку вас. Конечно, память у вас слаба, да и в конце концов, что это за дело, оно приобрело только значение, когда всплыла легенда о короне, когда подумали, что корону утащили вы и обратили все усиленное внимание на вас и начали воздействовать на вашу сестру, но никто не догадался, что ваше истинное призвание быть матерью и только тому человеку вы откроетесь, который будет отцом вашему ребенку.
— Но с чего вы взяли, что я хочу быть матерью? Правда, я соглашусь быть вашей женой и матерью, если хотите, но никакой короны у меня нет. А как же будет, вот узнал, что же, если любишь, значит, не выдашь. Сколько за это припаять могут?
— Да годика три-четыре.
— Двадцать пять лет будет почти. Неинтересно. Конечно, лучше быть матерью.
— А братья не участвовали?
— Валерьян и Осип? Нет.
— Вспомните.
— Ну, я все отлично помню о братьях. Мне ли не помнить.
— Следовательно, кого вам больше жаль — братьев ли, которые потеряли влияние, так как я их запугал, и то, что вы остались одиноки и почувствовали во мне какую-то силу, которая чем-то похожа на силу братьев, и ужас, внушаемый ими, который исказил и мое лицо, что вам и понравилось, хотя именно это раньше мое лицо вам и не нравилось, или я, подлинный Матвей Иванович, 27-ми лет, которого вы любите и соглашаетесь быть его женой?
— Вы, Матвей Иванович. Зачем вы этого чудака привели с собой и при нем я должна вам объясняться в своей любви.
Она засмеялась.
— Я уже понимал, когда впервые шел сюда, не в вашу комнату, а к вашему дому, что любовь наша будет несчастна. И вот теперь вышло так, что я должен отказаться от любви. Я не могу ее купить.
— За кого?
— За ваших братьев. Они были там?
— Нет, их не было. А впрочем, были. Были. Вот и нет братьев. Теперь принимаете любовь?
— Нет, торг продолжается.
— Мы привыкли торговаться.
Она встала.
— Что же мне, подушку брать, одеяло, а зубной порошок?
— Повторяю, я не агент.
— Ну, тогда бегите скорей в милицию.
— Нет, я думаю, что судить вас будут только двое: я и Егор Егорыч, и заранее можно сказать, что приговор будет оправдательный. Вы говорите, что ничего в комнате не было взято. Я вам верю. А Мазурский был с вами?
— Нет. Его зря арестовали, да и освободили.
— Совершенно верно. Никто не знает, что вы были. Но преступление состоит в том, что люди сошли с ума.
— Да я их и не любила вовсе.
— Я думаю, что вы поможете их вылечить, вы знали лучше, чем кто-либо, их характеры и стремления. Почему не осталось ни одной записки?
— Я не люблю писать, да и братья не велели. Раз вы меня освободите, мне наплевать, мне только сидеть не хочется: молодость пройдет, да и мода на короткие юбки, а у меня ноги хорошие. Видите? — Она показала ногу. — Только я не пойду в больницу, я не люблю сумасшедших, я про вас тоже думаю, что вы сумасшедший.
— Вы их разлюбили, когда узнали?
— Да, до этого они мне нравились, а теперь могу сказать правду, поскольку вы отказываетесь от меня. Пускай. Доктор придет ко мне на квартиру или в коммуну? Я на Урал поеду! Чего вы на меня уставились? — обратилась она ко мне.
Я не вытерпел:
— Да вы просто дрянь! — воскликнул я.
— Ух, ты, какой умница! Расскажи анекдот.
— Пошлая и пустая дрянь!
— Ну где тебе в ругани с моей мамашей сравниться! Ну, я спать хочу, еще братья могут прийти, они очень интересовались нашей беседой; вы чай пить приходите, я это в дружбу не люблю играть, что это за дружба, но у меня подруг много, может быть, какая и понравится, я вам очень благодарна, доктор, за внимание. — Она повернулась ко мне. — А ты просто блин прокисший, осудитель нашелся. Вот понимающий человек. Если б они не сошли с ума, я б у них корону достала, я одному из них очень нравилась, он косы любил, я даже отрастить хотела, на гитаре играл и пел «Очи черные»…
Доктор взял меня под руку. Не успели мы выйти, как свет в ее комнате погас. Доктор сказал шепотом, ведя меня в темноте:
— Это самая страшная женщина, Егор Егорыч, из тех, какие могут существовать. Ее отличительный признак — безволие. Она прилипает к вам, едва увидит в вас большую силу, чем обычно. Вот она на вас смертельно обиделась за то, что вы ее выбранили, но не брань и плохое слово ее обидели, а то, что человек обругал, который ею повелевать не будет. Ей, сейчас, после того, как внезапно разоружены братья, необходимо иметь повелителя, и она погонится за мной. Думаете, она свет погасила потому, что боится, что придут братья? Да нет, она, видите, с какой легкостью их выдала, она их ненавидит и презирает, единственно, кого она уважает, — это меня и дядю Савелия. А видите, как она мне доверилась? И она уверена и будет спать спокойно, что я ее не выдам. Это страшная и притягательная сила, Егор Егорыч. Видела она, как я вас взял под руку?
— Нет.
— Очень жаль, тогда говорите совсем тихо.
Он встал на цыпочки. Повинуясь его шепоту, и я пошел тише. Однако, сапоги наши стучали. Он притянул меня за плечо, и мы сели в коридоре у стены. Он показал рукой на сапоги, и мы сняли их, но едва мы сделали несколько шагов, как мне, да и доктору тоже, видимо, показалось, что за нами кто-то крадется. Это было и смешно и грустно. Мы опять присели. Опять наступила какая-то почти болезненная тишина. Я услышал еле заметный шепот в ухо:
— Надо переждать. Она знает отлично дом, увидит, что нас нету в комнате, и вернется. Она не подумает, что мы пошли в милицию, нет, но просто после волнений ей захочется уснуть. А меня тянет неодолимо к ней. Вам понятно это чувство?
— Понятно, — тоже шепотом ответил я. И мне точно было понятно. Многое стало ясным мне в поведении доктора. Так мы просидели не менее часу, наконец, встали и тихо, на цыпочках, пошли. Тишина по-прежнему стояла вокруг нас. Вдруг меня охватили две горячие руки. Мне стало смешно.
— Нет, плохо вы ориентируетесь, — сказал я.
В руке доктора сверкнул электрический фонарик. У моего плеча мы увидели лицо Черпанова. Он был сконфужен чрезвычайно.
— Я, знаете, думал… — пробормотал он.
Доктор погасил свет.
— Не мешайте нам спать, — сказал он.
Мы слышали, как открылась дверь на улицу и мелькнул силуэт Черпанова. И одновременно — или я ошибся — скрипнула дверь и в комнату Сусанны. Доктор меня подтолкнул. Мы пришли в комнату. На полу лежала газета. Лампочка у нас не горела.
— Однако, будем спать. — Он потянулся. Я вспомнил, как нас поймал Черпанов, вспомнил, как он караулил, и то, что он с такой убежденностью сказал, что корона есть и лежит именно в вагонной плевательнице.
— А Черпанов? — спросил я.
Но доктор или спал, или не захотел отвечать мне.
Разбудил меня стук топоров. Я вскочил и понял, что ломают перегородки. Доктора в комнате не было. Я прислушался. Нет, тихо. Открыл дверь — обычный кухонный шум. Я пошел умываться. Часть перегородки возле комнаты Населя была разобрана. Черпанов спал на досках одетый, лицо его было плотно, рот раскрыт. Насель стоял растерянный с топором, другой лежал поодаль.
— Никто не помогает, знаете… — сказал он, застенчиво улыбаясь, — Валерьян Львович помогал, знаете, работать, но привычки нет к топору, да и у меня тоже. Мозоли и мышцы болят. Вы не предполагаете.
— У вас и без того много родственников.
— Такого сильного родственника, как вы, даже и иметь приятно.
— Уверяю вас, что я не еду на Урал, да и вообще, если и плотников пригласить, то и они эти перегородки смогут разрушить не меньше как в неделю. Вы только посмотрите, что вы здесь нагородили. Ведь это же черт знает что такое, ведь у вас суматохи в голове меньше, чем перегородок.
Он беспомощно осмотрелся. Перегородок, действительно, было чудовищно много, особенно выделялись они после того, как он отколол несколько досок.
— Что же делать, как же мы встретим Лебедей? — сказал он растерянно.
— Есть способ.
— Какой?
— Выжечь все к чертовой матери вместе с клопами.
— Но и стены сгорят.
— А на кой они черт и кому нужны?
— Все-таки, знаете, стоят, и противопожарная команда существует, я и мечтать не могу о пожаре, мои родственники так боятся пожара…
Я подошел к нему ближе:
— Знаете что, сожгите их вместе с родственниками.
Он отшатнулся.
— Знаете, у вас беспокойный характер, очень хорошо, что вы отказались ехать с нами.
Мы услышали позади себя крик. Черпанов сидел и орал, не имея сил разомкнуть вежды. Я плеснул ему в лицо водой.
— Заснул! — воскликнул он, раскрывая глаза. — На минутку оставил доктора покараулить, пошел за папироской и заснул.
Он выбежал на крыльцо. Насель растерянно шел с нами, осторожно неся в обеих руках топор.
— Не проходил?
— Нет! — ответил доктор.
— А долго я спал?
— Не больше десяти минут.
— Вы можете еще полчаса обождать?
Доктор кивнул головой. Черпанов обернулся к Населю, отнял у него топор и швырнул его по коридору. Насель покорно ушел.
— Очень хочется справиться о костюме. А вдруг не лжет. Вдруг он не такой хитрый, как я воображал, дядя Савелий? Ведь здесь все может быть разрушено.
— Скажите, где в вас правда?
— А где видите.
— Но что вы вчера, бредили или действительно?
— Вот человек, который видит истину, а вы, Егор Егорыч, извините, но вы мотаетесь совершенно непотребным образом.
— Хорошо, я вам добуду костюм, ну вас к черту. А когда поезд Лебедей привезет?
— Часа в четыре.
— Жаль, что не увижу, я уезжаю.
— Счастливого пути. Но, пожалуй, не стоит с костюмом. Вдруг это замысел, чтобы я не устремился, не углубился, ведь могу примерять, присматривать, вот Населя обидел, а он подшить и подровнять может; я углублюсь в примерку и пропущу его.
Мне подумалось, что, пожалуй, если ему действительно необходим костюм, то он есть подлинный Черпанов, человек, для которого костюм, конечно, необходим, но, с другой стороны, психоз короны, переданный мне доктором, смущал меня. Но делать было нечего, надо было или уходить из дома или ждать доктора, с другой стороны, мне хотелось показать торжество своей силы над братьями. Я подхватил Черпанова под руку и втолкнул почти в комнату братьев. Черпанов все-таки за эти дни заметно изменился, стал растерянный. Комната братьев была разгромлена по-прежнему, как мы ее оставили, только что стол поставили. Братья встретили нас подобострастно, видимо, Сусанна не передала им еще вчерашнего разговора, да и вряд ли передаст вообще. Они были тоже растерянны:
— Как же, ломать перегородки или нет?
Черпанов как плюхнулся на стул, так и спал с открытыми глазами, воспаленными от бессонницы и напряжения. Я думал: как мне спросить — сразу или же дать им возможность побеседовать, но они предупредили меня. Они, видимо, бранились всю ночь, потому что один из них начал жаловаться:
— Что же это, Егор Егорыч, вы не думайте, что я устал или у меня не хватает мускулатуры, при усилии, я вообще весь дом могу разломать, но ведь это ж чепуха происходит: ты ломаешь перегородки, а он женится.
Вошла очень оживленная Людмила, сказала одно слово «готово» и ушла. Валерьян указал на нее рукой:
— Вот, смотрите, уже и невесту уговорили. И Насель женится. Вообще, сегодня днем в доме будет справлен ряд свадеб совершенно неожиданных. Людмила многим способствовала.
Осип сказал примирительно:
— Людмила это дело понимает, но это не значит, что мы испугались коллективной любви, но приятнее на общее пользование отдать свою жену, она и послушается, и тем жертва будет выше для общества, а то что такое: какая-то девчонка. Чужую девчонку всякий может подкинуть, здесь нет никакой жертвы.
— Да бросьте вы чепуху пороть насчет общности.
— А с какой целью нам тогда жениться и брать мне какую-нибудь дрянь.
— Тогда я тоже женюсь! — воскликнул Валерьян. — Но ты — просто сволочь, Осип, такие соображения и не хочешь поделиться!
— Это не мои соображения, а Ларвина, он тоже женится. Ваше мнение какое на этот счет, товарищ Черпанов?
— Мое? — встрепенулся Черпанов. — А дядя Савелий тоже женится? — И он многозначительно посмотрел на меня, давая понять взглядом, что дядя Савелий непременно удерет от венца. С видимым нетерпением он ждал ответа. Нам помешали. Вошел Ларвин с несколькими празднично убранными девицами. Увидев меня и Черпанова, он утащил девиц обратно. Несомненно, это были невесты.
— Женится, стерва, — не утерпел и со злостью сказал Черпанов.
Братья рассмеялись подобострастно, вообще: они побаивались, видимо, дядю Савелия, но, с другой стороны, и Черпанов внушал им беспокойство. Наконец, Осип уклончиво сказал:
— Состояние дяди Савелия внушает некоторым опасения, в то время как другие настроены крайне оптимистически, возьмем…
— Наплевать мне на других! — воскликнул Черпанов. — Что он сидит и не выходит?
— Не выходит, — вздохнул Осип.
— Общее собрание устроим! — воскликнул Черпанов, внезапно оживляясь, — на общее собрание мы эту старую крысу непременно вытащим. Мало согласия, необходимо принять участие в общественной работе, мы его навьючим. Вообще, надо создавать комиссию.
Осип осторожно сказал:
— И насчет женитьб хорошо бы комиссию создать, организованно жениться.
— А, идите вы к лешему со своими женитьбами, выдумали! Вот у тебя какая специальность? — обратился он в Валерьяну.
— Я больше по велосипедам.
— Транспортная, значит. А ты?
— Я кондитерские изделия.
— Прекрасно, будет кондитерская часть…
Опять передо мной вырастал прежний Черпанов. Он достал книжечки и карандашики, мгновенно что-то прочертил, соорудил тотчас же приказ и сунул его в руки братьям. Но административный пыл его быстро исчез, едва он дописал приказ. Мысль о вероломстве дяди Савелия, видимо, не давала ему покоя. Уже совсем не похоже на него, он переспросил о специальностях братьев, в то же время высовываясь в окно, затем вяло сказал:
— Тебе, Валерьян Львович, создавать кондитерскую комиссию, а тебе, Осип Львович, транспортную. Возьмите на учет все имущество, препорученное каждой комиссии.
Осип робко заметил, что данные поручения диаметрально противоположные их специальности, что здесь ошибка.
— Никакой ошибки! — со злостью возразил Черпанов. — Неужели вы смысла такого простого назначения не понимаете? Что ж, если тебе дать назначение по твоей специальности, так ты будешь объективен и не устроишь в лучшее положение твои конфеты. Никакой собственности, даже косвенной, не должно быть. А затем, что это, председателя коммуны без моего ведома вздумали избирать? А впрочем, черт с вами! — Он встал и, обратившись ко мне, сказал: «Пойдем!»
Конечно, причина была все та же, что он забыл основное, зачем мы явились к братьям, но я учел сразу же эту случайность в благоприятную пользу, небрежность, с которой мы обратились бы к братьям, могла нам помочь. Я сказал:
— Разрешите напомнить вам, Леон Ионыч, что есть еще один нерешенный вопрос.
— Какой это?
— Относительно костюма.
— А… — и Черпанов опять на мгновение встрепенулся. — Костюм, полученный вами от дяди Савелия, передадите в комиссию по готовой одежде, которую возглавляю я.
Братья переглянулись. Черпанов посмотрел на них неодобрительно:
— Ну?
— Очень неприятная история.
Черпанов обернулся ко мне и пожал плечами, как бы говоря: вот, изволите видеть, как только дело коснулось передачи вещей в соответствующие комиссии, так они начали финтить.
— Надоели мне истории, слышанные от Егора Егорыча, не историй от вас я прошу, а фактов. Где костюм?
— Передал, Леон Ионыч.
— Кому и когда?
— Вчера вечером, сестре Сусанне.
— Нашли кому передать! Да она либо его на тряпки изрезала, либо себе жакетку выкроила, либо черт знает кому передаст.
— Нет, так, пожалуй, не произойдет. Костюм передали не только ей, но отцу и матери. Знаете, старик совсем обтрепался и, кроме того, мамаша хотела на свадьбу лекарственные средства.
— На кой черт вам лекарственные средства?
— Покупатель есть на медикаменты. А как же свадьбу справлять без средств?
— Идиоты, так вы, значит, не забросили своего, значит, это еще не есть полный отказ. Прекратить. Пошли.
Мы оставили братьев в полном унынии.
— Нет, — сказал Черпанов, — пойду на пост. Костюм, скорее всего, заставил дядя Савелий передать родителям. Конечно, чтобы я пошел к этой гнусной девчонке. Да плевать мне на нее. Может быть, вы, Егор Егорыч, один сходите?
— Нет, у нас с ней взаимная обида.
— Бить ее по мордам надо, а не обижать. Мучиться-мучиться с тем, чтобы преклониться перед таким дерьмом. Тьфу!
Он быстро прошел, почти бегом, через двор и встал у калитки. Доктор, однако, не вернулся, и я напрасно ждал его на крыльце. В доме становилось все шумней. На кухне пекли все больше и больше, кухня оживилась, по всему видно, действительно, разыгрывались свадьбы; больше всех с оживленным лицом бегала по коридору Людмила. Меня сразу пригласили на несколько обедов. Думали ль они удивить братьев Лебедей своими свадьбами — не знаю. Вскоре запах зажаренного мяса начал наполнять весь дом, горох мой любимый с мясом! Приятно!
Я проходил мимо дверей, возвращаясь, и взглянул на Черпанова. По всему можно было заключить, что волнение его достигло крайнего предела. Он уже не опирался спокойно о воротный столб, а поминутно выглядывал на улицу, наконец, залез на забор, но тут интерес мальчишек от разбираемой церкви переметнулся к нему, и он вынужден был спрыгнуть, тогда на заборе, в свою очередь, появился Мальчишка, который, увидев меня и Черпанова, выразив свистом полное разочарование, скрылся. Жара стояла томительная. Наконец, Черпанов подошел ко мне, а это тоже показывало крайнее смущение, иначе б он подозвал меня.
— Так вы настаиваете на том, чтобы я пошел к Сусанне? — спросил он, перебирая свои книжки.
— Мне абсолютно безразлично, — холодно ответил я, — я просто жду доктора, чтобы уйти на вокзал, вы в чем-то заинтересованы, и мне эта непонятная чепуха надоела.
— Непонятная! Вам уж никак нельзя сказать, чтоб происходящее здесь было непонятно. Что же вам более всего непонятно?
— Да хотя бы вот ваша функция.
— Я вам ее разъяснял подробно.
— Однако, от этого, боюсь, она стала еще темней.
— Так вы настаиваете? Хорошо, я иду. Вы дядю Савелия не видали?
И, не дождавшись ответа, он пошел вперед, но, сделав несколько шагов, обернулся:
— А разве вы не хотите пойти?
— Я? Нет. Сусанна Львовна обидела меня, а я ее. Нам встретиться будет неприятно.
— Но в данном случае вы явитесь для нее очень интересным вестником, и она вам все простит.
— То, что вы хотите купить костюм?
— Куда! Больше! Берите выше.
— То, что вы хотите обворовать дядю Савелия?
— А вы поверили? Вот и шути с вами. Нет, Егор Егорыч, я пришел к очень ответственному моменту своих соображений. Я решил жениться на Сусанне Львовне.
Я рассмеялся.
— Чего вы ржете? А если она мне нравится, во-первых, а во-вторых, только войдя в круг ее семьи, я могу сплотить вокруг себя сейчас необходимое мне ядро. Я удивляюсь, как это раньше не приходила мне такая блестящая мысль?
— Позвольте, но не вы ли поддерживали предложение Ларвина, инспирированное, как вы говорите, дядей Савелием, и сами жалели, что вам раньше оно не пришло в голову?
— А тактически я признаю сейчас необходимым действовать по-другому.
— Но вы говорите, что у вас есть инструкции от авторитетных органов, не могут же эти инструкции в одном пункте говорить одно, а в другом другое?
— А вы видали эти инструкции?
— Нет.
— То-то, — он стукнул себя по голове. — Эта штучка стоит многих инструкций. Вы что же, не советуете мне жениться? Или вы хлопочете насчет Сусанны для доктора? Так вам не отхлопотать. Советую такими низкими делами не заниматься, у доктора и без этого достаточно длинный язык.
— Чтобы вы не думали так, я могу пойти с вами к Сусанне Львовне, тем более, что вы утверждаете, что она рада будет меня видеть.
— И обязательно.
Комната сестер была густо набита народом. Я там увидел пары, которые приводил Ларвин к братьям, было еще несколько каких-то совершенно серых людей, судя по той торжественности, которая была у них на лицах, тоже относившихся к разряду женихов и невест, пол их можно было только по одежде отличить.
Людмила, которая вертела одну из невест перед зеркалом, примеряя ей платье, одевались они за ширмочкой, — совала их рукой туда и обратно. Причем, можно было удивиться, что ширмочка такой удивительной вместимости. Повертывая очередную перед зеркалом, она сказала в нашу сторону:
— А вот еще женихи пришли!
Черпанов одернул платье и сказал:
— Не женихи, а жених.
Ларвин подхватил с сундука:
— Тогда с вас в общую идею.
— Что это еще за общая идея? Идеями я распоряжаюсь.
— Совершенно в вашем плане, Леон Ионыч, мы из него не выпрыгиваем, а только дополняем. Поскольку выходит, что несколько свадеб в один день, а столы у всех разные, то мы решили развернуть один общий стол, объединив, так сказать, всех за свадебным пиром, но в складчину, а завтра уже, выходит, общность жен, а здесь, видите, и индивидуальные женитьбы, соединение нового и старого, а завтра останется стол, а жен уже не будет. Все выразили этому обстоятельству большое сочувствие, и за этим столом прекратятся различные ссоры, до того раздиравшие наш дом.
— Идея правильная, но как же так вы решаете без меня?
— Без вас, Леон Ионыч, невозможно! Идея ваша, наше уточнение, а председателя стола вы назначаете.
— Хорошо. Я буду председателем. Я тоже женюсь. Сусанна Львовна, не возражаете?
— Давно бы пора, если б вы такой не были занятый.
— Но здесь одна ночь, и затем разворачивается перед вами новая жизнь. Где думаете устроить общий стол?
— В коридоре. Козлы видали? Будут постланы доски, и в том коридоре, где были драки и шум, мы увидим пиршество, а затем, кто знает, вдруг во время пиршества придет нам мысль устроить субботник и сломать все перегородки к чертям. Вообще, знаете, это удивительная мысль, когда рабочий класс живет в квартирах, мы, так сказать, случайные люди в революции, производим совершенно передовые дела. Что значит интеллект. А коридор! Вы не возражаете против коридора?
— Я? Нет. Там места много. Удивительно, что раньше эта мысль не приходила в голову — сделать здесь общественную столовую.
— А главное, будет живописно.
— Живописно? Стойте! Были вы сегодня у дяди Савелия?
— Так, мельком. Он, знаете, тоже на пир приглашен.
— Позвольте, но идея пира вам или ему принадлежит. Живописно! Ясно, что ему! Что он хочет со мной сделать? Напоить? Так я не буду пить и не засну, и не сможет он убежать. Кому принадлежит эта идея?
Он потряс за пиджак Ларвина.
— Уверяю вас, что это общая идея. Верно?
Раздалось несколько голосов, подтверждающих, что идея была действительно общая. Черпанов недоверчиво потоптался:
— Хорошо, я приму сражение. Убежден, что дал вам ее дядя Савелий, нет, не такие у вас мозги. Да вы, Егор Егорыч, посмотрите на эти рожи.
Рожи, действительно, были странные. Напряжение, пот от кухни, жир от приготовлений и новая одежда, носы, глаза — все это было смешно.
— Никто не поверит, а затем Черпанов не такой наивный, но тем не менее, вызов его принимаю, он, может быть, и согласие дал для того, чтобы показать, что не удерет, а на самом деле думает удрать. Теперь приступим к практической стороне вопроса. Кто у вас избран организатором стола? Имейте в виду, что фактически получается так, что этот стол будет одновременно и общим собранием, столь тщательно нами подготовленным и долго ожидаемым, поэтому к назначению президиума надо относиться сугубо продуманно.
— Все зависит от вас, Леон Ионыч.
— Продовольственной секцией ведает у нас Валерьян Львович, я думаю ему и поручить.
— Отлично. Возражений нет. Принять. Валерьян, валяй на кухню.
— Ну что я понимаю в продовольствии…
Черпанов подтолкнул его. За ним вышло несколько человек. Людмила продолжала примерять и рассаживать невест на сундук, они сидели неподвижно, как куклы, вытаращив глаза на бесчисленные книжечки Леона Ионовича. Черпанов выразил живейшее удовольствие, что приготовление невест идет так быстро, а затем остановился против Сусанны.
— Итак, поскольку вы не возражаете против того, чтобы быть моей женой, Сусанна Львовна…
— Не возражаю? Но ведь мои возражения вас не убедят, да и вы не будете тверже оттого, что вас убедят.
— То, следовательно, Сусанна Львовна, так как нам необходимо председательствовать на свадьбе и все внимание присутствующих будет обращено на нас, вот и сейчас, смотрите, как на нас внимательно смотрят отцы и родственники…
А они смотрели не столько внимательно, сколько растерянно, уж очень ловко превращала Людмила Львовна их детей в женихов и невест, казалось, что она может дать такой совет, что люди погрузятся в такую глубину любви, из которой никогда не выкарабкаться, в которой они забудут все — и пищу даже, и питье, кроме того, им хотелось, несомненно, видеть такое же волшебное превращение с Черпановым, эту глубину ответственности, да и ковров в присутственных местах нигде нет, а в загсе имеется коврик. Это что-нибудь да значит! — думали они, вернее, Людмила Львовна заставила их думать.
— А пускай смотрят! Можно уйти!
— Зачем уходить? Мы должны тоже с вами уйти за ширмочку и тоже оттуда появиться перед зеркалом! Но, конечно, появление мое перед зеркалом и среди толпы женихов в этом велосипедном пузыре будет смешным. Мы должны обдумать этот вопрос. Раньше всего, никаких приданых. Я враг приданых, и мне даже смешно об этом думать, не для того мы строим общий стол, чтобы возвращаться к этой идее. Однако, тот вопрос, какой я поставлю перед вами, должен возбудить в вас сомнение, поэтому я говорю — за это плачу деньги.
— За меня! Людмила, он за меня платит деньги!
— Да нет, выслушайте. Буду говорить фактами. Вам Валерьян Львович передал за известное вознаграждение костюм…
— Какой костюм?
— Готовое платье заграничной работы.
— А, это зеленое!
— Да нет, говорили, что оно серое. Американцы предпочитают серое…
— Не знаю, что они предпочитали двадцать лет назад.
— Почему двадцать?
— Да что вы ко мне пристали? Вам его надо?
— Но я заплачу деньги.
— Деньги — так деньги, могу взять и деньги, а лучше всего достаньте мне за него вязаный шелковый костюм такого же цвета.
— Правильно! И немедленно же. Вы наденете зеленый шелковый, а я зеленый… Ну не к лицу мне зеленый. Нельзя ли серый?
— Принесли бы серый, отдала б.
— Так-таки зеленый.
— Да что я его, перекрашивала?
— А ну покажите! Очень любопытно посмотреть.
Людмила Львовна, как кукол, сняла невест и женихов с сундука. Он загудел, зазвенел, завыл, поднимая свою крышку. Сусанна достала сверток, завернутый в бумагу цвета молодой сосны. Черпанов буквально горел и вряд ли верил своим глазам. Насель, Жаворонков и другие выразили живейшее сочувствие, другие же сожаление, что не сумели содрать с него гигантские деньги, какие может дать, еще один, что Сусанна продешевит, одним словом, пока Сусанна развертывала сверток — Черпанов даже присел от волнения и как бы заиндевел. Признаться сказать, я тоже волновался, потому что появление костюма, который я считал совершенной и безнадежной выдумкой, очень удивило меня. Сперва мы увидали темную подкладку. Черпанов приподнял руки, как бы умоляя развернуть. Сусанна вздрогнула. Я увидел заграничную марку. «Отличная фирма — и марка одна и та же, сколько лет прошло, а все одинаково! Вот что значит Америка! А говорят, там нет традиций! Но я понимаю марку, однако, почему одинаковый подклад?» Черпанов говорил это, положив руку на костюм. Сусанна не имела возможности развернуть его. Лицо его посерело, но он старался утешить себя. Его смущали американские традиции.
— Я хотела сделать из него себе осенний жакет, — сказала Сусанна.
— Это было б преступлением! Такие вещи на жакет! Развертывайте!
Она развернула. Брызнуло темно-зеленое сукно и — золотые пуговицы с двуглавыми орлами. Черпанов пощупал пуговицы, стукнул в них пальцем, вообще постучать пальцами всем хотелось. Томительное молчание прервал Жаворонков:
— Очень странные костюмы носят в Америке. Недаром говорят, что там корону заказали нам.
Черпанов воскликнул:
— Позвольте, но это же тот сюртук, который поручено было мне продать!
— Не знаю, что вам поручено продать, но, может быть, и мы попали в число вами продаваемых?
— А почему вы, Жаворонков, не использовали этого костюма для того, чтобы соорудить рясу — впрочем, рясы не выйдет. Ведь это тот костюм?
— Тот, — растерянно подтвердил Жаворонков.
— А неужели, Насель, родственники упустили такое сукно, оно напоминает им время, когда б они могли вас эксплуатировать еще больше. Тот костюм, который я у вас ловил?
— Он самый.
— А вы, Ларвин, неужели и вам он не годился? Куда же вы смотрели, зачем заставили гоняться и тем отклонили меня от главных идей? Ведь это, Егор Егорыч, заговор, явный заговор против моей идеи, и сегодня же надо поставить этот вопрос на президиум! До такой степени морочить Жаворонкова. Да что же это такое?
— Позвольте, но вы чего ожидали?
— Того же, чего и вы, Егор Егорыч, — костюм американского миллиардера, который должен был купить известную вам вещь, которая перешла в частные руки из рук государства, но хитрый человек, так как за миллиардером проследили, дал ему переодеться в нашу одежду, дабы он ушел незамеченным, в цене, что ли, не сторговались, но это самая главная улика, говорящая за то, что корона находится в этом доме, все держат костюм, думая, что он явится за известной вещью. Понимаете?
— Но, значит, костюма нет?
— Но вы сами говорили, что есть.
— Я говорил о костюме, который взяла в заклад Степанида Константиновна.
— Никакого костюма я не брала.
— Ага, видите, она не брала никакого костюма. Может быть, вы, Егор Егорыч, присвоили костюм? Граждане, кто продал ему костюм? Егор Егорыч, вы растяпа, никакой американский миллиардер с вами дела иметь не будет, он посмотрит только на вашу рожу, ведь это вареная тыква, а не рожа! Отдайте костюм!
— Да вы с ума сошли, Леон Ионыч!
— Ну вот, изволите видеть, я же и сошел с ума. Конечно, это удобный способ отстранить человека от дела, к которому он приник, но я предвидел это, на это есть испытания. Вот вам… — Он посыпал справки. — Пожалуйста, вот даже по Фрейду и по всему. Все в порядке. Что вы хотите за костюм! И я вам все выкладывал. А дядя Савелий удирает! — Он посмотрел в окно.
— Ну вот, теперь-то Черпанов погиб. Уже поздно!
Он схватил сюртук, кинулся вдруг к выходу. Все уставились в окно. Людмила тоже посмотрела:
— А, женихи!
— Здорово, Людмила, здравствуй! И прощай! Здорово! — раздались голоса.
Я увидел на извозчике несколько здоровенных ребят в черных майках с белыми полосами. Я сразу узнал их по фотографии — эти низкие лбы и русые коки. Я был доволен. Я побежал. Черпанов оттолкнул доктора, который смотрел, как он несется по двору, держа сюртук за ворот, золотые пуговицы его блестели.
— Что, он узнал уже?
— Да, в окошко видел.
— Он не мог видеть. Он перелез через забор. Я сторожил возле кухни. Окно хотя и высокое, но мы с вами забыли про ходули. Он подошел к нему на ходулях и вылез. Черпанов сложил в чулане все, что можно было, и даже ключи от чуланов себе взял, но он забыл про ходули.
— Но странно, можно было поставить стол на стол.
— Поставить можно два стола, но этого мало, он так и сделал, один с кухни, другой от себя, но этого мало. Черпанов знал это, и здесь-то и пригодились ходули.
— Позвольте, вы говорите о дяде Савелии.
— Ну да. Вот, увидите, и дверь открыта. Совершенно нагло. Боюсь, не предупреждение ли это: спасайся, кто может, и Черпанов бросился спасаться.
Доктор закрыл дверь.
— Да он вовсе не оттого, он, может быть, даже и не видал, что дядя Савелий скрылся. Он увидал в окно, что подъезжают Лебедевы.
— А, так! Тогда бежим за ними.
— Куда?
— Туда, куда и они.
Мы побежали. У ворот с чемоданами стоял извозчик в полном недоумении. Подъезжали еще двое, в руках одного было кресло, кто-то крикнул, мне послышалось, что зовут доктора, да и кресло было какое-то знакомое, но доктор волочил меня за собой.
В конце переулка бежал Черпанов с сюртуком в руках, за ним черные майки, редкие прохожие спрашивали, черные майки, что-то ответив, продолжали молча бежать. Вообще бег был очень солидный, только доктор если б меня не торопил и не понукал, но я и сам не знаю, почему же я побежал, боюсь, что меня смутило то, что сбежал дядя Савелий, потому что, когда я выбежал уже на крыльцо, я слышал, что кто-то крикнул: «Дяди Савелия нету!» И в доме началась суматоха, застучали сундуки, ноги, кто-то завизжал, на лице доктора была написана такая озабоченность, какой я не видал у него никогда. Он смотрел совершенно напряженно.
— Только не подавайте вида, что вы намерены заступиться.
— За кого?
— Лебедевы! Вот они какие! Нет, я не думал про Лебедевых! Мы выпустили из вида спорт, Егор Егорыч.
— Вы хотите сказать, физкультуру, Матвей Иванович?
— Нет, я говорю именно — спорт. Боюсь, что здесь-то была моя главная ошибка, Егор Егорыч.
Мы обогнули переулок и выбежали на набережную неподалеку от Бабьегородской плотины. Нас спросили, указывая на бегущих:
— А чего это у них номеров нет, что это за пробег? А впереди с зеленым кто?
— Впереди тренер, а машет зеленым, чтоб показать, что все спокойно.
Они бежали друг за другом, на таких спокойных интервалах, что никому в голову не могло прийти, что они ловят Черпанова, да и он не хотел, чтоб очень обращали на него внимание, он понимал, что когда попадет на мост, в толпу, то предлог для того, чтобы поймать его, найти будет трудно, он бежал не столько оттого, что знал, что он убежит от них, а сколько потому, чтобы собраться со своими мыслями.
Наконец, он собрался. Как раз неподалеку против дома, принадлежащего некогда Цветкову, он остановился, свернул сюртук, сунул его под мышку, и первый из братьев Лебедей, продолжая бежать гимнастическим шагом, поравнялся с ним и легонько, наотмашь, ударил его! Теперь только я понял весь страх, который испытал Черпанов от их битья. Никак я не думал, что можно так бить, на это и со стороны смотреть было страшно, а у меня, как вы знаете, по предыдущему, накопился достаточный опыт в данной области. Удар был звонкий, оглушающий, но такой, что как будто лопнули все связки.
Черпанов, по-прежнему поддерживая сверток под мышкой, покатился под откос, он падал очень привычно, не надеясь на снисхождение, вяло, именно так, как мог бы падать человек, испытавший силу кулаков, и тогда я понял, что он мне говорил ПОЧТИ всю правду в последней нашей беседе и он есть именно тот гравер, о котором он рассказывал.
Лебедевы тем временем выровнялись и встали, смотря вниз. Черпанов, докатившись и сунувшись головой в воду, приподнялся. Мы остановились.
— Отойдите, граждане, — сказал один из них, — здесь идет тренировка!
— Какая же тренировка! — воскликнул было я, но доктор оттащил меня. Мы встали на дороге, так что нас Черпанову не было видно, и он нам не был виден.
Трое из Лебедей повернулись лицом к воде, а двое к нам, сжав кулаки. Признаться, сердце у меня сжалось. Жара, особенно эти кулаки и этот бесподобный удар, нанесенный ими Черпанову, совершенно лишили меня желания драться с ними, но я знал, что здесь для доктора самый чудесный предлог подраться, и недаром же он бежал, так озабоченно сохраняя силы. Я понимал, что лучше б всего мне избежать драки, но я понимал, что где-где, а здесь-то я непременно буду драться. Однако доктор стоял неподвижно, прислушиваясь к тому, что бормотал внизу Черпанов. Четверо кулаков, направленных против нас, тоже не обращали внимания на нас, мало ли какие могут остановиться прохожие, к тому же они прислушивались. Если откинуть те спортивные термины, которые употреблял один, а в сущности, спрашивал другой, я рекомендую читать, откидывая первый вопрос, который задавался для прохожих: «Ты?.. Прекрасно! — Тебе было сказано, не набирай рабочих».
Удар. Черпанов, видимо, пытался подняться. Молчание. Он встает, умывается, он желал объяснения. Черпанов после опыта, проделанного им в Москве, верил в могущество своей мысли.
— Ты?.. Прекрасно.
— Зачем же ты набирал, когда можно было безопасно ломать комедию?
Молчание.
— Я думал набрать и передать рабочих строительству.
Опять удар. Молчание больше предыдущего раза в два. Плеск воды. Вздох. Черпанов собирается с мыслями.
— Ты?.. Прекрасно.
— Но ты собирал рабсилу по краденому паспорту?
— Но ради моих заслуг!
— Они будут учтены, а основная задача, порученная тебе?
Двое с кулаками, направленными на нас, нетерпеливо воскликнули, им надоело охранять тыл, и они желали участвовать в драке:
— Мы так и предполагали.
Голос инструктора:
— Все идет прекрасно!
Опять удар. Черпанов долго собирался с мыслями, инструктор воскликнул, но никто не отвечал, я думаю, что он упал в воду. Вдруг он воскликнул:
— Ну разве с вами сговориться! Ничего, я от строительства, увиденного в Москве, не обалдел. Я вам говорю: корона у дядя Савелия.
— Не трогай дядю Савелия!.. Прекрасно!
— Прекрасно! — воскликнул доктор.
Удар. Черпанов молчал, боюсь, что он не смог вынести, но он заговорил своим ослабевшим голосом:
— Ты?.. Прекрасно.
— Ты нашел подлинного Черпанова и с ним сговорился? Мы этого не учли.
— Что мне подлинный Черпанов, я сам себе Черпанов! Я действительно предъявил великую идею, и вот, когда надену костюм, вы увидите!
Здесь они подобной наглости не вытерпели, ударили сразу, но Черпанов не падал, они все сбежали вниз, они его били впятером, перекидывая друг другу, он носился среди них, как мешок, но не отпуская сюртука, а ловко, словно кланяясь, однако, он молчал, наконец, он прорвал фронт — и упал в реку.
Если со стороны посмотреть, то люди баловалось, они били не так, как бьют вообще, размахиваясь чуть ли не за версту, а сила мускулатуры была с разбегу не более осьмой метра, пинками, так сказать. Ему подали руку, они знали, что он не утонет. Но его не было.
— Утонет! — воскликнул я.
— Нет, — сказал доктор. — Они правильно угадали, что Черпанов ошеломлен московским строительством, но не учитывают силы этого ошеломления. И точно — они выразили, переглянулись, если можно говорить вообще о выражении на этих тупых лицах, этих лбах, которых бы лучше уж не было. Черпанов вынырнул в метрах пятнадцати, вначале из воды выныривали записные книжки, карандашики, ручки, показывая след его ныряния, листки, мандаты, печати, затем показались его бутсы — желтые с белым, они плыли, толкаясь носами, но быстро потонули, вообще удивительно, что они выплыли. Я думаю, что для придания себе роста Черпанов насовал такое количество стелек, что они и поплыли отдельно, затем показался он сам, держа в зубах зеленый костюм. Пуговицы ярко блестели на солнце. Нужно было, чтобы Черпанов доплыл до середины реки, пока Лебедевы осмыслили то, что происходит и что произошло с Черпановым.
Налево был темный свод храма Христа Спасителя, желтый забор вокруг, затем парапет набережной. Каменный мост — напротив — Дом правительства, образовалось нечто вроде опрокинутых качелей, посредине которых плыл Черпанов, — два столба с перекладинкой, причем, перекладинку изображал мост. Ошеломленные, они посмотрели друг на дружку и побежали. Черпанов плыл, но так как вид его был странный, то к нему направился катер речной милиции, он прибавил силы, плыл хорошо, но эти пять фигур с необычайной быстротой бежали через мост — черные с белыми полосами.
Они добежали до моста, катер догнал его у моста тоже, он выскочил и побежал: Дом правительства, как огромный кулак, вознесся за ним. Он бежал впереди, они его встретили, он нырнул, они пересекли улицу и скрылись там, где строят и разбирают дома, он проскочил перед трамваем, они отразились на кирпичном цвете трамвайного вагона. Милиция за ними. Раздался свисток.
— Кто поймает первый?
— Пойдем домой, там нас ждут не менее любопытные события!
— Любопытно, поймают или нет?
— А это разве важно? Они не учли его силы и сами погибнут при этом, да и он тоже.
Мы постояли. Я вспомнил про человека, окликнувшего доктора, и мы вернулись. Перед дверями в зеленом кресле сидел М. Н. Синицын.
— Мы привезли кресло, а вы разве вернулись, Матвей Иванович? Приезжаем, кресло тов. Черпанову, а тут испуг — и все забились кверху. За кого они нас принимают? Никто не берет кресло. И передать некому! Все удрали наверх, не можем же мы оставить квартиры, вот мы и решили кого-нибудь подождать. Хорошо, что вы пришли. У меня готов для вас подарок, Матвей Иванович.
Стояли козлы, доски, приготовленные для стола, кушанье сгорело, его убирал кто-то, чрезвычайно сконфуженный своей ролью.
Мы столпились у входа, возле кресла, оно разинуло пасть, как бы моля о хозяине, оно удивительно походило на Черпанова, когда тот упал возле воды, после удара Лебедевых, оно безнадежно смотрело на ворота, поминутно меняя людей, а не они меняли его.
Я много раздумывал по поводу кресла. Вот символ спокойствия! Вот где человек намеревается как будто просидеть всю жизнь, обтягивает кожей, крепкой материей, сидит, обдумывает, прикрывает, посылает корабли в экспедиции, учит детей, обдумывает комбинации, в общем, успех должен сопровождать это сидение — палисандровое и черное дерево, и если неудачно — трах, представление кончилось, как в театре, человек летит вверх тормашками, не насладив тщеславия и не добыв неистощимых денег! Боюсь, не в этом ли особняке началась его честолюбивая карьера и не сюда ли оно вернулось, в этих комнатах и в нем есть что-то общее, оно даже как-то радостно улыбается, смеясь над людьми, которые хотели избавиться от него и доставили величайшее удовольствие. Конечно, оно предпочитало б, чтобы в нем сидел Л. И. Черпанов, но что ж поделать, можно примириться и на другом.
— Припоминается мне… На минутку на его ручку присел доктор.
— А, Синицын, заграница? Нет, я все еще не управился. Но сегодня мы выезжаем непременно. Делегацию мы догоним?
— Боюсь, что при всем желании, вам ее не догнать.
— Я смогу дать потрясающее интервью.
— И интервью вам не дать. Делегация вчера уже возвратилась. Они очень плодотворно съездили и очень довольны.
Доктор несколько был сконфужен, не тем, что ему не удалось съездить за границу, а тем, что он собирался сегодня выехать, но он мгновенно оправился.
— Ну что ж, я рад, что избавлен от тяжелой обязанности давать интервью. Как ни приготовляй, но всегда постараются подсунуть тебе гадость. Мне двадцать семь лет, и еще много раз успею побывать за границей, я об этом не грущу, но я достиг самого главного. Я могу поставить точный диагноз. Как дело с нашими больными? Я их оставил на ваше особое попечение.
На лице М. Н. Синицына выразилось смущение. Да и на остальных тоже, видимо, они сочувствовали ему. М. Н. Синицын рад бы был потушить этот разговор, но он не особенно любил отступать, поэтому для того, чтобы привести себя в должный вид, он переспросил с точностью, всегда доказывавшей его внутреннюю тревогу:
— Вы говорите об ювелирах? О братьях?
— Да, я говорю о моих пациентах. Как их здоровье?
— А, здоровье их отличное. Даже, я бы сказал, слишком.
— Вот это и мне казалось удивительным. Приступы… которые должны бы, судя по поставленному диагнозу, показать их неизлечимость полную, казались мне неправильными. Я уже говорил вам, что увидал в этом травму психологического свойства, наиболее легкую из всех, но маниакальный бред указывал на то, что они больны. Неизлечимость мне казалась, однако, ошибкой.
— Вы уже мне об этом излагали. — М. Н. Синицын хотел замять этот разговор, но доктор желал высказать свои мнения, он как бы готовился к тому, чтобы изложить их пред ученым обществом, но я чувствовал что-то неладное в том, как глядел М. Н. Синицын, но доктора было трудно остановить.
— Совершенно верно, у вас мало знаний, но у вас прекрасное чутье, и мы с вами великолепно сработаемся, М. Н. Итак, я стал думать: что же упущено? Все знакомые переспрошены, братья что-то перенесли для того, чтобы испытать такое потрясение, родных у них мало, и они здоровы, следовательно, вопрос мог идти только о любовном потрясении, о таком, что они скрывали, не желая этого человека выдавать. Они любили одну женщину, для меня это было ясно. Когда я с ними — в минуты прояснения их рассудка — разговаривал, — они подробно и с легкостью рассказывали свои похождения, обычные похождения и ухаживания, сходили в лес, где-то сошлись, расстались, но за полгода до болезни нить их рассказов прерывалась. Они занялись работой — и тут они начинали говорить о короне американского императора, над которой, будто бы, начали работать, вернее, разрабатывать план. Затем, за две недели до их болезни, пропадает из ювелирно-часовой мастерской громадное количество золотых часов. Знакомых у них не было. Вопрос в том, с кем они ходили в кино? Я начал расспрашивать о том, какие они картины видали в кино, хотел бы по этому установить, ведь знакомство могло быть случайным, уличным. Нет, ни в кино, ни в театре за полгода они не бывали, следовательно, эта возможность миновала. Однако некоторые намеки на то, что в их комнате бывала женщина и девушка с узким лицом, были. Но это только намеки, которые мне удалось достать один раз, но юридически это не значило ничего.
— Решительно ничего, — сказал М. Н. Синицын, — тем более, что вы влюбились в эту девушку.
— Обождите, но тут товарищам будет интересно более узнать, как я на нее наткнулся. Никаких следов! Ни на чем! Даже из памяти вытравлено тщательнейше. Но должна быть необычайная красота и необычайная несчастность. В чем должно было заключиться несчастье ее для таких людей с крепкой волей, упрямых и твердо идущих к своей цели, как братья? Явно, что в полном безволии и в редкой, какой-то ювелирной и классической красоте, но человек, такой, который не знает, кого же предпочесть, человек, который может постоянно уйти из-под вашей воли, которого надо бояться. Их разговоры были, наверное, страшно мучительны, целыми ночами мешали им работать, они стали, работая, и выдумывать наиболее трудные сочетания, чтобы показать, что каждого воля сильнее, чем у брата, — вот здесь-то и возникла идея американской короны, вначале шутя, в поисках какого-то необычайного заказчика, а затем углубляясь — я нашел большое количество литературы, посвященной Америке. Я стал осматривать комнату, где они жили, их платье, в котором они работали, они парни были нежные и добрые, очень хорошие ребята, мне их было искренне жаль, помимо того общественного значения, которое приобрела болезнь, связанная с ними эпидемия слухов! Мне хотелось найти на их платье следы рук женщины, какая-нибудь стежка придает значение, хотя где же отыскать ее в трехмиллионном городе, где много классически красивых и несчастных безвольных девушек с узким лицом. Ах, это узкое лицо и узкие руки! Сколько я их встречал на Петровке! Я осматривал каждую пришитую пуговицу, и так как они рвались от порывистых движений, то все они оказывались новыми — и вам понятно, что они одной мастерской. Я стал шарить в столах «Мурфины». Несколько разных сортов! Они их могли купить случайно, но их должны выделывать до самого последнего времени. На толкучку они не ходили, знакомых спекулянтов у них тоже не было. Следовательно, их мог доставить только человеку, у которого по настоящее время имеются запасы пуговиц. Я посмотрел справочник, зашел туда, мастерская закрылась как год, но девушка с узким лицом была. Теперь я проделал следующее: в беседе с братьями я сделал резкое движение, так что оторвалась пуговица от брюк, и, положив на стол сломанную пуговицу, я сказал: «Вот находятся люди, которые говорят о преимуществах частного труда над общественным, а вот вам разительный пример — государственная пуговица цела, а пуговица, изготовленная «Мурфиным», лопнула». Они изменились в лице и резко отозвались о частной собственности. Я быстро переменил разговор, дабы не утомлять их внимание. Предо мной возникла такая картина, что преступление должно быть случайным и неудавшимся, причем, я и до сего времени не знаю: было ль у них золото, как они утверждают, — было, но взяли ль его преступники? По-моему, золота не было. Я с ней беседовал. Картина такова. Вы увидите ее подтверждение. Две сестры. Обе здоровы. Хотя и не голодали, но в деньгах нуждались. Задумались над вопросом о бандитизме, раньше чем заниматься спекуляцией, которой их учил заниматься дядя Савелий, и подумали, что таким способом, пожалуй, легче достать деньги. Шли разговоры насчет выбора, не колебались и страха не испытывали, но в одиночку преступления совершить не могли. Шли на вечеринку, встретили… Возник вопрос: удобно или не удобно взять их с собой, а пока пошли потолкаться по рынку, над которым много задумывались в связи с последними разговорами с дядей Савелием. Заметили торговца, продающего драгоценности. Кто-то не то в шутку, не то всерьез сказал: «Ограбить бы кого-нибудь». Мысль понравилась. Быстро составили план. Рынок стал закрываться. Начали следить за торговцем, пошли за ним с рынка, но ограбить не удалось, помешали. Тогда сестра вспомнила молодых ювелиров. Иногда они брали работу на дом, а тут хвастались, что им дали починить несколько хронометров золотых, и они починены. Позвали братьев. Пришли, послали вперед по жребию Осипа. Пошел и, постучавшись, сказал: «Жилищная комиссия по осмотру квартиры». Впустил. Стал осматривать квартиру, ходил минут 20–30, но никаких намеков на хронометры не нашел. «Надо решаться или уходить». Но раньше сестры уговаривали — «не причинять вреда», а тут вред выходил — надо было допрашивать. У Осипа был револьвер. Тот выхватил и наставил. Ювелиры сказали, что ничего нет. (У них, действительно, ничего не было.) Стал искать сам. Но тут вошли сестры, которые, увидев револьвер, закричали: «Осип, брось!» Ювелиры тоже закричали. Тогда Осип бросился бежать. Сестры больше не появлялись. Вначале ювелиры думали, что ослышались, но затем решили, что она — наводчица. Они были у ее родителей. Вы сами испытали, как они могут производить чарующее впечатление, когда захотят, и как их трудно вывести из себя, мы тоже испытали. На них, людей наивных и замкнутых, родители произвели впечатление полной честности, помилуйте, не жалуются, что их разорили, и с охотой поступили на государственную службу! Они считали, что это уже огромный перелом для человека, если он поступил на государственную службу. Теперь надо было сказать родителям, но в то же время утаить, дабы их не расстраивать, вообще, решили забыть и работать, но разгоревшееся честолюбие пошло дальше, они вообразили, что если желают их ограбить — то хотят отнять какое-то необыкновенное сокровище. Вот тогда они и начали всем встречным рассказывать о короне американского императора. Казалось бы, они должны были скрытничать и держать про себя, но нет, всех хотели уязвить — и, может быть, даже повергнуть. Отсюда можно проследить рост легенды о короне американского императора. Место, где они жили, — возле Сухаревской башни — давало обильный плод для того, чтобы легенду эту разнести по Москве. Они бродили по рынку и беседовали, к тому же, стали выпивать, а на рынке бывает до 100 000 человек ежедневно. Происшедшее ограбление, конечно, не имеет связи с ними, но повлияло на их душевное расстройство чрезвычайно…
— Ну, как сказать! — воскликнул М. Н. Синицын.
— Он любил театральные эффекты. Он встал, распахнул дверь, сделал пригласительный жест — и из дверей вышли братья… Они сконфуженно улыбались. Доктор был возмущен необычайно, я его никогда не видел в подобном состоянии. Он накинулся на М. Н. Синицына. Он кричал и даже затопал ногами:
— Это безобразие! Пользуясь своей властью, вы увели больных и заставили их выслушать мой рассказ. Я потребую снятия вас с работы! Да это что, вы испортили мне все вашим невежеством! Вы понимаете, что вы наделали, заставив их выслушать мой рассказ! Вы закрепили их травму!
— Успокойтесь. Что касается того, чтобы меня снять, то меня и без того сняли с работы. Единственный и последний раз в жизни я оказался удачным врачом. Пользуясь вашим разговором, тем, что вы обещали поставить правильный диагноз, и тем, что их лечили уже полгода, таская по различным больницам, я подумал: а не полечить бы мне их по-своему? Оказалось, в тресте точной механики — знакомые ребята. Я попросил у них инструменты и материал. Отпустил ребят, вот уже пятидневка, как они здоровы, а вчера их выписали.
— Но вы их не должны были сюда приводить. Они могли увидеть ее. Это чрезвычайно опасно.
— Я тоже подумал, но если б не особенные обстоятельства! Сдаю я сегодня свои дела по больнице — и вдруг появляется передо мной Савелий Львович Мурфин. Желаю, говорит, открыться, так как узнал, что выздоровели ювелиры, имею к ним близкое отношение, — и вообще посоветоваться. Ограбление совершили Лебедевы.
— Лебедевы?
— А то как же? Им надоела власть и то, что они исполняют при дяде Савелии роль следопытов. Захотели жить самостоятельно. Подговорили Населя и Валерьяна. Насель руководил, но я отказался продавать награбленное, и тогда они испугались и уехали на Урал, а Мазурского оставили следить за мной. Мазурский посватался — об этом речь позже. Они решили свалить все дело на ювелиров и подговорили Осипа пойти к ним. Они даже сунуть кое-какие вещи должны были, не грабить, но не успели, напугались. Теперь, узнав на Урале про корону, они догадывались, что Мазурский, который должен бы уехать, не уехал, а вздумал жениться на Сусанне Львовне, может их засыпать. Сами они не решались ехать в Москву и послали разузнать обо всем Черпанова, дав ему ложный адрес на Жаворонкова, который есть главное лицо и у которого есть корона, которую Черпанов должен был достать всеми силами. Они думали, что благодаря поискам короны Черпановым он всех разгонит, и тогда пропадет возможность их вообще засыпать. Выслушав его, я позвонил в МУР, а девицы, увидев нас, решили, что мы приехали с агентами МУРа. Меня же за то, что я взялся за врачевание, да особенно таких важных больных, как они, сняли с работы. Да если вдуматься, то и правильно, но я применил просто те способы терапии, какие думали применить вы, но, конечно, это было безрассудно. Теперь меня, кажется, хотят в театр перекинуть.
— Напишите пьесу, — сказал я.
— Для пьесы, помимо наблюдений, которыми, конечно, я могу гордиться, необходимо дарование. Что такое, в сущности, пьеса?.. Вот дядя Савелий — очень ловкий тип, но ведь он мне донес, однако, предупредил, что надо спасаться, так как, когда мы появились, то все уже готовы были к бегству. Куда они могли убежать — дело другое, но факт. Что такое, в сущности говоря, пьеса?
— Да что пьеса, если рассматривать ее формально, — сказал доктор. Он уже успокоился и сел в свою обычную позу, скрестив ноги. — Существует много мнений. Мы, врачи, часто путаем законы врачебной психологии с законами искусства. С точки зрения искусства герои Достоевского все здоровы, он воздействует психологически, а с точки зрения врачебной — больны, что доказывалось много раз. Точно так же и о Шекспире… — Он внезапно повернулся к ювелирам: — Вы ее любите еще?
— Нет.
— Я прочту доклад, а вы его будете иллюстрировать. Он будет публичный. Мы разобьем легенду короны. У меня много исчерпывающих фактов. Но вы должны выступать только в том случае, если ее действительно разлюбили.
— Как можно любить такое отвратительное явление?
— Вам сколько лет?
— Двадцать один и двадцать три.
— Какая разница! А мне двадцать семь, и я уже думаю иначе. Но вы выздоровели, я рад.
Я не буду описывать, как появились агенты МУРа и с ними дядя Савелий, который указывал на всех, он указал на меня, но меня не взяли, мне очень было жаль, что не было еще никаких сведений о Лебедях и Черпанове, Я ходил с ним, и вместе мы могли бы дать исчерпывающие сведения. Увезли и Сусанну. Дом был опечатан. Мы шли медленно. Впереди ювелиры, они были очень довольны, что забрали Сусанну. Я не присутствовал при этом отвратительном явлении. Все держались мерзко. Но ювелирам послужило это на пользу. Все выдавали друг друга, особенно старался дядя Савелий, но его чрезвычайно смутило то, что свободно уходил я. Здесь он увидел свою гибель. И он был прав. Я открою все, что могу.
Доктор, выслушав меня, сказал:
— Вы значительно возмужали за эти две недели, Егор Егорыч. Как приятно, что они могут так легко излечиться от любви. Ее заберут в колонию, она узнает о моем докладе и увидит мою волю и будет перевоспитана. Я женюсь на ней. Я ее люблю.
— По этому поводу мне вспоминаются две истории… — Он рассмеялся впервые моему анекдоту. Я был чрезвычайно доволен.
— А правда, хорошо?
— Что именно?
— Да вот то, что я рассказал.
— Я не слышал.
— Но вы смеялись.
— Я смеялся над тем, что… — Он остановился. — Не обижайтесь. Анекдоты ваши не смешны, и ваше счастье, что вы их рассказываете редко. Я вас люблю, я рад, что приобрел здесь друга. Я вами горжусь. Мы будем вместе работать.
И он пожал мне руку. Мы шли вечерней Москвой… Она была пленительна.
Писатель обгоняет время
Творчество Всеволода Иванова не только в прошлом и настоящем, оно и в будущем.
Виктор ШкловскийРоманы Вс. Иванова «Кремль» и «У», написанные почти одновременно (в конце 20-х — начале 30-х гг.), не только были отвергнуты журналами и издательствами, но напугали редакторов непохожестью на то, что главенствовало в литературе.
На фоне той официальной парадной литературы, которой вменялось в обязанность прославление коллективизации и других проявлений сталинских пятилеток, «Кремль» и «У» Всеволода Иванова явились полным диссонансом.
Оба эти романа и стилистикой своей были непривычны. Отвергавшим эти романы редакторам было невдомек, что автор стремился найти новую романную форму.
Неприятие его новаций Вс. Иванов объясняет тем, что людям вообще свойственно пугаться непривычного, и даже такой гигант мысли, как Горький, сознательно или подсознательно всегда сравнивал (если проследить его переписку с писателями) творчество молодых с признанными классиками или с самим собой.
В творчестве Всеволода Иванова повествование легко поворачивается вспять после того, как забежало вперед. А в романе «Кремль» пролог уходит в даль времен.
Время, под рукой Всеволода Иванова, столь подвижно, что его можно посчитать непременным персонажем повествования.
Творческая судьба Вс. Иванова парадоксальна. Партизанские повести, в особенности «Бронепоезд 14–69», были встречены прессой восторженно-многоголосо. Но с появлением РАППа и журнала «На литературном посту» тон критики резко изменился.
Восхищенное принятие сборника Вс. Иванова «Тайное тайных» Горьким, который ставил рассказы этого цикла по мастерству выше бунинских, не сдержало напостовских надругательств над автором (доходило до обвинений, сейчас с трудом воспринимаемых даже по формулировке, — «в сигнализации классовому врагу»).
Преследуемый критикой, автор пишет: «Если верить критике, самой уродливой моей книгой была «Тайное тайных», — говорят, мать из всех своих детей наиболее любит самого уродливого — я очень любил «Тайное тайных». Это был воинственный и симпатичный мне уродец. Однако в душе создавалось такое тяжелое чувство, которое порой превращалось в маниакальную мысль о преследовании.
Но я принялся за новые работы. По-прежнему писал я о маленьких, но героических людях, которые стремятся к большому подвигу ради создания новой жизни. Один за другим писал я два романа: «Кремль» (жизнь в маленьком уездном кремле) и «У» (философский сатирический роман), место действия которого — Москва и даже уточнен момент — снос храма Христа Спасителя. Желая шире показать огромные события, я взял в романах «Кремль» и «У» несколько линий судеб героев, причем тщательно выписывал биографии, внешний вид каждого действующего лица, так тщательно и подробно, что меня самого пугали эти подробности.
И не казалось удивительным, когда эти романы возвращались ко мне ненапечатанными.
… По-видимому, эта система, доведенная до крайности, ошибочна? — думал я. И начинал новые поиски… Но как получше изобразить множество судеб и характеров? Как изобразить, скажем, мещанство, этот животный, нечеловеческий смутный мир, который я страстно ненавижу? Сейчас, быть может, ненавижу больше, чем когда-либо! Подозрительное, узкое, тупое мещанство готово посягнуть на самые заветные думы нашей страны.
Ужасно хочется смотреть вперед! Но как? С чего начать? В чем секрет наибольшей литературной выразительности?.. Теперь (1958 г.) об этом писать почти забавно, но тогда мне было далеко не весело. Утешал себя, как мог: воевать — так не горевать, а если горевать, так лучше не воевать!»
Успокаивая себя столь воинственно, Вс. Иванов, однако, никак «не воевал», а принимался за новые варианты отвергнутых романов.
Он, как правило, писал очень много вариантов. Так не законченный им роман «Сокровища Александра Македонского» имеет около десятка вариантов, в которых при единстве замысла меняется место действия и возникают новые персонажи.
«Кремль» тоже имеет много вариантов. Комиссия по литературному наследству Вс. Иванова единогласно приняла решение предлагать для печати тот вариант, который, по ее мнению, наиболее закончен. Среди вариантов «Кремля» один доведен до конца, он и предлагался для печати (целых 17 лет редколлегии журналов и директора книжных издательств вновь отвергали этот роман).
Наконец, в 1981 году он был опубликован в издательстве «Художественная литература» с большими сокращениями (которые в данном издании восстановлены) и тиражом 5000 экземпляров.
Роман не попал ни в магазины, ни в библиотеки.
Роману было придано определение «Ужгинский» (дабы не спутали с «Московским», ибо место действия романа — вымышленный автором город Ужга, стоящий на реке такого же наименования, где имеется свой кремль).
В романе два равно представленных мира — «Кремль» — «Мануфактуры», но для названия взят первый. Выбор названия подтверждает, что содержание романа Вс. Иванов не ограничивал противопоставлением двух «миров» — оно значительно шире. Он писал о непрерываемости культурного движения русской жизни, о ценности исторического опыта, без которого невозможно подлинное движение вперед, об эстетическом и нравственном смысле, заключенном в искусстве. «В Кремле — прекрасном создании русских мастеров эпохи Ивана III — воплотилась красота высокая, очистительная, красота духовная, вечная. Она противостоит тесноте и грязи фабричного поселка на другой стороне реки. И еще шире — лишенной духовности жизни людей, погруженных в мир суеты и борьбы мелких страстишек. Именно в культурном значении и сила «Уверенной в себе красоты…».
Из отвергнутого, лежавшего в столе романа «Кремль» Всеволод черпал идеи и сюжеты для других произведений этого периода. Например, рассказ 1927 года «Счастье епископа Валентина» (вошел в книгу «Тайное тайных») или рассказ 1931 года — «Б. М. Маников и его работник Гриша» явно взяты из «Кремля».
В «Кремле» воплощены идеи, глубоко волновавшие Всеволода, поистине выстраданные им, но одновременно эта книга насыщена живой современностью второй половины 20-х годов (общественной и литературной). Некоторые высказывания персонажей романа напрямую соотносятся с литературными спорами той поры.
Что же это за роман и почему он так был неугоден советским издателям.
Роман с современной точки зрения уже стал историческим. В нем описывается нэп. Вымышленный автором город, разделенный рекой Ужгой на два противоборствующих лагеря, которые — как тот, так и другой — не лишены роковых недостатков.
По одну сторону реки — старинный кремль с множеством церквей, где кучка людей, спекулирующих на вульгарно трактуемом ими православии, пытается издать Библию на русском языке. Организовано «Православное общество», которое скорее напоминает хлыстовскую секту со своей Богородицей — Агафьей. Невежественная девушка, вознесенная на пьедестал невежественными людьми, упивается своим владычеством над умами, а главным образом над вожделениями мужчин, ссорящихся между собой за возможность обладать ею.
Противостоит «церковникам» противоположный берег, где находятся «Мануфактуры» (так назывались в начале века ткацкие фабрики), где стараются строить новую жизнь, столь же вульгарно ее понимая, как «церковники» религию.
Настоящими героями новой жизни становятся ткачиха Зинаида, ушедшая от мужа, «крепкая» семья которого продолжает жить по домостроевским правилам, и Вавилов, проходящий многие ступени самовоспитания и поднимающийся с самых низов бродяжничества до осознания необходимости удовлетворения культурных потребностей рабочих.
Интеллигенты в «Кремле» все даны иронически. Длинные их монологи отражают тогдашний литературный процесс — споры о пролетарской культуре, гонения на попутчиков, дискуссии о соотношении сознательного и бессознательного в искусстве и т. п.
Но «новым» людям, в особенности это показательно на примере Вавилова, не хватает образования, и они иногда ведут себя не менее варварски, чем их противники «церковники», посягая на разрушение православной веры и храмов.
Изданный через полвека после написания, роман «Ужгинский Кремль» не имел прессы. Его не заметила современная критика. Существовали лишь письменные отзывы писателей.
Отзывы были положительными, некоторые и восторженными.
Но (чтобы не перегружать читателя) я полностью привожу только тот, который лично мне кажется самым убедительным. Это отзыв Миколы Бажана, украинского поэта, академика, энциклопедически образованного человека.
«Я за два дня праздников, что называется одним духом прочел роман «Кремль». Роман меня увлек, заинтересовал, взволновал. Он ярко воплощает и выражает настроения и душевные конфликты — сомнения и надежды русской советской интеллигенции того сложного и противоречивого времени 30-х годов, когда борьба кто — кого, когда спор между новым и старым, между социализмом и капитализмом еще не был завершен, еще был вздыблен, еще проходил как бурный и острый водораздел, сквозь каждую думающую и чувствующую душу.
Написан роман очень своеобразно, тем стилем большого гротеска, который проявлялся и в прозе М. Булгакова, А. Толстого, И. Ильфа и Е. Петрова, отчасти И. Эренбурга, Б. Пильняка, но ни у кого не был так напряжен, размашист, прихотлив и изобретателен, как в прозе Всеволода Иванова, особенно в этом романе.
Критики могли бы найти тут и сюрреализм, и гротескность современной драматургии Ионеско, и «Кафкианство», но на самом деле в нем лишь полно и сочно выражено то «всеволодианство», которое на веки веков сделало Всеволода Иванова неповторимым, многоцветным и многообразным, раблезиански буйным и иронически задумчивым великаном великой русской литературы. «Кремль» — одно из ярчайших проявлений его щедрого, далеко не всегда взвешенного и размеренного, стройно и гармонично проявленного таланта. Размер, мера, конструкция, строгая причинность, закономерность — он их часто толчком сшибает или тянет за собой, как Гаргантюа тянул парижские колокола. Поэтому и «Кремль» — не ровное произведение. Блестяще написанная, с «ивановскими» чудесными пейзажами, с «ивановским» юмором и с «ивановской» проникновенностью в «тайное тайных» человеческих душ, первая половина романа потом сменяется рядом глав, затянутых и несколько монотонных, чтобы к концу прийти снова к сценам изобретательным и острым.
Я не могу понять, почему роман не был напечатан при жизни Всеволода. Ведь роман этот так прямо и выразительно говорит о торжестве нового, о неминуемом окончательном торжестве коммунизма, его морали, его справедливой веры над суеверием старого, над гнусностью капитализма в его самых противных нэпмановско-спекулятивно-кулацко-паразитических отпрысках и пережитках. Ведь не может быть сомнения в том положительном значении, которое Всеволод Иванов вкладывал в фигуру большевика Вавилова, нарисованную без боязни внутренних конфликтов, трагедий, временных простраций, присущих человеку особенно в то конфликтное переходное время, которое описывает роман. Да и фигура Зинаиды тоже такого типа.
Роман «Кремль» вовсе не паноптикум, не собрание монстров, не коллекция раритетов, хотя своеобразие, необычность, прихотливость, внешняя алогичность, опирающаяся на внутреннее логическое течение, на подтекст, на скрытую, но вскрывающую значительно больше, чем явная детерминированность, присущи этому роману — мудрому и яркому гротеску. Читателя поражает не только ситуация, эпизод, пассаж, но иногда даже просто фраза. Поражает именно той внешней нелогичностью, о которой я уже говорил, но достаточно вдуматься, чтобы понять, каким могучим выразительным средством эта формальная (а не сутьевая) алогичность является. Да, роман необычайно важен, сложен, интересен».
После смерти Всеволода я, с помощью комиссии по литературному наследию, активно начала «проталкивать» в печать его «Кремль». Для публикации мы выбрали законченный вариант 1929–1930 годов. Комиссия предложила ряду писателей и литературоведов этот вариант, размножение машинописи которого организовала и я и Союз писателей — для прочтения и отзыва. Полученные отзывы К. Федина, М. Бажана, В. Каверина, А. Крона, А. Борщаговского, С. Михалкова, В. Смирновой, К. Симонова и др. (хранятся в Архиве Вс. Иванова) датированы 1965–1971 годами. Все эти разные (и по характеру, и по объему) высказывания отличает единое стремление — разгадать те законы, которым следовал Всеволод, создавая свое оригинальное произведение. Почти все читавшие, за исключением лиц, занимавших официальные посты, исходили из пушкинской мысли: произведения художника надо судить по законам, им самим для себя избранным.
К. Федин, высоко оценивая роман, особо подчеркнул значение ивановского поиска для всей советской прозы: «Роман «Кремль» принадлежит к оставленному нашей русской советской литературе дару Всеволода Иванова. Все своеобразие его писательского пера сказалось и на этом романе. Горячность авторского слова, живописность картин, власть ритмов — все остро дышит волей большого художника».
В. Каверин обращает внимание на те своеобразные традиции, которым следовал писатель в «Кремле»: «Это оригинальное произведение, основанное на традициях народного сказа и старорусской повести восемнадцатого века («Фрол Скобеев»). Подходить к нему с оценками, которые мы привыкли применять к психологической прозе, — неправомерно. Это — роман-хроника, перечень событий, больших и малых, выстроенных так, как выстроила их в 20-х годах сама жизнь. Его атмосфера фантастична, но это не литературная, а фольклорная фантастика, близкая к народным сказам, несомненно существующая и даже развивающаяся в наше время».
Вс. Иванов давал в журнал «Красная новь» первую треть романа, получил всего лишь устно высказанное «мнение», которое огорчило, но не обескуражило его. До конца своих дней продолжал Всеволод Иванов писать варианты «Кремля». Последний (меньше 10 страниц) помечен 1962 годом.
Если издать их все (одни сотни, другие десятки страниц), получится большой том.
По-моему, лучше других современников понимал творчество Всеволода Иванова всемирно известный литературовед и блестящий критик Виктор Борисович Шкловский, который в конце жизни сокрушался: «Я — в долгу перед Всеволодом, не написал прямо и внятно, какой он большой писатель и как в нем время не узнало свое собственное будущее. Время мало дорожило такими людьми, как он. Казалось времени, что оно будет рождать гениев непрестанно».
Отдельного труда о творчестве Всеволода Иванова Виктор Борисович так и не написал, но его высказывания в письмах достаточно красноречивы:
«В той маленькой стае, которая вылетела тогда в дальний полет, у тебя были самые сильные крылья.
В большой нашей литературе ты начал сильнее всех. В великой нашей речи ты нашел новое слово. Рядом с Горьким ты шел своей поступью.
Милый друг, в самовольной разлуке с тобой пишу тебе о том, что я верю в твой высокий талант и в то, что ты начал, как гений.
Между тем только две книги твои, две вещи — на подмостках (Виктор Борисович имеет в виду, что, начиная с 40-х годов, Всеволода Иванова перестали издавать; все новое, что он писал, отвергалось, его лишь переиздавали, да и то ограничиваясь «Бронепоездом» и «Пархоменко». — Т. И.). Время мало дорожит такими людьми, как ты».
Прав Виктор Борисович — время совсем не дорожило Всеволодом Ивановым. На момент его смерти (1963 год) неопубликованными оказались большое число написанных им произведений.
Над романом «У» Всеволод Иванов начал вплотную работать в 1929 году.
Год этот знаменовался для него еще и рождением сына Вячеслава, о чем говорится в своеобразных антипримечаниях, поставленных автором в преддверии романа и по существу своему примечаниями никак не являющихся, о чем автор предуведомляет читателей, указывая, что он пародирует ученые комментарии (в то время модные).
Но надо отметить, что роман «У» написан без обычного большого числа вариантов. Это произведение писалось автором легко — на одном дыхании. Поэтому позднее он и говорил, что роман был им написан «вчерне»:
«Роман «У», в черновиках, был написан мною целиком, но набело переписал я только половину его. После того, как она (рукопись. — Т. И.) была отвергнута (даже не помню точно, кем — дело ведь не в фамилиях, а в том, что после яростной критики цикла «Тайного тайных» поголовно все редакторы плотоядно искали в писаниях моих следы Бергсона и Фрейда и не могли, при внешней приветливости, внутренне не относиться ко мне отрицательно…)».
Роман «У» построен, в основном, на мистификации, сюжет его пронизан недоразумениями, обманами, вздорными слухами (как, например, легенда о короне американского императора или поиски несуществующего костюма американского миллионера) и не менее вздорными проектами (обобществление имущества и даже жен). Художественный мир романа лукав и фантастичен с первых же страниц — с помещенных в начале книги пародийных комментариев.
Смутно и неустойчиво мировоззрение персонажей, живущих представлениями навсегда ушедшей эпохи: реальность преломляется в их сознании, порождая уродливые фантазии и сны, как бы сливающиеся воедино. И в этой ирреальной атмосфере, разрастаясь до гротеска, возникают планы переделки человека — один противоречивее другого.
Вс. Иванова глубоко интересовали реальные возможности «переформирования» человека в эпоху революционного строительства, для чего требовалось коренное изменение устоявшихся традиций, обогащение сознания, прежде лишенного духовных потребностей. Идея «переделки» человека вложена автором в уста непохожих друг на друга героев.
Главный среди них — Леон Черпанов, приехавший в Москву якобы для вербовки рабочей силы на Урал, причем вербовать он намерен и так называемых «бывших», и «пролетарское ядро».
Черпанов утверждает: «Эти силы или отбросы созданы революцией. Надеются ли они на реставрацию? Вряд ли. Верят ли они в возможность бесклассового общества? Конечно. И отсюда у них трепет и всяческие содрогания. Они знают, что до бесклассового общества доживут, а вот пустят ли их туда?.. И неужели же мы, при нашей нехватке рабочей силы, при нашем умении перевоспитывать, не воспользуемся ими? Но как к ним приступить?.. По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно чрезвычайно будет благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения».
Вплоть до конца романа остается неясным, кто же такой Черпанов на самом-то деле? Он неоднократно рассказывает свою биографию, но каждый новый вариант не похож на предыдущий…
Другой не менее значимый персонаж — доктор Андрейшин — тоже одержим идеей переделки человека «как такового». Подобный герой часто встречается у Вс. Иванова: прекраснодушный мечтатель, наивный фантазер, убежденный, что такие сильные чувства, как, например, любовь, способны творить чудеса, — и он создает фантастические планы особых установлений («Институт любви», «День любви к отцам» и т. п.).
Пародийно искажая мысль доктора, проповедует ее и Савелий Львович, сколотивший в доме № 42 притон для всяческих мошенников, воров, спекулянтов, прикрывающихся службой в государственных учреждениях. Это — люди-перевертыши: например, бывший церковный староста храма Христа Спасителя, ныне член кооперации — мороженщик, к тому же занимающийся (фиктивно) антирелигиозной пропагандой…
Вс. Иванов пародирует здесь не идею перевоспитания человека, но гротескно показывает, к чему может привести искажение идеи, если попытаться «перевоспитание провести в три дня».
Естественным противопоставлением авантюрной идее становится сцена посещения Черпановым завода: здесь сложность «перерождения» людей показана в реальных масштабах — и написаны эти страницы в иной стилистической манере, не нарушая пародийности.
Повествование в романе ведется от лица малокультурного больничного служащего Егора Егорыча, который как бы растворяется то в Андрейшине, то в Черпанове.
Стиль романа особый; так, автор, не оповещая читателя, врывается в речь Егора Егорыча, и его «взлеты», изобилующие высокой эрудированностью, резко контрастируют с тривиальностью Егора Егорыча, и уловить эти переходы способен лишь внимательный, думающий читатель, вошедший в ритм автора.
Если относительная заурядность Егора Егорыча — рассказчика соответствует установившейся традиции того литературного жанра, в котором рассказ поручен автором другому лицу, то свободное вторжение авторских рассуждений о литературе в речь повествования (как бы вновь возвращая ее себе — автору) составляет отличительную черту «У», ибо и там, где роман кажется традиционным по форме, в действительности автор порывает с традицией или ее пародирует. Такое игровое отношение к литературной форме иногда раскрывается и в авторских отступлениях, представляющих собой в известной мере пояснения поэтики романа. Так, в одном из них Вс. Иванов полемизирует со своим другом Виктором Шкловским (соавтором по приключенчески-пародийному роману «Иприт», написанному незадолго до «У»).
В самой своей форме предельно свободный роман «У» — иронически гротесков, он продолжает литературную полемику, которую вел Вс. Иванов еще в 1920-х годах и с В. Б. Шкловским, и со Львом Лунцем и другими своими друзьями по литературному объединению «Серапионовы братья».
Доктор Андрейшин, видя, в конце романа, крах своих иллюзий (дом № 42 опечатан агентами МУРа, а его жители арестованы), все-таки не отчаивается, не отшатывается от людей «дна». Он понимает, что революционный путь перевоспитания человека станет долгим и трудным, что каждый человек потребует индивидуального подхода, и подход этот будет найден — и что все это неизбежно, ибо «социализм создают не какие-то особенные люди, а самые обыкновенные, с присущими им задатками добра и зла».
Роман «У» так и не увидел света. К концу 1933 года (в ноябре) из него было напечатано (в «Литературной газете») только несколько отрывков. Один из них носил название «Секретарь большого человека» (скрытая пародия на секретаря Горького П. П. Крючкова).
Любопытная психологическая деталь: в рукописи романа «У» секретарь носит имя Егор Егорыч, но примерно с середины романа делается, очевидно подсознательно и незаметно для автора, Петром Петровичем (т. е. псевдоним Е. Е. подсознательно заменен реальными инициалами того, кто до какой-то степени послужил писателю прототипом — впрочем, прототипом по-всеволодо-ивановски, то есть, если подойти с реальной меркой, совсем непохожим, но послужившим для писателя отправной точкой).
Вс. Иванов был необыкновенно щепетилен и взыскателен к себе. Никому не жаловался и не давал друзьям читать свои забракованные труды.
Вот почему даже самые близкие друзья с рукописью романа «У» познакомились только после смерти писателя.
Почему Вс. Иванов не обращался за поддержкой к друзьям, когда издательства отвергали его новые произведения?
Главным образом, потому, что он, как писан в дневнике, постоянно был обуреваем сомнениями, которыми (как утверждал) был даже и счастлив, — сомнениями, правильные ли пути для самовыражения он выбирает. Он ведь и Горькому перестал показывать отвергаемое издательствами. И что, по-моему, показательно: самое большое количество неопубликованных произведений приходится как раз на период после Первого съезда писателей, когда Вс. Иванов стал секретарем СП СССР и председателем правления Литфонда. Он всегда и категорически был против использования в личных целях тех возможностей, которые дает общественная работа.
По достоинству друзья Вс. Иванова оценили роман «У» только тогда, когда автора уже не было в живых, блестящий критик Виктор Борисович Шкловский, как член комиссии по литературному наследству Вс. Иванова, написал на роман «У» письменный отзыв, в котором говорится: «Роман «У» необыкновенно сложно написанная вещь. Это произведение напоминает мне «Сатирикон» Петрония и романы Честертона.
На Петрония это похоже тем, что здесь показано дно города и похождения очень талантливых авантюристов.
Честертона это напоминает тем, что сюжет основан на мистификации.
Показан момент начала советского строительства, взят район и время слома храма Христа Спасителя.
Книга стилистически очень сложно написана. В середине есть полемика со мной, что я отмечаю просто для аккуратности. Стиль книги блистателен, но непривычен. То, что писал Всеволод, было истиной. Познанием прежде не бывшего».
Письмо Шкловского от 24 марта 1967 года к В. А. Косолапову (тогда директору издательства «Художественная литература») хочется процитировать почти целиком: «При всем моем уважении к редактированию, я должен сказать, что в результате его писатели оказываются похожими друг на друга. Между тем одним из самых главных свойств писателя является то, что он, имея общее мировоззрение с народом, имеет свое видение мира, свой метод выделения частностей, который в результате оказывается подтверждением общего пути, но не является результатом общего миропонимания.
Великого писателя Всеволода Иванова все время подравнивали и подчищали так, что он не занял то место в советской литературе, которое ему по праву принадлежит.
«Бронепоезд» появился в советской литературе очень рано, и он определил ход литературы, становление ее нового лица.
В. В. Маяковский говорил, что писатель стремится к тому, чтобы у него вышло то, что он задумал. Редактор, к сожалению, часто думает о том, как бы чего не вышло. Из этой коллизии получаются поправки, а литература состоит из произведений, а не из поправок.
Читатель имеет право видеть писателя во всем его своеобразии, и, кроме того, он должен, покупая новую книгу, иметь новый материал».
Не опубликованный при жизни автора роман «У» после его смерти вызывал восторг не одного только Шкловского.
За печатание «У» высказывались и другие видные писатели, впервые прочитавшие роман в 60-е годы в рукописи.
Микола Платонович Бажан писал мне 1 января 1982 г.: «Так правильно, что неустанные Ваши заботы о написанном Всеволодом Вячеславовичем приносят советской литературе такую вещь, как «Кремль». Вот если бы еще хватило у Вас сил на то, чтобы добиться издания романа «У». Мне этот роман кажется превосходным и начинающим то течение в советской, русской прозе, которое обычно именуют «Гофманиадой». Ведь написан роман раньше, чем «Мастер и Маргарита». Прошу Вас, проверьте даты. Ей-богу, это не просто мой личный интерес, а нужные поправки к истории».
Удивительная судьба неизданных произведений занимала самого Вс. Иванова: в последнее десятилетие своей жизни он, как видно из записей в его архиве, постоянно над этим размышлял.
В письме Н. Н. Яновскому (автору книги об его творчестве) он пишет: «Недавно Публичная библиотека в Ленинграде пожелала издать — в качестве справочника — выдержки обо мне из прессы прежних дней. Мне были присланы перепечатанными — эти выдержки. Я перечел их — и охнул. Оказывается, ничего, кроме брани, не было — за исключением, конечно, «Бронепоезда». Забавно, не правда ли? (…)
Да и Вы в первых строках книги (обо мне) — пишете, что я написал не мало (значит — много?) произведений ошибочных, не выдержавших испытания времени. Какого времени? Десятилетия? И притом Вы отлично знаете, что меня не издавали, а значит, и не читали, и о каком же испытании временем может идти речь? Кроме «Пархоменко», «Партизанских повестей», «Встреч с М. Горьким» — ничто не видело света. А я раньше написал томов 10, не меньше, и кроме того у меня в письменном столе лежит ненапечатанных (не по моей вине) четыре романа, листов 30 рассказов и повестей и добрый том пьес.
Не надо судить о Галилее только на основе его отречения от своего учения, что земля — шар.
Есть истины более достоверные, чем наши отречения».
Это писал Вс. Иванов полвека тому назад. И вот что удивительно. В двадцатые годы пресса дружно его превозносила. В тридцатые подвергала резкой критической хуле, а начиная с сороковых начала замалчивать, сведя все его творчество к одному «Бронепоезду». Поразительно, что замалчивание длится и посмертно…
Всегда и во всем Вс. Иванов был склонен предъявлять счет прежде всего к самому себе. «Легко, конечно, обвинить в ненапечатании романов эпоху, но не трудно обвинить и автора. Эпоха — сурова, а автор — обидчив, самовлюблен, и, к несчастью для себя, он думал, что другие самоуверенные люди — чаще всего это были редакторы — лучше, чем он, понимают и эпоху и то, что он, автор, должен делать в этой эпохе. Кроме того, виновата и манера письма — стиль автора, который он искал непрерывно и ради искания которого не щадил ни себя, ни редакторов», — пишет Вс. Иванов в черновиках «Истории моих книг».
Но при всей своей скромности он не может все беды взвалить на одного лишь себя, сняв их целиком с современных ему критиков, редакторов, издателей. С приведенной выше записью соседствует другая: «Душевно жаль будущих историков литературы, которые должны будут писать о нашем героизме, стараясь в то же время не очернить людей, мешавших этому героизму».
Не случайна в дневнике Вс. Иванова и ироническая запись: «Когда я думаю о смерти, то самое приятное думать, что уже никакие редактора не будут тебе досаждать, не потребуется переделки, не нужно будет записывать какую-то чепуху, которую они тебе говорят, и не нужно дописывать…»
Выдающийся философ, известный критик и литературовед В. Ф. Асмус писал о Вс. Иванове: «Путь Всеволода Вячеславовича не был легким. Всю жизнь с увлечением — вдохновенно и усердно — он трудился как писатель. Он был человек не только мужественный, но и скромный. Удивительны достоинство, терпение, с каким он нес свою непростую и нелегкую судьбу в литературе. Он уважал свою современность и твердо знал, что придет время, когда современность будет знать его лучше и полнее».
Вс. Иванов утверждал: «Всякое истинное искусство — современно.
«Одиссея» Гомера, «Война и мир» Толстого, или «Бесы» Достоевского, или «Утраченные иллюзии» Бальзака могли появиться только тогда, когда они появились, и несут отпечаток своего времени. А мы читаем их теперь по-современному.
Чем мировое искусство призвано отразить современность?
Борьбой за мир, национальную независимость, сосуществование» (написано в 1962 году).
«Увеличение любви к искусству и поэзии накладывает на нас обязанность, заставляет нас — хотим мы этого или не хотим — острее понять современность, чтобы выступить перед ее нуждами, радостями и горем с открытым лицом и чистым сердцем.
Вред ненапечатания книги — тормоз развития литературного процесса.
Книга, если она талантлива и — не враждебна, имеет право быть напечатанной и должна быть напечатанной, хотя бы лишь для того, чтобы быть раскритикованной.
Только тогда может расти и развиваться литературное творчество, когда каждая книга, достойная этого определения, увидит свет».
В черновиках «Истории моих книг» Всеволод Иванов пишет: «Любопытно отметить формальную инерцию редакторов и издателей:
Рассказы цикла «Тайное тайных» критика отвергала. Рассказы этого же цикла, помещенные в сборник, названный «Дикие люди», — проходили. Причем проходили в том же 1934 году, когда был впервые отвергнут роман «Кремль».
В романах «Кремль» и «У» я хотел показать героев, которые не умеют осознать и высказать своих чувств и мыслей, а их посчитали врагами… Мне казалось, что книги эти спорят с моими прежними воззрениями, отрицая орнаментализм и все другие словесные и смысловые изощрения, которыми мы были так богаты — надо принять во внимание, что я был богат этими изощрениями с самого начала своего творческого пути, моя первая книжка рассказов «Рогульки» (мной самим набранная в бытность мою наборщиком в Сибири) тому доказательство… Эта изощренность была создана не в отрыве от народного языка, а в приближении к нему.
… В сущности говоря, радоваться бы да радоваться. Откуда появляться мрачным размышлениям?
Ответ приблизительно такой: я не задавался прямой задачей писать мрачное и тяжелое, но согласитесь, что путь к этим приятным сравнительно дням, которые мы с вами переживаем, был хотя и головокружительно прекрасен, но вместе с тем был и горемычным, и тяжелым, и печальным. И нужно рассказать по возможности все об этом пути, чтобы последующие поколения понимали и ценили эти трудности. Все забывается, особенно, если человек поскорее стремится уйти ото всех страданий и горечи.
…Я хотел и смог описать душу самых простых людей, всю сложность их мыслей, всю ясность — для них самих неясных трагедий».
Шкловский писал (в уже цитировавшемся письме к В. А. Косолапову):
«Новый мир строится не ангелами.
Новые люди создаются, а не даются готовыми.
Многие герои Вс. Иванова — храбрые люди, но это люди, переходящие из одного мировоззрения к другому. Поэтому они дики, они любят свое, в них есть элементы национализма, они его не осознают.
Мы не можем переделывать своей истории, иначе мы начнем отрицать, что у нас было крепостное право».
Вс. Иванов утверждал: «Литература — та же война, война с невежеством, слепотой, бескультурьем, бесчеловечностью, борьба за добро, за человеколюбие. И вести эту борьбу необходимо с верой в человеческое сердце. Опираясь на добро, человеческий ум способен совершать чудеса».
Стремясь пробудить сознание, борясь с бездуховностью, Вс. Иванов не мог не описывать ужаснейшие злодеяния, которые по невежеству, не осознавая того, что творят, совершали иногда его герои и антигерои.
В «Истории моих книг» Вс. Иванов пишет:
«Будущий исследователь (…) скажет: «Боже мой, какой Всеволод Вячеславович был мизантроп». Вовсе не так (…) сам я в конце концов жил счастливо, я страдал во имя интересов моей страны — потому что если уж в такой стране, где были Чехов и Достоевский, быть писателем, то надо быть очень хорошим, а для этого необходимо полностью развить себя».
Вот именно этим — саморазвитием, непрерывным экспериментированием — и занимался всю свою творческую жизнь Вс. Иванов.
В несгоревшей части библиотеки у нас сохранились книги по психологии и другим научным дисциплинам с пометками — следами внимательного чтения Всеволода. Он часто говорил, что «Кремль», «У» и «Похождения факира» части единой трилогии, которую он надеялся закончить.
«У» — «московский роман», так он называл его, — писался в 30-х годах.
Там — мир уходящий, отступающий под натиском новой действительности, но тем не менее еще реально существующий, хотя и потрясенный, переполненный страхом, ощущением нависшего окончательного краха. Смутность мышления порождает слухи, домыслы, заговоры, легенды, мистификации.
Итак, в романах «Кремль» и «У» Вс. Иванов усиленно искал новую романную форму.
Поиски его были продиктованы отнюдь не неуважением к классике, как русской, так и мировой. Нет, он не раз писал о том, как, изучая «магию» творчества Льва Николаевича Толстого или Антона Павловича Чехова, он, будучи наборщиком, от руки переписывал их произведения, улавливая ритм, прочувствуя каждое отдельное слово, стремясь постичь полет их творческой мысли.
Но это было для него школой, теми корнями литературного мастерства, без соприкосновения с которыми нельзя развивать древо искусства художественной литературы.
Однако изучение — не подражание, об этом тоже немало написано Вс. Ивановым. Этим предостережением, по-разному выраженным, наполнены все его отзывы на работы молодых писателей и дипломантов Литературного института.
Подражание, по Вс. Иванову, равно штампу, банальщине. Подражатель не может, по его мнению, не скатиться к графомании.
Он и самого себя боялся «переписывать». Поэтому критика (пока не обрекла его на вакуум) никак не могла за ним угнаться. От него требовали, чтобы он застыл в той форме, которую обрел при создании «Партизанского цикла».
Следующий цикл «Седьмой берег», как и повесть «Возвращение Будды», уже показался недозволенным.
Новый же резкий поворот Вс. Иванова к циклу «Тайное тайных» был воспринят критикой как зловредная ересь.
В боязни окостенения формы Вс. Иванов доходил до крайностей.
В конце двадцатых годов он сжег рукопись романа «Северосталь», решив, что у него стала выходить из-под пера банальность — «как у всех».
Не в гордыне тут дело, а, может быть, в чрезмерном самоуничижении.
Писать «как все» — недопустимо, потому что это унижает величие искусства, которое автор обязан непрерывно совершенствовать, используя все отпущенные ему природой возможности и непрерывно пополняя свое образование.
Когда Вс. Иванов в начале 1921 года приехал из Сибири в Петроград и Горький ввел его в содружество «Серапионовы братья», образованность «брата Алеута» (как его окрестили «серапионы», переименовав потом в «Сибирского мамонта») сразу бросилась в глаза самому тонко чувствующему из всех «серапионов» — Михаилу Михайловичу Зощенко.
Зощенко при первых же встречах (как рассказывал мне Илья Александрович Груздев) сказал: «Не валяй дурака, Всеволод, скажи прямо, какой университет ты окончил? Ведь твоим факирским штучкам один только Веня Каверин, утомленный своей образованностью, способен поверить».
К тому времени Вс. Иванов уже успел прочитать несчетное количество книг, которые он покупал непрестанно и которые были единственным его имуществом…
Но чтением этот требовательный к себе юноша не ограничивался. Он считал, что дерзающий писать обязан знать не одну литературу, но все искусства.
В «Истории моих книг» Вс. Иванов описывает, как он скупал каталоги музеев и заставлял себя воображением воспроизводить и как бы зримо ощущать шедевры.
Побывав вместе с ним в музеях Франции, Италии, Англии, я не раз наблюдал, как, надолго замерев перед какой-нибудь всемирно известной картиной или скульптурой, он наконец тяжело вздыхал, иногда вытирая со лба выступивший от напряжения пот, и говорил: «Одной тайной меньше», — это означало, что, заставляя свое воображение делать невероятные усилия, воссоздавая для себя по каталогу описанный там шедевр, он шел по неверному пути.
Хотя надо сказать, что воображение у него было столь мощным, что его иногда самого изумляли те «попадания», на которые он был способен, воображая в уединении, на берегу Иртыша или Тобола, мировые шедевры искусства.
Поиски лучшего самовыражения Вс. Иванова неустанны и своеобразны.
Почти одновременно создавая «Кремль» и «У», он использует иногда отличающиеся один от другого приемы. Но можно обнаружить и сходные. В «У» антикомментарии помещены в начале романа, а в «Кремле» он поместил «разрывы главы», что опять же не имеет отношения к тем страницам, которые в этих «разрывах» указаны.
Но и то и другое — как антикомментарии, так и «разрывы» — игра, к которой Вс. Иванов приглашает читателя, надеясь на его сотрудничество.
В романе «У» повествование, пусть и с вторжениями в текст автора, поручено третьему лицу, от имени которого ведется рассказ о событиях.
В «Кремле» автор прочно надевает маску летописца. События, описываемые в «Кремле» автором-летописцем, можно отнести к разряду «бессюжетных».
Основной сюжет — течение времени. Новая жизнь еще не построена. Старая не вполне уничтожена. Рабочие мануфактур все еще живут в «казармах», построенных бывшими владельцами. Пытаются создать клуб, утверждая новую жизнь, которая немыслима без удовлетворения духовных потребностей человека.
Фабричные корпуса не имеют никаких «общих» помещений. В цехах — непрерывный шум. Поэтому предвыборную агитацию приходится проводить в уборных, там, где люди только и могут покурить и услышать друг друга.
Именно как летописец говорит Вс. Иванов о посягательстве на разрушение храма Вавиловым, человеком, одержимым не только благими намерениями, но и психическими комплексами.
Вавилов — коммунист, но по существу он прежде всего человек невежественный. Ему свойственно устремление к правде и человечности, но никакой научной, даже самой примитивной, основы его устремления не имеют. Он воистину не ведает, что творит, разрушая храм якобы во имя культуры. Да, нужен клуб, но не такой ценой.
Противнику Вавилова — Гурию Лопте тоже не хватает культуры. Он не понимает, что его самоуничижение — паче гордости. У него-то есть кое-какое образование, а самоустраняясь, он предает дело своей жизни — свою веру — в руки невежд, которые ее искажают.
Там, где есть благие намерения, не опирающиеся на научные традиции, рождаются мифы, легенды, вздорные мистификации.
Таким образом, в романе «У» возникают: корона американского императора, перерождение людей переселением их на Урал.
В «Кремле» — христианская православная религия искажается до уровня секты. И как наивысшее проявление мистификации создается легенда о «Неизвестном Солдате», в которой все ирреально, кроме того, что русские солдаты действительно были отправлены в первую мировую войну во Францию, согласно договора о совместных военных действиях России и Франции.
Легендарен узбек Измаил, которого автор-летописец именует азиатцем.
Узбек Измаил воспринимается окружающими его русскими как азиатец, потому, что его родина — в Азии, но ведь их-то самих никак не назовешь европейцами, хотя родина их Ужга и находится на территории Европы.
Кулачные бои — стенка — столь же далеки от элементарных культурных традиций, хотя и ведут свое начало от «предков», как и стремление Измаила «наказать буржуев».
Во всеобщем смятении сознания создаются и множатся на основе иногда даже обыденных событий легенды о юродивом Афанасе-Царевиче, мифическом пьянице Гусе-Богатыре, охотнике Бурундуке и драконе Магнате-Хае. И, как ни странно, Магнат-Хай однозначно вписывается в общее мифотворчество.
Путеводной звездой все же является устремление к очеловечиванию, к взаимопониманию. Три антигероя из «четверых думающих» находят себе полезное для общества применение, в противовес антиобщественным «пяти-петрам» и только одному из «думающих» Мезенцеву, ставшему мошенником.
Наводнение, описанием которого автор-летописец заканчивает свою летопись, выявляет лучшие черты противоборствовавших «мануфактурщиков» и «церковников», которые, осознав себя людьми, понимают, что цель у них общая — нормальная человечность.
Автор-летописец не дает никаких оценок происходящему. Он описывает: так было. Читатель все оценки, все выводы должен сделать самостоятельно.
Жизнь в какие-то поворотные моменты сама по себе куда более фантастична, чем дракон о семи головах, которые все семь одновременно курят папиросы.
* * *
Работа Всеволода Иванова над романом «Кремль» началась примерно с 1924 года (иногда он называл и более раннюю дату — 1922 г.) и продолжалась почти до конца жизни (1962 г.).
Однако этого, казалось бы, достаточно для пробуждения интерес и читателей к этому роману, так и не увидевшему света при жизни автора и опубликованному отдельным изданием лишь в 1981 году (изд-во «Художественная литература»).
В данном издании печатается по рукописи, хранящейся в личном архиве писателя (вариант 1929–1930 годов, фотокопия передана мною в рукописный отдел ГБЛ Ф — 673), структурно сложна и неоднородна. Она сохранилась в совершенной нетронутости с того момента, как Вс. Иванов закончил ее. Рукопись распадается на несколько «кусков», которые отличает разная степень стилевой отделки. Это объясняется тем, что роман, созданный на едином дыхании, не прошел (в целом) необходимых этапов, связанных с публикацией: подготовки рукописи для сдачи в редакцию, затем в производство, последующей корректуры (часто неоднократной)…
Начальный «кусок» — пролог и пять глав — представляет собой машинопись с правкой автора. Это авторская машинопись, известная по другим рукописям (специфические ивановские написания слов, излюбленная им пунктуация). Листы рукописи нестандартные (большие), на таких листах любил печатать Вс. Иванов (поэтому 101 страница авторской машинописи соответствует 170 обычной). Авторская правка невелика — на уровне изменений (вписывания) отдельных слов, редко предложений. Писатель последовательно отмечает красную строку, внимательно расставляет знаки препинания. Каждая глава имеет развернутый подзаголовок, начинающийся словами: «О том, как…» Завершается «кусок» словами: «Продолжение следует. Всеволод Иванов». Эти начальные пять глав романа были отданы им для прочтения (и последующей публикации) в журнал «Красная Новь». Пять глав — треть романа, Всеволод предполагал печатать роман в 3-х номерах.
С шестой главы характер рукописи меняется — это тоже авторская машинопись, но отличная от машинописи первых пяти глав: в ней нет практически авторской правки (есть только отдельные пометки на полях и на верхней части листа, нередко зачеркнутые). Подзаголовки тоже начинаются словами «О том, как…», но далее следует многоточие. При последующей работе Всеволод собирался раскрыть содержание глав. Машинописных страниц такого рода — 43, листы меньшей величины, машинопись идет поперек листа.
За 9-й следует «вставная глава» — «Подлинная история Неизвестного Солдата». Именно с нее начинается рукописный текст (чернила) на больших нестандартных листах бумаги. Это — беловая рукопись, почти без зачеркиваний и правки.
За вставной главой идет главка с нумерацией 60. Последующий текст состоит из подобных главок — с 61-й по 102-ю. Это именно главки, в отличие от глав, на которые распадался текст «Подлинной истории…», в свою очередь делившиеся на части, по объему напоминающие те, на которые распадается последующее повествование. Можно предположить, что первоначально он и весь текст хотел делить на главки (с 1-й по 100-ю), а затем уже они объединялись в главы, получившие развернутые подзаголовки.
Таким образом, можно выделить в рукописи романа три «слоя», вернее всего, три этапа, отразивших работу над ней Всеволода.
Первые 101 страница полностью отработаны для сдачи в журнал, в следующих 43 страницах эта работа сделана менее тщательно, и, наконец, большая часть романа — беловая рукопись, еще не подготовленная к печати. Поэтому, готовя роман к публикации после смерти автора, текстологи, которыми являлись я и Елена Александровна Краснощекова, столкнулись с многими трудностями. Разная степень подготовки рукописи вызвала в издании 1981 года («Художественная литература») некоторые вторжения в авторский текст. Однако, считая основным принципом в работе бережное отношение к тексту и стремясь максимально сохранить авторскую волю, мы ограничили вмешательство лишь купюрами, иногда для связности вставляли одно или два слова. Сделанные купюры каждый раз отмечались в тексте многоточием в угловых скобках, а вставленные слова заключались в квадратные скобки. Кроме того, был устранен разнобой в именах героев, упорядочена пунктуация в соответствии с современным написанием.
В настоящем издании купюры отсутствуют. Имена героев упорядочены.
Как уже говорилось мною, роман «У» как исключение из метода работы Всеволода, написан им без вариантов. В архиве хранится и авторская машинопись с правкой и идентичный текст рукописный, чернилами, без правки, с которого автор сам перепечатывал и по перепечатанному правил.
Текстологическую работу по подготовке рукописи романа «У» к печати я проводила, точно сверяя с оригиналом, не внося никаких купюр и никаких вставных слов.
* * *
Даже смертельно больной, находясь в больнице, думал Вс. Иванов о литературе. Вел дневник.
Он записал: «Я принимал, и совсем недавно, кислород через трубочку. Этот газ входит незаметно, и так же незаметно улучшается мир, то есть вам кажется, что он улучшился. Все — ясно, просто, все разрешено, — а между тем вы всего лишь на «больничной койке», и мир, если привстать с этой койки и оглядеть только вашу палату, довольно сильно неблагоустроен. Тоже недавно врач-анестезиолог мне сказал: «При современном состоянии медицины мы способны уничтожить любую боль. Но как тогда, если не будет болей, мы установим состояние больного (…). Если больной не скажет, что он чувствует, где у него болит, мы не в состоянии лечить его!»
Я думаю, что то же самое и в области литературы. Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль — если она есть. А что она есть — это несомненно!
Одни аресты и лагеря чего стоят!»
Читатель не должен забывать, что путь Всеволода Иванова был труден.
Лучшая благодарность подвижникам — память о них. Внимание к делу их жизни. Вдумчивое отношение к плодам творчества, ими оставленным.
Тамара Иванова



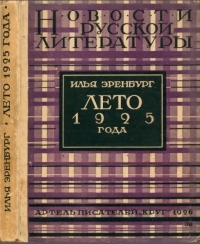

Комментарии к книге «Кремль. У», Всеволод Вячеславович Иванов
Всего 0 комментариев