Федосеев Григорий Анисимович Пашка из Медвежьего лога
Глава 1 КОНОПАТЫЙ ПАРЕНЁК
Ещё зима…
Тусклые рассветы. Мутное небо. Редко проглянет холодный луч солнца. Под зимним плотным снегом спят корни растений, насекомые, ручейки, реки, цари-медведи. Спят белоствольные берёзы, угрюмые сосны, ели — вся тайга. Лишь изредка в ней кто-то, точно пробудившись от долгого сна, пробормочет невнятно и смолкнет, уйдя в тишину.
В штабе экспедиции затишье. Полевые подразделения геодезистов уже разводят костры в далёкой тайге, ждут не дождутся весны, чтобы начать работу. И только мы с Василием Николаевичем Мищенко, как отставшие в перелёте птицы, живём лишь надеждой, что скоро присоединимся к товарищам.
А тайга зовёт. Мысли давно там, далеко в горах, у бурных потоков, у птичьих озёр. То почудится, что ты у ночного костра, и тело пленит привычная усталость от дневного перехода, то вдруг плеснёт в лицо смолистым запахом хвойных лесов, отогретых полян, свежестью первой зелени. И, пробудившись, ты с болью поймёшь, что это всего лишь обманчивое забытьё.
День солнечный, тёплый. Иду к себе обедать. Из школы высыпали ребята и быстро растеклись по переулкам. Вижу: у широкой витрины магазина сельпо стоят двое парнишек. Тот, который поменьше ростом, ко мне вполоборота. Лица не видно, только острый кончик носа торчит из-за веснушчатой щеки. Зажав между ног сумку с книжками и перевалившись через перила, парнишка что-то рассматривает за стеклом.
Я делаю ещё шаг и останавливаюсь. Теперь мне виден чуточку вздёрнутый нос, тоже запорошенный веснушками, В стиснутых пальцах правой руки парнишка держит ломоть чёрного хлеба, отхватывает большие, во весь рот, куски и жуёт, причмокивая губами. Можно подумать, что он, по крайней мере, ест какой-то необыкновенно вкусный торт. Второй мальчуган, и старше, и повыше ростом, стоит рядом, бочком прижавшись к перилам, и с откровенной завистью следит, как приятель уминает хлеб, а сам нет-нет да и пожуёт пустым ртом. Лицо у него строгое, даже злое.
Там, за стеклом, куда так пристально они смотрят, горка жареных гусей. Ближний рассечён вдоль, лежит, вывернутый жирным мясом наружу, сочный, обтянутый подрумяненной коркой.
«Вот он соблазн!» — подумал я. И мне вдруг тоже захотелось чего-нибудь пожевать.
Вижу, конопатый мальчишка достаёт из кармана чесночину, натирает ею шероховатую горбушку, откусывает, а сам глаз не отрывает от витрины. До чего же вкусным кажется ему чёрный хлеб с гусятиной, что лежит за стеклом!
— Хватит тебе, пошли! — досадливо бросает старший, глотая слюну.
Конопатый, не поворачиваясь к товарищу, отламывает ему половину горбушки, суёт в руку, и они оба, не отрываясь от витрины, жуют.
Меньший говорит с сожалением:
— Вчера, Костя, тут и колбаса лежала… Веришь, жирная, вот такая толстущая!.. — И он, растопырив пальцы левой руки, хочет показать ему толщину колбасы, но вдруг оба разом замечают меня, срываются с места.
Размахивая сумками, они несутся по улице и исчезают где-то в переулке.
Я снимал комнату в доме на одной из самых тихих улиц посёлка. Ходил к себе по глухим переулкам. Только подошёл к дому, как на улице послышался отчаянный лай, видно, кто-то ударил собачонку. Затем донёсся свист. Он повторился трижды и смолк, оставив в уличной тишине какую-то непонятную тревогу.
Через соседний двор промчались три паренька. Явно на свист. У них, кажется, не было времени открыть калитку, и они все с лёгкостью борзых перемахнули через забор.
Свист повторился, но более резко, как сигнал бедствия.
По дворам залаяли собаки.
Вижу, старик собачник поймал сачком Жулика — соседскую собачонку и, перекинув через плечо живой груз, направился к телеге с ящиком. Сбежавшаяся ребятня стеной перегораживает ему путь, орёт, машет руками, пытается отнять Жулика.
— Кыш, пузатая пескарня! — кричит собачник, прокладывая себе дорогу.
Ребята отскакивают и в нерешительности замирают. На секунду напряжённая тишина нависает над улицей.
От толпы отделился парнишка в красном шерстяном шарфе, видимо, самый резвый, и стремглав бросился вниз по улице — явно с каким-то поручением.
А старик торопливыми шагами подошёл к телеге, и через минуту Жулик уже сидел в ящике с двумя грустными псами.
Собачник не спеша, по-хозяйски замкнул дверцу ящика. И тогда Жулик вскочил, бросился к решётке, завыл на высокой, жалобной ноте. Ему ответили таким же воем собаки из ближайших дворов.
Я решил не вмешиваться до последнего момента: хотелось посмотреть, что за ребята на нашей улице и способны ли они освободить своего четвероногого Друга.
А собачник, довольный удачей, достал из кармана кисет и стал закручивать «козью ножку».
В это время из дальнего переулка выскочил шустрый паренёк в сопровождении мальчишки в красном шарфе.
— Копейкин!.. Копейкин!.. — Толпа мальчишек оживлённо загудела.
Дед насторожился, не понимая, с чего бы у хлопцев появилась такая радость.
Что-то знакомое показалось мне в этом пареньке.
Да ведь это тот самый конопатый мальчишка, которого я только что видел у витрины сельпо! Мне запомнились широкая, с чужого плеча, телогрейка защитного цвета и большая лисья шапка.
Толпа ликовала. Конопатый паренёк каким-то еле уловимым жестом заставил ребят стихнуть. Он деловито обошёл телегу с дремавшим под дугою мерином, подозвал к себе рыжего мальчишку и что-то сказал ему на ухо. Тот мгновенно исчез за калиткой ближнего двора.
Ребята, смолкнув, ждали. Видно, вся надежда была на конопатого.
— Здорово, дедушка, — любезно, почти басом, приветствовал собачника Копейкин.
— Здорово, внучек, — в тон ему ответил старик.
— Неладно вышло, дедушка, — пожаловался Копейкин. — Вы нашего Жулика поймали.
— На то они и жулики, чтобы их ловить. — Довольный своей остротой, старик засмеялся.
— Я б вам за него двух вот каких кобелей дал. — Копейкин отмерил рукой целый метр от земли.
— Зачем мне двух! Мне и одного хватит, ежели без обмана.
Копейкин принял эти слова за согласие. Он отошёл в толпу ребят и, хитро подмигнув, стал о чём-то просить двух пареньков. Те одобрительно закивали и, сорвавшись с места, помчались выполнять приказание.
— Да поживее возвращайтесь! — крикнул им вслед кто-то из ребят.
Толпа ожила, подступила к старику. Я не мог догадаться, что затеял конопатый паренёк, но, судя по поведению ребят, он их чем-то обнадёжил. В это время вернулся рыжий.
Он держал руки за спиной, видимо, что-то пряча. Копейкин подмигнул ему, и они оба исчезли за телегой.
Собачник докурил «козью ножку» и вдруг спохватился.
— Ну и брехуны же вы, хлопцы! — сказал он и начал взбираться на телегу.
— Дедушка, дедушка, ведут, ей-богу, ведут! — пропищал в толпе тоненький голосок, и кто-то захлопал в ладоши.
Все повернулись в ту сторону.
Двое ребят волокли на толстом обрывке конопляной верёвки молодого кобеля. Он отчаянно сопротивлялся, упирался всеми четырьмя лапами, в глазах замер смертельный страх, точно он вдруг узнал собачника.
— Буска… Буска… — прошёл по толпе шёпот.
Это была великолепная зверовая лайка. Никакого сравнения с Жуликом.
Старик обрадовался и сразу схватил сачок.
— Сперва Жулика выпускай! — протестующе заорали мальчишки.
Но собачник заторопился, накинул на Буску сачок и, не обращая внимания на его яростное сопротивление, впихнул в ящик и захлопнул дверку.
— Жулика!.. Жулика!.. — загудели ребята и стали подступать к телеге.
— Цыц!.. Не подходи!.. — старик угрожающе поднял кнут, заслонив собой ящик.
Но тут показался Копейкин, он что-то крикнул, и, словно по мановению волшебной палочки, всё стихло. Мальчишки даже подались назад от телеги и, повернувшись к конопатому пареньку, недоумённо ждали, не веря, что он отдал Буску.
Я сошёл с крыльца.
— Трогай, дедушка, трогай! — послышался спокойный голос Копейкина.
Собачник не торопясь уселся на телегу, всё время подозрительно поглядывая в сторону, где стоял конопатый паренёк. В последний раз оглянулся на присмиревших, сбитых с толку ребят, дёрнул вожжи и ремённым кнутом стегнул по рёбрам мерина.
Телега загрохотала по мёрзлой дороге. Собаки в ящике все разом завыли, Толпа стояла, всё ещё не веря случившемуся.
И вдруг дружный хохот, точно взрыв, потряс всю улицу: у телеги сошли с осей оба левых колеса. Она сильно наклонилась, и старик, свалившись в снег, замотал в воздухе длинными ногами.
Мальчишки торжествовали.
Едва отряхнувшись от снега, разъярённый собачник кинулся на толпу с кнутом. Ребят как не бывало — кто куда! Только Копейкин стоял на месте, будто примёрзший к дороге, в расстёгнутой телогрейке, в сдвинутой на затылок шапке, чуть побледневший и решительный. Старик всем своим гневом обрушился на него, размахнулся, чтобы ударить, да так и замер с высоко поднятым кнутовищем.
— Не надо, дедушка, драться, — сказал спокойно, не без лукавства подросток;
— Я тебе покажу, пескарь, как гайки отвинчивать! Думаешь, не вижу, что ты тут за атамана?!
— Ну, пускай я, — с достоинством ответил Копейкин. — Могу пойти на переговоры.
— Гайки давай, а не переговоры, разбойник!
— Выпускайте всех собак, тогда и гайки получите, а то никуда не уедете.
Старик перевёл сузившиеся от гнева глаза на осмелевших мальчишек, на свою скособоченную телегу и, трезво оценив обстановку, прошипел:
— У-у-у, змеёныш!..
Он долго возился над люком ящика, Наконец дверка распахнулась, и собаки, чуть не передавив друг друга, вырвались на свободу.
Ребята неистовствовали, кричали, прыгали, свистели. Они помогли старику надеть колёса, усадили его в телегу. С каким-то удивительным безразличием к ударам кнута мерин засеменил по дороге. Свернув в переулок, старик оглянулся и угрожающе потряс в воздухе кнутовищем.
…Моя квартирная хозяйка Акимовна — добрейший человек. Она всю жизнь работала на приисках, прожила тяжёлую жизнь и до старости сохранила большое трудолюбие. Я не помню её праздной. Всегда занятая какими-то хлопотами, вечно беспокойная, она находила время заботиться обо мне, и это всегда трогало меня.
— Что же вы так долго не приходили обедать? Щи перепрели, — упрекнула она.
— Виноват, Акимовна! На улице задержался. Собачник поймал соседского Жулика, а ребята не захотели отдать.
— Жулика! — всплеснула руками старушка. — А что же вы смотрели? Табаку бы ему в нос, живодёру! Сроду в посёлке собак не ловили, а нынче, вишь, заготпушнина учредила собачника; житья не стало собакам. Ну и что же?
— Смотрел я на ребят, знакомился. Копейкин у них за главного. Чей он сын, не знаете?
— Копейкин?.. Отродясь фамилии такой не слыхивала. Видать, не здешний. Звать-то его как?
— Не знаю, шустрый такой паренёк.
— Они, милый, на шкоду все шустрые. Чего учудить — занимать не пойдут, — ответила Акимовна не без гордости. — Наша улица издавна в славе ребятами и без Копейкина. Выдумают же такую фамилию! Обличия какого из себя?.
— Конопатый мальчишка.
— Конопатый?.. Ума не приложу, чей он. Конопатых у нас на улице нет, — твёрдо заявила старушка.
Глава 2 ГОЛУБАЯ ТРЯПОЧКА
Уже всё было готово к нашему отлёту: упаковано снаряжение, продукты, инструменты, личные вещи, но ледяной аэродром на реке, где нас с Василием Николаевичем должны были высадить, затопила наледь, и теперь там невозможно было посадить самолёт. Обещали подыскать другую площадку, а это не так просто, и я с ужасом думаю, как бы нам надолго не задержаться в посёлке.
Давно меня гнетёт тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Они во всём: и в мягком хрусте снега под ногами, и в сдержанном молчании птиц, и в синеве неба, и даже в шуме леса. Как-то вдруг, без ветра, заволнуется он, зашумит и замрёт, точно обескураженный чем-то. Вот тогда-то и становится невмоготу беспечная жизнь в четырёхстенной избе. Хочется встретиться с бурей, со зверем, с вёрстами, с бесконечными вёрстами непознанного пути. Потянет к вольным, близким сердцу просторам с хвойным воздухом, с лопнувшими почками берёз, с птичьим криком и затяжными весенними закатами.
Сегодня резко похолодало. На окнах мороз выгравировал замысловатые узоры. С неприветливого серого неба падают невесомые пушинки снега. Они копятся на остывшей земле, сглаживая шероховатую поверхность белизною. Опять зима.
Так нередко бывает после тёплых, по-настоящему весенних дней: ударит нежданно трескучий мороз, завоет пурга — это зима, собрав остатки сил, напоминает о своём грозном могуществе. Не очень-то радует такая погода.
После обеда ко мне зашёл Василий Николаевич, мрачный, как грозовая туча. Ему-то, всю жизнь проведшему в тайге и привыкшему в это предвесеннее время уже находиться где-то далеко от поселений, особенно не по душе наша задержка.
Мы долго молчим. Я бесцельно гляжу в окно. Василий Николаевич лениво набивает трубку табаком.
— Когда же полетим? — вырывается у него.
Я ничего нового сказать не могу и молчу.
— Собакам и то надоело ждать. Утром зашёл проведать Бойку и Кучума, они не ласкаются, в глаза не смотрят, будто я виноват, — рассказывает он.
— Хватит, Василий, тут и без твоих разговоров тошно. Ещё немного потерпи, найдут новую площадку на реке, часа не задержимся — улетим.
В комнату вошла хозяйка с кипящим самоваром.
— К вам дедушка пришёл, войти стесняется, может, сами выйдете? — сказала она мне, заваривая чай.
— Кто он? — спросил я.
— Тутошный, дело у него к вам какое-то.
В сенях стоял дородный старик, приземистый, на вид лет шестидесяти. Одет он был по-зимнему. Дублёный полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан кумачовым кушаком. На ногах лосёвые унты, в двух местах аккуратно перехваченные ремешками. На голове старика глубоко сидела заснеженная самодельная барашковая ушанка. Она обрамляла сверху и с боков приветливое, коричневое от ветра лицо, опушённое снизу окладистой бородою.
Он посмотрел на меня со странной детской растерянностью.
— У нас промежду промышленников слушок прошёл, будто вы охотой занимаетесь, — начал он крутым баском, переступая от неловкости с ноги на ногу. — Вот я и прибежал из зимовья, что в Медвежьем логу: может, поедете до меня — дюже коза пошла.
— Вы что ж, охотник? — спросил я, обрадовавшись столь приятному гостю.
— Балуюсь, — замялся он и, откашлявшись, вдруг осмелел. — С детства маюсь этой забавой. Ещё махонький был — на выстрел бегал, как собачонка, так и затянуло. Должно, до смерти!
Секунд пять, не больше, ему хватило на то, чтобы осмотреть меня и Василия Николаевича, и с его лица исчезла растерянность. Затем, немного отогревшись, он уселся на краешек табуретки, сбросил на пол шапку-ушанку, меховые рукавицы и стал сдирать с бороды прилипшие сосульки. А сам нет-нет да и окинет пытливым взглядом комнату.
Громко хлопнула наружная ставня.
— Опять завьюжило, — сказал Василий Николаевич, искоса поглядывая на старика.
— По козам самый раз!
— Да вы раздевайтесь, — предложил я.
— Благодарю. Ежели уважите приехать, то я побегу. А коза, не сбрехать бы, вон как пошла — табунами, к хребту жмётся; должно, её со степи волки турнули.
Василий Николаевич так и засиял, так и заёрзал на стуле.
— Да раздевайтесь же, договориться надо, где это и куда ехать, — сказал он.
— Спасибо, а ехать недалече, за реку. — И дед, осмелев, привычным движением рук сдёрнул кушак, сбросил на пол полушубок. — Я ведь колхозный смолокур, с детства в тайге пропадаю. Там, видно, и доживать буду. Так уж приезжайте, два-три ложка прогоним и с охотой будем.
Сухое, обожжённое ветром лицо старика перетягивалось вздувшимися прожилками. Руки тоже жилистые, тяжёлые. Умные добрые глаза под широкими бровями и улыбка, изнутри освещающая лицо. На всей его коренастой фигуре, на одежде лежал отпечаток лесного человека.
— Где же мы вас найдём? Тайга большая…
— Сам найдусь, не беспокойтесь. Пашка, внучек, вас тут дождётся, пока вы соберётесь, и отсюда на Кудряшке к седловине привезёт.
— А Пашка-то где?
— На улице с санями ждёт. Не беспокойтесь, довезёт. Он, шельма, насчёт коз во как разбирается, моё почтенье! Весь в меня, негодник, будет. — И его толстые добродушные губы под усами растянулись в улыбке. — В зыбке ещё был, только на ноги становился, и что бы вы думали? Бывало ружжо в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А малость подрос — ружжо себе смастерил из трубки, порохом начинил его, камешков наложил, как вправдашное… Вот уж и грешно смеяться, да не утерпишь. Бабка бельё в это время во дворе стирала. Подобрался он к ней, подпалил порох да как чесанул её, бабку-то… Она, голубушка, и полетела в корыто, чуть не захлебнулась с перепугу… Так что не беспокойтесь, он насчёт охоты разбирается. Где силёнкой не дотянет — хитростью возьмёт, Говорю, не подведёт.
— Ну как, Василий, поедем? — спросил я.
— А как же иначе?!
— Тогда по случаю нашего знакомства, думаю, не откажетесь рюмочку пропустить. Пьёте? — спросил я старика.
Тот смешно прищёлкнул языком и, разглаживая влажную от мороза бороду, хитровато взглянул на меня.
— Случается грех… Не то чтобы часто, а приманивает.
Я налил ему полстакана спирта и хотел было развести водою, но он энергично запротестовал:
— Что вы, что вы, зачем добро переводить?.. Старик опрокинул стакан, громко крякнул, вытер губы, а бутерброд переломил пополам и сунул в рукавицу.
— Иди, Василий, собирайся побыстрей.
— Я не задержу.
Василий Николаевич вышел вместе со стариком.
— Пашка пусть зайдёт погреться! — крикнул я им вслед.
Вот, думаю, подвалила удача. К счастью, у меня есть разрешение на отстрел двух козлов. Достаю ружьё, осматриваю, начинаю переодеваться. Хорошо поразмяться в тайге! Меня захватывает радость предстоящих охотничьих приключений. Чего только не услышишь, не увидишь в тайге за день! Я истосковался по лесу, по стуку дятла, даже по усталости. Воображение — не замедлило вылепить картину охоты, сбитого удачным выстрелом козла и костёр в лесу под кудрявыми соснами…
Слышу, приоткрылась дверь, и в комнату просунулся парнишка, закутанный с ног до головы в дорожную доху. Он сбросил её у порожка, повернулся, и я увидел конопатое лицо.
— Копейкин?! Так это ты и есть Пашка?
— Пашка я, из Медвежьего лога.
— Почти графский титул! Ну, садись! — пригласил я.
На нём были та же защитного цвета широченная телогрейка с чужого плеча и большие унты, вероятно, дедушкины обноски. Поверх этого странного костюма, напоминающего водолазный скафандр, торчала на тоненькой шее голова с беспорядочно взбитыми русыми волосами, с острым птичьим носом, обрызганным мелкими веснушками, и с ямочкой на округлом подбородке. Во всей его фигуре было что-то стремительное, как у стрижа в полёте.
Серые ястребиные глаза — мгновенно пробежали по всем закоулкам комнаты, по всем предметам, но не выдали любопытства, точно ничто их тут не удивило.
— У вас тепло, — сказал он, долго усаживаясь на стуле. — Вы не торопитесь: пока дедушка добежит до лога, мы лучше тут подождём, в тайге враз продует.
— Куда же он побежал? — удивился я.
— Мы-то поедем прямиком, до седловины, а он по Ясненскому логу пугнёт на нас коз.
— Пешком и побежал?
Пашка улыбнулся, набрав полную грудь воздуха.
— Дедушка у нас всё пешком, сроду такой. До Медвежьего лога, где наше зимовье, двенадцать километров, а за тридцать лет, что живёт дедушка там, он на лошади ни разу туда не ездил. Когда Кудряшка была молодой, следом за ней бегал. А теперь она задыхается в хомуте, спотыкаться стала. Так он пустит её по дороге, а сам вперёд рысцой до зимовья. Она не поспевает за ним.
— А как зовут твоего дедушку?
— Не могу выговорить правильно, сами спросите. Его все Гурьянычем по отцу величают. Сказывают, он будто был одиннадцатым сыном, родители все имена использовали, ему и досталось самое что ни на есть трудное. Ниподест, что ли!
— Анемподест?
— Да, да— Он у вас ничего не просил? — вдруг осведомился Пашка.
— Нет.
— А ведь ехал с намерением. Значит, помешкал… У нас на смолокурке всё к краю подходит: зимовье на подпорках, бабушка старенькая, да и Кудряшка тоже. А Жучка совсем на исходе, даже не лает… Так мы с дедушкой хотели щенка раздобыть. Говорят, у вас собаки настоящей породы. — И паренёк испытующе посмотрел мне в глаза.
— Собаки-то есть, Пашка, но когда будут щенки, не знаю. Да и будут ли?
— Бу-у-дут, — убеждённо ответил Пашка. — К примеру, наша Жучка каждый год выводит щенят, да кому они нужны! Хочется породистого. Мы уже и будку ему сделали и имя придумали: Смелый!.. Значит, ещё неизвестно?
— А зачем тебе собака?
— Как же в тайге без неё?
— Ты ходишь в тайгу?
— Каждую осень промышляем белку, когда и колонка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомаха попалась. — Последнее слово он произнёс не без гордости. — Уж намаялись с ней.
— А сколько тебе лет?
— Тринадцать. Я по тайге сызмальства хожу.
Пока он рассказывал о своей жизни, я переоделся.
— Чаю со мной выпьешь?
— С сахаром? — оживился он. — А что это у вас, дядя, за коробка нарядная?
— С монпансье.
— Знаю: кисленькие леденцы, — Он громко прищёлкнул языком.
— Могу тебе подарить.
— С коробкой?
— Да.
— Что вы, ни-ни! — вдруг спохватился он. — Дедушка постоянно говорит, что я за конфетку и портки свои продам. Брать не велит. А чаю с монпансье выпью… Какие у вас маленькие чашки! — заключил он неожиданно.
Пил Пашка из блюдца долго, вольготно, даже вспотел и всё время шмыгал носом. А беспокойные глаза продолжали шарить по комнате.
— У вас, видать, настоящая дробовка? Наверно, тыщу стоит? — И, покосившись на моё ружьё, затяжно вздохнул. — А дедушка с пистонкой промышляет. Она ещё дедом его с турецкой войны привезена, кремнёвкой была, потом её на пистонку переделали. Старая она у нас, к тому же ещё и грозой её чесануло: ствол сбоку продырявило и ложу расщепило. И стреляет смешно: сначала пистон треснет, потом захарчит, тут уж держись покрепче и голову нужно отворачивать — может глаза огнём вышибить… Нашей пистонке трудно запалиться, а уж как стрельнёт — любого зверя сразу сшибает.
— И ты с ней охотишься?
— Стреляю, но редко. Я только припасы таскаю, да если где зайца раненого догнать или утку из воды вытащить. Бывает, и белка зависнет на дереве. Дедушка говорит: «Вот уж как ты, Пашка, научишься во всех лесных делах разбираться, тогда пистонка будет твоя».
— Ну и как же?
— Стараюсь.
— Знаешь, Пашка, с таким ружьём недолго и беды нажить! Новое нужно купить.
— Край как нужно! — оживился парнишка. — Да что поделаешь с бабушкой: она не согласна насчёт покупки ружья, денег не даёт, а то бы мы с дедушкой давно купили. В магазин часто заходим, дедушка все ружья пересмотрит, выберет и скажет: «Ну хороша же, Пашка, дробовка!». С тем и уйдём.
— Почему бабушка против покупки?
— Говорит, что я тогда из тайги вылезать не буду, школу брошу.
Лицо его вдруг стало грустным. Он смотрел в угол, где стояла моя двустволка, а воображение, вероятно, рисовало заманчивую картину, как он с настоящим ружьём бродит по тайге, стреляет рябчиков, косачей и как, нагрузившись дичью, возвращается к бабушке в зимовье… Кажется, я своими расспросами коснулся больного места. Он наскоро допил чай, отблагодарил Акимовну и смолк.
Вернулся Василий Николаевич в полном охотничьем обмундировании: в унтах, шерстью наружу, в телогрейке из плащ-палатки, подбитой беличьим мехом, в лёгких шерстяных варежках.
— Акимовна! — окликнул он хозяйку. — Ты говорила, что козлятину хорошо нашпиговать свиным салом с чесноком? Приготовься!
— Как же, вкусней нет блюда. Только надо сначала добыть козла, а потом шпиговать. Ни пуха ни пера вам!
Мы распрощались.
За воротами дремала тощая грязно-серой масти старенькая лошадёнка, запряжённая в розвальни.
— Ну-ка, Кудряшка, прокати! — ласково крикнул Пашка. Он отвязал вожжи, усадил нас в задок на пахучее сено, а сам занял кучерское место.
Кудряшка качнулась влево, взмахнула облезлым хвостом и, сдвинув примёрзшие к земле розвальни, лениво потащила их по незнакомым нам переулкам.
— Надо бы торопиться, солнце низко, — посоветовал Василий Николаевич.
— Да её не раскачать, а собаки на улице попадутся — совсем станет. Только уж не беспокойтесь, я дедушку не подведу: вовремя приедем. Ну ты, Кудряшка, шевелись!
За посёлком лошадёнка будто пробудилась, сама, без понуканий, побежала мелкой рысцой. В животе у неё всё время ёкало в такт бегу.
— Селезёнка играет, — пояснил Пашка. — Кудряшка у нас подслеповатая, думает, что впереди дед бежит, вот и торопится. Иной раз даже заржёт, только голос у неё тонкий стал, как у жеребёнка. Колхоз давно друго коня давал, да дедушка говорит: нам торопиться некуда. У нас с ним всё ведь распланировано: в это лето зимовье новое сложим, осенью ловушки в тайге подновим, а Кудряшка с нами останется до самой смерти… И правда, верни её в колхоз — там в первый же день ей хана. А тут она, вишь, как трусит ногами? Мы то её не обижаем…
— А как твои дела в школе? — спросил его вдруг Василий Николаевич.
Пашка бросил на него недобрый взгляд, дёрнул вожжой и, продув громко нос, заёрзал ногами по сену.
— Вон в тех колках, ну и косачей — тьма! — сказал он, показывая кнутом вправо на залесённые холмы. — У нас там с дедушкой шалаш налажен. Скоро птица играть начнёт, слетится да как зачуфыкает, закурлыкает, аж дух захватывает. А дерутся по-настоящему, Иную в кровь заклюют…
— Со школой, спрашиваю, у тебя как?
— Со школой?.. — Пашкино лицо вдруг вытянулось, помрачнело. — С математикой не ладится, — процедил он сквозь зубы чуть слышно. — Пока примеры были, понимал что к чему, а как пошли задачи — вот тут-то и прижало меня. Дедушка сказывает, что у нас во всём потомстве считать сроду не умели, вся надежда, мол, на тебя, внучек! Сам, говорит, видишь, что делается на этом свете: всякие машины, самолёты, спутники, в космос люди летают, без математики теперь жить нельзя, сзади окажемся. Видите, куда он клонит! Значит, я должен за весь свой род ответ держать?!
— Дед правильно говорит. А ты как думаешь?
— Конечно, жалко мне свой род, — снисходительным тоном ответил Пашка. — Придётся подналечь…
За рекою дорога свернула влево, прорезала степь и глубокой бороздою, виляя по береговым перелескам, вывела нас на водораздельный перевал. Дальше узкой прорезью начиналась лощина. Она, раздвинув холмы, уходила в глубину лиственничной тайги широкой падью. Необозримый простор, заворожённый тишиною, ожидал нас там.
По синеющему небу плыли лёгкие облака, облитые золотистыми лучами заходящего солнца. Навстречу лениво летели вереницы ворон.
Вечерело.
У холмов Пашка подъехал к стогу сена, остановился.
— Тут мне велено дожидаться. Дедушка теперь в ельничке у ключа передохнёт и до заката солнца стукнет. Коза сразу пойдёт, не задержится — чуткая она, далеко хватает. А вам на этих седловинах ждать; её ход тут, — с серьёзностью опытного егеря объяснил нам Пашка.
Мы с Василием Николаевичем помогли ему распрячь лошадь, развести костёр и стали собираться.
— Ты что, Пашка, приуныл?
— Охота с вами сходить. Дедушкину бы пистонку мне, — с искренней грустью сказал он.
— И что тогда?
— Уж я бы тут козла сшиб… Не верите?
— Конечно, нет.
— Никто не верит…
— Возраст у тебя ненадёжный. Уж так и быть, пойдём вдвоём на седловину.
— Возьмёте? — И он от радости запрыгал, но тут же опомнился — Дедушка сказал, от Кудряшки не отходить, волки по лесу бродят. Огонь буду держать, а то бы пошёл…
Мы с Василием Николаевичем взяли ружья, выразили сочувствие Пашке и разошлись по седловинам.
Я поднялся на левую. Осмотрелся.
За седловиной, врезанной меж двух холмов, лежал широкий лог, покрытый редким лиственничным лесом, и дальше — серебристая степь, прочерченная тёмными полосами ельников. «Козьи места, светлые, кормистые», — подумал я с радостью.
У старого толстого пня я разбросал снег, чтобы он не скрипел под ногами, проверил ружьё и замер в ожидании.
Василий Николаевич был справа, на соседней седловине.
Тихо догорал холодный пасмурный день. Солнце, вырвавшись из-за нависших туч, облило прощальными лучами холмы, на какое-то мгновение осветило лежавшую позади равнину и потухло, разлив по небу багряный свет.
Минуты потянулись медленно. Всё тише становилось в лесу. И уже не верилось, что кто-то живёт в этой тишине, что нас ждёт тут удача. Да если и есть в бору козы, то старик Гурьяныч может до темноты не успеть пугнуть их на нас или они пройдут стороною, минуя седловины, где мы подкарауливаем их.
Чем дольше жду, тем безнадёжнее. Единственное утешение — кругом лес. Ох, как хорошо вдохнуть свежий воздух, почувствовать, как мороз приятно щекочет тело под настывшей одеждой!
Жаль Гурьяныча… Сколько хлопот принесёт ему эта охота.
Вдруг далеко-далеко, где-то в глубине лога, точно вскрикнул кто-то и смолк. «Кажется, гонит», — мелькнуло в голове, и приятный холодок пробежал по всему телу. Я посмотрел вниз, прислушался. Ничего не видно, не слышно, но каким-то скрытым чутьём чувствую, что кто-то появился в лесу, несётся на меня, и сердце начинает биться в нетерпеливом ожидании.
Холодной волной дохнул ветерок, освежая лицо. Закладываю патроны в стволы ружья. Жду, напряжённо всматриваясь в густеющий сумрак.
Гаснет у горизонта заря. Темнеет лог, и где-то на холме ударил последний раз дятел. Вдруг, словно в пустую бочку, кто-то ухнул — заревел козёл. Далеко внизу мелькнул табун коз и остановился, как бы выбирая направление. Гляжу, идут на меня. С какой лёгкостью они несутся по лесу и, точно охваченные недобрым предчувствием, бросаются из стороны в сторону, перепрыгивают через кусты, рытвины, валежник! Но на бегу козы забирают левее и проходят мимо меня, к соседней седловине.
Ещё не смолк шелест пробежавшего по снегу табуна — вижу, оттуда же, из глубины лога, невероятно быстрыми прыжками несётся одинокий козёл. Быстро мелькает он по лесу, приближается ко мне. Руки сжимают ружьё. Почти невозможно попасть в козла на таком бешеном скаку.
Вот он уже рядом. Три прыжка — и мы столкнёмся. Палец касается спуска, ещё одно мгновение…
Козёл неожиданно замер в последнем прыжке возле меня, глубоко засадив все четыре ноги в снег.
Он стоит в профиль, всего лишь в двадцати метрах, смело повернув ко мне голову и показывая всего себя: дескать, посмотри, полюбуйся, каков я вблизи!
Я поражён его красотой. Забыл про ружьё, про выстрел, про охотничий пыл. Какая точность линий, словно точёные ножки, мордочка — весь литой! И какая удивительная симметричность во всей его окраске. Кажется, ни одной шерстинки на нём нет лишней и ничего нельзя добавить, чтобы не испортить красоты. Большие чёрные глаза светятся непонятной доверчивостью.
Он осматривает меня спокойно, вероятно приняв за пень. «Если бы ты знал, какой страшный враг стоит перед тобой!» — подумал я, не двигаясь с места и не отрывая глаз от него.
Потом козёл вдруг поднял голову и, не трогаясь с места, посмотрел в глубину лога, медленно шевеля настороженными ушами. Тревога оказалась напрасной. Козёл, не обращая на меня внимания, вытянул голову и принялся срывать листья сухой травы… «Что это?!» — чуть ли не вскрикнул я. Его шея повязана голубой тряпочкой. Не верю себе. Протираю глаза… Да, голубой тряпочкой!
— У-ю-ю-ю… — Из лога доносится голос Гурьяныча.
Козёл сделал прыжок, второй, мелькнул белым фартуком и исчез за стволами лиственниц, как видение. А я продолжал стоять, поражённый этой необычной встречей, не в силах разобраться в том, что видел. Кто привязал козлу голубую тряпочку? Чья рука касалась его пышного наряда? И, наконец, как случилось, что я не выстрелил!
Вдруг справа и ниже седловины щёлкнуло два выстрела. Они, точно удары хлыста, болью отозвались во мне. Неужели убит? А может, ранен и его удастся спасти. Я не задумываясь бросился по его следу…
Глава 3 НОЧНЫЕ КОСТРЫ НА ЛЫЖНЕ
Хмурые тучи нависли над холмами. Ночь в тайге наступает быстро. Не успеет солнце скрыться за горизонтом, как в лесу сразу становится сумрачно и тесно. Тьма незаметно окутывает землю. Иду, тороплюсь, с трудом различая след козла, который привёл меня не на седловину, к Василию Николаевичу, а к глубокому ключу.
Совсем стемнело, и я потерял след козла. На небе не осталось ни единой звёздочки, не видно стало и холмов на горизонте. В темноте исчезли ориентиры.
А места мне тут незнакомые. Куда идти? Надо бы возвращаться на стоянку своим следом, так нет, почему-то решаю идти напрямик, по ключу.
Иду по глубокому снегу. Валежник, кочки, местами непролазная чаща. Сразу обнаружилось, что я давно не ходил по лесу, — быстро устал. Но хочу верить, что где-то близко наши.
Ключ неожиданно раздвоился. Да что это за напасть! Не знаю, куда идти. Сворачиваю вправо. Ничего не понимаю, где я; кажется, заблудился. Жалею, что из дома не взял лыж, на них идти было бы куда легче. Но кто же знал, что такое случится.
Далеко послышался выстрел. Он гулом прокатился по ложкам, ушёл за холм и там смолк в ночной темноте. Это наши подавали сигнал, и совсем не оттуда, куда я шёл. Пришлось повернуть назад.
Иду долго. Знаю, что меня ищут, мне кричат, но я брожу где-то по незнакомой кочковатой равнине, по-прежнему тороплюсь и в этой спешке больше запутываюсь. Ноги быстро устают, плохо повинуются. Всё чаще останавливаюсь, чтобы передохнуть. Никакой седловины поблизости нет. Мною окончательно овладевает чувство одиночества. Я поднимаю ружьё и стреляю в темноту. Кто-то огромный, точно разбуженный внезапным взрывом, рванулся и настороженно замер. Прокричала испуганно птица, и стало невыносимо жутко в наступившем молчании.
Из-за туч проглянула луна и щедро залила холодным светом всё вокруг меня. Лес раздвинулся. Ко мне вернулась бодрость духа. Теперь я шёл на север незнакомыми местами, но верил, что найду своих.
Вижу впереди взбитый снег. Подхожу ближе — это лыжня. Наклоняюсь, ощупываю рукой край — он рыхлый: человек только что прошёл. Мы бы встретились, поспей я всего на две-три минуты раньше.
Кто это ещё тут бродит ночью по лесу? Но не всё ли равно мне сейчас, свой или чужой? Надо догнать. Ему, вероятно, знакома эта местность, и он, возможно, поможет мне выбраться из заколдованного круга.
Я кричу из всей силы. Ещё и ещё. Голос глохнет в корявых дебрях непробудной тайги.
Надо торопиться. Определяю направление лыжни и набираю темп.
…Время перевалило за полночь. Луна скрылась. Чёрное от туч небо опять стало казаться кровлей, Погода быстро менялась. Холодный ветер принёс снег.
И вдруг набросило дымком.
Я остановился. Ещё и ещё глотнул воздуха. Сомнений не было: где-то близко, за косой сеткой снегопада, — костёр. Ноги несут меня во всю прыть, боюсь, как бы незнакомец не ушёл.
На опушке леса лыжня оборвалась, снег притоптали сапоги. Ещё десяток шагов — и я увидел толстую сухую сосну, сваленную ветром и подожжённую у корней. Припадаю к огню, дую на него и с минуту, забыв обо всём на свете, отогреваю закоченевшие руки, жадно глотаю тепло.
И тут соображаю: ведь человек, идущий впереди, развёл огонь, но, не дав ему как следует разгореться, ушёл дальше.
Что могло помешать ему погреться?
Снова иду, мну обессилевшими ногами свежий снег и всё больше устаю. Обнадёживаю себя тем, что лыжня неизменно приведёт меня к людям. Мне представилось, что слева, где-то недалеко, должна быть колхозная заимка, а справа — прииск, до которого и сотня километров наберётся.
Ветер налетает холодным шквалом, потрясает гулом бор.
Опять пахнуло дымком. Подхожу к костру. Та же картина: подпалённая толстая сосна, но человек и на этот раз ушёл от огня раньше, чем он разгорелся. Ничего не могу понять. Незнакомец, видимо, устал, поджигает толстый валежник, хочет заночевать, но слышит мои шаги на своём следу и убегает. Иначе зачем ему разжигать костры, если он ими не пользуется? У меня пропадает желание догонять его.
Иду не торопясь. Чертовски устаю, но лыжню не бросаю.
По-настоящему разыгралась вьюга. Воет, свистит порывистый ветер, бросая в лицо колючие хлопья снега. И тут я начинаю понимать, какая страшная сила заключена в буране и как легко человеку погибнуть.
Решаюсь развести костёр, бросить бесполезное мытарство по лесу. И в поисках подходящего места неожиданно выхожу на дорогу и тут же сквозь буран во тьме вижу манящий огонёк.
Унимаю шаги. Как рысь, бесшумно крадусь к костру. Хочу врасплох застать незнакомца. Вот уж близко. Всматриваюсь и приятно поражаюсь: передо мною, как в сказке, вырастает маленькая избушка-зимовье, старенькая, низкая, вросшая в землю и сильно покосившаяся к косогору. В узеньком окошке — свет.
Я с трудом раскрыл дверь, постучался.
— Заходи, чего мёрзнешь, — ответил женский голос, — я тебя жду.
— Меня? — удивился я, пролезая в узкую дверь.
— Ну да. Только что Пашка ушёл.
— Куда?
— Искать тебя. Костры на лыжне разводит, боится, что у тебя спичек нет, замёрзнешь.
— Выходит, я его следом шёл?
— Так, наверно.
«Вот ты какой, Пашка, ни пурги, ни ночи не побоялся…» — удивился я.
Керосиновая лампа освещала внутренность избушки. Слева стоял стол, заставленный посудой, возле него — две сосновые чурки вместо табуреток. У порога лежала убитая рысь, прикрытая полой суконной однорядки.[1] Там же было и несколько свежих беличьих тушек. На бревенчатой стенке висели капканы, ремни, ружья, веники и связки пушнины. В углу, на оленьих шкурах, под ватным одеялом лежала женщина с ребёнком.
— Однако, замёрз? Клади в печку дров, грейся! — сказала она спокойно, будто моё появление не вызвало у неё любопытства.
Это была эвенка лет тридцати пяти, с плоским, скуластым и дочерна смуглым лицом.
— Вы одна не боитесь в тайге? — заговорил я, немного отогревшись.
— Привычные. Охотой живём… Ты раньше, видно, тайга не ходил? — вдруг спросила она, пронизывая меня взглядом.
— Ходил, а вот видишь — заблудился. Хорошо, что вышел на дорогу и увидел огонёк.
— А то бы мог замёрзнуть. В кастрюле бери чай. Сахар и чашка на столе, — сказала она, отвернувшись к ребёнку, но вдруг приподнялась: — Ещё кто-то идёт!
До слуха донёсся скрип лыж. Дверь открылась и снаружи просунулась заиндевевшая голова Гурьяныча. Вот уж обрадовал он меня своим появлением! Старик беспокойно оглядел помещение, широко улыбнулся и втиснулся всей своей мощной фигурой в зимовье, наполнив его свежим сосновым воздухом.
Бросив у входа на пол рукавицы, старик протёр запорошенные снегом глаза, расчесал пятернёй заиндевевшую бороду.
— Слава богу! — сказал он с явным облегчением. — Чего только не передумал! Давно пришли?
— Только что, Пашкиным следом.
— Он уж был тут? — удивился старик.
— Был и ушёл.
— Эко отмахал каку даль! Здравствуй, Марфа. Ты чего это чужих стала впускать к себе? — уже повеселев, обратился он к хозяйке.
— Сам идёт. Окошко сделали нарошно к дороге, огонь ночью не гасим: кто заблудится, так скорее зимовье найдёт.
— Эх, до чего же вы славный народ, эвенки! Гурьяныч сел на чурбак, огляделся.
— Однако, устал?
— Немножко. А Тёшка где? — спросил старик.
— Ушёл ловушки закрывать, скоро промысел кончается.
— Борьки тоже нет? — И старик, подумав, сказал серьёзно: — Зря его отпускаешь.
— Он большой, сам как хочет живёт.
— Оно-то так, да долго ли до греха!
— Раздевайся, Гурьяныч.
— Спасибо, Марфа, побегу, отдыхать не стану. Мы ведь условились в полночь сойтись у стога, а уж скоро рассвет. Беспокоиться будут.
— Чай попей, ещё успеешь.
— За чай спасибо, а от хлеба не откажусь, если он есть у тебя. На ходу пожую.
— Бери, сколько надо, на столе под полотенцем. Гурьяныч достал лепёшку, приложил её к носу, громко потянул в себя воздух.
— Ты, Марфа, мастерица насчёт хлеба, ароматный-то какой!
— А я в прошлый раз у вас пробовала бабушкин хлеб — куда с добром, весь день во рту держалась его сладость, — ответила Марфа.
— Бывает и у моей старушки удача.
Гурьяныч положил на горячую печку лепёшку, повернулся ко мне и, пряча в усах улыбку, неодобрительно закачал головою.
— Думал, беда случилась, ан нет, обошлось.
— А где Василий Николаевич? — спросил я.
— Там, на сопке, костёр держит, кричит да стреляет — знак подаёт.
— Сколько беспокойства наделал! — произнёс я вслух, досадуя на себя.
— Ничего, бывает. Я вот сколько лет живу в зимовье на смолокурке, а иной раз встанешь ночью выйти по надобности и дверь не найдёшь: блукаешь в четырёх стенах за моё почтенье! А тут ведь тайга. Так что спите, утром раненько Пашка на Кудряшке прибежит за вами.
И он заторопился. Разломив пополам горячую лепёшку, сунул её за пазуху. Скрипнула дверь, и в тёмной, растревоженной ветром тайге шаги старика смолкли.
А мне уже трудно было отвести мысли от Гурьяныча. Старик как-то весь открылся мне в этой встрече в зимовье. Всё у него от леса, где он родился и утверждал своё право на жизнь, на хлеб, на тёплый угол. Лес одинаково наложил отпечаток и на его внешность и на характер. У него и фигура, и походка, и заячья шапка, и однорядка, и шомполка составляют одно целое. К тому же старик обладает необыкновенной обаятельностью, которая обнаруживается с первых его слов. Весь он открыт, как лес в солнечный день. Природа в Гурьяныче, кажется, показала, какими отличными качествами она награждает людей за их привязанность к ней.
В избе от накалившейся докрасна печки стало жарко. Я прилёг на шкуру и, засыпая, подумал: «Какой вкусной покажется старику горячая лепёшка на холодном смолевом воздухе».
А снег всё шёл и шёл. Шумели, баюкая сон, старые сосны...
Меня разбудил запах распаренной сохатины и лука. В углу, плача, тихо всхлипывал трёхлетний мальчишка.
— Чем он недоволен? — спросил я Марфу, занятую приготовлением завтрака.
— Петро-то? Должен был Борька прийти, да чего-то задержался. Вот он и ревёт. Да и я беспокоюсь…
Снаружи послышались торопливые шаги по снегу и лёгкий стук в дверь. Петро сразу смолк и, вытирая рукавом мутные слёзы, заулыбался, а Марфа распахнула дверь. Вместе со струёй холодного воздуха в зимовье ворвался козёл. Это было так неожиданно, что я буквально оторопел. В следующее мгновенье я увидел у него на шее голубую тряпочку, Тяжёлое дыханье выдавало усталость — видно, издалека бежал к зимовью.
— Пришёл, Боренька, хороший мой, — нараспев ласково заговорила Марфа, приседая.
Тот бросился к ней, лижит лицо, руки, а Петька гогочет от восторга, виснет на Борьке, обнимает его.
Я встаю, невольно взволнованный этой трогательной картиной и той привязанностью, что сроднила эти три существа, живущие в ветхом зимовье на краю старого бора. Какой-то необыкновенной теплотой наполнилась избушка. Сколько радости принесла всем им эта встреча! И мне вдруг стало страшно при одной мысли, что я мог убить Борьку.
Ласкаясь, Борька косит свои чёрные глаза на стол, Марфа ревниво отварачивает его голову, ласково прижимает к себе и что-то шепчет, но тот вырывается. В дальний угол кувырком летит с него Петро и, стиснув от боли пухлые губы, молчит, а слёзы вот-вот брызнут из глаз.
На столе Борьку ждёт завтрак — хлебные крошки. Он поднимает голову и, ловко работая языком, собирает их в рот. Затем бросается в угол к чашке. Петька преграждает ему путь. Борька бьёт его грудью, отталкивает.
Припав к чашке, козёл с жадностью пьёт солёную воду, фыркает, обдавая брызгами мальчишку.
— Иссе, иссе… — кричит Петька, захлёбываясь от смеха.
После завтрака Борька становится вялым, им начинает овладевать какое-то безразличие.
— Ещё вчера до заката ушёл, всю ночь с табуном проходил, может, волки гоняли, устал. Утрами в это время он привычен спать.
Мать ловит Петьку, одевает в меховую дошку и выталкивает за дверь.
— Иначе не даст уснуть Борьке, — говорит она, подбрасывая в печку дров.
А козёл крутится посреди зимовья. Он ищет место для отдыха, бьёт по полу копытцами, отгребает ногами воображаемый снег и падает. Ему кажется, что он лёг в лунку, сделанную им на земле. Это у коз врождённое. Они никогда не ложатся на снег или на траву.
Мы выходим из зимовья. Неведомо куда исчезли тучи. Над тайгою взошло солнце, и на заснеженную землю легли замысловатые тени старых сосен. Каким величественным кажется лес после ночного снегопада! Всё принарядилось, посвежело.
— Мы из стойбища Селикан, — заговорила Марфа, — не бывал там?.. Сюда только зимою промышлять приезжаем. Борька маленький прибежал к нам прошлой весной. Вышла как-то я из зимовья, слышу, кто-то кричит, совсем как ребёнок. Смотрю, бежит ко мне козлёнок маленький, только что родился, мать зовёт. Проклятые волки тут, на увале, её разорвали. Поймала я козлёнка и оставила у себя. Так он и прижился. Ласковый вырос, мимо человека не пройдёт, а не понимает, что опасно, могут по ошибке, а то и с намерением убить… Люди разные, иной так и норовит нашкодить.
— А вы не пускайте его из зимовья, — посоветовал я, вспомнив свою вчерашнюю встречу с Борькой.
— Что ты! Без тайги зверю — неволя. Нельзя не пускать. Вечерами Борька уходит в лес к диким козам, кормится, играет, а утром обязательно прибежит. Видишь, дыра в обшивке двери, это он копытом пробил — всегда в одно место стучится. Утром так и ждём этот стук, Петька ревёт, и сама думаю: «Придёт ли?»
— Колокольчик надо повесить на шею, тогда каждый догадается, что он домашний.
— Что ты, колокольчик совсем вешать нельзя, все козы от него убегать будут. Куда годится! Может, лучше пусть уходит совсем с табуном, научится бояться людей, дольше проживёт. Ты как думаешь?
— А Петька? Да и сама ты кого ждать утрами будешь?
— Поплачем и привыкнем. Хуже будет, если люди убьют… — И она отвернулась от меня, дрогнули её плечи.
— Напрасно расстраиваешься, Марфа, может, всё обойдётся, — пытаюсь я успокоить её.
— Нет, я знаю, половина месяца назад Борька пришёл в крови, кто-то в него ружьё разрядил. Два дня не выходил из зимовья, думала, пропадёт. Но скоро забыл, опять ластится к людям в тайге, мимо не проходит, а то не знает, что убить могут, — твёрдо сказала она.
«А ведь это могло случиться вчера», — с ужасом подумал я, и у меня не нашлось слов разубедить её.
— Скажи, что надо сделать, чтобы уберечь Борьку? Правду говорю тебе: он хороший, ласковый к людям.
Я подумал что это невозможно. Во многих людях ещё живёт беспощадность к дикому зверю.
— Кто-то едет, — вместо ответа сказал я, повернувшись к дороге.
Между сосен ползла длинная тень. Вот она появилась в широком просвете леса. Это Кудряшка тянула розвальни. Позади шёл Пашка.
Лошадь широко раздувая от одышки бока, понуро брела по чуть заметной, запорошенной снегом колее.
— Т-р-р-р! — крикнул Пашка, останавливая Кудряшку. — Здравствуйте, тётя Марфа!
— Ты чего так рано? — ответила та.
— За дядей приехал, дедушка просил поторопиться.
— Успеешь, распрягай лошадь, поставь к сену. Петька, посмотри, кто приехал! — крикнула вдруг Марфа, заглянув за избушку.
Оттуда показался Петька, весь в снегу.
— Паска! Паска! — закричал он, бросаясь навстречу.
— Здорово, мужик! — басит Пашка, подражая Гурьянычу. — Где твой козёл? Убежал?
Дверь в избе неожиданно распахнулась, и на пороге появился Борька. Он не сводит глаз с Пашки, чего-то ждёт.
Парнишка отбрасывает полу дошки, не торопясь, с явным удовольствием запускает руку в глубокий карман штанов, достаёт жменю овса. Два прыжка — и Борька возле него, хватает овёс, долго жуёт, взбивая губами пену. Потом тычется влажным носом в карман, требует остатки.
— Балует он Борьку, — говорит Марфа, кивнув на Пашку. — Без гостинца не приезжает. И тот издали узнаёт его, встречает.
Пашка приседает на снег, обнимает козла: он тоже рад этой встрече. Они начинают играть, бегать. Чувствуется, что и у Борьки к этому парнишке большая привязанность. Потом Пашка, точно вспомнив про ночь, поворачивается ко мне:
— Я так и знал, что заблудитесь.
— Почему? — удивился я.
— Место тут плохое: холмы да лога. Я и то иной раз ошибаюсь, а городской и подавно.
— Что и говорить, место однообразное. Но ты, прямо скажу, молодец, Пашка. Спасибо тебе за лыжню, за костры, иначе я и сейчас ходил бы по лесу.
— За что спасибо? — живо возразил он. — С каждым может беда случиться. А насчёт костров — не надеялся, что у вас спички есть, разводил под колодами — так они дольше горят, да и знал, что на лыжню непременно наткнётесь.
Все возвращаемся в избушку. Наскоро завтракаем. Борька опять бьёт копытцем о пол, разгребает воображаемый снег, падает и быстро засыпает.
Наступают минуты расставания. Что сказать Марфе на прощанье? Чем отблагодарить её за приют, за неизгладимое впечатление, что оставило у меня старенькое, покосившееся зимовье на краю соснового бора, с ночным огоньком, зовущим уставшего путника. Какими словами рассеять в ней тревогу за судьбу любимца Борьки?.. Не нахожу слов. Говорю просто, от души:
— Спасибо, Марфа. Я непременно ещё приеду к вам.
— Приезжай.
Кудряшка лениво шагает по занесённой ночным снегопадом дороге. В морозном воздухе тихо; точно зачарованный, стоит бор, облитый радужным светом уже поднявшегося солнца.
В углу широкой прогалины на вершине сосны-исполина, о чём-то мечтая, сидит мрачный, с вытянутой шеей и печальным взглядом, коршун.
— Поторопился прилететь, ишь как его мороз скрючил, — показывает на птицу Пашка, явно вызывая меня на разговор, — Василий Николаевич вчера здоровенного козла сшиб, — еле стащили с седловины. А вы, значит, не попали в козла?.. Дедушка, если промажет, начинает хитрить: дескать, мелкая дробь или веточка выцелить не дала…
Я думал о другом: о лесной избушке с ночным огоньком, о тётке Марфе, о Борьке, об их привязанности друг к другу. Никакая удача на охоте не могла бы доставить мне столько радости, породить столько раздумий… А костры на лыжне! Они заставили иначе посмотреть на Пашку, озорного деревенского паренька, как будто сроднили меня с ним.
Удивительное ощущение испытываешь, вернувшись домой из тайги, побыв там хотя бы день и вволю нахлебавшись хвойного воздуха. В доме всё кажется обновлённым; всё, что ещё вчера надоедало, как будто радо твоему появлению.
Но этой радости хватило всего лишь на несколько минут. На столе меня ждала радиограмма из тайги, куда мы с Василием Николаевичем должны лететь, — в ней сообщалось, что ледяной аэродром окончательно вышел из строя и что по всей реке идёт наледь.
Опять задержка… Теперь, после вчерашней разминки, жизнь в посёлке невмоготу. Переодеваюсь и иду в штаб. Единственный выход — отправиться в одно из геодезических подразделений, работающих поблизости от посёлка, посмотреть, как разворачиваются дела, а за это время наледь на реке сойдёт — и мы улетим.
Глава 4 НЕПОКОРЁННЫЙ
Южные ветры слизывают с крутых увалов снег, поднимают ржавые болота. По широким падям стелются ленивые туманы.
Всё дольше задерживается солнце; в его ослепительных лучах синеют громады лесов; всё доступнее становятся потеплевшие дали, и кажется, никогда они так не манили к себе, как в эту весну. Выйдешь из дома взглянуть на зарю; вскинешь голову к небу и долго ждёшь: не закурлыкают ли журавли?!
Но зима не сдаётся. Нет-нет да и завьюжит непогодица по горам, по лесам, и снова спеленает землю белым саваном.
Вершина зимы — самое обманчивое время.
Мы с Василием Николаевичем возвращаемся из лагеря геодезистов, расположенного под одной из главных вершин Сетлинского хребта, в шестидесяти километрах от посёлка. Идём после бурана безлесным отрогом. Всюду на необозримом пространстве лежат заснеженные горы, окаймлённые по склонам чёрной границей леса. Белизна будто скрадывает бугры, крутые ложки и шероховатую поверхность отрогов; всё кажется гладким, ровным.
Мы торопимся. Идём без отдыха. Хочется к вечеру добраться до верховья речки Кннгаш и там заночевать.
Лыжи легко скользят по отполированной поверхности надува. Встречный ветер обжигает лицо, стынут руки, и мы с трудом отогреваемся на ходу.
За последним подъёмом показалась кннгашская тайга. Мы прибавили шагу и через час уже скатывались к реке.
По северным склонам ещё нерушимо лежала зима в лёгком румянце заката. На ровном снегу лёгкие вмятины — следы белок, соболей, горностаев. Сам же лес в непробудном покое, в синеве угасающего дня.
У реки нас встретила густая кедровая тайга мощными стволами в густом сумраке и сказочной тишиною. С трудом пробираемся по еле заметным просветам.
В такой тайге приют найти не трудно. Почти под каждым старым кедром можно укрыться от непогоды.
Мы уже развели костёр, нарубили хвои для постелей, сделали заслон от ветра, как вдруг снизу послышался стук топора. Василий Николаевич долго и внимательно прислушивался.
— Однако, люди близко, что им тут надо? — сказал он и, немного подумав, добавил: — Пошли ночевать к ним, веселее ночь пройдёт.
Мы потушили костёр, вскинули на плечи котомки и пошли вниз по Кингашу.
В сумерках проступали лишь самые тёмные предметы. Теснее становилось в тайге. В лиловую муть уходил горизонт, становилось холодно и грустно среди кедрового безмолвия.
Идём долго. Торопимся, как бы не опередила ночь. Снова стукнул топор, но уже рядом, и тотчас же пахнуло дымом.
На небольшой поляне мы увидели примостившуюся между двух елей палатку. Там же рядом, у саней, кормилась лошадь.
— Да ведь это Кудряшка! Ей-богу, она! Гурьяныч, принимай гостей! —обрадованно кричит Василий Николаевич.
— Кого бог послал? — слышим знакомый голос старика.
Видим, как вздрогнула палатка, как распахнулся вход, и в образовавшееся отверстие показались сразу головы Пашки и Гурьяныча.
— Откуда вас вынесло? — удивляется старик и, выбравшись наружу, что-то в спешке дожёвывает, вытирает полой однорядки влажные губы. — Здравствуйте, милости прошу к нашему шалашу!
— Вот уж неожиданная встреча! На курорт приехали? — спрашиваю я, безмерно обрадованный, увидев Гурьяныча и Пашку.
— Кости старые размять решил.
Пашка, подражая Гурьянычу, тоже протягивает нам свою руку, и радостная улыбка не сходит с его лица.
— Подбил председатель колхоза. Мне бы на печке сидеть, а я поддался, взялся не за своё дело, — жалуется Гурьяныч.
— Что за дело? — спрашиваю я, сбрасывая котомку и сбивая снег с унтов.
— Об этом потом. Забирайтесь в палатку, места хватит. И похлёбка готова. Мы только сели ужинать, как услышали говор. — И, повернувшись к внуку, строго наказывает: — Натай снега для чая, да поживей!
Пашка, улучив момент, таинственно, шепотком хвастается мне:
— Зверей живьём ловим с дедушкой!
— Ну и как? — У спрашиваю я тоже шёпотом.
Парнишка безнадёжно машет рукой и исчезает. В палатке тепло и уютно. Больше, кажется, ничего и не нужно. Сбрасываем обледеневшие телогрейки. Нежный запах отогретой кедровой хвои, смешанный с запахом оттаявшей земли, напоминает весну. Она как будто с нами вошла в палатку. В железной печке буйствует огонь. На колышке, вбитом в землю, стоит зажжённая свеча. Приятный полумрак.
— Ишь как славно вызвездило, к утру непременно корку снежную натянет, — говорит Гурьяныч, протискиваясь через низкое отверстие внутрь палатки. — Чайку горячего или с супа начнём?
— А вы не беспокойтесь, у нас тоже кое-что есть.
— Гости сыздавна на хозяйских харчах, — заявляет старик, ставя на раскалённую печь котелок с супом.
Вваливается Пашка с ведром снега. Он застёгивает вход, и мы отгораживаемся от зимы полотняной стеною. С минуту молчим. Всем хорошо. С каждым глотком горячего воздуха возвращаются силы, и ты будто начинаешь чувствовать всего себя, каждый сустав, каждую косточку. Какая благодать — тепло!
— А для чего вам, Гурьяныч, понадобились живые звери? — спрашиваю я.
— Уже доложил, везде поспел! — Старик косится на внука. — Да на днях вызывали меня в колхоз, председатель говорит: «Выручай, Гурьяныч, в маральник заскочили волки, нашкодили, окаянные, трёх зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье». Я, конечно, отказываюсь: дескать, какой из меня теперь зверолов! А он напирает, говорит: «Государственное дело, помоги, некому больше». Раньше-то я лавливал и маралов, и коз, и медведей, а теперь мне не сезон. А он своё: «Отлови хоть одного!— Уговорил. Отпросил я в школе Пашку на два дня, поехал сюда, да, видно, зря… — Голос старика безнадёжно смолкает.
— В ваши годы, Гурьяныч, зверя поймать, конечно, трудно.
— Не в том дело. Поймать — не большая хитрость, справились бы вдвоём с внуком. — Старик тяжело поднял на меня глаза. — В тайге марала не стало — ловить некого. Сегодня все ключи пониже стоянки с Пашкой обшарил, следа в глаза не видали, будто вымерло всё. На что это годится?!
— Куда же звери девались?
В горле Гурьяныча громко хлюпнул глоток. Дрожащей рукой старик снял с печки суп, сказал обвиняюще:
— Истребили! Без надобности истребили! С каждым годом зверь на убыль идёт.
— Может, маралы перекочевали в другие места, тайга тут обширная, —пытался я успокоить его.
— Нет, извели. Тут ли зверю не жить зимой?! Нечего греха таить: браконьерство развелось, один перед другим, все с ружьями… Матка ли попалась на глаза или телёнок — всё под выстрел! Где уж тут живности быть…
— К ответу надо их, Гурьяныч, — говорит Василий Николаевич.
— Была бы моя власть… А председатель сельсовета отворачивается от разбоя, Закон об охране зверя под сукном держит, закрывает глаза. А надо бы привлечь всё хамово племя!
— Дедушка, не волнуйся, опять с сердцем плохо будет… — вмешивается Пашка.
— Не перебивай, дай сказать. — Старик ставит котелок с супом снова на печь. — Никто не хочет ударить по рукам браконьеров, вроде как бы до природы никому нет дела. Куда годится такое!.. Лет пятнадцать назад тут же, на Кингаше, я с бригадой отлавливал для маральника зверя. В какой бы ключ ни ткнулся — маралы, сохатые. А велико ли время — пятнадцать лет, и почти ничего не осталось! Какое сердце умолчит? Но и от того, что говоришь, проку никакого: власть на местах будто оглохла. Вот и истребили.
— Завтра собираетесь домой? — спрашиваю я, пытаясь отвлечь старика от горестных мыслей.
— Ума не приложу, что делать. С пустыми руками негоже мне возвращаться, слово дал председателю, а где найти зверя — не знаю. Вам не попадались?
— Видели следы, но далеко и несвежие.
— Может, задержитесь на денёк, вместе поищем?! Нам только бы след найти, а уж поймать-то поймаем — это точно.
Мы переглянулись с Василием Николаевичем и без сговора решили остаться помочь Гурьянычу в его беде. Да и кто бы отказался принять участие в столь интересном промысле.
— Значит, согласны? Утром раньше тронемся, надо успеть по насту обежать ложки ближе к предгорью. Может, там зверь будет. А внучек останется на таборе.
У Пашки лицо искажается от огорчения. Он пытается возразить старику, но не может разомкнуть челюсти.
— Останешься без разговоров, — строго повторяет Гурьяныч. — Всем там делать нечего.
Пашка берёт свою чашку с супом, захватывает жменю сухарей, отворачивается от нас.
Ужинаем молча. Голод действительно лучший повар. Суп, сваренный в тайге из кусочка мяса, картошки и одной луковицы, без какой-либо поварской хитрости — объеденье! В нём — и тончайший лесной аромат, и свежесть воздуха, и необыкновенный привкус, будто кто-то незаметно подбросил в суп таинственных корешков. Ешь и не можешь наесться!
Перед сном выхожу из палатки. Трепетно и робко мерцают звёзды. Луна в голубоватом тумане выбирается из-за лохматых кедров, окутанных морозной мглою. Воздух чистый, звонкий, ни единого шороха… Всё спит. В молчании — величие таёжной ночи.
Неужели никто не живёт в этой лесной тиши?
Гаснет свеча. В палатке полумрак. Тихо потрескивают дрова в печке. Пашка сдержанно всхлипывает под одеялом. Остальные спят или делают вид, что спят. Слышу шёпот Василия Николаевича:
— Пашка, перестань хныкать, утром я заболею, останусь в палатке, а ты пойдёшь за меня.
Пашка стихает. Гурьяныч поворачивается на другой бок, начинает похрапывать. Под полотняную крышу входит ночь. Только Кудряшка не спит, лениво пережёвывая хрусткое сено.
Ещё до рассвета нас будит Гурьяныч. Дятел громко вестит утро. Чуть слышно шумит лес. Быстро одеваемся, выбираемся из палатки. Освежаемся студёной водой. Немного движения, несколько глотков холодного воздуха — и сонливость пропадает.
Я весь захвачен предстоящими таёжными приключениями…
— Ты что же, Василий Николаевич, в самом деле захворал? — спрашивает Гурьяныч с усмешкой за завтраком.
— Я за него пойду, — опережает Пашка.
— Выплакал! Может, человеку охота была самому пойти, так ты встрял, —мягко говорит старик.
Сборы не долги. Пашка набрасывает на плечи джутовый куль с полувыделанной сохатиной шкурой, огромный, но лёгкий. С ним он ходил вчера. У меня котомка с верёвками, с продуктами и посудой.
А Гурьяныч берёт аркан, мягкие лосёвые ремни и лоскуты выделанной овчины. За кушаком у него топор.
Становимся на лыжи.
— Разве ружья не возьмём? — спрашиваю Гурьяныча.
— К чему лишняя тяжесть?!
Гурьяныч поворачивается к заре, только что появившейся в просветах заиндевевших кедрачей. Долго стоит, приминая в раздумье угловатыми пальцами бороду.
— Благословен путь! — наконец говорит он и шагает навстречу утру.
— Ни пуха ни пера! — кричит вслед Василий Николаевич.
Гурьяныча не узнать. Куда девалась его старость! Как только он почувствовал под ногами лыжи, сразу исчезла сгорбленность, он стал лёгким, подвижным, и мы с Пашкой еле поспеваем за ним.
Лес в морозной мгле, в дремотной лени, обласканный утренним светом. Из глубины его, обжигая лицо, тянет сиверок. А вдали, куда ведёт нас Гурьяныч, дымятся сиреневатые скалы в тёмных хвойных папахах. Изредка в застойную тишину наступающего дня врывается стук дятла или стон уставшей стоять в строю старой лесины.
Пробегаем первый ложок. Всюду нерушимая белизна зимнего покрова. На вывернутых корнях, на валежнике, на пнях причудливые надстрой из снега. С деревьев свисают ватные гирлянды. Под буграми дотлевает сумрак ночи.
Лес тишиной встречает нарождающийся день.
Старик не таится, идёт шумно и на ходу то стукнет подожком [2] о сушину, то свистнет, а сам, как коршун, вертит головою, шарит по просветам.
На каждом пригорке задерживается.
— У-ю-ю! — кричит зверолов громко, и взбудораженное эхо уносит тревожный звук в недра старой тайги и! долго не стихает.
— Видно, и тут нет зверя, опустела тайга, а уж где, как не в этих местах, ему быть! — сокрушается Гурьяныч и торопится дальше.
В глаза бьёт яркий луч восхода. Встают пирамиды! елей, Пылают сугробы. Куда бы ни глянул — величие пробуждающейся дикой природы.
Навстречу дню летят разрозненные стайки кедровок, В вышине ровно шумит ветер.
Гурьяныч подходит к сваленному бурей кедру, останавливается. Дерево опирается на нижние сломанные сучья, а мохнатую голову трогательно держат на своих гибких стволах три берёзки-сестры, К ним на помощь тянется осинка.
— Как живые, — говорит старик, показывая подожком на берёзки, — Вроде как бы жалко им, что умирает такой красавец.
Но вот что-то приковывает его внимание. Он варежкой протирает глаза, смотрит с пригорка вниз.
— Кажись, след! — И Гурьяныч ныряет под навес старых кедрачей.
Мы — за ним. Старик уже далеко и, мелькая между стволов, скрывается за изломом.
Там, где он дожидается нас, я вижу на снегу глубокие вмятины — следы зверей. Они огибают пригорок и теряются в глубине сыролесья. Старик пальцами ощупывает рассыпчатый снег, и вдруг веселеет, добреет его лицо.
— Недавно прошли два взрослых зверя, может, матка с быком, вишь, как широко вышагивали, — поясняет он, обращаясь к Пашке. — И с ними прошлогодний телёнок. У этого, глянь, поуже шаг. — И Гурьяныч, заслонив ладонями свет солнца, долго смотрит на стёжки следов, хорошо заметные по волнистому снежному покрову. — Теперь бы не оплошать!
Мы подтянули юксы на лыжах. Гурьяныч перевязал потуже кушак и подоткнул повыше полы однорядки. Пашка стянул ремешком на груди лямки.
— Готовы? — спросил, не оглядываясь, старик и, стронув лыжи, стал быстро отмерять расстояние.
Окрылённые надеждой, мы с первого шага почувствовали в себе необыкновенную лёгкость. Теперь нам всё казалось доступным, возможным. Я верил в опыт Гурьяныча, умышленно не расспрашивал его о подробностях этого промысла: хотелось, чтобы всё было неожиданностью.
Звери шли густым кедрачом по глубокому снегу и, кормясь на ходу, срезали острыми зубами молодые побеги берёз, тальника; местами разгребали копытами снег и срывали нежные верхушки бледно-жёлтого ягеля. Мы быстро подвигались их следом.
Меня удивляло странное поведение Гурьяныча. Он по-прежнему громко разговаривал; иногда сбивая с лыж снег, стучал о стволы деревьев, тогда как, мне казалось, это не способствовало нашему успеху, и я втайне даже досадовал на старика.
От первой разложины звери пошли крупными прыжками — видимо, услышали нас. Пашку какие-то силы вынесли вперёд, но старик повелительно крикнул:
— Не смей! Назад!
У кедра Гурьяныч сошёл с лыж, сбросил котомку. Подошёл обиженный Пашка.
— Куда поскакал, ещё намаешься! Живо разводи костёр! — И, повернувшись ко мне, пояснил: — Негоже по насту гонять зверей, ноги могут до кости разодрать. Переждём, пока потеплеет.
— Но маралы могут далеко уйти, — возразил я.
— От своего следа никуда не уйдут.
Солнце встало над тайгою. Не осталось блеска в сугробах. Потухли фонарики. Зима под солнцем лежала одряхлевшая, усталая. Но в воздухе — удивительная свежесть и смутное предчувствие пробуждающейся жизни.
Быстро разгорается костёр. На лес сходит теплынь. Пашка сидит на валежнике, обхватив руками колени, и наблюдает, как пламя жадно пожирает сушняк. Гурьяныч переобувается. Я весь поглощён чудесным днём, могуществом природы, мыслями о том, что всё прекрасное в ней принадлежит человеку. Каким он должен быть счастливым!
Откуда-то прикатил заяц. Увидев нас, он затормозил бег, хотел встать на задние лапы, но провалился в снег и долго выбирался на кромку уже размякшего наста.
— Пора! — сказал Гурьяныч. И мы тронулись.
Под лыжами мякнет податливый снег. Идём не торопясь. Гурьяныч, видимо, бережёт силы. Километра через два натыкаемся на лёжку — звери отдыхали после утренней кормёжки.
Гурьяныч не задерживается, не глядит на лунки, не говорит ни слова, уходит дальше всё тем же ровным, спокойным шагом. Меня же мучит мысль: как можно поймать этих быстроногих и пугливых маралов?
День в полном разливе. Солнце наводит порядок. Лес стоит над потускневшими снегами весь обновлённый, в хвойном бархате.
К полудню по ложкам загудели подспудно ручьи — начало весеннего буйства. «З-з-з» — робко заводит разбуженный солнцем комар. Каким приятным кажется этот унылый звук в предвесеннем воздухе!
Первый паук на снегу, первая птичья песня в лесу, первый караван журавлей — как это дорого человеческому сердцу! И хотя всё это ежегодно повторяется в одно и то же время, никогда не надоест. Всегда с нетерпением ждёшь этих вестников великого перелома в природе.
Маралы, почуяв опасность, удирают по глубокому снегу, в страхе бросаются то вправо, то влево, ищут спасения в чаще и не могут уйти от опасности, от приближающегося к ним шороха.
Гурьяныч и теперь не прибавляет шагу — удивительная уверенность в его фигуре, в спокойствии, даже в молчании. Только Пашке не терпится. Он нет-нет да и сойдёт с лыжни, метнётся вперёд, но окрик старика неизменно возвращает его на место.
Проходим гарь. Солнце палит по-настоящему. Миллиарды каких-то малюсеньких, еле заметных глазу сороконожек ползут по снегу к источнику тепла. В лунках звериных следов они кишат чернотой, скапливаются на освещённой стороне сугробов, ползут дальше, неизвестно куда и зачем.
Мир пробуждается. Разгреби снег, разбей трухлявый пень, отдери на сушине кору — и можно убедиться, что ростки травы, личинки насекомых, жучки, даже почки уже пробудились, но ещё таятся, будто дожидаясь, когда зашумит по-весеннему лес.
У спуска в ложок Гурьяныч на минуту задерживается, показывает подожком вперёд, кричит;
— Вот они!..
По ельнику мелькнула, утопая в глубоком снегу, серая тень, затем вторая, третья. Гурьяныч свернул влево от следа, оттолкнулся и быстро скатился по склону, пошёл наперерез зверям. Мы — за ним.
«Начинается!» — мелькнуло в голове.
Маралы быстро обнаруживают нас, бросаются вправо к белогорью, круто спадающему к краю тайги.
— Там ещё глубже снег, — поясняет старик и переходит на спокойный шаг.
Зверей не видно. Они идут одним следом, прокладывая себе дорогу по дну ложка. Гурьяныч то кашлянет, то крикнет — пугает, не даёт маралам передышки. Но животные, кажется, начинают понимать, что впереди их поджидает ещё большая опасность: она таится в снежной белизне, в глубоких сугробах, в крепких надувах. Они бросаются в сторону к склону, пытаются прорваться к низине, где мельче снег, но на пути встаёт опасный шорох человека, и звери послушно идут дальше, куда их направляет Гурьяныч.
Чем круче становится подъём, тем глубже снег и тем медленнее идут маралы.
Солнце минует полдень. Тайга редеет, мельчает. Всё чаще слышится голосистый перебор зимующих птиц — для них наступает пора отлёта на север.
Звери выбрались к краю леса, задержались. Мы увидели их на расстоянии не более ста метров. Сбившись в кучу, они со страхом наблюдают за нами.
Позади стоит крупный бык. Его голова украшена толстыми чёрными вздутиями рогов. Он, как изваяние, стоит неподвижно, весь поглощённый нашим появлением. Раздувая гневно ноздри, бык угрожающе бьёт по снегу копытами.
Рядом с быком самка высоко подняла настороженную голову со сломленными ушами — признак усталости. Из открытого рта свисает длинный язык. Она топчется на месте, вот-вот упадёт. Из-за её спины выглядывает телёнок. Помахивая маленькой головой, он, кажется, больше всех возмущается нашим преследованием.
Гурьяныч крикнул, махнул рукой. Бык огромным прыжком рванулся вперёд, замелькал жёлтым фартучком, прикрывающим зад. Следом бросились остальные. Мы с минуту передохнули, сбили снег с лыж, поправили котомки и двинулись дальше.
За краем леса, за низкими дупляными кедрами, растущими по склонам в одиночку или небольшими стайками, начинается подъём к гольцу, прикрытый пологом сверкающих на солнце снегов. Тут зима — ни единой проталины, ни единого пятнышка.
Идут звери от нас на расстоянии не более чем двести метров. Мы видим, как, утопая почти до полбока, бык расклинивает грудью снег. Он горячится, прыгает, падает, но тотчас же вскакивает, поворачивается к нам, угрожает головой. Иногда, охваченная страхом, вперёд пробивается самка; тогда ещё медленнее идут звери. Бык злится, бьёт её передними ногами, а если это не помогает, отталкивает, выскакивает вперёд.
Но вот звери, как будто поняв, что дальше ещё труднее будет уйти от врага, все разом повернули назад и замерли. Мы подошли ближе и тоже остановились. Это была незабываемая минута поединка. В застывших позах животных, в их напряжённом ожидании и особенно в бычином взгляде чувствовалась звериная решимость сопротивляться до конца. У меня по телу пробежал холодок. Пашка стоял с открытым ртом, обескураженный увиденным. А Гурьяныч, опершись грудью на подожок, ласково смотрел на маралов.
— Устали, голубки? — приглушая одышку, ласково спросил он.
В ответ телёнок потряс головою.
— Ишь ты, храбрец какой! Тогда — пошёл! — крикнул старик.
Бык метнулся в сторону от следа, провалился в сугроб, за ним — самка. Мы подождали, пока они поднялись, отряхнулись и запрыгали по снежным буграм. Теперь в их движениях не было прежней ловкости, силы; они, казалось, уже не пугались ни крика, ни нашего присутствия.
У границы крутого излома лёг телёнок. Звери остановились.
— Хватит! — говорит Гурьяныч, задерживаясь.
Я с тревогой поглядываю на низкое солнце — дня остаётся немного. Не расспрашиваю старика — с нетерпением жду, что будет дальше.
Гурьяныч подтягивает размокшие юксы на лыжах, застёгивает на груди однорядку, готовится к последней атаке, но и теперь на его лице несокрушимое спокойствие, уверенность. Мы с Пашкой тоже поправляем юксы, сосредоточиваемся.
Старик подаёт команду обойти зверей с двух сторон. Маралы встревожены, но не трогаются с места. Телёнок с трудом встаёт. Мы поднимаемся по склону, минуем маралов, и как только оказываемся выше их, Гурьяныч кричит:
— Пошёл!..
— Пошёл!.. — басит Пашка охрипшим голосом. И мы разом несёмся на маралов.
Звери, точно почуяв свободу, рванулись вниз и крупными прыжками стали уходить своим следом. Теперь под гору, по готовой борозде, бежать им было легче. Животные быстро удалялись. Мы старались не отставать. Казалось, к маралам вернулась сила, и теперь они вне опасности.
— Дедушка, разреши побежать вперёд, — пристаёт к старику Пашка.
— Ещё чего вздумал!
— Дедушка, милый, охота прокатиться. Я стороной!
— Ну, разве стороной... Айда, валяй!
Пашка мигом перемахнул через сугроб, стремглав понёсся вниз, прямо на зверей. Мы остановились, не понимая, что он задумал.
— Так я и знал, нашкодит! — сокрушается старик и кричит во весь голос: — Пашка, не смей!
Но уже поздно… Парнишка в диком азарте настигает бегущего позади быка. Мы видим, как тот в смертельном страхе наскакивает на телка с самкой. Но тех тоже пугает шорох быстро приближающейся опасности, и они несутся быстрее. По сторонам целина метрового снега, теперь уже недоступная для животных. Они сходят с борозды.
Мы останавливаемся в ожидании: что будет? Пашка, широко расставив лыжи, со всего разбега навалился на быка, утопающего в снегу. Взбудораженный зверь огромным прыжком попытался сбросить его со спины, метнулся в сторону, упал, вскочил, а парнишка будто прилип. Мы бросились на помощь. Вдруг бык подкинул высоко зад, и вместе со снежной пылью в воздухе мелькнули шапка, руки, скрюченное тело Пашки. И… всё исчезло в белизне. На поверхности остались только болтающиеся ноги с лыжами.
Быстро скатываемся к нему. Помогаем подняться. Он весь в снегу. — Смеётся доволен проделкой.
— Твоё счастье, Пашка, что некогда: сострунил бы тебя за такое дело, ослушник!
— Дедушка, я же хотел стороною, а оно, вишь, накинуло прямо на зверя, — лукавит парнишка.
— Ладно, «накинуло»!.. — строго перебивает его Гурьяныч. — Отряхнись и догоняй, а мы пошли. — И он, кивнув мне, покатился вниз.
Звери быстро сваливаются в лощину. У кромки леса они замедляют ход. Бежавший впереди бык пошёл шагом, затем остановился.
— У-ю-ю! — кричит на них Гурьяныч и угрожающе поднимает подожок.
Маралы тронулись, тяжело переставляя ноги. Бока у них ввалились, шерсть на спинах поднялась, уши упали, из открытых ртов свисают красные языки. А страх, видно, пропал, и они кое-как бегут по снегу.
Мы идём рядом. На землю падают косые лучи солнца. Синие тени уже окантовывают гребни гор, копятся в ложках, ложатся по сугробам.
Внизу тайга. За ней равнина, усеянная стылыми блюдцами озёр, В спокойном небе пара воронов.
Кругом тишина.
Нас нагоняет Пашка. Он прихрамывает, на щеке багровый синяк, а сам бесконечно доволен. В глазах ещё не погас азарт, Гурьяныч окидывает его строгим взглядом.
— Я те, подожди, покатаюсь, шкодник. Долго ли зверей запалить! На что годится!
— Дедушка, не сердись; говорю: нанесло на быка, а то бы я не посмел. — И он подстраивается в ряд со стариком.
Лицо Гурьяныча светлеет.
Я нет-нет да и посмотрю на раскрасневшегося от удачи Пашку. В его движениях, в том, как он твёрдо шагает по снегу, — торжество. Какой должен быть у парнишки прилив восторга от одной лишь мысли, что он катался верхом на диком звере!
Идём редколесьем. Никто не торопится. На ночёвку в глубь тайги летят кедровки.
Телёнок стал отставать. Вот он с трудом добрался до старого кедра, стал жадно хватать открытым ртом снег, потоптался и, не взглянув на нас, точно подкошенный, рухнул на землю — сдался.
Гурьяныч скинул котомку, достал два лоскута овчины и, подавая их мне, сказал:
— Обмотайте ноги и свяжите верёвкой, а ты, Пашка, — он бросил внуку топор, — наруби ему под бок хвои, чтобы не простыл на снегу. И догоняйте меня.
Это десятимесячная самочка. У неё раздуваются бока. Она прерывисто дышит и недоумённо следит за нами высохшими от усталости глазами. Мы с Пашкой наваливаемся на неё. Она вмиг оживает, пытается вскочить, бьёт ногами и со стоном теряет последние силы.
Мы связываем её, подстилаем под бок хвою и спешим дальше.
Минуем первую полосу чащи, видим любопытную картину: у края небольшой поляны на толстой валежине сидит Гурьяныч, лениво жуёт сухарь. На мокром от пота лице всё то же спокойствие, А рядом, метрах в двадцати от него, лежит самка.
Услышав шорох приближающихся шагов, она вся напряглась, встала, рванулась напролом по снежной целине, уже не видя куда, наскакивая, как пьяная, на деревья. И вдруг повернулась к нам, шагнула вперёд, готовая сопротивляться, а ноги не устояли, подломились, и самка безвольно свалилась на податливый снег. По вечереющему лесу тревожным гулом расползся её протяжный стон. И тут же послышался торжествующий крик чубатой кукши. Хищная птица будто тайно следила за нашим поединком и, увидев упавшую маралуху, видимо, решила, что тут будет пожива: стала созывать на пир подружек.
Они уже услышали и подают свои голоса, Гурьяныч взглянул на солнце, перестал жевать.
— Теперь можно и поторопиться, — сказал он, вставая на лыжи и направляясь к самке.
Та поднимается, с трудом удерживаясь на ногах. Из раскрытого рта вместе с горячим паром вырывается угрожающий звук.
— Дурёха, перестань, тебе же будет лучше, — говорит задушевным тоном Гурьяныч и, протянув вперёд руки, осторожно шагает к ней.
Самка фыркает, бросается на старика, пытается ударить его передними ногами и со стоном падает на снег.
Мы все трое наваливаемся на неё. Я крепко прижимаю её шею к земле — в таком положении она не может подняться. А сам не свожу глаз с Гурьяныча. Тут есть на что посмотреть и даже позавидовать, Как ловко и привычно он управляется со зверем!
Самка отчаянно сопротивляется, бьётся головою, ногами, но через двадцать минут уже лежит связанная, обессилевшая и как будто уже ко всему безразличная, А в горячих, негаснущих глазах бушует звериный протест.
— Успокойся, милая, — говорит старик, приглаживая узловатыми пальцами шерсть на голове пленницы. — В обиде не будешь, а с тайгою прощайся.
Я смотрю на измученную погоней, спелёнатую верёвками маралуху, и думаю, что не гулять ей больше по лесным просторам, не бродить по хребтам, не видеть с вершин закатов, не отдыхать в прохладе горных цирков. Её жизнь будет отгорожена от всего этого высокой изгородью. Ненужными станут приспособленность, инстинкт, чутьё, слух — всё будет приглушено неволей.
Гурьяныч, точно угадав мои мысли, говорит Пашке:
— Не было бы браконьерства, тут бы по всей тайге маральнику быть, чего лучше. Мы неволим зверя, в загородках держим, а лес пустовать будет, на что годится.
Старик сделал, из верёвок узду, надел на голову самки и крепко подтянул к ногам.
— Иначе снега нахватается — пропадёт, да и голову может в кровь разбить… Чего доброго, ослепнет, — говорит он назидательно, по-прежнему обращаясь к внуку.
— Дедушка, а для чего овчинкой ноги обмотал? — спрашивает тот.
— Чтобы их не порезать верёвками. Говорю, зверю тоже больно бывает. Надо с любовью, с заботой…
Мы расстелили шерстью вниз сохатиную шкуру, что нёс Пашка, уложили на неё маралуху и только теперь почувствовали, как устали, как хочется есть.
Красное солнце у горизонта. Снег в багровых подтёках. В лесной тиши печаль уходящего дня.
— Пашка, ты на выдумки горазд, како имя дадим маралухе? — спрашивает старик, отрезая нам по ломтю хлеба.
— Кедровка. Лань. А той, — парнишка кивает в сторону тёлки, — Дочка.
— Вы за како имя? — обращается ко мне Гурьяныч.
— Лань — не плохо, да и Дочка — тоже.
— А быка назовём Непокорённый, — говорит Пашка.
— Это почему же Непокорённый?
— Его нам теперь не догнать — ушёл.
— Уйти ему некуда, внучек, — спокойно возражает старик.
Мы быстро съедаем по куску хлеба с маслом, набрасываем котомки, возвращаемся с Гурьянычем к тёлке.
— Дедушка, у нас остаётся одна шкура под быка, а как же Дочку потащим? — спрашивает Пашка.
— Что-нибудь придумаем.
Подойдя к тёлке, Гурьяныч сошёл с лыж, сбросил котомку. Его доброе лицо осенила какая-то радостная мысль. Он внимательно осмотрел бьющуюся в припадке гнева самочку, ощупал бока, как бы проверяя дыхание, и улыбнулся во весь рот:
— Тебе бы, Дочка, радоваться, а ты ишь что делаешь! Подержите-ка её, — просит он.
Гурьяныч быстро развязывает тёлке ноги, и та вскакивает, отбросив нас всех в сторону, выбегает на свой след, скачет по снежному полю, затем переходит на шаг; не оглядываясь, не останавливаясь, обиженной, одинокой уходит к кромке леса.
У Пашки опускаются руки, глаза и рот широко раскрыты от удивления.
— Дедушка, зачем же отпустил? — возмущается Пашка.
Да и мне это непонятно.
А Гурьяныч как будто не слышит внука, стаскивает с головы шапку, машет ею в сторону удаляющейся Дочки, ласковыми глазами провожает счастливицу.
— Выходит, зря связывали тёлку, — обиженно продолжает Пашка.
— Нечего, внучек, жадничать, всего не заберёшь. Нам и двоих хватит, управиться бы!.. А связывали не зря: снегу сгоряча нахваталась бы — и хана ей. Понял? А теперь, отдохнувши, ничего ей не страшно. Жить будет… Да и на приплод надо оставлять, иначе как можно! Подумай-ка об этом…
Мы видим, как за верхним краем кедрачей скрывается Дочка. Да, ей повезло, она попала в руки Гурьяныча.
— Счастливого пути! — кричит ей вслед парнишка.
Через несколько минут мы уже тащим на сохатиной шкуре связанную маралуху вниз по логу.
Метров через двести от борозды, проложенной ещё в полдень зверями, бык свернул влево, мерным шагом ушёл в боковой распадок.
— Надо до темноты управиться и с ним, — говорит Гурьяныч, сбрасывая с плеч лямку.
Мы оставили самку у сворота, а сами, набирая скорость, тронулись по следу быка.
От лога марал поднялся на выступ, окружённый с трёх сторон отвесными скалами и соединённый с отрогом узким перешейком. Там он, видимо считая себя вне опасности, лёг под старым кедром.
Услышав шаги, зверь вскочил, рванулся к проходу, но наткнулся на нас, осадил назад и стал грудью весь на виду — могучий, непримиримый. Его большие, круглые глаза, в которых отражался отблеск закатного солнца, были полны звериного гнева. Из раскрасневшихся ноздрей вырывались клубы горячего пара. В этот решающий момент поединка он, как никогда, был собран, уверен в себе.
— Смиришься, неправда!.. — говорит Гурьяныч, не отрывая взгляда от марала.
Он подаёт нам знак идти вперёд. Осторожно все выходим к выступу, окончательно захватываем пути отступления зверя. Тот, кажется, понимает, что попал в западню, на какую-то долю минуты замирает и вдруг в стремительном броске вперёд налетает на кедр, за которым едва успевает скрыться Гурьяныч.
Рог от удара о ствол лопается, кровь брызжет на снег тугими струями, заливает морду.
Бык отступает, пятясь задом, и мы видим, как он снова наливается силой.
— Этого не взять! — думаю я вслух.
— Надо поаккуратнее: зверь в опасности во много раз сильнее, — говорит Гурьяныч, не отрывая взгляда от быка.
А Пашка ни жив ни мёртв, прижавшись к берёзе, пугливо выглядывает из-за ствола.
Гурьяныч, не торопясь и всё время с опасением следя за быком, достаёт волосяной аркан, набирает его большими кругами в руку. Выходит из-за кедра. Человек и зверь стоят в пяти метрах друг против друга. Я с замиранием сердца, с какой-то боязнью за Гурьяныча, слежу за этим немым поединком.
Бык, не трогаясь с места, чуточку приседает и, горбя спину, уже готов обрушиться всей своей силой на врага, но в воздухе слышится свист аркана, Старик ловким броском заарканивает его и конец захлёстывает за ствол кедра.
Марал вздыбился, рванулся вправо, влево, до хрипоты затянул на шее петлю и замер, упёршись всеми четырьмя ногами в землю. Он взглянул на нас обезумевшими глазами, в которых не осталось и капельки страха, и бросился в пропасть. Аркан лопнул — и бык исчез за скалой.
Снизу донёсся грохот камней и треск сломанных деревьев.
Пашка так и остался стоять, ещё сильнее прижавшись к берёзке. На лице Гурьяныча и отчаяние, и виноватость, Я не могу прийти в себя от случившегося. Инстинкт жизни — самый могучий инстинкт — в последний момент толкнул зверя искать спасения в смертельном прыжке…
Мы подходим к краю обрыва, заглядываем вниз, но из-за карнизов не видно основания скал, куда упал бык.
День угасает на лохматых вершинах старых кедрачей, в морозном румянце заката. Дали прячутся в тумане. Неумолимая темень сползает с гор, окутывает дремучее царство хвойных лесов…
На душе тяжёлое чувство вины.
Спускаемся под утёс.
Зверь лежит шершистым комком, заваленный сучьями и снегом. В его помутневшем взгляде теперь нет ни гнева, ни беспокойства. Он умирает. Его дыхание становится всё реже, глаза перестают закрываться, и мы видим, как угасает в них жизнь.
— Не покорился!.. — говорит с болью Гурьяныч и начинает снимать с шеи зверя обрывок аркана. Потом поворачивается к внуку, долго молчит и пристально смотрит ему в глаза. — Уважать надо такое! Не смотри, что зверь, а геройски погиб за волю.
Пашка утвердительно кивает головой.
Ещё с минуту мы стоим молча, охваченные чувством гордости за зверя.
— Пашка, айда на стоянку! Пусть Василий Николаевич запрягает Кудряшку и едет навстречу, а мы потихоньку потащим маралуху. Поторопись, внучек!
— Я, дедушка, вмиг добегу! — кричит Пашка, и в кедраче смолкает шорох его лыж.
Месяц огненным бубном виснет над тёмными кудрями сосен. Чуть посветлело в лесу.
Вот и закончился долгий и трудный день. Отбивает поздний час дятел. Настывает снежная корка. Только высоко в небе чуть заметный отблеск давно скрывшегося солнца.
В одиннадцать часов, уставшие, измученные, мы наконец добрались с живым грузом до палатки. Гурьяныч и Василий Николаевич ещё долго возились возле маралухи: надо было сменить на ногах мокрые верёвки, овчину и подостлать под бок побольше хвои.
В палатке жарко от накалившейся печки. В тепле ещё больше обнаруживается усталость. Ужинать не захотели. Выпили по кружке чая — и спать. Сон был единственной наградой за дневные дела.
В печке гаснет пламя. Над полотняной крышей ночь, И засыпая, я думаю о том, какая разная судьба у этих трёх маралов… Потом вспоминаю Пашку: ему повезло. Сколько впечатлений, сколько свежих мыслей, загадок! Всё, что парнишка видел сегодня в природе, что пережил, несомненно осядет добрым слоем в его ещё детской душе, Природа не терпит фальши, она воспитывает смелых, честных, сильных духом людей. Её благотворное влияние на человека безгранично, и очень жаль, что мы порой недооцениваем этого.
С этим я засыпаю, но слышу рядом шорох и шёпот:
— Дедушка, почему он прыгнул в пропасть?
— Говорю, страх перед неволей у него сильнее смерти.
— А-а… — и парнишка отползает, ещё долго ворочается, вздыхает, не спит.
Гурьяныч поднимает нас рано, торопит в путь. Слышно, как стонет маралуха. Выхожу из палатки. Над заиндевевшими кедрачами голубеет ласковое небо, политое нежным светом наступающего утра.
Занимается светлая зорька. За тёмным краем леса встают гранитные утёсы, слитые воедино с кедрами.
После завтрака общими усилиями поворачиваем Лань на другой бок, и она успокаивается. Гурьяныч с Василием Николаевичем опять перевязывают ей ноги: старик боится, как бы они не затекли у неё. Затем вливают ей в горло несколько кружек тёплой воды и начинают делать из хвои настил на санях.
Я свёртываю палатку, постели, а Пашка занялся печкой. Он высыпает из неё на снег красные грудки жара.
— Гляньте, трава! — кричит парнишка, показывая на оттаявшую под печкой землю, покрытую густой щетиной яркой зелени.
— Ишь, какое нетерпение! — удивился я.
— Значит, пора, — говорит Гурьяныч, склоняясь над зелёной лункой в снегу. — Мне вон сколько лет, а весну жду, как исцеления. Всё на твоих глазах народится, встанет, запоёт, и ты помолодеешь. Весна, что и говорить, — не шуточное дело, начало жизни! От неё и год начинается.
Как-то странно смотреть на зелёное пятно, глубоко вдавленное в снег. На наших глазах гибкие ростки травы опушаются изморозью, никнут и, припадая к земле, умирают, обманутые случайным теплом.
Вот и солнце. Горы уж не в силах заслонить его. Лучи ярким светом бьют в лесные просветы, гонят прочь остатки ночи. Слышатся птичьи переклички. А там, куда лежит наш путь, серебрится рыжий туман.
Глава 5 ОХОТНИК ЗА ПАУТИНОЙ
Вот и пришла весна, дружная, звонкая, многоголосая. Потекла чернота по увалам. Зазеленели холмы на равнинах. Лес забурел. С каждым днём становилось светлее. Выйдешь на улицу и пьянеешь от свежего воздуха.
Наконец-то настал и для нас с Василием Николаевичем долгожданный отъезд. Теперь, казалось, уж ничто нас не задержит.
Машина загружена. Через два часа самолёт высадит нас за сотни километров от населённых мест.
Прощаемся с провожающими. В последний момент, когда мы уж сели в самолёт и оставалось только захлопнуть дверь, увидели бегущего к нам Пашку. Он размахивал руками, что-то кричал. Я вспомнил, что не попрощался с ним, спустился на землю.
— Вас вызывают на радиостанцию! — выпалил он запыхавшись.
— Зачем?
— Не знаю. Меня за вами радист послал.
Пришлось отложить на час вылет и поехать в штаб. Захожу в аппаратную.
— В подразделении инженера Макаровой какая-то неприятность. Начальник партии ждёт у микрофона, — встречает меня радист.
— Алло, алло, здравствуйте, Владимир Афанасьевич! Что у вас случилось?
— Позавчера приехал к Евдокии Ивановне Макаровой. Она стоит лагерем на вершине Усмунского гольца. Неприятность у неё получилась: нити паутиновые провисли в большом теодолите, пришлось приостановить работу. Запасная паутина оказалась некачественной, видимо старая. Третий день бригада охотится за пауком-крестовиком. Всю тайгу обшарили — ни одного не нашли.
— Напрасный труд, — перебиваю его. — Ведь для инструмента нужна паутина от кокона крестовика. Попробуйте подогреть электролампой провисшие нити в инструменте; если они не натянутся, тогда организуйте более энергичные поиски кокона. Используйте эвенков-проводников. Другого выхода пока я не вижу. Обещать же вам помощь в ближайшие дни затрудняюсь. А что вы предлагаете?
— Никто из нас не знает, где прячет самка паука свой кокон. Тайга большая — разве найдёшь. А проводники у нас молодёжь, ещё не опытные, Сейчас попробуем подогреть нити, может, натянутся.
Вдруг в трубку врывается возбуждённый женский голос:
— Паутину нам не найти. Здесь на горах ещё снег. Неужели не поможете?!
— Здравствуйте, Евдокия Ивановна! Я понимаю вашу тревогу, но как помочь, не знаю. У нас нет запасной паутины, её раздали наблюдателям, а их сейчас в тайге и днём с огнём не разыщешь. Да и как доставить её? Не попутным же ветром? В районе нет ни одной посадочной площадки.
— Но ведь если в ближайшее время не закончим наблюдений, сорвём проектирование.
— Учитываю. Потерпите немного, я сейчас соберу людей, будем решать, что делать.
— Когда нам явиться на связь?
— Через два часа…
Так сегодня и не сбылась мечта улететь в тайгу. Задержка в работе инженера Макаровой, которая ведёт геодезические работы в районе крупного рудного месторождения, действительно чревата неприятными последствиями. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвести их.
— Что это за паутина в инструменте? Неужели без неё нельзя обойтись? — интересуется радист.
— Ты когда-нибудь смотрел в трубу обычного теодолита? Видел в нём перпендикулярно пересекающиеся нити? — спрашиваю я.
— Видел.
— Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле, а в высокоточном, скажем, в двухсекундном, как у Макаровой, с большим оптическим увеличением, нарезать нельзя — будет слишком грубо. Линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку. Паутину же берут из кокона, в котором паук-крестовик откладывает яйца. Всего-то для инструмента и надо дециметра два паутины.
— А разве шёлковая нитка не годится?
— Она лохматая, не даёт чёткой линии. Нужна именно паутина.
Скрепя сердце отдаю распоряжение разгрузить самолёт и послать его выполнять другое задание.
Придётся заняться паутиной.
Прежде всего надо организовать поиски в посёлке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами и под тяжёлой мебелью в квартирах. Но никто не знает, где самка прячет свой кокон.
Тут же возникает вопрос: предположим, нам повезёт с паутиной, но как её доставить Макаровой на голец, чуть ли не за двести километров от посёлка, да ещё в кратчайший срок?
Вечером мы снова связались с начальником партии. Он сообщил, что нити в теодолите после нагрева их электролампами не натянулись и что нет никакой надежды отыскать там паутиновый кокон.
Наши попытки найти в посёлке паутину тоже безуспешны, хотя этим делом и занимался большой отряд пионеров. Они добросовестно обшарили нежилые помещения, чердаки, каждый у себя дома просмотрел все закоулки. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками.
В тот же день, как бы в подтверждение срочности дела, мы получили письмо от проектной организации с напоминанием о том, что материал должен быть сдан нами вовремя.
Поздно вечером пришёл я домой.
Только разделся, как раздался стук в дверь.
— Заходите!
Дверь тихо скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулась нога, обутая в унт. Затем я увидел двух косачей, заткнутых за пояс головами, и сразу догадался: пришёл Пашка.
— Проходи, чего остановился!
— За гвоздь, однако, зацепился, — послышался за стеной ломкий мальчишеский голос, но сам Пашка не показывается, а лишь трясёт косачами — явно дразнит.
Я хотел было втащить его, но парень, опередив меня, уже стоял на пороге в позе гордого охотника: дескать, взгляни, на что я способен, неужто не позавидуешь?!
— Где же это тебя угораздило, да ещё двух? — сказал я, с напускной завистью рассматривая птиц.
Пашка доволен, улыбается во весь рот. Стащив с головы ушанку, растирает ею грязный пот на лице.
— Из дедушкиной шомполки стрелял. Там же, по Ясненскому, где коз гоняли. Поедете? Страсть как играют! Иной такие фигуры выписывать начнёт! — И, склонив набок голову, растопырив руки, он задёргал плечами, пытаясь изобразить разыгравшегося на току косача. — Как зачуфыкают да закурлыкают, аж дух замирает. Другие обзарятся — по-кошачьему кричат… Эх, и хорошо сейчас в тайге!
— Не соблазняй. Дела, Пашка, не пускают. Не до косачей.
Парнишка помрачнел. Неловко переступая с ноги на ногу, он выдернул из-за пояса косачей и равнодушно бросил их к порогу.
— Ещё и не здоровался, а уж обиделся. Раздевайся, — предложил я ему.
— Значит, зря я вам скрадки налаживал на токах, — буркнул он, отворачивая голову. — Думал, поедете, заночевали бы у костра, похлёбку сварили из косача. Ну и вкусна же!
В кухне зашумел самовар, и Акимовна загремела посудой.
— Пить охота, — сказал Пашка. — Я только нынче со своей кружкой пришёл. У вас чашечки маленькие, из них не напьёшься.
Он достал из кармана эмалированную кружку и уселся за стол.
— Ты где пропадал, Пашка, все эти дни?
— Каждый день после школы бегал в Медвежий лог на смолокурку, помогал дедушке. Мы с ним пни корчевали, а бабушка их на Кудряшке возила. Позавчера только управились. Школу кончу и будем смолу гнать: дедушке одному не управиться.
— Когда же ты уроки учил?
— Вечерами да рано утром, до школы… Я хочу у вас что-то спросить… Только дедушке не сказывайте, рассердится, а мне обижать его неохота. Можно мне в экспедицию поступить работать? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я в тайге не хуже большого — любую птицу поймаю. А рыбу — на обманку, за моё почтенье! Петли на зайцев умею ставить. В прошлое воскресенье водил в тайгу городских ребят. Смешно: они, как телята, след глухариный с беличьим путают, ель от пихты отличить не могут. А я даже на днях дедушку пикулькой подманил вместо рябчика, Ох, уж он обиделся! Говорит: «Ежели ты, Пашка, кому-нибудь об этом расскажешь, портки спущу и по-настоящему высеку!»
— Ну, это уж привираешь… Как же ты мог дедушку-таёжника обмануть? — вызываю его на откровенность.
— Вам расскажу, только чтоб дедушке ни слова, — сказал он серьёзно, подвигаясь ко мне и опасливо косясь на дверь. — Вчера прибежал ночевать в зимовье к дедушке, да запоздал. Ушёл он в лес, косачей караулить. Ну, и я туда же, его следом. Места знакомые. Подхожу к перелеску, где ток косачиный, и думаю: дай-ка подшучу над дедушкой. Подкрался незаметно к валежине, достал пикульку и пропел рябчиком, а сам выглядываю. Ухо у дедушки острое, далеко берёт. Вижу: он выползает из шалаша, шомполку в мою сторону налаживает, торопится, в рот свою пикульку засовывает и поёт: тии-ти-ти-тии. Я ему в ответ потихоньку: тии-ти-ти-тии… Он припал на снег, подкрадывается ко мне, а сам ружьё-то, ружьё толкает вперёд, глаза варежкой протирает, смотрит вверх. Это он на ветках рябчика ищет. Я опять: тии-ти-ти-тии. Метров на двадцать подполз он ко мне и вдруг ружьё приподнял да как бухнет по сучку. Я и рассмеялся. Вот уж он осерчал, с лица сменился; думал, выдерет. «Для этого, говорит, я тебя, негодник, учил пикать, чтобы ты деда обманывал?» И пошёл, и пошёл… Так что возьмите в экспедицию… — вдруг взмолился Пашка, меняя тон.
— Хорошо, что ты любишь природу, но, чтобы стать путешественником, нужно учиться и учиться. А у тебя с математикой нелады…
У Пашки сразу на лбу выступил пот. Парень отвернулся и торопливо допил чай.
— Что же ты молчишь? Или неправда?
— Вчера с дедушкой вместе решали задачу насчёт автомашин с хлебом. Он говорит: «Умом я тут не соображу, мне нужно натурально, а пальцев-то на руках не хватает для счёта — машин много». Он спички разложил и гоняет их по столу взад-вперёд. Вспотел даже, разгорячился. Бабушка и говорит ему: «Ты бы, Гурьяныч, огурешного рассольцу хлебнул, может, легше будет, к автомашинам же ты непривыкший». Даже богу стала молиться, чтобы задача у нас с дедушкой сошлась.
— Ну что же, решил он?
— Нет, умаялся, да так за столом и уснул. А бабушка поутру баню истопила, говорит: «Ещё, чего доброго, от твоих задач дед захворает, всю ночь бредил машинами».
— Это уж ты выдумываешь.
— Не верите? — И Пашка рассмеялся.
— А сам-то ты решил?
— Решил… Только неверно…
— Слушай, Пашка, ты сегодня не ходил с отрядом пионеров паутину искать?
— Нет. А зачем она вам?
Я подробно объяснил Пашке, в чём дело.
— Надо искать в тайге, там уж наверняка крестовик живёт. Надежда на тебя, выручай!
— А какой он, крестовик?
— У него по спине две тёмных полосы, напоминающие крест.
— А если я паука не найду, тогда совсем приостановится работа? — вдруг спросил он.
— Да, работы остановятся, но до этого допускать нельзя, — ответил я. — Так уж ты не подводи меня, постарайся…
Пашка вдруг весь загорелся, точно обожгла его какая-то мысль. Он вскочил, схватил шапку и, застёгивая на ходу телогрейку, выбежал во двор.
— Косачей, косачей возьми!
— Я к дедушке побежал в зимовье, — крикнул он в окно и скрылся в сумраке… Прошёл в бесполезных поисках и следующий день, Не было надежды и на Пашку, Что делать?..
В штабе уже заканчивался рабочий день. Вдруг слышу, кто-то ломится в помещение, не обращая внимания на окрик вахтёра. Широко раскрывается дверь — на пороге кабинета появляется Гурьяныч с Пашкой. Оба раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, возбуждённые.
— Здравствуйте! К вам с удачей! — говорит старик и поворачивается к Пашке. — Выкладывай!
Пашка запускает обе руки в карманы телогрейки, достаёт спичечные коробки, а сам не сводит с меня сияющих глаз.
— Вот в этих коробочках по три кокона, — объявляет Гурьяныч.
— Куда столько!
— Это ещё не всё: принесли и живых крестовиков. — И Пашка достаёт из-за пазухи несколько коробок, перевязанных цветными лоскутками. — Все, как один, крупные. Вот этот — из дупла лиственницы, этот — из дровяника, этого поймал в остатке стога сена. Всех рассадил по разным коробкам, может, не одинаковая у них паутина.
— Молодец, Пашка, прямо скажу — не ожидал!
— Прыткий он у нас, на все руки! — И Гурьяныч, распахнув однорядку, присаживается в угол на пол.
Парнишка пристраивается рядом.
— Спасибо, Пашка, выручил. Паутины этой хватит на тысячу инструментов. Как рассчитываться будем с тобой?
Старик с душевной снисходительностью смотрит на внука, потом спрашивает с улыбкой:
— Разбогатеешь, чего покупать будешь?
— Ружьё, Ты же говорил, как деньги будут, непременно купим.
Старик не отвечает, поворачивается ко мне.
— С паутиной что собираетесь делать, да и с пауками?
— Пауков выпустим, а паутину надо срочно доставить в тайгу.
— Это куда же?
— На Усмунский хребет.
— Не бывал там. Видать, далеко… Как же вы её туда доставите?
— Будем искать проводника.
— Туда проводника в посёлке не найти. Километров за сто я хаживал, не дальше, а другие и того меньше. Нет ли у вас карты — взглянуть, где он. Усмун, какие там речки?.. Может, советом помогу. — И старик встаёт, подходит к столу.
Пашка точно прилип к нему, вижу, у него созрел какой-то план.
Я разворачиваю перед Гурьянычем фотосхему местности, показываю расположение на ней посёлка и линию хребта. Старик достаёт из внутреннего кармана очки, внимательно смотрит сквозь стёкла на схему, водит по ней загрубевшим пальцем. Обращается к внуку:
— Кака это речка, читай!
— Порожная.
— Так-так… А эта как зовётся?
— Кедровый ключ.
— Знаю, левый приток Порожной. Бывал там, но давненько.
— Скажите, Гурьяныч, как легче добраться до Кедрового ключа?
— Упаси бог, не посылайте людей речкой, не пройдут — скалы, завалы, прижимы. Надо напрямик резать тайгою, через озёра, а дальше звериной тропою через отрог и угодишь в вершину Кедрового.
— Дедушка, — вдруг обрывает его Пашка. — Кроме тебя, туда никто не проведёт, берись проводником, и я с тобою.
— Ты с ума спятил, что придумал! Будь мне пятьдесят, слова не сказал бы, а теперь какой из меня проводник.
— Гурьяныч, а ведь Пашка дельное предлагает. Возьмитесь доставить паутину на Усмун. До Кедрового ключа места знакомые, а дальше по карте пойдёте, тропою геодезистов. Тайга вас не подведёт.
— Нет, нет, не уговаривайте. На себя теперь не надеюсь: ноги в коленках слабые и память может обмануть, не туда заведу, а дело требует срочности. Да и по новым местам мне уже не ходить.
— А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до Кедрового ключа, вы подойдёте отсюда и передадите ему паутину? Соглашайтесь. Вы не представляете, Гурьяныч, из какой беды выручите нас.
— Дедушка, берись, и я с тобою пойду, — умоляет его Пашка.
Гурьяныч задумывается. Он, видимо, вспоминает этот далёкий и трудный путь сквозь тайгу, по болотам, по кочковатым марям. Что-то серьёзно пугает старика, туманится его лицо. Но вот он трясёт головою, как бы отгоняя от себя какие-то мысли, говорит, волнуясь:
— Толкаете вы меня оба на великий грех. Я не должен браться за такое срочное дело. Но уж коль некому — пойду. Только до Кедрового ключа, не дальше. А насчёт тебя, Пашка, с бабушкой посоветуемся, как она.
— С тобою пустит. — И парнишка от неожиданной радости, кажется, готов плясать.
— Вот и договорились, Гурьяныч! Пойдёте не один — дадим человека, может, Василий Николаевич согласится. И завтра — в путь.
Гурьяныч ушёл озабоченный. Конечно, шестьдесят лет — это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счёл возможным для себя отказать нам.
Макарова обрадовалась моему сообщению относительно паутины. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника-эвенка на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних истоков ключа там, где Макарова стояла лагерем три недели назад.
Но оказалось, что Василий Николаевич не может идти С Гурьянычем — загрипповал. В штабе не нашлось подходящей кандидатуры, опытные парни были в тайге, на работе, и я решил сам идти со стариком. Дело серьёзное, и тут не должно быть никаких ошибок. К тому же я не мог отказать себе в таком маршруте по тайге, да ещё с таким таёжником, как Гурьяныч.
Поздно возвращаюсь из штаба. Горы, точно чудовища, стоят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них, с востока, неслышно крадётся прозрачная майская ночь с тусклыми, как бы подёрнутыми дымкой звёздами. Странной, загадочной кажется тишина уснувшего посёлка.
На порожке моей квартиры сидит Пашка. Замёрз, дрожит, как бесприютная собачонка на холоде, но не уходит.
— Я к вам, — обрадованно встречает он меня. — Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с обеда идти.
— Кто это «мы»?
— Я и дедушка.
— А бабушка тебя отпускает?
— Отпускает. Мы и Кудряшку берём с собой… Вы бы отпросили меня в школе, скажите, что без меня работа сорвётся.
— Уж как-нибудь я найду, что сказать. Но, если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят.
Пашка вдруг вскакивает, хватает мою руку и, вскинув в небо голову, замирает…
— Не слышите? — спрашивает он таинственным шёпотом — Гуси!.. С места мне не сойти, гуси!.. Снимите шапку.
Из бездонной тьмы падает на землю усталый гусиный шёпот. Он точно ножом полоснул по сердцу. Впервые я слышу его в эту весну. В нём вольность посильнее ветра, радость возвращения, сладость жизни.
— Эх, с ними бы, а?! — горестно вздыхает парнишка.
Где-то высоко в звёздах глохнут взбудоражившие нас звуки. Пашка тоже не отрывает глаз от тёмного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нём ещё никогда не испытанное желание лететь с птицами в неведомые страны, и он, может быть, понял, что это новое чувство пленило всего его и что теперь уж ни за что не освободиться от мечты побывать в неведомых странах.
— Пошли в комнату, — говорю я, открывая дверь и пропуская мальчишку вперёд.
В комнате жарко. Пашка отказывается раздеться, говорит, на минутку забежал. Сидит хмурый, сдвинув брови.
— Чего, Пашка, молчишь? — спрашиваю я.
— Неохота бабушку и дедушку обижать, а то бы махнул следом за гусями.
— Куда?
Он молчит.
— Подожди, пусть оперятся у тебя крылышки.
— То-то и беда! — серьёзно соглашается парнишка. — Вот ружьё бы, тогда можно и подождать.
— О ружье потом. Бабушка, видно, права: ты слишком увлекаешься охотой.
— Какая там охота — вместо собачонки бегаю. Самому же пальнуть дедушка часто не даёт; говорит, ружьё наше вот-вот должно разорвать — ненадёжное. А насчёт охоты я не хуже других.
— Охотником, Пашка, назовёшься, когда будешь разбираться в следах зверей и птиц, будешь знать их повадки. Ты должен научиться сшибать на бегу козла, снимать летящую птицу. Не достигнешь этого — нечего тебе делать в тайге с ружьём.
— Что вы, что вы! Да я в тайге любую пташку назову — дедушка мне всё объясняет, а козла на бегу или птицу влёт сшибу, ей-богу, сшибу.
— Ну, насчёт козла это ты…
— Не верите?!
— Нет. А вот относительно ружья не знаю, что с тобой делать.
Его будто оса ужалила. — Дадите?! — вскрикнул он, весь загораясь.
— На эти дни, может быть, и дам.
Пашка вскакивает, хватает со стула свою шапку и мигом исчезает за дверью, точно боясь, что я могу раздумать. Потом он громко барабанит в ставню:
— Спокойной ночи, я к дедушке в Медвежий лог побегу сказать насчёт ружья!
— Ты с ума сошёл — ночью! Не смей!
В ответ хлопает калитка, и на тихой улице смолкают торопливые шаги Пашки.
«С чего это я ружьё пообещал? Не наделал бы глупостей!» — запоздало думаю я. Но, видно, этот вопрос для меня давно решён.
— Что это парнишка зачастил к вам? — спрашивает Акимовна, заглянув в комнату. — Заметили, глаза у него шустрые, так и нижут, так и шарят…
— Это же Копейкин, Акимовна!
— Копейкин?.. — удивилась она. — То-то, я вижу, конопатый, не с нашей улицы. У нас или рыжие, или чёрные, а таких нет. Спрашивала у соседки про Копейкина, та сказывала: в задах на квартире живёт. Настоящая фамилия его Рублёв, а это уж ребята прилепили ему — Копейкин. Мальчишка ничего, палец в рот не клади…
— Бойкий и смышлёный, — перебил я её.
— Ну уж и бойкий! Сидит, носом шмыгает.
— Это у него, Акимовна, возрастное.
— Ну, разве что… — примирилась старушка.
Глава 6 БОЛЬ СТАРОГО ТАЁЖНИКА
Утром я, как обычно, проснулся рано. Выхожу во двор. Ещё темно. Спит посёлок, окутанный чёрным мраком. Над ним безмолвной тундрой стелется небо с далёкими звёздами. Морозный воздух сух и звонок — верная примета: к вёдру.
Слышу на улице хруст настывшего за ночь ледка под чьими-то торопливыми шагами. Из трубы соседского дома, словно сигнал, взвивается дым, и тотчас же на востоке в полоске появившегося света возникают крутые отроги.
Радостно шепчу:
— Утро, утро!
А шаги на улице всё ближе и неожиданно обрываются у нашей калитки. Слышу заговорщический шёпот. Кто бы это йог быть так рано? Стою жду. Чья-то рука осторожно касается щеколды, но калитка заперта изнутри.
— Кто там? — кричу.
Тишина.
Подхожу к калитке, открываю:
— Гурьяныч?..
— С добрым утром. — Старик неловко протискивается в калитку. — Мы насчёт вчерашнего разговора. Не раздумали?
— Что вы, Гурьяныч, конечно, пойдём. Сразу же после двенадцати отправимся. У меня всё готово.
— Я вовремя буду тут. А как насчёт Пашки? Из-за спины Гурьяныча высовывается улыбающаяся физиономия.
— Это уж ваше дело.
— Оно, конечно, ну, а вы как?
— Я, Гурьяныч, схожу в школу. Если он подтянулся, отпрошу его.
— Точно, — подтверждает старик. — А как пойдёт, за кашевара или самостоятельно?
— Обещал я ему ружьё.
— Ну и как же, достали?
— «Ижевку» одноствольную дам.
Пашка встрепенулся.
— Пойдём, дедушка, слышишь, пойдём, дядя сказал: «Дам», — значит, даст.
И он утащил старика в предутренний сумрак ещё спящего посёлка.
Утром я зашёл в школу. Была первая перемена, В учительской меня встретила Мария Елизаровна, руководительница 6-го класса, где учился Пашка. Стоило мне назвать его имя, как на лице учительницы сразу вспыхнуло беспокойство. Но узнав, что я пришёл осведомиться о делах парнишки, она успокоилась.
— Я думала — не случилось ли что с ним. Очень боюсь за него. В нём столько энергии, вечно он что-то придумывает, куда-то спешит.
— А учится как? — спросил я её.
— Пашка способный мальчик, может учиться на отлично, но срывается.
— Он говорит, что по математике не успевает, решать задачи ему помогает дедушка.
— При желании он и сам справляется с математикой. А насчёт дедушки — это его фантазия. Мы знаем другое: когда в нём зреют какие-то таёжные замыслы — учёба отодвигается на второй план и тогда неизбежны провалы.
— Я хочу отпросить его на неделю с собой в тайгу, С нами пойдёт и его дедушка. Как вы на это смотрите?
— Нельзя ли обойтись без него?
— Конечно, можно. Какой из Пашки ещё помощник, но дело в том, что мы с Гурьянычем допустили оплошность, посвятили его в свои планы, и теперь он захвачен ими. Признаться, мы боимся, если уйдём без него — он сбежит самовольно. Как бы хуже не получилось, Заблудится!..
— Зря, конечно, вы посвятили его в свои дела. Но если он уже настроился, знаю, его не удержать. Вы поставьте всё же перед ним непременное условие — нагнать пропущенное, и пусть дедушка зайдёт ко мне, как только вернётесь. — И, подумав, добавила: — Я отпускаю его ещё и потому, что для ребят такие прогулки и общение с природой очень полезны. Прошлый раз Пашка ездил с дедушкой ловить маралов. Мы попросили его рассказать одноклассникам об этой необычной охоте. И знаете, он очень хорошо справился, было интересно слушать даже нам, педагогам. И Пашка как-то повзрослел после этой поездки в тайгу.
— Значит, благословляете?
— Пусть идёт, но, повторяю, при условии, если он ликвидирует пробел в учёбе и вы проследите за этим.
Я поблагодарил учительницу.
Во втором часу мы уже шествовали по улице в полном походном облачении. Какими лёгкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых изб, от назойливых звуков! На душе простор, свобода, В эти минуты ты добрейший человек в мире.
Наш караван представляет странное зрелище. Впереди Гурьяныч в суконной однорядке, туго перехваченной кушаком, в лёгких юфтовых ичигах. Он успел утром сбегать в баню, посвежел, как дуб, сполоснутый первым весенним дождиком. Тяжёлыми шагами старик приминает отогревшуюся землю. В его фигуре, в каждом движении — опыт прожитых лет, и так же, как и у меня, желание скорее попасть в тайгу, насладиться весенним буйством природы.
За ним, безнадёжно понурив голову, бережными шагами идёт Кудряшка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объёмистые кожаные сумы с продуктами, какие-то свёртки, котёл, чайник, мешок с овсом, топор, палатка — всё это лежит на ней копною, перевязанное верёвкой. Нижняя губа лошади отвисла, уши врозь, спина под тяжестью вьюка прогнулась, ноги в коленках плохо сгибаются: видно, Кудряшка действительно «на исходе».
Следом шагает Пашка. У него за плечами поблёскивает длинным стволом «ижевка». Телогрейку перехватывает тяжёлый патронташ, наполненный заряженными патронами. Идёт он ровным, воинственным шагом. В его фигуре стремительность сапсана. Позади него бежит на ремешке Жулик. После случая с собачником хозяйка охотно отдала его Пашке в тайгу. Собачонка то забегает вперёд и, повернув голову, сверлит Пашку любопытными глазами, пытаясь угадать, куда её ведут, то вдруг на её морде появляется растерянность, она отстаёт, прячет свой не ахти какой хвост глубоко между ног, тянется на поводке, пытаясь вырваться.
Пашку провожают завистливыми глазами мальчишки: рыжие, чёрные и веснушчатые. Он понимает, какая важная роль досталась ему, — идёт бодро, будто направляется в Африку за львами. И Кудряшка в эти минуты, вероятно, кажется парнишке слоном, прокладывающим путь в джунглях.
Вижу, один малец отрывается от толпы, быстро нагоняет Пашку, поворачивает к нему свою морденку, измазанную брусничным соком, не может оторвать глаз от «ижевки».
— Вот это да-а!.. Правдашняя? — поражается он.
Пашка выпрямляется, не чувствует земли, шагает широко.
— Смотри, Копейкин, как бы штаны не лопнули! — иронически замечает малыш, но с лица его не сходит зависть.
Пот ручьями заливает лицо Пашки, слепит глаза, копится солёной влагой на губах, но он крепится, ни единым жестом не выдаёт, что ему тяжело, идёт геройски, как в строю. И только когда свернули в переулок и исчезла с глаз подавленная завистью неподвижная ватага ребят, он стащил с головы лисью шапку и с облегчением стал вытирать ею лицо.
Драгоценный груз — паутиновый кокон — я несу в боковом кармане.
За посёлком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах, почернела: по ней потекла зелёной щетиной свежая майская травка. Тяжело переваливаясь с боку на бок, ходят по грязной дороге грачи. Стайка мелких птиц молча, торопливо проносится мимо нас, и хочется крикнуть ей: «Счастливого пути!»
У речушки нас встречает весёлый хоровод берёз, умытых тёплыми дождями. Рядом благоухает багульник, выбросивший свои ярко-зелёные липкие листочки. А ниже, у крутого берега и по буграм на солнцепёке, — подснежники, первые дары весны.
Дорога, пробежав ветхий мостик, раздвоилась.
Гурьяныч остановился, дождался меня.
— Нам влево, — сказал он, показывая на северо-восток, — С краю хорошо пойдём, дальше — чаща, местами бурелом. А за ним озёра. На них и заночуем. Сейчас на озёрах пролётная птица — утка, гусь, можно за моё почтенье побаловаться охотой.
Подходим к лесу. Гурьяныч задерживается и, склонив перед ним голову, ласково говорит:
— Прими нас, матушка тайга, мы к тебе с поклоном, — и входит в лес.
Меня всегда тянет в тёмные дебри тайги, в сумрачную синеву, где в вековом покое только ровный шум столетних сосен. Как это с годами становится всё ближе, всё ценнее!
Гурьяныч неожиданно замедляет шаг. Выпрямляется. Расстёгивает на груди однорядку. Тоже, видно, не может надышаться свежестью леса.
— Дух-то хмельной, того и гляди, с ног сшибёт. Пашка! — кричит он, не оглядываясь. — Рассупонь грудь, дыши во все меха — набирайся сил!
Пашке не до этого. Он весь мокрый, как дикий неезженный конь, взнузданный табунщиком.
Гурьяныч, несмотря на свои годы, оказался хорошим ходоком. В нём достаточно и проворства и поспешности. Он лёгок в движениях, шаги его тверды, уверенны. Голову Гурьяныч держит слегка откинутой назад. С таким человеком хорошо ходить по лесной тропе, и если свернёшь в сторону и отстанешь, сразу почувствуешь его опыт, его преимущество.
У широкой прогалины дорога теряется. Гурьяныч останавливается, привязывает повод к седлу и ласково смотрит в потускневшие глаза Кудряшки.
— Иди сама, тропу знаешь. — И тут же поясняет мне: — У лошадей память дай бог, как у зверя, где раз-два пройдёт — запомнит до смерти.
Он подтыкает за пояс полы однорядки, расправляет окладистую бороду и шагает дальше.
— Надо поспешать, захватить утку на вечернем перелёте. Ты, Пашка, не отставай.
Идём дремучим лесом. Под ногами еле заметный пунктир забытой, давно не хоженной тропки.
Кудряшка плетётся следом.
Куда ни посмотришь — колонны великолепных лиственниц, подпирающих свод из сквозных крон. Они спокойно, как пророки, следят за нами с высоты. Только иногда мелькнёт берёзка, или мрачной тенью встанет перед тобою ель. Тут всё таинственно, непостижимо, а ты шагаешь всё дальше и дальше в сумрак, не чувствуя ног, оглушённый черёмуховым духом. И не можешь понять, отчего в лесу так легко, отчего и шаги, и шелест прошлогодней травы, и пугливый взлёт птиц кажутся музыкой? Так бы и шёл вечно…
Я родился и вырос в могучих кавказских лесах, у подножия ледниковых вершин. Там, ещё в детстве, под сводом чинар, у костра пробудилась дерзкая мечта познать неведомое, проникнуть в недоступное. Там впервые я услышал чудесную музыку живой природы. Её пели ночные грозы, снежные обвалы, гремящие реки, ветры, птицы, а осенью — олени… На всю жизнь врезалась она в память. С тех пор много раз я слышал эту музыку по сибирским лесам, и всегда вспоминались кавказские чинары и детство, беспечное, милое детство, не обманувшее меня своей мечтою. И сегодня в тайге та же музыка, только весенняя, первозданная, зовущая.
Неожиданно впереди в чаще зашуршало что-то, послышалось звонкое хлопанье крыльев — какая-то птица поднялась, вспугнутая нашими шагами.
Пашка мгновенно вскидывает ружьё.
— Рябок… — шепчет Гурьяныч и пронизывает внука грозным взглядом. — Я те дам… С зимы заприметил парочку тут в березняке, не тронул; пусть, думаю, плодятся: нынче негусто стало этой птицы.
А сам достаёт из кармана однорядки тоненькую металлическую трубку — пикульку, манит меня пальцем:
— Я сейчас подзову рябка, а ты полюбуйся: забавная птица. — И он начинает пикать.
Позади дребезжащим дискантом заржала Кудряшка.
Рябчик отзывается далеко, потом ближе, ближе, но без полёта, видимо, пешком идёт в нашу сторону. Я глаз не свожу с чащи, откуда доносится мелодичный посвист, и в то же время мне очень хочется взглянуть на Пашку, посмотреть, какое у него выражение лица. Быстро оборачиваюсь: парнишка бледный сидит на корточках, весь устремлённый вперёд, навстречу приближающемуся звуку.
Гурьяныч свистит всё тише, протяжнее, жалобнее. Рябчик более не выдерживает этого манящего призыва самки, громко взлетает, несётся по просветам к нам и вдруг бесследно исчезает с глаз.
— Вот он, вот… — шепчет взволнованно Гурьяныч и показывает пальцем на лиственничную заросль.
Нет, не вижу, досадую на себя.
— Левее глядите… в развилках шевелится, — подсказывает Пашка. — Ишь ты, как насторожился…
Весь напрягаюсь. Осматриваю каждую веточку, излом, развилки — не вижу.
Гурьяныч, прикрыв рот с пикулькой сложенными ладонями, свистнул ещё раз. Рябчик вспорхнул, сразу весь обозначился в воздухе, полетел на нас, но вдруг испуганно взвился, повернул в сторону, второпях задел ветку и, быстро-быстро работая крыльями, исчез в лесном сумраке.
— Ишь ты, баловник! — ласково бросает ему вслед Гурьяныч.
Пришла Кудряшка. Я поправил сбившийся набок вьюк, и мы тронулись дальше.
Впереди лес и лес — ни конца ни края. Тропка стала чаще исчезать. Гурьяныч ведёт нас по приметам, известным ему одному. Местами под ногами мягкий ковёр из влажного мха. Обходим одряхлевшие деревья, порушенные временем, пробираемся сквозь молодую хвойную поросль.
— Глянь, пёрышки рябка, — останавливается Гурьяныч. — Колонок порешил самочку, обжабиться бы ему, окаянному!.. Я-то зимою не тронул, думал расплодятся… — сокрушается старик.
— То-то, рябок давеча как свисту обрадовался, думал — она зовёт, прибежал, — добавляет Пашка.
За мокрой болотистой лощиной пошёл смешанный лес. Комелистые ели, великаны лиственницы, берёзы заполнили мир. Сквозь них, по просветам, бежал яркими полосами солнечный свет.
— Пашка! — кричит Гурьяныч, задерживаясь. — Глянь, на ёлке гайно, осенью его вроде не было, новое. Видать, белка тут зимовала. — И старик, не задерживаясь, перешагивает валежник и идёт дальше.
Ветерок доносит до слуха шум лесного ручейка.
— А вот и грибок на сучке, славно подсушенный с осени, — обращается ко мне старик, и голос его резко падает. — Видать, не попользовалась белка своей заготовкой — убили. Это Юдины тут промышляли, жадюги, не оставили на приплод, всё подчистую!.. А вот ещё грибок, и вон, на берёзке, — значит, убили.
— Дедушка, скоро дойдём? — спрашивает уставшим голосом Пашка.
— Поторопимся, так скоро, — отвечает старик.
Парнишка идёт без шапки, ружьё ненужным грузом болтается на правом плече, патронташ сполз на бедро. Но в глазах мальчишеский задор, да в воображении, наверное, немыслимые подвиги.
Сквозь густые кроны резными лоскутами голубеет небо. Изредка в лесной тиши промелькнёт вспугнутый нашим внезапным появлением бурундучок. Вскочив на пень или взобравшись на лесину, он испуганными глазёнками провожает нас. Иногда вспорхнёт стайка пролётных птиц, задержавшаяся покормиться, или где-то в стороне послышится внезапный треск. Мы своим присутствием нарушаем веками установленный ритм жизни леса.
— Кажись, сохатый кормился! — кричит сзади Пашка.
— Неужто я прошёл?.. — спохватывается Гурьяныч, возвращаясь к внуку. — Так и есть, не заметил сломки, — говорит он, показывая на тальник со свежесломанной и объеденной веткой. — Вот берёзку обглодал — на ходу, видать…
— Дедушка, он не один прошёл, — перебивает Пашка, тыча пальцем на отпечатки копыт.
Гурьяныч наклоняется к земле, не разгибаясь идёт по следу.
— Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот, острый, — след самки, а вот этот, тупой, — бычка. Запомни, не ошибёшься.
Мы вступаем в тёмный ельник. Как же он захламлён, как сыро и неприветливо в нём! Всюду на земле гниющие деревья, преграждающие нам путь, и полосы топей, замаскированных зелёным мхом. Гурьяныч ведёт нас напрямик, на шум ручья. Кудряшка плетётся следом…
Вот и ручей в просвете. Гудит мутный поток, как оглашенный несётся мимо. На повороте, споткнувшись о камень, он вдруг вздымается гейзером. Какой вольностью наградила его весна!
Мы переходим ручей по бревну, перекинутому с бережка на бережок. Гурьяныч спускается к воде, становится перед ней на колени. Гнёт спину в поклоне. Пригубляется, мочит бороду. Пьёт не спеша, с передышкой.
— Благословенная водичка! До чего же она хрусткая! — говорит он.
Мы с Пашкой тоже наклоняемся, припадаем к ручью, жадно пьём студёную воду и чувствуем, как она разливается по всему телу живительной влагой.
Проходим ещё метров двести. Гурьяныч вспоминает про Кудряшку.
— Чего-то нет её! Может, вьюк упал, — думает он вслух. Возвращаемся со стариком к ручью. Кудряшка передними ногами спустилась в воду да так и застыла в страхе, боясь, что не преодолеет потока.
— Оробела, на ноги не надеется, а бывало и сам, чтобы не мочить обутки, взберусь на вьюк, а она, голубушка, как ласточка перемахнёт, — рассказывает старик.
Он натягивает выше колен голенища ичигов, подбирает полы однорядки, спускается в воду. Поводок в руки не берёт, идёт вброд, опираясь на посох. Вода обдаёт его горой брызг. Кудряшка поднимает голову, безразличным взглядом окидывает старика и, не задумываясь, шагает за ним.
Лошадь осторожно нащупывает копытом место, куда ступить, так же, не торопясь, ставит вторую ногу и подаёт вперёд туловище. В следующем шаге передняя нога не находит опоры, и лошадь, заспотыкавшись, валится, сбивает старика.
— Ну ты, слепая, смотри под ноги! — беззлобно упрекает Гурьяныч Кудряшку.
И оба мокрые выбираются на берег. Мы помогаем Гурьянычу раздеться и отжать воду из одежды.
За ельником попадаем в непролазные дебри таёжных завалов. Гурьяныч достаёт топор и приказывает Пашке вести лошадь в поводу. Долго петляем, ищем проход, пробираемся узким коридором между колючих сухих и острых сучьев…
Затем опять нас окружают живые колонны стволов, чаща первобытной тайги.
Старик находит свои затёски, и они уводят нас в глубину сыролесья, в лесной покой, где только шелест деревьев и шёпот хвои.
Минут через пятнадцать тайга начинает редеть. Просторнее становится под её крышей, над встречают широкие просветы. За ними неожиданно лес обрывается стеною. Глазам открывается печальная картина: от хребтов до заболоченной равнины голая земля. Только пни, бесконечные пни, тысячи тысяч пней, и ни одной живой веточки.
Нас останавливает это чудовищное зрелище оголённой земли, контраст жизни и смерти. У Гурьяныча деревенеет лицо. Он мокрой полой однорядки протирает глаза и тяжело, точно внезапно схваченный недугом, опускается на сгнивший комель.
Я присаживаюсь рядом. Пашка мостится у ног старика. Долго молчим, потрясённые этим кладбищенским зрелищем.
Шальная тучка прикрыла солнце, и пейзаж стал ещё более мрачным. Стайка за стайкой проносятся мимо лесные птицы, спеша миновать безжизненное пространство. Налетевший ветерок качнул позади нас тёмные ели, прошумел по вершинам и как бы подчеркнул зловещую тишину мёртвого царства пней.
Гурьяныч стаскивает с седой головы шапку, бросает под ноги.
— Какая тайга была, — кондовая, не деревья, а свечи стояли. Зайдёшь, бывало, в ней — что в храме, а теперь, погляди, что стало: деревца живого не оставили, молодняк уничтожили, сучья, как водится после порубки, сразу не убрали. Осенью пришёл пожар — и всё подчистую… — Задержав дыхание, он показывает размочаленным концом посоха на трещину в земле. — Видишь, лопается после огня, от бесплодия старится. А что бы она дала, если бы её не оголили. Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землёй.
Пашка вскакивает, кладёт руку на его плечо, говорит просящим голосом:
— Дедушка, ты не расстраивайся, пойдём, уже поздно…
Гурьяныч не слышит его, смотрит на меня сердито, долго.
— Вековой кедрач тут стоял вместе с пихтой, неспроста его у нас материнским деревом зовут — кормилицей. И его под топор! А ведь законом запрещено рубить его. У всех на глазах беззаконие творят лесорубы… Ты говоришь, польза от сплошных вырубок наукой доказана? Вот оно како на месте, доказательство!
— Но ведь лес, Гурьяныч, вырубили для наших строек.
— Об этом я и болею. Дальше-то его побольше потребуется, а где возьмём, ежели так хозяйничать будем? О завтрашнем дне не думаем, В этом деле человек нужен с материнской заботой, с любовью к лесу, А ведь можем, разрази меня гром, можем с любовью… Вон за тем синим хребтом, — старик показал подожком на северо-восток, — делянка другого леспромхоза. Завтра увидишь… Там тоже сплошные вырубки, но делались по-хозяйски: кедрач не тронули, оставили по всей площади сосны-матки для обсеменения, сберегли больше половины молодняка, и сейчас любо посмотреть — что твоя рожь, поднимается хвойный лес. Там люди о будущих стройках думали, а этим главное — план, а после них хоть трава не расти!.. Стар я, а то бы всю свою боль привёл в ярость на этих пакостников.
— Конечно, надо было и тут оставить матки-деревья, на вырубках сохранить молодняк, сразу сделать посадку. Это упущение леспромхозов, что и говорить!
— «Упущение»!.. — передразнивает меня старик. — Скажи прямо —преступление! И наука в ответе. Она должна за всем следить, она перед народом в ответе, и особенно за кедрач. А сколько тут было зверя, птицы, ягод! Всё пропало! Остались только след, пух да пустое гнездо. Спохватимся — убей меня гром! — спохватимся, а время, — старик дунул на ладони, — улетит.
— Дедушка, не надо волноваться, опять сердце защемит.
— А ты, внучек, слушай и не перебивай. Это тебя больше всех касается. Тебе придётся долго наши прорехи латать, ответ держать перед землёю и за лес, и за всякую живность. Она спросит… Смотри вон и учись, как не надо делать.
— Опять Пашка виноват, — со всей серьёзностью перебивает его парнишка. — В роду считать не умели — я должен за всех арифметику учить; лес порубили — Пашка держи ответ…
— А кому же ещё? Ты — законный наследник, твоё всё это! Сызмальства приучайся беречь природу.
— Вина, Гурьяныч, большая и учёных, и всех нас. Но теперь, кажется, хватились. Нынче и говорят, и пишут об этом много. Скоро всё обернётся, станет на своё место.
— Говорят, а толк какой?! Уши всем заложило, оглохли.
— Дедушка, успокойся… Пойдёмте, уж скоро вечер. — Пашка берёт его за руку, помогает встать.
— Говорят, и к боли можно привыкнуть, нет — в могилу её унесу за лес, за зверя, — говорит старик на ходу.
Гурьяныч торопится, шагает широко, точно хочет поскорее избавиться от тяжёлых мыслей, навеянных исчезнувшим лесом.
— Глянь, осинник лезет, места захватывает, значит, не скоро хвойному лесу быть, а кедрачу после пожара совсем не расти тут. Упустили время, разбойники, не оставили молодняк, не посадили что надо… — говорит старик всё с той же болью и, не задерживаясь, шагает дальше.
Солнце висит над горизонтом, над белыми весенними облачками причудливых очертаний. От них веет покоем уходящего дня.
Наш путь идёт вкось по пустынному склону к равнине, исписанной замысловатыми узорами болот. За ними ельники, прорезанные узкими полосками озёр. А дальше синева леса, накинутая на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями лёгкий ветерок. Он сушит волосы, пробирается под телогрейку, приятно щекочет тело. В нём холод снегов, и шёпот курумов. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывёт молчаливый караван казарок.
У холма Гурьяныч останавливается, теребит узловатыми пальцами бороду, что-то вспоминает.
— Кажись, тут глухариный ток был, птицы слеталось тьма. Бывало, утрами как заведут тары-бары на всю округу… Ну да, тут был ток, вот и пёрышки свежие от глухаря. Видать, наведываются... А тут, глянь, крылом черкнул. — Потом он вдруг спохватывается, смотрит на низкое солнце. — Надо поспешать, а то и в самом деле перелёт не захватим... Есть, говоришь, Пашка, захотел? Там, на озёрах, пожуём…
— Ногу маленько растёр, дедушка, — жалуется тот.
— А ты перемотай пoртнкy, теперь скоро дойдём. Может, жирного селезня добудем — на ночь жирком намажу, — отвечает он на ходу.
Мы прибавляем шагу.
Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов, болотные птицы. Журавли расклинивают небесную синь. Над ними сдержанно плывут два беркута. Журавли начеку, отклоняются то вправо, то влево, но хищники не отстают — сторожат момент. Так, в напряжённом поединке, они и растворяются вдали.
Болота начинаются сразу, как только мы спускаемся к равнине. Гурьяныч ведёт нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаявшую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рытвины, залитые водою.
— Дьявол попутал, надо бы перелесками — там суше, — сокрушается старик, но не сворачивает, продолжает шлёпать по воде уставшими ногами.
У ельника обходим последнее болотце. Наконец-то!..
И вдруг потрясающий гул, беспорядочное хлопанье крыльев, гортанный крик! Мы останавливаемся. Кудряшка поднимает голову. Два старых беркута, вспугнутые нашим появлением, поднимаются в воздух, оставив на земле серый бесформенный холмик.
Мы подходим к нему. Добрые глаза Гурьяныча вспыхивают гневом.
— Сбили, окаянные! — Он угрожающе трясёт посохом в сторону удаляющихся хищников.
На твёрдой земле между кочек лежит растерзанный журавль: бесформенные куски мяса, сломанное крыло, перья…
Солнце у горизонта. Медлить нельзя. Торопимся вдоль опушки леса. Слева доносится журавлиный крик. В нём и тревога, и призыв, и какая-то безнадёжность — это самец отбился от стаи, ищет подругу. Он медленно ходит по болоту, высоко поднимает голову, слушает, зовёт…
Гурьяныч, не задерживаясь, сворачивает в лес, но вдруг останавливается, вытянув вперёд руку.
«Янг,.. янг... янг…» — где-то трубят лебеди. Ближе, яснее. И уже рядом звуки мешаются с плеском воды — стихают.
Стволы елей, корявый валежник преграждают путь, теснят нас вправо к чуть заметному просвету, но Гурьяныч, покряхтывая, лезет по-медвежьему напролом, выводит нас к охотничьему балагану. И тут, мы обнаруживаем, что Пашки с нами нет.
— Убег! Я ведь знал он, шельмец, убегет, надо было привязать.
— Куда же он убежал? — удивляюсь я. Гурьяныч машет в сторону озёр и, весь повернувшись ко мне, говорит:
— На озёра, конечно. Неспроста убег, чего-нибудь надумает. С ним ухо востро держи!
Подошла усталая Кудряшка. Пока развьючиваем её, Гурьяныч торопится рассказать мне какую-то историю.
— Ты послушай меня, — говорит он, развязывая верёвку. — В прошлую осень мы с ним тут вот из этого ельника вытыкаемся, а на той вон дальней мочажине медведь пасётся. Обрадовался. Думаю: давно я с тобой не баловался. Ружжо с сошками выдёргиваю из вьюка, а он, внучек, увидел медведя и к нему. Другой бы оробел. Поймал я его, достал сыромятный ремень, одним концом перевил ему шею, другим приторочил, голубчика, повыше к ёлке, иначе не дал бы стрелять. Крадусь это я к мочажине. Зверь ничего не знает, кормится на троелисте. Подкрадываюсь я к нему незаметно, уж и стрелять можно. А он, криволапый, вздыбился, весь насторожился, бельмы свои пялит куда-то правее меня. Ну, думаю, сейчас я тебя начиню свинцом, — и пальнул. Зверь вгорячах махнул через болото, но не перебежал, упал в воду. Гляжу — справа Пашка. Никак из земли вырос?! Не чёрт ли, думаю, надо мной потешается? Протёр глаза. Ан нет, вижу, петля на шее у него болтается, значит, перегрыз ремень. Окликнуть хотел, а он в чём был возьми да и завались в болото, налёг на медведя. Зверь уж мёртвый, но ещё лапами водит, пасть оскалил, а Пашка схватил его за зад, тащит по воде к берегу, что телка, не боится. Жаль, внука нет, а то бы он подтвердил. Так что его тут и соструненным не удержишь. А что надумал — не отступится… Боюсь, обведёт он нынче нас с тобою. Даром, что мал. А уж обстрелять ему ништо. Волю не надо давать.
— Да что вы, Гурьяныч, как это — обстреляет, какой из него ещё охотник?!
— Обстреляет и глазом не моргнёт. Он теперь с ружьём хоть куда пролезет. Я-то знаю, ловок, чертёнок! — не без гордости за внука закончил он и, немного подумав, продолжал: — Возраст у него в самый раз, всё хочет знать, всё на себе испытать, всюду быть первым, а часто не туда гнёт линию. Но повзрослеет — поймёт, что к чему, рассудит, деда не подведёт. Ни-ни, это я знаю.
— Вы правы, Гурьяныч, он же мальчишка. Сами были такими. Потом всё уляжется в нём, и ваши заветы станут для него законом.
— Этого я и добиваюсь… А вам бы поторопиться, ишь как завечерело.
— Вы разве не пойдёте на озеро?
— Не-ет, балаган поправлю, иначе холодно спать будет, дровишек припасу, ночь тут на озёрах завсегда длинная. А ты всё вот этой обмежкой, по ельничку, обойдёшь первое озерко, оно не кормистое, птицы на нём не бывает, дальше увидишь Горловое — озеро узкое, серпом изогнулось, далеко ушло. Там и садись. Да не мешкай, не прохлаждайся; слышишь, птица ревёт — дело к ночи.
— Иду, иду…
— А что Пашка обстреляет нас, не беспокойтесь.
Глава 7 ПТИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Лёгкой вечерней тишиною дышат озёра. Крики и драки водоплавающих птиц не нарушают, а как бы сгущают этот покой весеннего дня. Великим покоем веет даже от хищников, озирающих с высоты пространство озёр.
Миную мелкое болото — благодатный приют голенастых. Тороплюсь выйти за ельник.
Как быстро гаснет небо, рушатся в облаках огненные скалы, тухнет в пропастях закат, и чернота накрывает притомившийся под закатом лес.
В ельнике обитают пучеглазые совы. Ждут ночь, а пока что восседают на сучьях, на пнях, рассматривают меня жёлтыми огромными глазами.
Впереди видна мутная сталь воды. Это — Горловое. Посередине зелёный троелистовый островок. Всюду ржавая ветошь осоки, грязные отмели, истоптанные куличками, да дерущиеся в воздухе селезни. Вижу, слева старенький охотничий скрадок. Беззвучными шагами пробираюсь к нему.
Вдруг воздух потрясает тревожный голос крякового.
— Фу, ты, дьявол, прозевал! — с укором бросаю ему вслед.
Быстро подновляю скрадок, прячусь в нём от зорких глаз пугливых табунов.
Из-за озера, из тёмных еловых перелесков, выплывают орлы. Они выкраиваются грозными силуэтами на фоне закатного солнца. Испуганный их внезапным появлением, замирает весь пернатый мир. Прекращают драку селезни. Стаи уток кучатся, прижимаются к травянистым берегам. Смолкает лебединая перекличка. Всё стихает под распластанными крыльями хищников.
Орлы дозором облетают озёра. В их полёте, в размахе крыльев, в величавом спокойствии — могущество пернатых царей.
Они, сужая круг, спиралью уходят выше и выше. Что вынесло их в поднебесье? Тесна, неуютна для них тайга в весенние вечера. Они оставляют далеко под собою леса и озёра, суетливый мир, ищут в глубине синевы простор и свободу. И я завидую их силе, их высоте.
Солнце уже за горизонтом. Темнеют ельники. Болота покрываются прозрачным багрянцем.
Неожиданный выстрел вырывает меня из раздумья.
Проходит долгая минута молчания. И вдруг доносится далёкий гусиный шёпот.
Это Пашка, ей-богу, он пальнул.
Шёпот переходит в крик, его несут птицы на быстрых крыльях к Горловому. Я это больше чувствую, нежели слышу.
«Скорее, скорее!..» — поторапливаю я птиц.
А крик рядом. От напряжения у меня обрывается дыхание. Из-за елей в полосу светлого неба вырываются беспорядочным табуном гуси. Несутся очертя голову серыми, огромными лоскутами на меня, обжигая криком слух и сладко будоража предчувствием удачи.
«Спокойнее, спокойнее! Пусть подлетят…»
Вскидываю ружьё. Гуси сразу обнаруживают опасность. На какое-то мгновение виснут неподвижно в воздухе, вывернув на ребро крылья, и почти вертикально берут высоту. Небо точно застыло надо мною в немом ожидании. Секунды бесконечны. Сажаю на мушку крупного гуся. Тяну гашетку. Тугой выстрел раскалывает тишину сумрака. Подбитая птица турманом падает в воду.
Табун вздрогнул, скучился. С ураганной быстротой понеслись птицы от опасности, от огненного взрыва, даже не окликнув упавшего товарища.
Следом за гусями, тоже с молчаливым протестом, улетели в ночь три пары белоснежных лебедей, напуганных выстрелами. В их медлительном полёте, в мерном взмахе крыльев, в этой девственной белизне — непримиримый укор человеку.
С Пашкиной стороны ещё доносятся выстрелы. Первым не выдерживает напряжённый чибис. На высокой ноте он посылает свою жалобу миру. С невероятной быстротою уносятся в мутное пространство стаи уток.
Я выбираюсь из скрадка, иду к берегу.
На воде серым комом маячит сбитый гусь. Услышав мои шаги, он трудно выпрямляет непослушную ему теперь шею. Дико смотрит на меня, торопится к зелёному островку посредине Горлового. Долго взбирается на него и уже не оглядывается — равнодушен к опасности.
Я стою у кромки озера с опущенным ружьём. Вижу, гусь топчется на жёстком троелисте, как видно, хочет поудобнее устроить свою последнюю сидку на этой беспокойной земле. Потом вдруг вытягивает шею, прислушивается, кричит в потемневшее небо ещё и ещё и, падая, роняет красноклювую голову на спину. Стихает прощальный шелест троелиста. И только теперь с непростительным опозданием с высокого неба падает на остров ответный крик, но он, кажется, уже не задевает слуха убитого гуся.
Его подруга носится над озером. Вытянув шею, она всматривается в потемневшую гладь воды, всё зовёт и зовёт…
Вдруг справа раздаётся свист. Живо поворачиваюсь, приседаю. Из-за кривуна наплывает знакомый чирочий разговор, и я снова во власти охотничьего азарта.
Стая летит высоко над водою. Вот она уже рядом. Стреляю. Мгновенный свет на какую-то долю секунды выхватывает из темноты рыжие космы осоки, опустевшую отмель.
Чирок тяжёлым комочком падает у моих ног. Я не кричу в экстазе «есть!», не восторгаюсь удачей — минутный порыв охотничьей страсти с выстрелом гаснет, как выключенный свет.
Поднимаю убитого селезня. Чирок в брачном наряде. Какое сочетание красок! Какие нежные переходы от одного цвета к другому. И всё в меру, скупо, расчётливо. Вот уж поистине великая созидательница природа.
— Дядя, дождитесь меня! — доносится голос Пашки.
Я слышу, как он вдалеке торопливо шлёпает по болоту.
У меня ещё забота — достать гуся. Озеро глубокое, только вплавь можно добраться до островка. Но вода ледяная. Что же делать. Не бросать же его на съедение хищникам? Решаю дождаться Пашку. Он ведь, как говорит дедушка, на всё горазд: может, и сейчас что-нибудь придумает, посмотрим.
Увял багровый румянец зари. Сразу похолодало. Лёгкие, как дым, седые клочья тумана протянулись над потной равниной, окутывая болота и озёра сизоватым покровом. За Горловым, над тёмными восточными хребтами, радостно блеснула первая звёздочка. Где-то за лесом упал токующий бекас, оставив в воздухе дребезжащий звук.
Стою жду.
На озёрах тягостная тишина, мёртвая, долгая. Всё улетело, убежало, затаилось в страхе, посеянном выстрелами! Хотя бы кулик крикнул!
— Ты что-то, Пашка, долго идёшь. Тяжело несёшь, что ли? — спрашиваю я и быстрым взглядом окидываю фигуру парнишки. — Стрелял вроде много, а где же утки?
— Пустой, близко не подпускают, а далеко я не могу выцелить. Зря патроны извёл…
— Плохи твои дела! — сочувственно говорю ему.
— А вы убили? — Пашка начинает обыскивать меня острым, испытующим взглядом.
Заметив чирка, он всплёскивает от удивления руками, приседает перед ним на корточки, обращается к Жулику:
— Глянь, кака крупна утка!
— Это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились… — говорю я. — Впрочем, у тебя и такой нет.
— Ружьё-то фальшивит, видать, не туда дробь бросает, или легкоранное: бью, бью — ни пуха, ни пера!
Пашка поднимается, и тут я замечаю какой-то подвох на его хитрющей физиономии. «Неужели обманул?!» — обжигает меня мысль Так и есть! Вижу, сзади, между широко расставленных ног, свисает до земли пара гусиных лап.
— А ну повернись!
— Гусёнок так себе, маленький, на похлёбку.
Пашка стоит невозмутимый, но выдают глаза. В них — торжество. Парнишка не спеша запускает правую руку под ватник, долго отвязывает от пояса птицу, перекинутую длинной шеей через левое плечо, поворачивается ко мне спиною, и из-под телогрейки вываливается на землю огромный гусь-гумённик.
— Вот это да!.. — вырывается у меня искренне. — Где же это тебе дурница попалась?
— Из табуна влёт выбил! — не без бахвальства говорит он.
— Так уж и влёт!..
Пашка делает вид, что не слышит моих слов, берёт чирка, кладёт рядом с гусем. В сравнении с гумёнником он кажется крошечным, жалким трофеем.
— Из двух птиц похлёбка будет куда с добром!
— Если не хватит, у меня ещё гусь есть.
Этого Пашка никак не ожидал. Он испытующе смотрит на меня — не верит.
— Да, да, гусь и, пожалуй, покрупнее твоего. Так что ты не очень-то задирай нос.
— А где он?
— Пока на острове. Видишь серый ком?
— Ах, на острове… — Парнишке как будто сразу полегчало. — Его ещё надо достать, тогда считать гусем.
— А ты помоги.
Пашка деловито подходит к берегу, всматривается в густой сумрак, пробует пальцем воду.
— Ты не вздумай в озеро лезть!
— Нет надобности. Жулик мигом достанет, — уверенно отвечает Пашка.
Он отстёгивает на собаке ошейник, бросает в сторону острова небольшую палку, кричит на оторопевшую собачонку, впервые попавшую на охоту.
— Жулик, возьми!.. Пиль!
— Жулик умоляюще смотрит на него. Чего бы он ни отдал сейчас, чтобы не лезть в холодную воду. Но Пашка проявляет упорство. Ещё бросает палку, угрожающе кричит на собачонку. У той нет выхода: она осторожно, как балерина, переступает ногами, пробует войти в озеро, но тотчас же отскакивает назад. Её начинает трясти.
— Жулик, хороший пёсик… — ласково начинает «дрессировщик» и, бросая палку к островку, кричит: — Возьми!.. Пиль!.. Я кому говорю!..
Жулик ложится на спину, поднимает лапы, сдаётся. На морде страх и унижение. Пашка ставит его на ноги, ещё что-то бросает в озеро и сталкивает Жулика в воду. Тут уж ничего не поделаешь, и собачонка плывёт к островку, прикрытому мраком ночи.
Стоим ждём. Втайне я, как мальчишка, радуюсь, что обстрелял Пашку: один к двум в мою пользу. Конечно, чирок не велика птица, но при данной ситуации — козырь. И страшно хочется, чтобы мой гусь оказался крупнее, тогда Пашка прикусит язык… И тут я краснею за свои мысли.
Внезапно, будто сигналя об опасности, слева кричит большой кулик, а позади за тёмной полоской ельника осторожно курлыкают журавли. Опять томительная тишина… До слуха долетает долгожданный шелест троелиста, тяжёлое сопение, возня. Пашка облегчённо вздыхает.
— Жулик, назад! — кричит он повелевающим тоном. Вместо ответа с острова доносится хруст костей.
Парнишка поворачивает ко мне лицо, искажённое недоумением, и, угрожая кулаком в сторону острова, кричит сколько есть силы:
— Жулик, назад!
— Назад! Назад!.. — кричим мы почти одновременно, но наши угрозы безнадёжно молкнут в темноте.
Пашка вскидывает ружьё, стреляет в воздух. Жулик в ответ лакает воду и опять принимается за гуся…
«Вот и обстрелял!— — с горьким сожалением думаю я.
— Оно, конечно… — начинает Пашка оправдываться. — Если бы я за каждую подноску давал Жулику сахар, как в цирке, он бы и не подвёл. Но бабушка не согласна, говорит: «Нечего собак приучать, лучше сами лишний стакан сладкого чая выпьем». Вот и получилось…
— Прямо надо сказать, Пашка, скверно получилось. Зря извели гуся.
— Ничего, — успокаивает меня парнишка и, копируя дедушку, продолжает: — Завтра за моё почтение настреляем.
— Где тут настрелять! Видишь, не успели мы появиться, как с озера птицу будто ветром сдуло. Ей отдохнуть надо, а мы её свинцом угощаем. Лет бы на пять отобрать у охотников ружья, пусть птица успокоится, расплодится…
Пашка растерянно молчит.
С озёр доносится крик одинокой птицы.
Нас окутывает холодом широкая таёжная ночь. Её влажные туманы накрывают опустевшие озёра. И земля, на которой мы стоим с Пашкой, кажется где-то далеко-далеко от людей, на краю материка.
Меня пугает её отчуждённость, её безмолвие.
Молча шлёпаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Пашка озорно топчет их латаными сапогами, ломает вдрызг зеркальную гладь воды, как будто шагает по звёздам. С такой добычей ему теперь хоть куда!
В жуткой темени исчезает старый беспокойный мир. Чёрное небо чертят огнистые метеориты, да сквозь ночь костёр зазывно моргает, зовёт…
Какая притягательная сила в этом ночном огоньке! Человека всегда тянет к нему, и жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костёр.
Из тьмы обозначилась стоянка. На огне бушует чайник, гремя крышкой.
— Чего задержались?.. — со вздохом облегчения встречает нас Гурьяныч. — Думал, не пойти ли помочь донести уток, да услышал шаги.
А сам ощупывает меня любопытным взглядом, и на его лице вдруг появляется обидное разочарование. Но вот он видит за Пашкиной спиной гуся, радостно поднимает брови.
— Вот это да!..
Пашка не торопясь сбрасывает на освещённую костром землю добычу, отступает на два шага и, подбоченившись, ждёт окончательной оценки.
— Скрадом? — спрашивает его обрадованный Гурьяныч.
— Влёт! Будь второй ствол, ещё бы сбил одного. Да, совсем забыл… — Он как бы между прочим запускает за пазуху руку, вытаскивает крупного шилохвоста и бросает его к гусю.
— Тоже влёт?
Пашка не отвечает — достаёт из кармана гоголя.
— Маловато, дедушка, стало утчонки, видать, и правда извелась, — серьёзно, как взрослый, рассуждает парнишка.
А я стою с чирком в левой руке и не знаю, что с ним делать. Бросить в общую кучу — Пашка не замедлит что-нибудь сострить…
— Вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Сейчас ужинать будем, а уток сварим утром, — спохватывается Гурьяныч.
— Да, да, давайте ужинать. — И, направляясь к шалашу, я незаметно роняю своего чирка в Пашкину кучу.
Старик укрепляет на тагане котелок с каким-то варевом, сильно пахнущим перцем и чесноком, пододвигает к огню чайник и только теперь поднимает тяжёлого гуся.
— Жирен! Поросёнок, чистый поросёнок!
— Это что! Дядя убил пожирнее, да Жулик съел, — перебивает его Пашка.
— И вы гуся убили?! — удивляется Гурьяныч и строго спрашивает у внука: — Что же ты смотрел?!
— Самому плыть боязно, ноги сведёт.
— Так ты Жулика послал?
Пашка молчит.
— А где он?
— На Горловом, гуся доедает.
— Эка беда, како добро стравили собаке! — Старик долго не может успокоиться.
Пашка — именинник. Ещё не было у него такого длинного, такого утомительного и счастливого дня. Он усаживается между толстых корней ели и оттуда молча следит за всем, что творится на таборе. Но я замечаю, что-то беспокоит его, каким-то виноватым взглядом парнишка следит за Гурьянычем.
— Чего присмирел, намаялся? — спрашивает тот.
— Дедушка, — голос Пашки дрожит, — я нечаянно уточку убил… — И он, поднявшись, протягивает старику серый комочек.
— Как это — нечаянно?.. — строго спрашивает Гурьяныч. — Тебе говорено: стрелять только селезней. Ежели не можешь, неча ружжо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты её убил. На что годится!.. В наказание утром на охоту не пойдёшь, кашеварить будешь.
У Пашки, как от боли, морщится всё лицо. Парнишка ловит мой взгляд, ждёт защиты.
Я неодобрительно качаю головою и, чтобы закончить этот неприятный разговор, бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к огню. Тепло костра приятно нежит усталость.
Гурьяныч поправляет огонь, разливает по чашкам варево и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений ужин у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным.
Ярче и сильнее разгорается костёр, заполняя синим светом всё большее и большее пространство вокруг. А дальше, за освещёнными елями, ещё гуще, ещё плотнее встаёт тьма и пеленает мраком оживший после долгой зимней спячки лес.
Холодный ветер пробежал по ельнику, тревожа тёмные кудри старых сосен. Пробежал и смолк. А деревья ещё долго качаются над нами.
Гурьяныч прислушивается.
— Неправда, что лес шумит одинаково, — неожиданно говорит он. — У каждой породы — своя песня. К примеру сказать, сосны, они не любят тесноты, вот и шумят разноголосо. Ты только прислушайся. Налетит ураган, ну и запоют каждая в свою дудку. Жутко бывает в ветреную ночь в бору… — И старик опасливо окидывает ночной сумрак. — Другое дело ельник, ничего плохого не скажешь. В нём ветру тесно — нет разгона, ни свиста, ни воя у него не получается. Шумит ельник всегда ровно, что слаженная песня… Любо спать в нём в непогоду, за моё почтенье убаюкает.
— А у осины тоже своя песня? — спрашивает Пашка, внимательно слушая деда.
— Как же, внучек, совсем отменная. Осина больше растёт на лесных кладбищах, на старых гарях. Она первая непогоду чует. И уж как залепечет листва, будто ребёнок ручонками захлопает, так и знай — к ненастью. В бурю такого наплетёт, такого нагородит, что и лешему не придумать, а ночью того пуще, до смерти напугает, адово дерево, будь оно проклято! Лучше не связываться с ней.
Опять ветерок растревожил сонный покой ельника. И опять долго прислушивается к шелесту крон старик. А я думал о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на благо своё, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле…
Спать устраиваемся у костра, подостлав пахучие и мягкие ветки ели. Пашку сразу не стало слышно, будто провалился в пустоту. Гурьяныч положил на огонь концы толстых брёвен, высушил портянки и уже хотел забраться под однорядку, как послышался шелест сухой травы под чьими-то осторожными шагами.
Мы оба разом поворачиваемся на звук. Две яркие фары смотрят на нас из густого мрака ночи. Они приближаются вместе с шорохом, то гаснут за стволами елей, то снова упрямо надвигаются на нас. Это Жулик крадётся к стоянке. Пламя огня отражается в его глазах пучком синего света.
Жулик осторожно появляется из-за толстой валежины, весь освещённый костром. Морда виноватая, спина провисла под тяжестью переполненного брюха, на губах гусиный пух, мокрый хвост висит обрубком.
— Обжабиться, лопнуть бы тебе на месте! — строго кричит старик и зло толкает ногою головешку в огонь.
Собака в испуге отскакивает за пень, уходит в темноту и оттуда долго смотрит на нас двумя синими глазами…
Глава 8 ЛОПАЮТСЯ ПОЧКИ БЕРЁЗ
Тихо плывёт звёздная ночь над уснувшими озёрами. Деревья у стоянки теперь кажутся выше и стройнее. Всё больше синеют потёмки лесной чащи. Я забираюсь в спальный мешок и с твёрдой надеждой на завтрашний день засыпаю. Но это необыкновенно короткий сон.
Внезапно просыпаюсь. Лежу с открытыми глазами. Тёмные вершины елей озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки тёплой ночи. Тут и шёпот, и вздохи, и ласковый бег ветерка. Сон не идёт. Не уснуть в эту первую для меня весеннюю ночь в тайге.
Встаю, подновляю костёр. Вспыхнувшее пламя отбрасывает прочь от стоянки тьму, освещает ельник.
А где же Пашка? Его постель уже занята Жуликом. Куда он мог уйти? Неужели на озеро? Нет, сейчас первый час глухое время ночи. Нечего ему там делать в это время.
Шарю глазами по просветам — нигде его не видно.
— Пашка!.. — сдержанно зову парнишку.
— Тсс!.. — слышу его предупреждение.
Тихо шагаю на звук. Пашка стоит, прислонившись спиною к толстому стволу лиственницы, щедро залитой лунным светом.
Он предупреждает меня пальцем, дескать, иди осторожнее! И я безропотно подчиняюсь ему. Унимаю шаги, бесшумно переставляю ноги. Подхожу к лиственнице, прислоняюсь рядом.
Пашка не оглядывается, не слышит моего приближения — он весь поглощён каким-то ожиданием. Я внимательно осматриваю открытую марь, болото за перелеском, прислушиваюсь и ничего не могу понять: чего он ждёт тут в полночь один?
У меня под ногою сучок, стоять на нём неудобно. Надо бы сдвинуть сапог вправо, но боюсь нарушить тишину.
А Пашка касается своей горячей ладонью моей руки, крепко сжимает её.
Чуть слышный короткий звук раздаётся где-то близко, будто ребёнок во сне чмокнул губами.
— О!.. — вскрикивает обрадованный Пашка и показывает на берёзку. Затем медленно поворачивает голову ко мне, смотрит удивлённо в глаза. — Почка лопнула! — шепчет он.
Я улыбаюсь.
Теперь мы вдвоём, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Нужна огромная напряжённость слуха, чтобы в этой ночной тишине обнаружить жизнь.
Какой-то странный звук возник и растаял: птичка ли отозвалась во сне, пискнула ли жертва в лапах хищника или кто-то народился? Слышно, как облегчённо вздыхает земля, обласканная тёплыми ветрами, как поднимаются первые ростки зелени под прошлогодними листьями, как дышит лес — старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
Где-то в стороне поёт вода. Чего только она вам не нашепчет, не наобещает ночью!
И вдруг справа доносится какой-то загадочный звук, должно быть, эхо. Оно зародилось где-то у кромки тенистого перелеска. Мы смотрим туда, ждём, не обнаружится ли там ещё что-нибудь. Ждём долго. Но вот что-то бесформенное появилось в ночном сумраке под елями, шагнуло вперёд, и сразу обозначилась рогастая голова, широкая грудь и приземисто-длинное туловище.
— Сокжой! [3] — шепчу я Пашке.
Чуткий зверь уловил мой шёпот. Он замирает в полушаге, весь напрягается, точно стальная пружина, и, раздувая ноздри, шумно втягивает в себя воздух. А мы, забыв про всё, смотрим на него приворожёнными глазами. В лунном свете на фоне сумрачных лиственниц сокжой кажется каким-то сказочным видением, явившимся порадовать нас своею красотой.
Зверь так и не разгадал, насколько опасен был донёсшийся до него короткий звук. Он медленно шагнул передней ногою, вытащил из тины заднюю, переставил её и подал вперёд весь корпус. Ещё постоял, будто испытывая терпение врага.
Ничто не выдаёт нашего присутствия.
Сокжой смелеет, не спеша обходит кочки, всё ближе вышагивает к нам. Пашку всего трясёт. Плечом прижимаю его к стволу. Глушу в себе дыхание. Ничего не остаётся на земле, кроме этого рогача в посеребрённой шубе.
У лужи с луной на дне он останавливается, наклоняется, сосёт сквозь сжатые губы воду. Вдруг нога его поскользнулась, раздался громкий всплеск. Зверь вскидывает высоко голову, ворочает тяжёлыми рогами. А кругом непостижимое спокойствие, в котором малейший шорох покажется рёвом трубы. И только тяжёлая вода, стекающая с губ в болото, булькает, будто кто-то полощет горло.
Налетевший ветерок погнал настывший за ночь воздух, одушил болота. Сокжой, точно ужаленный, перемахнул лужу и, широко разбрасывая задние ноги, метнулся в ельник, налетел на лесину и исчез в потревоженной тишине.
Пашка облегчённо вздыхает. Я выгибаю уставшую спину.
Где-то вода из почвы просочилась на поверхнесть, мятежно зажурчала и смолкла, точно устыдившись. Кто-то на болоте вскрикнул во сне. С лиственницы упала шишка.
Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл что-то новое для себя, а Пашка, вероятно, — целый мир, огромный, непостижимый и прекрасный…
Странная ночь… Какое поистине чудесное ощущение природы оставила она в моей душе! Сколько очарования! Сколько раздумий! И как дорога стала жизнь, будто прошёл строгое чистилище и освободился от всех земных грехов…
Табун невидимых птиц со свистом прорезал воздух сверху вниз и с криком, с хлопаньем крыльев упал на воду.
Неужели этот слишком откровенный для ночи звук — предутренний сигнал?
Ещё темно. На небе не заметно перемен. Но уже чувствуется, что недолго до рассвета, что скоро победно блеснёт румяная зорька.
Луна так и не показалась из-за туч, но в ельнике чуточку посветлело — ночь тронулась.
Первыми догадываются лыски.
«Кю-ке-ке… Кю-ке-ке…» — дают сигнал к подъёму.
Пробуждаются нырки:
«Ка-го… Ка-го…—
За ними кроншнепы:
«Ку-ли… Ку-ли…»
На наших глазах бледнеет сумрак. В розовой мгле раскрывается сонная земля. Прорезаются чаши настывших озёр. А небо ширится, всё больше голубеет, и в нём чистой каплей дрожит последняя звезда.
«Дзинь!.. Дзинь!.. Дзинь!..» — точно в жесть, бьёт ворон в перелеске, и, как по сигналу, всё сразу оживает.
Пернатый мир пробуждается тысячами голосов. Стонут чибисы. На отмелях дразнятся кулики. Кричат растерявшиеся кряковые. И какая-то лесная пташка настойчиво пытается вставить в этот разноголосый гомон свой однообразный мотив.
— Вот и кончилась ночь, — сожалея, говорит Пашка, сойдя с места и потягиваясь, как от сладкого сна.
Мы оба, приятно уставшие, идём к стоянке.
— Куда вас спозаранку носило? — спрашивает обеспокоенный нашим отсутствием Гурьяныч и строгим взглядом осматривает внука. — Без ружей како дело тут?..
— Дедушка! — радостно перебивает его Пашка. — Ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы?.. Нет? А как лопаются почки на берёзе? «Пак, пак…» Не слышал?
— Вот я те сейчас пакну! Ишь чего выдумал, баламут! Сам не спишь и других смущаешь. За дровами бы сходил.
Но как ни старается Гурьяныч придать своему голосу строгость, это у него не выходит. На Пашку смотрят ласковые глаза, и в них столько доброты, что, кажется, хватит на то, чтобы согреть весь мир.
Парнишка улыбается, берёт топор и, легко перепрыгивая через валежник, скрывается в ельнике.
Гурьяныч снимает с огня вскипевший чайник, садится около меня. Сидит мрачно, нахохлив сомкнутые брови.
— Странный у нас Пашка, — начинает он грустно. — Пойдёшь с ним в лес, всё прислушивается, чего-то соображает, а то вдруг ни с чего развеселится, запоёт или начнёт бормотать — птиц передразнивать… Иной раз ему невтерпёж станет в зимовье, уйдёт в тайгу и всю ночь один по сопкам мается… Чего его несёт туда, иногда в непогоду, — не знаю. Мы со старухой было поперёк пошли, да где там!.. Вот я и думаю: растёт без отца, без матери — завалило их обвалом на прииске, — а мы со старухой что можем дать ему? Сами малограмотные, кроме земли да леса ничего не видели, жили трудно, а теперь старость ложится на плечи. Он к тому же не одетый, не обутый, не как другие. Ума не приложим, что делать с ним?
— А я, Гурьяныч, думаю: хороший растёт Пашка, За него вам скажут спасибо. — Я осторожно кладу ему на плечо руку. — Вы привили ему любовь к труду, открыли мир природы. У многих ли есть такие воспитатели? Ну и что же из того, что донашивает вашу телогрейку, ходит в латаных сапогах? Это не главное. И уж сознайтесь, Гурьяныч, довольны вы внуком?!
— Оно-то конечно, но жизнь другая, не та что в наше время была. Отстанет он в лесу. Да и кому нужна теперь природа? — горестно заканчивает старик.
Но тут появляется Пашка с дровами, и наш разговор обрывается.
Мы наскоро завтракаем, вьючим Кудряшку, гасим костёр — и снова в путь…
Глава 9 НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ
Озёра остаются левее. Гурьяныч ведёт нас лиственничным перелеском на северо-восток, к плоскому водоразделу, напоминающему спину лежащего зверя. За ним в необозримой дали рисуется хребет Усмун с зубчатыми гольцами. Где-то там, на одной из главных вершин, инженер Макарова ждёт паутину.
За озёрами начинается дикий край. Слева —безрадостные мари, они заворачивают на запад, уходят в голубые туманы. Летом на них комариное царство и глушь. Впереди же, по широким падям, по холмам и отрогам, лежит в синеве бархат весенней тайги. Она всегда загадочная, опасная…
Пашка забыл, что идёт по земле, он весь устремился вперёд, не смотрит под ноги. Широко открытыми глазами парнишка пожирает горы со снежными вершинами и чёрными провалами, появившиеся на далёком горизонте, а сам весь во власти детских несбыточных желаний. Да кто из нас в тринадцать лет не завидовал путешественникам, не мечтал об охоте на тигров, медведей? Кому не казалось, что за родным селом, за знакомым контуром горизонта лежит таинственная страна, где тебя ждут подвиги и великие открытия?! И Пашке сейчас представляется, что именно за марью, по которой мы идём, раскинулась эта загадочная страна, вся в холмах, в синеве лесов, теперь доступная, реальная…
Идём молча. Гурьяныч не спешит, бережёт силы. Путь долго вьётся по равнине. С болота сорвалась вспугнутая нашим появлением стая чёрных уток. Тотчас с лиственницы живой ракетой взвился в небо сапсан и на миг замер в высоте, будто рассчитывая кратчайший путь для нападения. Затем рывок вперёд — и под сапсаном в паническом страхе забилась стая удирающих уток. Какая дьявольская стремительность у этого пернатого хищника! Утки бросаются из стороны в сторону, уносятся со страшной быстротой, но — сапсан бьёт точно, и жертва, кувыркаясь в воздухе, летит вниз.
За болотом — кочки, залитые водою. Идём напрямик. Ветер, сырой и ершистый, сечёт лицо. Старик останавливается, пугливо смотрит на свинцовые с огненными краями тучи, неизвестно откуда появившиеся над нами, и начинает забирать вправо — торопится к лесу.
— Должно, дождь будет, — говорит Пашка и кивает на деда. — У него насчёт погоды осечки не бывает.
Тучи гасят свет солнца. Ещё мрачнее и неприветливее становится на топкой равнине. Болота вздымаются, темнеют. Неприветливо шумит на них прошлогодняя осока. Смолкают птичьи голоса. Всё замирает, приглушённое надвигающейся непогодой.
— Пашка, вытаскивай из вьюка топор, айда вперёд, руби стойки, колышки для палатки. А вы, — обращается ко мне Гурьяныч, — накиньте плащ, не промочить бы паутину: она, может, не привычна к сырости.
— Паутина в непромокаемой упаковке, — успокаиваю я старика.
Откуда-то налетает чайка. Ветер качает её на скошенных крыльях.
— Ки-и-е… Ки-и-е…
Каким-то зловещим кажется этот печальный крик среди кочковатых марей.
А вот и гуси беспорядочным табуном летят, послушные ветру. За ними — две чёрные цапли.
Все спешат укрыться от ненастья. А небо молчит, темнеет, дышит холодом.
Гурьяныч тоже спешит, отмеряет широкими шагами целину. Одну Кудряшку, обременённую старостью, кажется, ничто не волнует. Она еле тянется на поводу.
— Уж ты, голубушка, не упрямься, прибавь шагу, — уговаривает её старик. — Путь далёк, поторапливаться надо.
С неба всё чаще доносится рокот, будто ворчание потревоженного зверя.
Вдруг потрясающей силы удар над головой… И сразу хлынул дождь. Запахло мокрой травою. Одежда на плечах отяжелела, липнет холодным пластырем к телу.
Пока добрались до ельника, сняли вьюки и поставили палатку, промокли до нитки. Наконец забрались под полотняную крышу.
— Теперь пусть льёт сколько хочет, — послышался из угла голос Пашки.
— Чего мелешь! Не в гости направились, тебе же говорено — работа сорвётся. А по дождю куда пойдёшь?! — упрекнул его Гурьяныч.
— Весенний дождь долго не задержится, — успокоил я старика…
Приятно слушать, как водяной шквал налетает на разлохмаченный лес, барабанит по палатке. Не успели мы ещё расположиться, как ветер стих, смолкла гроза, и дождь перестал.
Выбираемся наружу. Солнце ещё в тучах, а без него вокруг холодно и скучно. Быстро разводим костёр, стаскиваем с себя мокрую одежду, развешиваем её вокруг огня.
Гурьяныч оголяет и греет волосатую грудь.
— Главное — сердце оживить, — говорит он, с наслаждением глотая горячий от костра воздух.
Пашка в восторге, он готов горы свернуть: натаскал целый ворох дров, сбегал за водой, вырубил таган [4] и теперь накладывает в котелок картошку, вешает на огонь.
На небе заголубели проталины. Выглянуло солнце. Радостным гулом ожила природа. Всё ярко запестрело. Воздух наполнился тяжёлым смоляным ароматом.
Пашка подвигает к жару чайник, отходит от костра и неожиданно смеётся, хлопает в ладоши.
— Чему радуешься? — спрашиваю его.
— Так просто, не знаю чему… Гляньте, бабочка! — Он вдруг бросается за нею, но тотчас останавливается: какая-то серенькая птичка на лету схватила бабочку и исчезла в чаще.
Лицо парнишки омрачается. Он долго стоит на месте, не то прислушиваясь к бурной, но скрытой жизни леса, не то смутно догадываясь о законах, которые правят таёжным миром, — о праве сильного.
Гурьяныч тоже замечает настроение Пашки. На лицо старика набегает тревога. Он подходит к внуку, кладёт ему руку на плечо:
— Что с тобой, внучек?
— Ничего, так просто. — И парнишка снова оживает. Старик успокаивается.
Мокрая земля парит, возвращая небу влагу. В логах темнеет хвойный лес. Над холмами в промытом дождём воздухе кружатся коршуны.
Гурьяныч потыкал прутиком картошку, достал одну, откусил бочок, погонял языком во рту горячий ком, проглотил.
— Готова, снимай, Пашка. Маленько заправимся и дальше пойдём. Теперь всё тайгою — в гору.
Пашка сливает из — котелка воду, ставит его в круг. Старик режет большими ломтями хлеб.
До чего же вкусна горячая картошка в мундире! Мне вспоминается детство, поездки с мальчишками в ночное, костры. Бывало, раздавишь обугленную, испечённую в золе картофелину, тебя обдаст горячим ароматом, и не знаешь, что приятнее — этот аромат или сама картошка?!
Пока сворачиваем лагерь, вьючим Кудряшку, гаснет пламя костра. Но на стоянке всё ещё держится запах горячей картошки.
— Дедушка, а зачем переставил таган? — спрашивает Пашка.
— Заметил! — довольно говорит старик, кивая на парнишку, и, повернувшись к нему, поясняет: — Уходишь с табора — установи таган так, чтобы его тонкий конец был обращён в сторону твоего пути.
— Зачем?
— Если кто-нибудь сюда придёт, то по нему догадается, куда мы ушли. Да и если случится что с нами, скорее найдут.
— Кто такое придумал?
— Жизнь. В тайге свои неписаные законы… А ты пошто костёр не залил? Сколько раз говорил тебе: привычку надо иметь не бросать огонь в лесу даже зимою, — строго напутствует старик. — Он может уйти в глубину и в торфе жить годами, а потом вдруг выплеснет на поверхность и пошёл гулять по тайге.
Пашка приносит котелок воды, заливает огонь.
— Ещё принеси, не жалей, чтобы надёжно было. Пашка старается.
— Теперь, внучек, твой черёд вести нас по тайге. Пойдём маленько левее, как шли сюда. Вон на ту седловину. — И старик указывает заскорузлым пальцем на водораздел. — Учись, Пашка, враз, с одного взгляда находить проход в лесу, не теряя направления. По пути заломки делай, чтобы тебя леший не попутал, когда обратно вести будешь.
Пашка и удивлён таким решением деда, и бесконечно рад неожиданному доверию. Он заряжает «ижевку», бросает сосредоточенный взгляд на просветы в лесу.
— Пошли, — важно басит он и подаёт Жулику знак следовать за ним.
Нас проглатывает чаща первобытной тайги. Лес после дождя поблёскивает на солнце. Пахнет свежим папоротником. Под ногами зелёный ковёр из векового мха. Деревья-великаны заполняют весь мир, и кажется, что вся земля обросла зелёной щетиной. В таком лесу мало птиц и не бывает зверя: их всех пугает застойная тишина и вечный сумрак. Эта тишина и сумрак навевают уныние и на человека, когда он попадает в таёжные дебри. И мы тоже вступаем в эту загадочную лесную чащу и непробудные дебри с чувством необъяснимой тревоги.
Порой Пашка забредает в непроходимою топь, заваленную упавшими деревьями.
— Не слепой, смотри, куда ведёшь! — сердится Гурьяныч.
Он выходит вперёд, поправляет ошибку внука и вновь уступает ему дорогу.
Или кричит:
— Опять закружал! Держи солнце на затылке к левому уху… Об чем думаешь?!
Пашка «ловит» солнце, и мы идём всё дальше и дальше в лесное царство.
Неожиданно сумрачное и тёмное, как джунгли, сыролесье обрывается. Дальше старая гарь перехватила наш путь. Огонь уничтожил высокоствольный лес на огромном пространстве: на склонах гор, на холмах, на равнине, перед нами — лесное кладбище. Часть погибших деревьев ещё стоит без вершин, с обломленными сучьями, удерживаясь на обнажённых корнях. Остальные лежат на земле в чудовищном сплетении, точно после битвы. Кое-где видны темнохвойные кедры, чудом уцелевшие от пожара.
Мы останавливаемся, потрясённые картиной мёртвого леса.
Гурьяныч подходит к Пашке, кладёт ему руку на плечо.
— Это тебе, внучек, пример, что огонь может натворить в лесу, ежели халатно с ним обращаться. Какой-то ротозей не залил костёр, — в его голосе вспыхивает гнев, — или бросил спичку наземь в жаркий день, пустил пал по лесу. Глянь, какую тайгу погубил!
— Может, дедушка, от грозы лес сгорел? — Пашка смотрит ему в глаза.
— Не знаю. Век прожил — не видывал такого пожара от грозы, а всё от людей, от нас, внучек. Вот и давеча, ты не залил огонь, так и пускают пал. Говорю, привычку надо иметь, бережливость должна быть в человеке ко всему.
Гурьяныч сбрасывает с плеч однорядку, накидывает её поверх вьюка, достаёт топор. Окинул нащупывающим взглядом передний край гари.
— Держись за мною, Пашка, хорошо смотри, не запороть бы Кудряшку, — и старик шагнул в завал.
Стук топора будит могильный покой бурелома. Старик, выискивая проход, обходит колючие стволы, преграждающие путь в этом чудовищном завале.
Нас нагоняют чёрные тучи, внезапно появившиеся и уже прикрывшие полнеба. Гурьяныч косится на них, прибавляет шаг.
Тучи сомкнулись, гасят свет солнечного дня. На землю ложится бесприютная тень. В вышине поднимается ветер. Там с ним спорят два беркута.
— Гроза! — кричит Пашка.
Небо лопнуло витиеватой полоской огня. Сухой, тяжёлый грохот разряда потряс всю гарь.
Старик оглянулся, что-то крикнул нам, показывая рукою на огромный тёмно-зелёный кедр. Стал напрямик ломиться к нему, руша на пути топором и ногами вершины и сучья.
Мы с Пашкой не отстаём. Даже Кудряшка прибавила шаг. С нами Жулик. Он чует беду, бросается вперёд, то крутится у нас под ногами. А небо всё больше чернеет, нависает над нами неотвратимой угрозой.
Вдруг ветер с разбойничьим посвистом падает на гарь, бьёт сбоку. Ожили мёртвые стволы, закачались великаны в попытке усмирить ураган. Впечатление такое, будто у мёртвого леса свои давнишние счёты с ураганом.
Я вырываюсь вперёд. Отбираю у Гурьяныча топор. Рублюсь к кедру. Остаётся метров двадцать завала. Небо распахивается бездной света. Вздрагивает ужаленная земля. Наваливается шквальный ветер.
В воздухе повисает предупреждающий треск. Он множится, доносится справа, слева, сливается в один общий стон. Вокруг творится что-то невообразимое: с грохотом падают скелеты деревьев, бьют раз за. разом, не смолкая, разряды. И кажется, ничего нет страшнее на земле, чем схватка бури с мёртвым лесом.
Делаем последние усилия, вырываемся из плена бурелома под защиту кедра. Пашка липнет к Гурьянычу. В детских глазах страх.
Ураган усиливается. Хлещет дождь. Качается развесистый кедр, принявший нас под защиту. Он толстый, со старческими наростами, живой свидетель пожара, уцелевший будто для того, чтобы рассказать потомству многовековую историю тайги и эту жуткую лесную трагедию.
Все молчим. А битва продолжается. Нет слов описать это чудовищное зрелище, как, падая, ещё раз умирают мёртвые стволы, На земле уже нет места для могил, обугленные великаны ложатся тесно друг на друга, точно сцепившись в предсмертной агонии.
Ураган наваливается на кедр, давит грудью, качает непокорную вершину, ломает сучья. Жутко смотреть, как, сопротивляясь, старый кедр поднимает корнями податливую землю, как всё труднее ему одному удержаться стоя.
А ветер ещё пуще ревёт. Кедр качнулся больше, чем следовало, и в испуге замер, будто увидел под собою бездонную пропасть. И всё же устоял. Но у него уже не осталось прежней твёрдости, что-то внутри молча надломилось.
Все всполошились. Первым выскочил Жулик. Гурьяныч схватил повод, стал тянуть Кудряшку из-под кедра. Мы с Пашкой подталкивали её сзади.
Ещё один, второй, третий напор урагана, его последний безудержный порыв, и у кедра подломилась воля, В глубине земных пластов лопнули корни.
Мы замерли, ошеломлённые случившимся.
Видим, кедр неестественно качнулся, пытаясь найти опору, удержаться стоя. Но ветер беспощаден в последнем напоре, и живой, многовековой кедр сдался… Он стал медленно клониться к земле, как бы выбирая место для могилы. Потом вздрогнул от корней до вершины и, отбросив кверху, словно руки, сучья, старик, казалось, прощался с небом и жизнью. Со стоном рухнул он на «пол», подняв огрызками корней гигантский пласт земли и разломившись пополам.
Пашка весь сжался. Огромными круглыми глазами парнишка смотрел на распластавшегося великана. Картина гибели старого кедра потрясла его.
Тучи, будто выполнив свой долг, стали молча отступать к хребтам. За ними уходил и ветер.
И опять в могильную тишину погрузилась старая гарь. Всюду следы только что закончившейся битвы. Весенний луч солнца, прорвавшийся из поредевших туч, освежил старую гарь.
Гурьяныч стащил с головы шапку, стряхнул с неё дождевую влагу, сказал, обращаясь к Пашке:
— Видишь, три кедра стоят вместе, — он показал шапкой на группу зелёных деревьев, видневшихся справа, поодаль от нас. — Их не свалил ураган, а этот упал… Ты понимаешь, к чему я говорю?
— Это старый кедр, вот и не устоял, — отвечает тот.
— Не в том дело, что старый. Одному завсегда труднее, а те вместе, артелью, их не возьмёшь. Так и в жизни одному никуда не годится.
Пашка закивал головою.
Через час мы благополучно выбрались из лесного кладбища. На минутку остановились, поправили вьюк на Кудряшке, себя привели в порядок и тронулись дальше.
После дождя в горячем солнце посвежела тайга. В птичьем гомоне, в полёте букашек, в аромате трав и листвы — жизнь. Как-то особенно её чувствуешь после мёртвого леса и радуешься вместе с нею весеннему дню.
На пути начинают попадаться поляны. Впереди отрог. За ним — ночёвка.
Вдруг бегущий далеко впереди Жулик поднялся на задние лапы, пугливо вытянул морду и опрометью бросился назад. Даже не задержавшись возле нас, он промчался мимо.
— Где-то зверь, — таинственно шепчет Гурьяныч и грозит пальцем: дескать, осторожнее.
Я хочу вырваться вперёд, но Пашка опережает меня, уже крадётся к широкому просвету. Ловлю его за штанину, останавливаю.
— Не стрелять! Слышишь? — показываю ему кулак и отталкиваю назад, а сам шагаю вперёд неслышно, мягко.
За просветом поляна. Снимаю накомарник — так лучше видно.
Пашка всё время пытается обойти меня.
— Только посмей высунуться!
Но угрозы не помогают: хватаю его за руку, веду рядом, как собачонку.
У толстой пихты задерживаемся. Нам хорошо видна вся поляна, протянувшаяся вдоль шумливого ручья.
— Медведь! — дрожащим шёпотом выдыхает Пашка.
Вижу, на противоположной стороне поляны под одиноким кедром чёрное пятно. Медведь. Он шевелится: то поднимется, то приляжет, то повернётся к нам головою, то задом.
Хорошо, что рядом ручей и зверь не слышит нашей возни и не догадывается, что два человека, два его врага, стоят с ружьями всего в ста метрах, наблюдают за ним.
Не могу рассмотреть, чем он занят. Вытягиваюсь во весь рост и едва удерживаю смех. Ну и хитрец мишка, ну и выдумщик, что вытворяет!
— Пашка, медведь муравьями лакомится. Встань повыше, посмотри, — шепчу ему.
А медведь хоть бы повернул свою лобастую голову в нашу сторону, хоть бы осмотрелся вокруг!.. Но зачем ему беспокоиться? Ведь у него, кроме человека, нет врагов в лесу, а человек сюда заходит редко. Медведь тут полновластный хозяин, владыка. Все его смертельно боятся. Поэтому он спокоен, уверен. Видим, как зверь кладёт на слегка разворошённый муравейник лапу, держит её с полминуты и затем с наслаждением облизывает. Потом кладёт другую.
Потревоженные муравьи полчищами выползают из своих подземных убежищ, липнут к его обслюнявленной лапе и прямёхонько попадают в медвежью пасть.
Пашка дотягивается до моего уха.
— Пальнуть по нему? — шепчет он азартно. Я угрожаю кулаком.
Но тут слышится треск сучка: подходит Гурьяныч с Кудряшкой. Этот ломкий звук тревожит зверя. Мгновенье — и он, мелькнув между стволами чёрной тенью, исчезает в лесу.
— Почему не дали мне стрельнуть? — обиженно спрашивает Пашка.
— Зачем?
— Шкуру бы показал ребятам.
— Она ещё мишке пригодится. Слышите, Гурьяныч, охотник нашёлся.
— Слышу. — Старик укоризненно качает головой. — До шкуры тебе, внучек, как до неба. Дробью медведя не сшибёшь, а шуток он не любит: враз задерёт. Ему Это как плюнуть. Ну убил бы его — что с мясом, со шкурой делать? На Кудряшку ни одного куска больше класть нельзя, с собой — не унести. Значит, убить и бросить?! Куда годится зря истреблять?! Чему я учил тебя?
Пашка отворачивается, молчит.
Я помогаю Гурьянычу перевьючить Кудряшку. Пока поправляем сумы на спине лошади, привязываем их, старик жалуется:
— Года три назад повёл я геологов в их лагерь на Большое озеро. Было это в июле, гусь линял. Подходим к стоянке, душным воздухом нас окатило. Начальник спрашивает у прораба: опять лошадь пала? Он молчит. Я за палатку прошёл, вижу куча гусей, не соврать бы — поболее пяти десятков, уже провоняли. Ах, думаю, анафема вас раздери, беззаконники! Гусь во время линьки летать не может, так они их палками всех порешили, а съели-то всего двух, остальные сгнили. Верите, пришлось на километр лагерь перенести, дышать нечем было… Уж как я их стыдил, мерзавцев, говорю: «Росомаха -хищник, и то меру знает: убьёт, что может, съест, остальное припрячет, зря не бросит. А вы же люди!» — «Это, говорит один из них, у нас получилось сгоряча». Ишь какое оправдание! И откуда у человека такая безрассудная жадность?
— И вы отступились? — спросил я.
— Председателю сельсовета всё обсказал, а он сам малость баловался браконьерством… На том и присохло.
— Надо было в район писать.
— Беда, грамоты нет, а то бы не попустился. Запёк бы их, охальников, в тюрьму… В тайге с человека положено больше спрашивать. С тех пор перевелись гуси на Большом озере. Разве птица устоит!
— А где же Жулик? — спохватывается Пашка.
— Его, видать, далеко швырнуло, считай, уже до посёлка добегает. Какая сила у медвежьего духа! — смеётся Гурьяныч.
— Жулик!.. Жулик!.. — кричит мальчишка. «Жулик!.. Жулик!..» — повторяет эхо в глубине леса.
— Обойдёмся и без него. Айда вперёд, да смотри в оба, ворон не лови.
Мы тронулись.
Скоро под ногами появился пунктир звериной тропки. Тропа переводит нас через ручей, и мы шагаем вверх по его травянистому берегу.
Впереди Пашка. Гурьяныч идёт позади всех. Я поражаюсь и завидую его наблюдательности: в лесу он — как в своей избе, зорко ухватывает вокруг всё, что нужно.
— Пашка, глянь! — кричит старик, останавливаясь у толстой и ровной берёзы. Он любовно ощупывает её, измеряет на глаз.
— Чего тут смотреть? — спрашивает внук.
— Место приметь: на обратном пути кору сдерём, дома берестяную лодку смастерим для рыбалки. Уж и легка будет, за моё почтенье!
Я заламываю черёмуховый куст, старик перегораживает наш след валежиной, — так, он считает, приметнее будет.
Через час выходим на увал и поражаемся: перед нами, впереди и слева до самой равнины, лежит огромная площадь вырубленного леса. Но пней не видно, они утонули в поднявшемся молодняке, густым хвойным ковром прикрывшем землю. И над этим зелёным хвойным миром всюду стоят купы тёмных кедров, оставленных заботливыми лесорубами для продолжения рода. И тут сразу представилась мне печальная картина бесконечных пней, что видели мы вчера, и чёрной, обугленной после пожара, земли. А ведь и тут и там хозяйничал человек для одной, общей цели, но хозяйничал по-разному. Тут проявилось всё: и достижение науки, и любовь к лесу, а там — слепая беспощадность.
— Теперь видишь, — говорит Гурьяныч, подходя ко мне. — Ведь можем делать по-настоящему бережно. Вот тех бы заготовителей на этом примере к ответу, чтобы и другим неповадно было, ан нет, не возьмёшь: план перевыполняют, молодцы, а о завтрашнем дне пусть за них косолапый думает…
Тропа забирает влево, вьётся змейкой по крутизне, выводит нас по отрогу на седловину, сдавленную с двух сторон каменными россыпями и поросшую кустами приземистого стланика.
Кудряшку приходится наполовину облегчить, взять часть груза на свои плечи, иначе ей ни за что не выбраться наверх.
Старенькая она, безропотная, безотказная. Как трогательна её привязанность к старику и мальчишке! Тащится Кудряшка следом за ними по жизни, и невозможно её представить без них, а их — без неё.
На седловине даём лошади передохнуть.
Солнце уходит в мягкую глубину горизонта. Медленно погасает день. Тайга дремлет в бледном вечернем сумраке. В провалах скал уже покоятся синие тени.
Под нами глубокая лощина. Протекающая по ней речонка тут, у равнины, обрывает свой бег, стихает под еловыми навесами. За ней низина, затянутая продолговатыми пятнами болот, утыканная редкими лиственницами.
— Болото кормистое, сохатые раньше сюда ходили. За ночь, бывало, с десяток приходило купаться, а сейчас разве шальной какой зайдёт покормиться.
Пашка, услышав эти слова, настораживается.
— Сохатые ходили? — спрашивает он; и я вижу, как парнишка весь загорается от каких-то мыслей, внезапно возникших в его голове, но внешне невозмутимо продолжает: — Дедушка, пошли — солнце на закате, и есть хочется.
— Ты лучше послушай, тебе говорю. Вишь, как мало остаётся живности в лесу. Мыслимо ли, сколько прошагали — ни одного рябка, ни глухаря, ни следа зверя. А места привольные, им бы тут плодиться вечно, ан нет. Хочу, чтоб ты, Пашка, понял и, когда вырастешь, сказал бы: тут, дескать, я с дедом своим раньше хаживал, никакого зверя не было, а теперь мы, за моё почтенье, развели и сохатых, и маралов, и медведей, и коз…
— Я понял, дедушка, пошли скорее, вишь, как поздно! — поторапливал нас парнишка, уже полностью захваченный какими-то новыми планами.
— Ладно, потом ещё поговорим. Трогай за мною. Ночевать будем пониже болота. Там ближе до места.
На поляне, куда привёл нас Гурьяныч, стоит старенькая, покосившаяся набок избушка. Давно исчезли следы пребывания тут человека. Всё пришло в полное запустение: ни дверей, ни окон, кругом мусор, щепки и никем не примятый бурьян, подступивший вплотную к избушке. На земляной крыше росли две лиственницы.
Старик обошёл вокруг избушки, заглянул внутрь и неодобрительно покачал головой.
— Видать, какие-то проходимцы были, ишь нашкодили: печка стояла, нары были из плах, застеклённые окошки — всё разорили, сожгли, на что годится! Вот ведь какие озорники есть, они ничего в тайге не щадят — ни живого, ни мёртвого.
Палатки решили не ставить — заночуем у костра. Пашка уже натаскал дров и с остервенением теребит гуся — торопится. Видно, проголодался.
Небо чисто, привольно, дышит вечерней прохладой. Где-то близко нежно воркуют горлинки, и в отдалении звонко кукует кукушка. Эти звуки чётко отдаются старом лесу. А за его резным хвойным краем медленно потухает солнце.
Улучив минуту, когда Гурьяныч ушёл к ручью чистить картошку, Пашка коршуном налетел на меня:
— Пошли на болото!
— Зачем?
— Посидим ночь, посмотрим, что делается на нём.
— Придёт же тебе в голову такая чепуха! Прошлую ночь почти не спали, и сегодня без сна.
— Там выспимся. Не хотите?.. Сам пойду, — угрожающим тоном говорит он.
— Я вот сейчас дедушке скажу, он тебя живо усмирит.
Пашка обиженно отворачивается, молчит. «Может, действительно неплохо будет провести ночь на болоте?» Чувствую, как постепенно захватывает эта мысль.
— Только объясни, что делать будем там? — нарушаю я молчание.
— Слышали, дедушка говорил: сохатые туда ходили кормиться…
— Но ведь это давно было.
— Может, какой на фарт заявится. — И умоляюще добавляет: — Так уж уважьте, дедушка одного не пустит…
— Хорошо, пойдём, — соглашаюсь я и отправляюсь к Гурьянычу на речку.
— Ужинайте без нас, — говорю я старику, — а мы с Пашкой пойдём ночевать на болота.
— Это зачем? — удивляется тот.
— Пашка тянет, охота ему сохатого увидеть.
— Какие тут теперь сохатые? Ты чего, баламут, придумал? — кричит он внуку. — Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину, тогда бы не до болот было. И вы идёте у него на поводу.
— Ничего не случится, Гурьяныч, мы там выспимся и до солнца вернёмся.
Старик сдаётся:
— Ну разве что! Не забудьте, утром рано тронемся, — и советует: — На болоте садитесь с нижнего края.
Слышишь, ручей вверху гремит — это к погоде. Ночью дух будет книзу тянуть.
Захватив телогрейки, плащи, одно ружьё, бинокль и пожелав Гурьянычу спокойной ночи, мы уходим вверх по лощине. Ужинали на ходу хлебом. Пашка за эти дни сэкономил кусочек сахара и теперь аппетитно похрустывает им.
Минуем одинокий холм, бурый от прошлогодней и свежей травы. При нашем приближении с него сорвался ястребок, взвился над нами и застыл в синеве на одном месте, быстро-быстро работая крыльями.
За холмом показалась марь — безликая земля, ещё не просохшая от вешних вод. А дальше виднелась свинцовая гладь болот, обставленная кочками, точно горшками с зелёным черноголовником. Солнце угасает за далёкими увалами. Сизая мгла окутывает вечереющую тайгу.
Пашка торопится, и я еле поспеваю за ним. Идём по редкому перелеску. Лес стоит заглохший, деревья растут вкривь и вкось, иные скрестились друг с другом, многие упали на кочки, но и полулёжа продолжают жить. Изредка увидишь прямой ствол, но и он, как и все остальные, прострелен дырами. Корни этих деревьев, напоминающие спрута, лежат на поверхности почвы; ни один корешок не смеет углубиться в мерзлоту — там смерть. Деревья питаются плавным образом за счёт постоянно влажных мхов.
Болота тянутся до самых гор и своею витиеватой линией напоминают давно заброшенное русло реки. Возможно, ещё в древние времена, когда в творческих муках дооформлялся внешний облик земли, сюда была сдвинута часть русла какой-то исчезнувшей реки…
Дно этих болот затянуто густосплетенными водяными растениями. Всюду на прозрачной поверхности виднеются плавучие острова из пышного троелиста, удерживающегося на толстых донных стеблях. Берега же болот атакуют высокие кочки, упругая, как жесть, осока и ярко-зелёные мхи. Вода в них спокойная и кажется тяжёлой, как ртуть. Мёртвая тишь окутывает болота.
На тропках, что сбегают со всех перелесков к болотам, следы зверей, кое-где свежий помёт. Это нас обнадёживает, и мы прибавляем шаг.
У нижнего края болота Пашка останавливается.
— Тут вот под лиственницей сделаем скрадок и засядем, — говорит он, натягивая на голову накомарник.
Таскаем с ним ветки, вбиваем в землю под лиственницей две сошки, кладём на них тонкую перекладину, отгораживаемся хвоей от болота. Нам его хорошо видно, а нас с болота трудно заметить.
Над равниной меркнут последние отблески солнца. Стылая вода не шелохнётся. Стоит лес, впаянный в сумрак. Уходит на покой долгий весенний день...
Нельзя сказать, чтобы в скрадке можно было удобно расположиться. Под нами земля вся в шишках; трудновато будет просидеть на ней всю ночь.
Выстилаем под собою еловым лапником «пол», усаживаемся. Пашка мостится слева. Ружьё приставляю к дереву. Остаётся затолкать нижний край накомарника под ворот телогрейки, надеть перчатки, и можно отдаться блаженным минутам ожидания.
Глава 10 НОЧЬ НА БОЛОТАХ
Первыми нас обнаруживают комары. Вначале появляются дозорные, за ними батальоны, полки, целые армии. Мы таимся, стараемся не шелохнуться. Изображаем собою пни. А комары злобятся, наседают.
По болоту плывут маленькие обрывки бледно-пунцовых облаков. Тени становятся всё гуще и всё менее прозрачными. Мы не шевелимся — оба во власти загадочной тишины...
День уходит. Ещё воркуют влюблённые горлинки, ещё поёт конёк вечернюю молитву и посвистывает дрозд, а козодой — большеротый ночной крылатый хищник — уже овладевает лесом, наполняет окрестности болот однотонными, как журчанье ручейка, звуками и носится чёрной бесшумной тенью по перелеску.
Стучат дятлы, над болотами кружится пара ястребов, гудит комар… Но всё это лишь жалкая попытка удержать день. Ему на смену с гор уже сползает прохладная весенняя ночь.
Пашка облегчённо вздыхает, подкладывает под себя хвою. Ещё несколько минут — и густой сумрак окутает тихие болота.
Неожиданно в перелеске зародился и смолк непонятный звук. Мы оба обрадованно насторожились: то ли кто-то, сожалея о минувшем дне, вздохнул, то ли это был один из необъяснимых звуков засыпающей природы.
В тишине отчётливее и ближе гремит речка. За болотом в перелеске перекликаются пеночки, карауля покой земли.
И вдруг какая-то длинная тень прошмыгнула мимо скрадка, прилипла к кочке, замерла.
— Кто это? — спрашивает шёпотом Пашка.
— Колонок.
Я прикладываю к глазам бинокль. Да, это он, рыжий бесстрашный хищник, вышел на охоту. Наверное, считает тихие болота своей вотчиной. Мы радуемся появлению живого существа и уже не выпускаем его из поля зрения.
Колонок вытянулся всем длинным тельцем из-за осоки, явно почуяв добычу. На кочке, у самого болота, сидит кряковая. Утка не чует опасности, занимается нарядом, клювом взбивает перья на спине, на груди и изредка прерывает своё занятие, чтобы посмотреть на беспокойное семейство сородичей, плавающее там же, возле бережка. Какая беспечность!
А колонок уже близко. Его соблазняет утиный запах. Бесшумной тенью пробирается он сквозь осоку — ближе, ближе к добыче. Вот он становится на задние лапы и замирает рыжим пенёчком. Перед ним весь утиный табунчик. Но какое-то досадное препятствие заставляет хищника повернуть назад. Он изгибается, ползёт змеёй, в его шерсти глохнет шелест травы. Отползает метра полтора. Снова поворачивается усатой мордой к утке… Подбирается к ней слева… Добыча уже близко от него. Он пропускает задние ноги далеко вперёд, пружинит спину, готовясь к прыжку…
— Да оглянись же, дура! — шепчет Пашка. Я толкаю его в бок, заставляю замолчать.
А утка продолжает прихорашиваться, кокетливо вытягивает то одно, то другое крыло, роется красным носом в хвосте и, видимо, от удовольствия что-то шепчет на своём утином языке. Но в самый последний момент она всё же обнаруживает опасность. С оглушительным шумом отрывается от кочки. Хищник чуточку запаздывает, виснет на крыле и срывается в воду с пучком перьев в зубах. Поодаль падает и кряковая.
Утиный крик, хлопанье крыльев по воде, панический взлёт!
Колонок видит упавшую кряковую и снова бросается к ней. Тут мы становимся свидетелями трогательного зрелища. Видимо, где-то близко утиное гнездо, и, защищая его, утка ведёт себя героически, она беспомощно бьёт по воде «сломанным» крылом, и этим ей удаётся отвлечь внимание врага на себя. Обрадованный колонок налетает на утку. Та успевает увильнуть. Это его злит, он бросается вдогонку. Всё повторяется снова. Утка уводит его всё дальше и наконец улетает. Колонок, видно, теперь только догадывается, что обманут старой кряквой, и поворачивает назад…
В густом лиловом сумраке растворились за болотом купы деревьев. Слух ловит тревожный шорох стеблей троелиста, всплеск воды: колонок выбирается на берег, стряхивает со своей полуоблезлой шубы воду, и слышно, как он торопливо идёт по осоке.
Совсем темнеет синее небо в белых барашках. Всё как будто успокаивается, не слышно и колонка. Только осока будто шепчет, предупреждает всех — не верьте тишине!
Ещё какая-то тень появляется возле скрадка и исчезает. Присматриваюсь: это лиса. Она, вероятно, слышала крик уток, догадалась, что это разбойничает колонок, и решила проучить своего конкурента, напомнить ему, кому принадлежат тихие болота.
Лиса идёт следом колонка, подкрадывается к воде. Вот она затаилась. Долго ждёт. Знает, хитрая бестия, что конкуренту может повезти в его ночных похождениях.
Вдруг хруст яйца, ещё и ещё. Слышно, как колонок от удовольствия сладко чмокает… И тут колонка накрывает лиса.
Писк, драка, возня, короткая погоня…
Колонок позорно бежал. Но не смирился с потерей добычи. В наступившей тишине слышно, как острые лисьи зубы дробят яичную скорлупу и как в бессильной злобе фыркает на неё маленький разбойник.
Опять всё стихает.
В весенней тишине болот живёт только едва уловимое эхо ночной жизни. Пробудившиеся бесчисленные корешки трав, цветов, деревьев и днём и ночью всеми своими мочками жадно сосут влагу из земли. Миллионы ночных жучков, пауков, букашек, оживших после зимней спячки, торопятся насладиться короткой жизнью. Они кормятся, преследуют друг друга, торопятся заполнить мир своим потомством. Но от всей этой ночной жизни доносится лишь слабый отзвук, уловимый только напряжённым слухом.
Появляются летучие мыши. Они вылетают из дупла лиственницы, под которой мы сидим, и бесшумно исчезают в густеющем сумраке. Потом начинают беспрерывно носиться над болотами, звонко перекликаться. Оживают ночные крылатые хищники. Их много. Они наполняют шорохом таинственный мир болот. Суматошно мотается по редколесью в погоне за насекомыми козодой. Следом за ветерком прошмыгнула сова, вторая, третья. Пробил их час. Тысячи светлячков, больших и малых, блуждают по болотам, точно жонглёры вдалеке играют факелами. Раздаётся звонкий всплеск, шелест прошлогодней травы, и вдруг пронзительный крик кряковой у разорённого гнезда.
А вот кто-то невидимой рукою тронул ртуть болот, растревожил осоку, качнул вершины деревьев и как будто на минуту утихомирил этот враждующий ночной мир. В ласковом дуновении ветерка — покой…
Я передвигаю онемевшие ноги, сбрасываю с головы накомарник. Становится легче дышать. Из-за перелеска сквозь сучья деревьев поднимается в небо луна. И только сейчас я замечаю, как темна и черна эта ночь.
Пашка не выдерживает, засыпает, уронив свою безвольную голову мне на колени. Чувствую, и мне не устоять, не выдержать испытание ночи. Вдруг наваливается неодолимая усталость, я как-то сразу проваливаюсь в пустоту, и тихие болота исчезают, как видение...
Шум, точно взрыв, будит нас. Кто-то громадный с треском заваливается в соседнее болото. Мы не сразу понимаем, где находимся и что за шум разбудил нас.
«Шлёп… шлёп… шлёп…» — слышатся тяжёлые шаги по воде.
— Сохатый! — наконец шепчет взволнованный Пашка. Вмиг слетел сон. Казалось, всё замерло. Исчезли летучие мыши, убрался козодой, даже речка притихла. Всё-всё смолкло. И только сердце в груди стучит тревожно, громко.
Встреча с сохатым на болоте — наша с Пашкой сокровенная мечта этой ночи. Я делаю парнишке знак, чтобы не шевелился, легонько даю тумака в бок.
Кладу ружьё поудобнее, чтобы в случае надобности можно было бесшумно приложить его к плечу. Но это по привычке: стрелять в сохатого я не собираюсь.
«Шлёп… шлёп… шлёп…» Зверь близко. Слышу, как глубоко грузнут его ноги в тине и как он, с силой вырывая их, не спеша идёт к нам…
Вижу, как в полосу горизонта, где сливается лохматый край осоки с небом, впаивается тёмный силуэт рогатого зверя. Теперь даже шёпот может выдать нас.
Сохатый долго стоит вполоборота, испытывая наше терпение. Мне всё время приходится одёргивать Пашку: того и гляди, сорвётся и побежит к нему, не зная зачем.
Уткам, видно, привычна близость зверя. Они полощутся, ныряют, то и дело встряхивают перья.
Низину накрывает волна тёплого воздуха. Земля начинает потеть, и лёгкий туман заволакивает болото вместе с плавучими островками, хлопотливыми утками, рогатым зверем. Густея, туман подступает к скрадку, заслоняет от нас последние метры пространства. Какая досада! Надо же было появиться ему в то самое время, когда лось совсем близко!
Сидим, терпеливо ждём — не появится ли ветерок. Ухо ловит в предутренней тишине знакомый журчащий звук. Он зародился в вышине и, падая на землю, делается похожим на нежное блеяние. Через две минуты звук повторяется ещё и ещё. Это бекас.
Вдруг резкий крик чирка, торопливый взлёт, и удаляющийся шёпот крыльев. Кто вспугнул уток? Что это значило?
Туман качнулся, оторвался от влажной земли, приподнялся и повис плотным, непроницаемым сводом на метровой высоте. Какое великолепное зрелище открылось в этой свободной от тумана узкой полоске! Болото лежит в тяжёлой, свинцовой синеве, впаянное в зелень. А окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоёма. Кажется, вот сейчас из воды появится добрая фея, раскроет белые кувшинки на воде и начнётся сказка…
В просвете появляется что-то живое, но это не добрая фея, а какое-то длинное, несуразное существо, напоминающее крупную птицу с откинутыми кверху крыльями. Да ведь это наш сохатый! Его огромная туша скрыта под водой, видна только рогастая голова, да иногда всплывает тёмная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде. Как легко шныряет он по зелёным закоулкам болота, срывая припотевшую листву. Ни разу не прислушался, не осмотрелся, будто купается под охраной надёжных сторожей.
Боюсь, Пашка выйдет из повиновения и спугнёт лося. Всё, что досталось ценою почти бессонной ночи, пропадёт. Молча охватываю его обеими руками, прижимаю к себе, и мы вместе не сводим глаз со зверя. Он всё ближе подплывает к нам.
Где-то над болотами луна, но под туманом сырой сумрак. Сохатый обшаривает противоположную кромку болота и, когда его нога касается дна, поворачивает назад, к глубине. Вижу, как он пытается подняться на плавучий остров, подминает его под себя и неожиданно исчезает вместе с ним под водой. Заметна только едва движущаяся по поверхности полоска спины.
Не часто такое увидишь!
В воде сильно булькнуло, и на поверхности появилось множество пузырьков: это зверь сделал выдох под водой. Ещё несколько секунд, и вместе с островком всплывает голова сохатого с охапкой водорослей во рту. И даже теперь, когда шумно стекающая с головы вода выдаёт его присутствие, лось не осматривается, не прислушивается.
Он спокоен, видимо, тишина болота никогда его не подводила.
Застыв на одном месте, зверь долго жуёт, тихонько причмокивая толстыми губами. Хорошо ему ночью в прохладной воде, под плотным сводом тумана...
Но вот ветерок налетел на болото с нашей стороны. И мгновенно сохатый насторожился, почуяв присутствие человека. Его охватывает страх. Он гребёт изо всей силы всеми четырьмя ногами к противоположному берегу, шумно дышит. Пашка вскакивает, валит скрадок, бросается к болоту, но тут я ловлю его за штанину, удерживая, подминаю под себя.
Между тем какая-то неудержимая сила выносит зверя на твёрдый берег, и он ныряет в туман. В узком просвете между землёй и туманом мы видим только мелькающие ноги.
И тут всё живое вдруг ополчается против нас. Кряковые, чирки, гуси, кулики поднимают протестующий крик — кто посмел нарушить покой тихих болот?!
Пашка освобождается из моих объятий, смотрит на меня исподлобья, хитро улыбается.
— Куда тебя понесло, зачем к болоту рванулся? — спрашиваю я, усаживаясь на своё место.
— Эх, оседлать бы его в воде! Вот прокатился бы!
— Да ты что, в своём уме? На нём, парень, в беге не удержаться — ветром сдунет!
— Так уж и сдунет? Только бы оседлать… А чего вы не стреляли?
— У меня нет разрешения на отстрел. Да и зачем он тебе мёртвый? И без стрельбы чего только не насмотрелись. Спасибо, Пашка, что притащил меня сюда.
Уходит тьма. Ветерок прорвался в перелесок, ласково коснулся лица. Туман закачался, тронулся, словно ледоход.
В разводьях заголубело чистое небо.
В зеркале болота потухают звёзды. За горами властно нарождается день, а с ним пробуждается природа. Свет гонит с земли ночную истому и всё больше озаряет мир, наполняет его суетою, криками обрадованных птиц, запахом хвои, цветов, влажной земли.
Над нами, встречая восход, кружится чёрный коршун, изредка роняя на землю своё грозное: «Кью-ю-ю… Кью-ю-ю…» Лесной ветерок доносит из-за болот стон кроншнепа: "Ку-у-лик... Ку-у-лик..."
По самому краю бережка, хватая на бегу букашек, шныряют трясогузки, важничают турухтанчики. У скрадка танцуют две рыжие бабочки. С каждой минутой воздух наполняется новыми голосами, жужжаньем, писком, дракой, шелестом травы — утро входит в свои права.
Туман редеет, клочьями ложится на болото, жмётся к осоке.
Пора и нам возвращаться на стоянку.
— На обратном пути ещё сюда… — Пашка не договаривает, хватает меня за плечо, косит удивлёнными глазами куда-то вправо.
Осторожно поворачиваю туда голову и тоже немею: на кромке болота, в прозрачном клочке тумана вырисовывается силуэт рыжего козла. Он весь насторожен, в страхе пялит на нас свои огромные чёрные глаза, готовый вмиг броситься наутёк.
— Да это Борька. Боренька! Боря! — протяжно кричит Пашка, выходя из-за лиственницы и протягивая руки.
Козёл удивлённо вскидывает голову, на миг замирает, затем крутит рогастой головой, нюхает ветерок, налетающий от нас, и наконец осторожно вышагивает вперёд.
Вот так встреча!
Козёл узнаёт Пашку, прибавляет шаг, налетает на него, тычет влажной от росы мордой то в один, то в другой карман. Парнишка выворачивает их и, приседая, шепчет ему на ухо:
— Знал бы, что встретимся, принёс бы что-нибудь тебя попотчевать.
Но Борька подвергает Пашку более тщательному обыску: засовывает свой нос под телогрейку, сбивает шапку, облизывает лицо. Потом, точно за какую-то провинность, бьёт изо всей силы лбом в бок. Пашка податливо валится на землю, хохочет во весь рот…
Я подхожу ближе. Мне тоже хочется, чтобы Борька толкнул меня, хочется тоже упасть и хохотать вместе с Пашкой…
На болото падает первый луч восхода. Борьку охватывает беспокойство: он долго щурится на выглянувший край солнца, будто что-то вспоминает, и внезапно покидает нас.
Пашка вскакивает. Мы смотрим Борьке вслед. Огромными прыжками несётся козёл по мелким болотам, подбрасывая высоко зад с белым фартучком и поднимая столб брызг.
Всё дальше и дальше уходит он в синеву тихих болот и там, за лесом, исчезает.
Далеко он заходит в своих ночных прогулках!
— Домой спешит, — улыбаясь, говорит Пашка, — не хочется ему виниться перед тёткой Марфой да перед Петькой.
— Сколько же километров до Марфиного зимовья? Пашка пропускает мимо ушей мой вопрос: у него свои думки.
— Мне бы Борькины ноги…
— Что бы ты делал?
— Всю землю обежал…
— Так без остановки и обежал?
Он с серьёзным видом поворачивается ко мне.
— В Индии бы задержался. — Глаза его сияют несбыточной мечтой.
— Почему обязательно в Индии?
— Из-за слонов, — живо поясняет он. — Недавно идём мы с дедушкой по джунглям. Лес густющий, обезьян видимо-невидимо. Гляжу, выбегает слон — и на дедушку. Схватил я его за хвост, а он всё прёт. Я и потянул изо всех сил: шкура с хвостом в руках осталась, а слон убежал.
— Ну и фантазёр же ты, Пашка!
— Да ведь это во сне! Ей-богу, во сне. А то как-то львов видел…
— Ну как-нибудь расскажешь потом. А теперь пошли на стоянку. День начался, а мы ещё на болотах…
Гурьяныч за утро хорошо поработал: срубил лиственницы на крыше избушки, заколотил в ней окна, двери, подпёр двумя столбами покосившуюся стену, убрал мусор. «Вот это настоящий хозяин пришёл в тайгу», — подумал я с гордостью за старика.
Увидев нас, не спеша снял котелок, стал раскладывать по чашкам гусятину. Мы с Пашкой набросились на еду. Старик дождался, когда у нас прошёл первый приступ голода, спросил:
— Приходил зверь?
— Здоровущий!.. — отвечает парнишка, запихивая в рот кусок хлеба.
— Значит, пофартило. Какой-то сохатый тут ещё живёт.
— И Борьку видели.
Старик пронизывает внука недоверчивым взглядом.
— Неужто, шельмец, сюда прибегал? А впрочем, до Марфиного зимовья, ежли напрямик срезать, не так уж далеко. Узнал?
— Как же, узнал, сразу начал по карманам шарить.
— Ишь ты, баловник, — душевно отозвался Гурьяныч. — Даром что зверь, а умственно понимает человеческую ласку. Не шкодили бы мы в тайге, уняли бы свою жадность, смотри, как звери расплодились бы. Приволье им тут какое! И корма сколько хошь. Вот об чем тебе, Пашка, думать надо.
Глава 11 ВЫСТРЕЛ
Солнце заглянуло в лощину. В лесу, прохваченном ночной сыростью, ещё лежали густые тени, а мы уже пробирались по чаще всё в том же северо-восточном направлении.
Белый холодный туман сползал по лезвиям отрогов и таял: к вёдру. Под ласковыми лучами солнца тайга наполнялась неукротимой жизнью. Всё живое торжествовало, и каждое существо на свой лад славило наступающий день. Но вот раздался какой-то загадочный звук. Все прислушались. Кто-то в чаще то свистнет, то будто стукнет в сушину, то забулькает, точно полощет горло. Звуки чередовались, звучали то громче, то нежнее, тише и вдруг полились звонкой трелью. Всё замерло вокруг. Никто не смел перебивать лесного певца… Гурьяныч стащил с мокрой головы шапку и, прижав её обеими руками к груди, слушал улыбаясь. А Пашка стоял рядом, зажмурив глаза… Я тоже с наслаждением вслушивался, пытаясь угадать, кто поёт.
— Варакушка! — шепнул старик, заметив мой вопросительный взгляд.
Я готов был провалиться со стыда — не узнал знаменитого стоголосого лесного музыканта, который слагает свои песни из песен всех лесных птиц, повторяет разнообразные звуки окружающей природы и выводит свои трели с таким мастерством, что, пожалуй, и соловей позавидует. Услышит песню пеночки и мигом включит её в свою симфонию, а в неё вставит один-два звука из трели дрозда или крика желны. Словом, варакушка — выдающийся пернатый композитор, и слушать его — одно наслаждение.
— Видать, ему ночи не хватило. Ишь как наяривает, за моё почтенье. Слышишь, зажурчал ручейком и не захлебнётся, шельмец. — Вытянув по-птичьи шею, Гурьяныч посмотрел в густой лесной сумрак, пронизанный полосами солнечного света, и двинулся вперёд. Еле заметная звериная тропа скоро потерялась.
— Пашка, как думаешь, распадком лучше или косогором пройдём? — спросил он внука.
Пашка деловито глянул вдаль:
— Распадком, должно, меньше завала.
— Ну что ж, испытаем. Благословен путь, — произносит старик, сворачивая в распадок.
Идём еле заметными просветами, обставленными кедрами, пихтами, лиственницами. Перешагиваем через могилы лесных великанов, прикрытые ярко-зелёным мхом. Мнём одряхлевшие пни. Кое-как протискиваемся сквозь колючие заросли и наконец попадаем в непролазную чащу.
— Пашка, бери топор, айда, руби проход. Стали попадаться заплесневелые болота.
Кругом глушь, ни единого следа пребывания человека: ни порубок, ни остатков огнища, ни затесок.
Вдруг слева раздаётся пугливое цоканье белки. Гурьяныч вскидывает голову, останавливается. Зверёк спешит по стволу толстой берёзы к вершине, липнет к сучку и с любопытством осматривает нас сверху.
— Пашка, вернись, какое чудо покажу. — И старик тычет посохом в ствол. — Родник в берёзе. Дятел пробил клювом кору, напился медовушного сока, потом, вишь, белка прибежала, может, и бурундучишко уже наведывался и, охмелевший от сладости, где-то на солнышке дремлет. Запомни: конец мая — самое время соков. Чуть задень кору — и он брызнет, польётся…
— Пить охота, — перебивает просящим тоном Пашка.
— Можешь соку попить. Дай топор.
Ловким ударом топора Гурьяныч сделал две глубокие зарубки, пересекающиеся внизу под прямым углом. Сок брызнул, точно белая кровь из свежей раны. Старик в место пересечения воткнул прутик, и по нему непрерывной струйкой побежала влага.
— Ну-ка, Пашка, утоли жажду берёзовой сладостью, отведай лесного напитка, — говорит старик, отступая от берёзы.
Пашка подставляет под струйку сложенные ладони, ждёт, когда набежит сок, пьёт его жадно, громко, смачно облизывая губы, и опять подставляет ладони под прутик.
— Ну и сладка водица! — восторгается он.
Идём дальше. В вершине распадка лес поредел, измельчился. Мы неожиданно вышли к озерку, покойному, грустному, как все лесные озёра. В его прозрачной глубине лежит чистая синева неба, проткнутая по краям отражёнными в воде вершинами береговых елей. Дальше местность меняется, с двух сторон нас сжимают горы. Мы идём по дну глубокого каньона. Над нами нависают угрожающие стены скал, прикрытые лоскутами синего неба. Место дикое. Ни тропинки, ни следа человека.
Ущелье уводит нас в глубь гор. Мы видим впереди — их заснеженные пики и зубчатые гребни, урезающие тёмные провалы. Тут, в ущелье, иной мир. Нет задыхающейся растительности, буйства природы, птичьих песен. Сюда не заходят тёплые ветерки, не заглядывает живительное солнце. На крутых гранитных стенах и в расщелинах лежат вечные тени.
Уходим в самую глубину ущелья. Здесь ещё теснее. Непродуваемая сырость. Пашка идёт впереди, торопится, хочет скорее пройти этот мрачный, отрезок пути. Гурьяныч нет-нет да и подбодрит криком Кудряшку, и тогда вдруг пробудятся скалы, перекликнутся, заговорят и снова надолго умолкнут.
Там, где серебристые нити ручейков сливаются в один ручей, мы останавливаемся передохнуть. Предстоит крутой подъём на перевал. Кудряшке ни за что не вынести своего вьюка. Мы с Пашкой берём на себя часть груза. Да и Гурьянычу не легко будет подняться на высоту.
Под хребтом ещё утро. Прозрачные облачка плывут над горами и бесследно тают в далёкой синеве. Ветерок наносит весенний аромат посвежевших хвойных лесов, рододендронов, набухающих почек багульника, мхов и отогретых камней. Зелёные лужайки окаймляют россыпи, на влажной почве первые цветы, и над ними уже крутится обольщённый шмель. Только берёзки стоят раздетые, не верят теплу, птичьим песням, ручейкам, боятся — обманет их капризный май.
— Пошли, — поднимается Гурьяныч. — Ты, Пашка, круто не бери, уйми свою прыть, косогором веди. Держи вон на ту лиственницу, со сломанной вершиной, а дальше повернёшь вправо, и опять же косогором. Понял?
— Далековато будет косогором, — по-взрослому отвечает Пашка и, прикрывая ладонью от солнца лицо, деловито косится на подъём.
— Зато легче ногам, — настаивает старик.
Мы трогаемся. Кудряшка, горбясь, поднимается медленно, ощупывая копытами шаткую россыпь. Гурьяныч постепенно отстаёт. Ничего удивительного -ведь ему за шестьдесят. Годы чуточку сгорбили его спину, укоротили шаг, посеребрили бороду, только глаза, мудро выглядывающие из щёлочек, сохранили свежесть. Как хорошо они видят окружающий мир. Должно, всё им понятно, ничего их тут не удивляет, а возможно, удивляет, да только по-своему.
Долго петляем по косогору. Забираемся в непролазную чащу стлаников. Обходим скалы и выбираемся на крутизну.
Мы без сговора останавливаемся, поворачиваемся к пройденному пути. У наших ног лежит огромное пространство беспредельных лесов, полных романтики, загадочности, прошитых серебристыми лентами извилистых рек. Наконец-то мы выбрались из безотрадной лесной чащи и смотрим на неё с высоты.
Проходим с Пашкой последние двести метров.
Справа и слева седловину урезают скалы, убегающие узкими грядами в поднебесье. Лес обходит их, устремляется по склону к солнцу, но каменные потоки, стекающие с вершин гор, преграждают ему путь, а зимние обвалы отбрасывают назад, чтобы лес снова начинал свой трудный и долгий путь к солнцу.
Сбрасываем с Кудряшки вьюк, собираем сушняк для костра, навешиваем котелок с водой. Наконец-то приходит Гурьяныч.
— Эка беда! — жалуется он. — Куда девалась сила?! Лет десять назад конь тут на подъёме охромел. Снял я вьюк, на плечи себе взвалил, вышел наверх — хоть бы что! А сейчас, вишь каки дела, себя не могу поднять.
— Вам, Гурьяныч, ещё подождать надо жаловаться на старость, — успокаиваю я старика.
— Не жалуюсь, но что было — того нет. Жизнь человека, сдаётся мне, неладно устроена. Молодым был — до всего лип. Подрос — всё хотелось знать, видеть. И вот, с годами, как будто понял, что к чему, опыт пришёл, только бы жить, ан нет — отставка по старости. Никуда не годится! — грустно заключает старик.
Садимся поближе к костру. Я разливаю чай. Пашка развязывает сумы, достаёт хлеб, испечённый бабушкой в русской печке, из размольной муки, на капустном листе. Разрезает буханку пополам, кладёт срезом к жару, и хлеб сразу дохнул приятным пшеничным ароматом. До чего же он кажется вкусным тут, на горном перевале, среди скал, под синим, как нигде близким, небом.
Потом парнишка режет сало. И вдруг у него из рук выпадает нож, он смотрит куда-то вверх, хочет что-то сказать, но не может — заикается. Мы с Гурьянычем поворачиваемся, смотрим туда же.
— Зверь!.. — вырывается наконец-то у Пашки.
Я напрягаю зрение. Где же зверь? Скалы зубцов уходят в нежно-ласковое небо. Вижу, там, на самой вершине утёса, кто-то живой замер резным силуэтом на фоне густой синевы. Узнаю рогача — снежного барана. Как далеко до него и как волнующе близко кажется этот живой комочек. Зверь поворачивается к нам, шагает к краю пропасти и снова замирает.
Пашка, будто ослеплённый, лезет через «стол» к Гурьянычу. Обнимает дедушку сзади, кладёт подбородок на его левое плечо, и они оба смотрят на барана. Его присутствие освежает угрюмые скалы и синеву пустого неба. Какое это великолепное зрелище! Как здорово устроила природа, поселившая круторогов на этих мёртвых вершинах — чтобы и на них была жизнь.
Потом Пашка мякнет, лицо озаряет какая-то мысль. Он сползает со спины старика, усаживается рядом, весь прижимается к нему.
— Ну, что тебе? — спрашивает растревоженный лаской внука Гурьяныч.
— Пусти меня, я мигом вернусь. Правду говорю, не задержусь! — В его голосе столько нежности, что, кажется, хватило бы на весь мир.
«Ну и хитёр же ты, Пашка!» — думаю я, наблюдая за этой сценкой.
У старика смыкаются брови. Переборов в себе волну каких-то чувств, он говорит:
— Ещё чего захотел, — и строго в упор глядит на Пашку.
— Только близенько гляну на него и — назад… Отпусти, дедушка, —тянет тот нараспев.
Старик поднимает голову, смотрит на скалу. На ней уже нет барана. Пустой утёс, как бы осиротевший.
— Ушёл, — облегчённо вздыхает Гурьяныч.
Он легонько отодвигает от себя Пашку, поворачивается к «столу». Я кладу на хлеб ломоть сала, даю старику, пододвигаю к нему кружку с чаем.
У Пашки уже что-то рождается в голове, его захватывают новые планы. И хотя он знает, что дедушка отвергнет любое его предложение, кроме одного — скорее идти к Кедровому ключу, но всё же решается.
— Бараны, видать, быстро бегают по горам, — начинает он издалека.
Гурьяныч берёт хлеб, откусывает и не торопясь жуёт.
— Ты, дедушка, как-то ещё дома говорил, мясо у дикого барана сладкое да пахучее…
Старик отводит глаза от Пашки, откашливается.
— И бабушке припасти неплохо кусочек, она же просила что-нибудь принести из тайги, — нажимает внук на доброе сердце дедушки.
Потом он молчит. Заронил искорку в душу деда и выжидает, когда тот поразмыслит, но через полминуты переходит в наступление.
— Дедушка!..
Тот поднимает глаза, смотрит на Пашку почти с укором: сердце-то не камень!
— Ну, что ещё?
Пашка, видимо, по голосу догадывается, что старик начинает колебаться.
— Пойдёмте наверх, посмотрим баранов, может, одного добудем; я ребятам в школе обещал привезти шкуру зверя для чучела. Пойдёмте, а?!
— Ты с ума сошёл, кака охота весной, чему тебя учу?
Пашка делает минутную передышку. Все пьём чай.
— Потом тебе трудно будет ходить по горам и не покажешь мне баранов, — начинает снова Пашка.
Гурьяныч отворачивается.
— Сам же говоришь, что до Кедрова ключа теперь — рукою подать, чем там дожидаться — лучше сходить наверх. И подъём не ахти какой.
— Пристал, как банный лист! — Старик поднимается, поправляет огонь.
Пашка ловит мой взгляд, кивает головою, взглядом просит поддержать его. По правде говоря, мне его идея понравилась. Не плохо полюбоваться снежными баранами на вершинах гор. Как тут не поддержать?!
— Гурьяныч! — обращаюсь я к старику. — Может, Пашка и прав, если действительно у нас есть время — давайте сходим наверх. Пусть посмотрит на баранов… Может, вы устали, тогда отдохните, мы вдвоём…
Гурьяныч стоит к нам спиною, молчит. Затем начинает складывать вьюк, накрывает брезентом, на края кладёт камни, чтобы ветром его не сдуло.
Пашка торжествующе вскакивает, бежит к дедушке, обнимает, жмётся к нему, а глаза хитрые-хитрые.
Через десять минут мы покинули стоянку. Нас провожает уставшими глазами Кудряшка. Пашка машет ей рукою, кричит:
— Вернёмся с добычей!..
— Чего орёшь, каки тут бараны будут после крика, — сердится Гурьяныч. — И помни, вернёмся — поспешать будем без отдыха.
Пашка стихает. Сейчас он послушный, всё готов исполнить, лишь бы идти.
Поднимаемся по заповедному гребню. До скалистых вершин не так уж далеко. С нами на вершину бегут лиственницы. Они цепляются обнажёнными корнями за камни, лезут по скалам, нависают над чудовищными пропастями. Но выше лес редеет, выклинивается, уступая место более приспособленному к суровому климату высокогорья кедровому стланцу.
— А знаешь ли ты, Пашка, что раньше, давно-давно, здесь, на хребте не было ни леса, ни травы, ни даже лишайников, только камень? Лес поднимался сюда очень долго… Много тысяч лет, а то и миллион.
— Миллион лет? Так долго?! — удивляется парнишка.
— Когда сформировались эти горы, тут был только камень, и растительность постепенно поднималась снизу. Там она появилась раньше.
— Миллион лет!.. — Это поразило Пашку.
— И ещё долго будет подниматься до верха. Там, видишь, всюду россыпи, нет почвы, да и россыпи всё время движутся, ещё идёт процесс разрушения.
Мы взбираемся к верхней зоне леса. Тут он растёт мелкий, жалкий, чудом удерживаясь на шаткой каменной подстилке или припадая стволами к скалам.
— Пашка!.. — кричит сзади Гурьяныч. — Айда сюда!
Мы спускаемся к нему.
— Глянь, как её изувечила стужа! Не дерево, а урод. — Старик показывает на лиственницу, комелистую, всю простреленную дырами и обхватившую цепкими корнями камень, на котором растёт. — Трудно ей тут, вишь, как сгорбилась, почти без веток, а живёт. С природы, внучек, бери пример, как надо бороться за жизнь, трудностям у этих деревьев учись. — Он тычет посохом в дерево.
Лес остаётся позади, но ещё изредка попадаются уродливые деревца, совсем карликовые, распластанные по россыпи. Они прячутся за камни от смертоносного холода, не смея выглянуть, не зная солнца, точно тайком пробираясь в стан врагов, чтобы отвоевать у них полоску земли для своего потомства. На них лежит неизгладимый след извечной борьбы жизни и смерти. Когда смотришь на эти лиственницы, не поднявшиеся и на сантиметр выше россыпи, состарившиеся над камнями, тебя захватывает чувство восторга, — какая жизнестойкость у этих изувеченных борьбою деревцев, поселившихся на открытых курумах.[5]
Остаётся метров сто до края цирка. Дальше будет легче. Гурьянычу всё труднее идти. Он дышит тяжело, всё чаще присаживается отдохнуть. А ведь ещё неизвестно, как скоро мы найдём баранов в этих скалистых щелях гор.
Пашка всё время рвётся вперёд, но я сдерживаю его, заставляю идти следом за мною.
На изломе нас поджидает единственная лиственница. Непонятно, какие силы удерживают её на кособоком камне? Она ещё молодая, но её ствол голый, весь в трещинах. Нутро дупляное. И только на солнечной стороне тянется узкой полоской живая кора от корней до вершины, питающей единственную веточку, обращённую кверху, как бы зовущую на штурм россыпей. В этой позе она кажется богатырём.
Я подбираюсь к последним уступам. Прошу Пашку подождать, пока я взберусь наверх, чтобы его не сбил случайно сорвавшийся камень. Берусь руками за выступ, нащупываю повыше ногами опору, приподнимаюсь. Схожу по карнизу влево. Снова карабкаюсь, пока не выбираюсь на крайний уступ.
Сажусь отдохнуть.
За мною поднимается Пашка. Он торопится, прыгает с карниза на карниз как баран. Вот вижу, он у лиственницы, наклонившейся к обрыву, левою рукой ловит за корень, а правой машинально хватается за единственную веточку. Слышу треск. Веточка надламывается, повисает на коре, а Пашка, не удержавшись, срывается, не успевая схватиться за выступ.
Я помогаю ему подняться наверх.
Сидим, ждём старика. Он долго и трудно взбирается по уступам. Присаживается на камне рядом с лиственницей, начинает развязывать ремешок на ичиге. — Зачем разуваетесь, ногу ушибли? — спрашиваю я.
Гурьяныч не отвечает.
Поднимаюсь, подхожу к нему.
Его лицо вдруг помрачнело. Он отрезает длинный конец ремешка, встаёт, подходит к лиственнице. Мы молча наблюдаем за ним. Старик прикладывает к стволу надломленную веточку, как она была раньше, и начинает прибинтовывать её. Меня это буквально уничтожает. Пашка виновато краснеет. Он, кажется, догадывается, что погубил единственное деревцо, поднявшееся так высоко к границам мёртвых курумов, чтобы осеменить каменные склоны, зародить на них жизнь.
Старик не торопясь продолжает обматывать ремешком рану. Тугим узлом связал концы. Он, конечно, понимает, что ветка не срастётся и что дерево погибло, но он делает это потому, что не находит слов выразить свой гнев.
Гурьяныч подходит к нам, присаживается рядом. Ни упрёка, ни единого слова, и это молчание было для Пашки тяжёлым испытанием.
— Я же нечаянно, дедушка, — оправдывается Пашка, а сам не может оторвать от дедушки повлажневших глаз.
Я тоже смотрю на старика. Даже теперь, в гневе, его лицо освещено изнутри какой-то удивительной добротою, присущей немногим людям. Он всё больше поражает меня своим мудрым отношением к природе, своею удивительной слитностью с нею. На всю жизнь осталась в памяти эта лиственница над скалистым обрывом, с единственной прибинтованной ремешком веточкой, как символ заботливого отношения человека к природе.
Старик не может долго гневаться. Пашка по каким-то, ему одному известным признакам догадывается, что у старика размякло сердце, поднимается, идёт молча рядом с ним, взяв его за левую руку. И мне вдруг становится легко видеть их идущими рядом.
На седловине находим звериную тропу. Свежие следы только что пробежавших по ней снежных баранов обнадёживают нас. Мы сворачиваем вправо, преодолеваем ещё небольшой подъём, входим узким коридором в обширный цирк.
Он как-то весь сразу открывается взору. Какую колоссальную работу надо было некогда проделать леднику, чтобы выпахать в граните такую глубину. Цирк с трёх сторон окантовывают неприветливые стены скал, врезающиеся в мощный отрог. Они стары, со следами былых разрушений. На дно цирка никогда не заглядывает солнце. Тут вечный покой, разве камень сорвётся с утёса, или ворон, древний житель этих гор, прокричит на закате. В затхлом, никогда не продуваемом воздухе запах заплесневевших камней.
Ветерок проносится вперёд и вдруг грохот россыпи потрясает тишину. Пашка вырывается вперёд, но, точно заворожённый, останавливается. Видим, как на белую полоску снежника у озерка выскакивают два крупных барана-рогача, видимо только что прибежавших в седловину. Они пересекают снежник и начинают подниматься по скале. Животные скачут с уступа на уступ, липнут копытцами к шероховатой поверхности стен, мелькают над пропастями, уходят ввысь и там задерживаются, выкроившись резными силуэтами на фоне голубого неба.
— Ушли! — чуть не со слезами бросает им вслед Пашка.
Мы долго стоим. Парнишка всё ещё не может оторвать взгляда от лохматого края скалы, за которой скрылись крутороги. Они здесь, на фоне мёртвых каменных громад — цари.
Сворачиваем с седловины. Поднимаемся по пологому гребню, усеянному обломками камней. Справа всё тот же цирк, на дне его теперь мы видим цепочку мелких озёр, соединённых между собой ручейками и окружённых вечнозелёными рододендронами. Слева же взору открывается весь хребет в провалах, нагой и огромный. Нас окружают толпы вершин, дерзко поднявшихся к небу, молчаливых и угрюмых. Здесь нет молодых камней, нет новых громад — всё вымученное, старое, бесплодное. И трудно поверить, что на этих давно умерших вершинах обитают чудесные прыгуны — снежные бараны.
Медленно идём по гребню. Пашка — впереди, весь напряжённый. Кажется, никогда его глаза так хорошо не видели, как сейчас. Ничто не ускользает от них.
Иногда пересекаем впадины, покрытые зарослями полярной берёзки или карликовыми стланиками. Попадаются тут, в поднебесье, и заболоченные площадки, с яркой зеленью только что пробившейся травы, уже истоптанной следами снежных баранов.
А день в полном разливе. И сюда, к этим угрюмым вершинам, пришла весна. Там, где есть среди обломков хотя бы горсточка земли, гордо поднялись ростки жизни. В кустарниках птицы. Их очень мало здесь. Надо слишком любить одиночество, это каменное безмолвие, чтобы считать своей родиной заросли уродливых рододендронов, выросших на развалинах скал.
Выходим к небольшой котловине. Под ногами тропка. Она вьётся между крупных обломков, ведёт нас к гребню, сбегающему с отрога куда-то вниз.
Вдруг до слуха доносится стук потревоженных кем-то камней. Мы, все разом, останавливаемся. Стук повторяется. Там же, за гребнем, но как будто ближе. Гурьяныч оживляется, сбрасывает с плеч усталость. Молча грозит нам с Пашкой пальцем, предупреждает быть осторожными. Выходит вперёд. Стук смолкает.
Мы по-рысиному неслышно крадёмся к гребню. Старик, подаёт нам знак затаиться.
Ветерок в лицо — это хорошо. Нас не обнаружат.
Опять стукнуло, теперь совсем рядом.
Гурьяныч приподнимается, просовывает вперёд ствол ружья, выглядывает по-кошачьи из-за камня. Я держу Пашку за телогрейку, только выпусти — и он мигом выкатится на гребень. Как же ему трудно с нами!
Вижу, у Гурьяныча пропадает напряжённость. Ружьё бесшумно сваливается на камень. Он поворачивает к нам улыбающееся лицо, просит нас осторожно подняться к нему.
Впереди небольшая изложина, у её противоположного края пасётся крупный баран. Зверь подвигается к нам. Он на таком расстоянии, что его легко рассмотреть. Баран приземистый, длинный, на коротких ногах. По внешности трудно в нём угадать чудесного скалолаза. Узкий, с белым родовым пятном лоб увенчан устрашающими рогами.
Мы замираем, липнем к обломкам, боимся пошевелиться или высунуться. Пашка поворачивает голову налево. Я кошу туда глаза и от неожиданности столбенею; в пятидесяти метрах от нас, на пригорке дремлет самка, отбросив голову с маленькими рожками на камень, а рядом ягнёнок. Он забавляется: то бросается в сторону от матери и, угрожая невидимому врагу, трясёт лобастой головкой, то начинает упражняться в прыжках, подскакивая на камнях, как мячик. Но одному ему скучно. Он замечает ниже по склону барана, мчится к нему. Тот поднимает величественную голову, и их взгляды встречаются. Один — огромный зверь, в расцвете сил, а второй — ещё крошечный, только вступающий в жизнь. Меньший робко подвигается вперёд, вытягивая любопытную мордочку, явно намереваясь обнюхать незнакомца. У барана пропадает царственное спокойствие. Он начинает пятиться назад, подставляя ягнёнку могучие рога. Тот удивлён. С опаской обходит рогача снизу и опять вытягивает свою любопытную мордочку, чуточку курносую, хочет обнюхать его.
Ягнёнку всего несколько дней, может, два. Вероятно, он ничего не видел, кроме этой каменной разложины, где родился, да двух-трёх манящих к себе вершин. Возможно, и этот круторог первый из собратьев встретился ему в его ещё крошечном поднебесном мире.
Он как будто в восторге скачет обратно на пригорок, будит мать крошечными копытцами. Та поднимает голову, долго, пристально смотрит на пасущегося рядом барана. Затем чешет задней ногою возле уха и опять засыпает.
Слышу, Пашка настойчиво шепчет Гурьянычу:
— Дедушка, стреляй барана, я же обещал… Старик опускает левую руку, ловит ею Пашку за штаны и внушительно дёргает, дескать, сейчас же замолчи!
А ягнёнок вдруг поворачивается в нашу сторону и, как взрослый при опасности, замирает в настороженной позе.
В этот момент с воздуха доносится потрясающий свист крыльев — с неба на ягнёнка падает белохвостый орлан. На помощь малышу поспевает вскочившая мать. И мы видим, как выброшенные вперёд когтистые лапы хищника, не достав ягнёнка, чесанули по спине самки.
Баран, отскочив в сторону, замирает на камне, подняв высоко рогастую голову.
Нас никто не замечает. Гурьяныч вдруг заторопился. Он берёт ружьё, прикладывает ложе к плечу, липнет к камню. Пашка шепчет:
— Стреляй, иначе уйдёт. Старик отбивается от него локтем.
В воздухе снова приближающийся свист крыльев. Орлан повторяет удар, стремительно, с пугающим криком, падает на ягнёнка, но в эту секунду гремит сухой короткий выстрел…
Опустела котловина. Смолкло эхо. Рассеялся пороховой дым. Барана как ветром сдуло, от него остался только шорох камней под удаляющимися прыжками. А на том месте, где отдыхала самка с ягнёнком, лежал мёртвый орлан, распластав по земле безвольные крылья.
Пашка выпрямляется, смотрит то на мёртвую птицу, то на дедушку и торжествующе хлопает в ладоши: рад за ягнёнка, доволен дедом. Кажется, он забыл в этот момент про рогача, про чучело, что обещал привезти в школу.
Гурьяныч делает вид, что не замечает радости внука, достаёт бычий рог с порохом, заряжает шомполку и только потом поворачивается к парнишке.
— Молодое, внучек, беречь надо. Всё равно, ягнёнок это или веточка. Только жить — никуда не годится, надо чтобы твоя тропа знала добро.
Пашка утвердительно кивает головою. Он мигом перебирается через каменистую гряду, несёт к нам орлана. Это старый хищник в тёмно-буром наряде, чуть с фиолетовым оттенком, с жёлтым клювом и такого же цвета лапами, заканчивающимися чёрными когтями.
— Вот тебе и чучело для школы. Глянь, какой красавец, — восторгается старик, растягивая на полный размах могучие крылья. — Будет что тебе и рассказать ребятам. А что баран? Он сейчас линяет, никакого чучела из него не получится.
Старик быстрым взглядом смотрит на солнце.
— Ну, хватит, пошли на табор, — сказал он и зашагал вперёд. — Не для забавы ж всё-таки пустились в такую дорогу.
Глава 12 ПРОВОДНИК ДУЛУУ
На седловине нас встречает жалобным ржанием Кудряшка.
— Соскучилась, родимая, — кричит Гурьяныч, выбираясь из стланика.
Он подходит к лошади, чешет ей за ухом, хлопает ладонью по костлявой спине, а она так и стоит с высоко поднятой головою и настороженными ушами, будто кого-то ещё дожидаясь.
Мы не стали даже пить чай. Решили сразу спускаться в Кедровый ключ.
Проходим седловину. У края останавливаемся. Гурьянычу надо осмотреться, проверить себя. Нам хорошо виден пройденный путь и затонувшая в дымке молчаливая тайга под низким солнцем. Впереди же, там, куда идёт наш путь, вздымаются заснеженные вершины гор. До них километров сорок, но сквозь прозрачный воздух они кажутся рядом. Эти горы с одной стороны освещены солнцем, а с другой на них лежат густые тени. В таком освещении хребет обнажается всеми своими многочисленными изломами, выступами скал, извилистыми линиями отрогов, зияет чёрными отверстиями горных цирков. Несколько левее видны лесистые увалы, перевитые овражками, падями со сторожевыми маяками из белых мраморных утёсов. За ними снова тайга, С перевала она видна отчётливо: вырубки на ней лежат огромными заплатами. Видна и глубокая лощина — Кедровый ключ.
Наконец-то наш караван у цели! У спуска мы были приятно удивлены, увидев вдали, где сливались два верхних истока Кедрового ключа, одинокую струйку дыма. Это, несомненно, проводник из подразделения Макаровой. Я поднимаю ствол ружья, выстрелом предупреждаю проводника о нашем приближении.
Мы так рады, что забываем об усталости. Тропа бежит по косогору, падает в глубину боковых ложков, проводит нас сквозь густую чащу. Здесь в сырых местах попадаются на глаза следы медведя.
Идём на стук топора. Перебредаем мутный от тающего в горах снега ручей, выходим на поляну. В углу её, там, где видны остатки брошенного лагеря Макаровой, горит костёр. Рядом у берёзы стоят два нерасседланных оленя. Нас встречает эвенк лет пятидесяти, узкоплечий, небольшого роста, чуточку сгорбленный. На нём старенькая оленья дошка без шерсти, на ногах лосёвые олочи, аккуратно перевитые ремешками. Скуластое, обветренное коричневое лицо оживляют маленькие подвижные глаза. Он улыбается — рад нашему появлению, идёт навстречу лёгкими рысьими шагами. С первого взгляда угадывается следопыт-таёжник, человек лесных просторов, далёких кочевий. Он принёс с собой с вершин гор на изрядно поношенной одежонке запах рододендронов, через заросли которых он, наверно, долго шёл.
— Здорово! — приветствует он нас и подаёт всем поочерёдно свою маленькую жёсткую руку. — Хорошо, не опоздал, давай груз, и моя ходи!
— Куда же в ночь? Утром разъедемся.
— Что ты, тут близко олень корма нет, оставаться не могу, и Евдокия Ивановна шибко просила скоро вернуться.
— Скажи прежде, как звать тебя? — спрашивает Гурьяныч, развязывая верёвки на Кудряшке.
— Дулуу.
— Чудное имя.
— По-русски — пенёк.
— Слушай, Дулуу, чай пьём, разговариваем, потом. поедешь. Без этого, сам знаешь, в тайге нельзя. Хлебом деревенским угостим, — настаивает Гурьяныч.
Эвенк смотрит на него так ласково, точно увидел давно желанного друга, но не сдаётся.
— Задерживай не надо. Олень весь день не кушай, завтра голодный никуда не пойдёт, что скажу Евдокия Ивановна?
— Хорошо, Дулуу, решай, как тебе лучше, — говорю я. — Сейчас ты получишь груз. Жаль, конечно, что не можешь до утра побыть с нами.
Пока я с Гурьянычем развьючиваю Кудряшку, Пашка крутится возле оленей. Этих животных он впервые видит так близко. Его всё удивляет: и чёрные мягкие вздутия будущих рогов, и слишком широкие для небольшого роста северного оленя копыта, хорошо приспособленные для ходьбы по топким болотам, и чрезмерно длинная голова по сравнению с головой его собрата — благородного оленя. Парнишка то присядет, заглядывая на них снизу, то зайдёт спереди, то осторожно потрогает ещё не облинявший, в зимней шерсти зад. На его лице ненасытное любопытство. А в голове, конечно, уже зреют какие-то планы…
У нас для Макаровой небольшая посылка с конфетами и печеньем: в тайге женщинам всегда недостаёт сладостей.
Передаём эту ценность проводнику.
Дулуу бережно берёт посылку в руки.
— Тут паутина? — спрашивает он.
— Нет, это гостинец Евдокии Ивановне, а паутину сейчас дам. — И я достаю из кармана гимнастёрки бумажный свёрточек, передаю ему.
Проводник кладёт его на загрубевшую от сыромятных поводьев ладонь, на лице недоуменье: вот из-за этой паутины люди на гольце не могут работать и ему пришлось ехать так далеко за ней?
— Это всё? — спрашивает он и бережно прячет свёрток.
— Ещё отвези от нас привет Евдокии Ивановне и ребятам.
— Такой груз можно много бери, — шутит проводник.
Дулуу не нравится, что содержимое посылки плохо уложено, тарахтит. Он усаживается на землю, быстро распаковывает коробку. Мы наблюдаем за эвенком. Он кладёт себе в рот печенье и жуёт, не обращая на нас внимания. Затем берёт ещё два печенья, две самые большие конфеты и, запихнув это всё за пазуху, объясняет:
— Когда работа кончай, моя тоже вези гостинцы на стойбище, там есть старушка, есть сын, — говорит он, весело поблёскивая малюсенькими глазками.
Не зная обычаев эвенков, мы с Гурьянычем, вероятно, были бы смущены столь беззастенчивым хозяйничаньем проводника. Но мы и не думаем его упрекать. Всё это он делает, будучи убеждённым, что человек с человеком должны делить не только пищу, ночлег, но и горе и радость, он уверен, что имеет такое же право на печенье, как и Макарова — на добытое им мясо; что блага на земле должны распределяться поровну между всеми людьми. Всё это лежит в основе жизни эвенков — детей природы. Этим потомкам лесных кочевников чужды обман, воровство, хитрость. Вот почему мы не удивились, увидев, как Дулуу брал из посылки гостинцы для своей старушки и сына.
— Какой люди плохо паковал посылка, разве не знает, что вьюк не должен шуметь, зверь далеко слышит, пугается?..
Он аккуратно укладывает содержимое коробки, пустоту в ней заполняет мхом, тщательно утрясает.
— Дулуу, ты с какого стойбища? — спрашивает Гурьяныч.
— Селикан. — Марфу знаешь?
— Тёшкину бабу, что в Ясненском промышляет?
— Да, да. Хороший человек. Её сестра — моя старушка.
— Ну вот видишь, будто родственника встретил, — обрадовался Гурьяныч. — Как же не выпить с нами чаю! Что я скажу Марфе?
— Корм был бы — остался. — И проводник снова заторопился, стал укладывать потки (* Потка — вьючная оленья сумка).
Гурьяныч расстёгивает кожаные сумы и что-то ищет в них.
— Дядя Дулуу, — слышу вкрадчивый голос Пашки. — На олене можно верхом?
— Как же, постоянно ездим, — охотно отвечает проводник.
— А вы далеко ночевать будете?
— На перевале, однако, километров пять.
— Меня возьмёте?
— Пашка! — кричит Гурьяныч. — Чего затеваешь, не смей отлучаться.
— Дедушка, отпусти до утра: охота на олене покататься.
— Я те покатаюсь, баламут!
Пашка стихает и уже молча смотрит сухими, застывшими глазами, как Дулуу увязывает потки, перебрасывает их через седло вьючного оленя, перехватывает ремнём. Но что-то ещё задерживает проводника.
Он достаёт из-за пазухи трубку, вырезанную в виде пасти медведя из берёзового наплыва с прямым и длинным таволожным чубуком. Трубка наверняка побывала в руках хорошего мастера. С какой тщательностью вырезана голова хищника с характерным медвежьим прищуром глаз, с маленькими тупыми ушами, с пятачком! Видно, мастер хорошо владел резцом.
— Возьми, — обращается проводник к Гурьянычу, — скажи Марфе, что это Дулуу делай, теперь будет её.
— Спасибо, передам. А это тебе от нас домашнего хлеба и немного чая.
Эвенк растроган заботой старика. Ему тоже жаль, что он не может остаться с нами. Он развязал потку, вложил в неё подрумяненную буханку, а из другой потки достал с десяток ремней вяленой оленины;
— Моя тоже вас угощает, бери…
Мы прощаемся, и опять он подаёт нам поочерёдно свою маленькую, дочерна смуглую руку.
— Дедушка, я до лесу доеду и вернусь, — умасливает старика Пашка и, уже не ожидая ответа, взбирается на учага.[6]
Сколько радости на его конопатом лице!
— Сняться бы так на карточку, а то ребята не поверят, — говорит Пашка, а сам сияет от торжества.
— Дулуу, — кричит вслед проводнику старик, — пугнёшь его с края поляны назад. Слышишь?
Мы с Гурьянычем долго смотрим, как торопливыми шагами уходит от стоянки проводник. Жаль, что наша встреча с ним оказалась такой короткой. Мы даже не успели расспросить о делах Макаровой.
У края поляны Дулуу ссаживает Пашку, садится верхом на оленя и скрывается в лесу.
Я подбрасываю в костёр дров.
И вдруг в тишину врывается протяжная, печальная песня. Это поёт эвенк. В его песне нет слов. Он складывает её, как варакушка, из того, о чём думает, что видят его глаза, что улавливает слух, Но почему же так печально звучит эта песня на закате дня? Вероятно, Дулуу поёт о том, что где-то далеко жена и сын и что слишком короткая жизнь на земле, что надо было остаться ночевать с нами, и о том, зачем нужна людям паутина…
Его песня, однообразная, грустная, уплывает в даль вечереющей тайги...
А через поляну на всех парусах мчится Пашка.
— Угадайте, что у меня в руках? — кричит он, подбегая ко мне, и тут же, торжествуя, выпаливает: — Шерсть с оленя!
— Какое богатство!
— Это же с живого оленя!
— И что ты с ней будешь делать?
— Как — что? Ребятам покажу, вот и поверят, что я на олене верхом ездил.
— Разве это доказательство? — говорю я. У него падает настроение.
— Успокойся. Вернёмся домой, я дам тебе настоящую справку: в ней будет написано и про оленей, и куда мы и зачем путешествовали.
— Да ну?! С печатью?
— Конечно, по всем правилам.
— Вот это да-а!..
Но парнишка всё же запихивает клочок шерсти в карман телогрейки.
Постепенно смолкает пернатое племя певцов. Синий сумрак неслышно ложится на землю. Появляются облака, подбитые снизу всеми цветами радуги. Они, как снежные корабли, плывут за скрывшимся солнцем. Тайга стоит онемевшая, вся в думах. Долга ли её жизнь на земле? Неужели и она исчезнет и от её таёжных богатств останутся лишь пни? Чутко сторожит лес шаги приближающегося человека, будто хочет угадать — друг это или враг?
Пашка таинственно манит меня от стоянки под густые кроны деревьев.
Тут уже ночь. С шумом падает прошлогодняя шишка.
Встрепенулась разбуженная птица. Кто-то вздохнул…
Мы долго стоим, слушаем лесные шорохи, пока густой мрак не окутывает всю землю.
В сплошной темноте возвращаемся к стоянке. Я доволен этой молчаливой встречей с лесом, с его ночной тишиной…
На стоянке полыхает огонь, обнимая концы лиственничных дров. Тихо качаются над костром тяжёлые лапы столетних елей. Безвольно стелется сизый дымок над поляной.
— Где вас носило? — встречает нас Гурьяныч.
— По лесу ходили. Ну и хорошо же там! — радостно отвечает Пашка.
— Лес, милый мой, — это школа жизни. С ним только подружись — всему тебя научит…
Мы усаживаемся у костра и начинаем расправляться с ужином. Вяленое оленье мясо — подарок Дулуу, — пахнущее дымом и солнцем, поджаренное прямо в огне костра, кажется необыкновенно вкусным.
Спасибо тебе, Дулуу! Где-то в лесу у огонька ты тоже, наверно, пьёшь сейчас крепкий чай с поджаренным на углях деревенским хлебом и вспоминаешь о нас…
Глава 13 НОЧНОЙ ГОСТЬ
В тучах гаснут звёзды. Пробуждается ветер. Пахнет дождём. Пора спать.
Пашка допивает чай, забирается вместе со стариком в палатку. Я подкладываю в костёр толстое бревно, на всю ночь, и тоже готовлюсь ко сну.
Поздний час ночи. В тишине стоит лес со своими тяжкими вздохами. Он стал ещё прекраснее оттого, что взошла луна и ворвалась в его ажурные просветы. Луна необыкновенно белая и кажется такой близкой, что хоть рукой бери. Навстречу ей, точно из глухого подземелья, дыбятся грозные тучи, и в них буйствует гром.
Над тлеющими головешками костра вспыхивает и потухает синее пламя. Но вот в тучах погасла луна, и угольно-чёрный мрак окутал стоянку. Ветер, обрушиваясь на лес, качает стволы елей, нагоняет сон.
Крепко спится в тайге уставшему человеку. Но вот какой-то звук задел уснувший слух, что-то тревожное донёс он… Надо проснуться, прийти в себя. А я никак не могу очнуться. Странное забытьё! Но тревога и во сне не рассеивается, остаётся во мне, как несмолкшее эхо…
Опять смутно ловлю какой-то шум, ещё и ещё. Что-то творится вокруг меня, силюсь пробудиться, преодолеть свинцовую тяжесть сна и не могу.
И вдруг кто-то сильно толкает в бок. Душераздирающий крик Пашки мгновенно вырывает меня из забытья. Падает палатка, гремит посуда… Ничего не понимаю! Что случилось?! Пытаюсь высвободиться, захватываю руками что-то живое, мокрое, шерстистое… Лицо обжигает гневное звериное дыхание. Мне не хватает воздуха. Пашка орёт. Я растерялся, никак не могу выбраться из спального мешка.
— М-медведь!.. — слышу истошный крик Гурьяныча.
Наконец с трудом отбрасываю край палатки. Вижу страшное зрелище: чёрный медведь наскакивает на старика, сбивает с ног, наваливается на него всей тушей… Пашка уже на ногах, хватает тлеющую головешку, с ожесточённой решимостью бросается на помощь деду, тычет зверю в морду огнём… Тот ревёт, отскакивает от Гурьяныча и, на миг замирая, как-то растерянно смотрит на меня малюсенькими, как будто круглыми, глазами.
— Потап! — радостно вырывается у меня, когда я вдруг по белому галстуку на чёрной шерсти груди и по знакомой хитрющей морде узнаю приручённого в экспедиции зверёныша.
Медведь бросается ко мне, жмётся, лижет горячим языком моё лицо и обрадованно мычит. Чувствую — рад, косолапый, встрече с людьми. Я обнимаю его, но всё ещё не могу прийти в себя от пережитого страха.
Гурьяныч и Пашка буквально столбенеют. На их лицах ужас и изумление. Они не верят своим глазам. Кажется, никакое чудо их так не удивило бы, как эта сцена братания с медведем.
Я отталкиваю Потапа, встаю. На какую-то долю минуты наступает тишина, все постепенно приходят в себя. У всех одна мысль: хорошо, что обошлось без выстрела.
Уже утро. По светлому небу плывут редкие облака навстречу багряной зорьке. Мирно падают капли влаги с хвои. Стоит безмолвный туман над рекою. Молча пролетают кедровки.
Гурьяныч повёртывается к Пашке, обнимает обеими руками парнишку, крепко целует его, и две скупые слезы скатываются по обветренным щекам.
— Молодец, внучек, не растерялся!
И они оба смотрят на меня, всё ещё не понимая, откуда взялся такой необычный ночной гость.
— Это Потап, наш экспедиционный медвежонок, самый добрый и шкодливый из всего медвежьего рода, — объясняю я.
— Но как он забрёл сюда?
— Вероятно, наткнулся на наш вчерашний след и прибежал.
Пашка мигом преображается.
— Ну и напугал! А тут кто-то от страха стал кричать, я и вовсе оробел… — И парнишка, поддёрнув штаны, косит плутовские глаза на деда.
— Нечего сваливать на других! Уж кто орал благим матом, так это ты, — отвечает Гурьяныч.
— Что-то не помню такого… — хитрит Пашка.
— А по переносице кто меня стукнул локтем, тоже не помнишь?
И оба смеются, вспоминая ночное происшествие.
Пашка смелеет и храбро вышагивает к медведю. Он кружит вокруг зверя, не знает, с какой стороны лучше подойти, заглядывает ему в глаза, осторожно, готовый вмиг отпрыгнуть, дотрагивается рукою до шерстистой спины зверя. А тот уже ждёт чего-нибудь вкусного, сладко чмокая мокрыми губами, и не обращает, никакого внимания на парнишку.
Подновляем костёр и через полчаса завтракаем. Все разговоры у нас о Потапе.
— Вот ты, Пашка, вчера спрашивал, кто самый сильный в тайге? — начинаю я свой рассказ о Потапе. — У птиц самые грозные и сильные — это орлы, а среди таёжных зверей царём слывёт медведь. В прошлом году встретились мы с этими лесными хозяевами. Экспедиция наша работала в горах Тувы. Была весна. Мы с моим помощником Василием Николаевичем пробирались к истокам речки Систиг-Хем. Как-то на четвёртый день пути заночевали под Таргакским хребтом. Лошадей отпустили на поляну, сами поужинали — и спать: утром надо было рано трогаться в путь. Ночью нас разбудил страшный рёв. Мы вскочили. Небо в тучах. Темень. Лошади прибежали к костру, трясутся, храпят. «Должно, медведь, но с чего это он ревёт? Не иначе, что-то с ним случилось», — говорит Василий Николаевич. Стоим ждём. Дров подкинули в огонь, а лошади ушами прядут, косят глазами в темноту. И вдруг под скалой опять раздался рёв, да не один, а два. Теперь ясно, это звери между собой схватились. Загремели камни, затрещал лес, всё наполнилось шумом. Мы быстро привязали коней и бросились с ружьями к краю скалы. Вот, Пашка, когда мне жутковато было! Драка медведей — это тебе не бой петухов. Представляешь, что творится, когда эти зверюги со злобой вцепятся друг в друга и начнут рвать зубами, когтями?.. Земля дыбом становится!
— А чего они дрались-то?
— Ты слушай. Стоим мы на скале. От туч ещё больше потемнело. Внизу рычанье, стон, грохот, возня, и всё это как будто ближе и ближе. Василий Николаевич говорит: «Давай-ка убираться отсюда к огню, иначе в темноте они нас живо похватают, не успеешь выстрелить». Я и сам уже подумывал уйти от греха подальше… Когда мы снова очутились под кедрами у большого костра, спокойнее стало. Скоро и под скалой всё затихло.
— А что же дальше? — разочарованно тянет Пашка.
— Дождались утра — и под скалу. Смотрим и глазам не верим: вся земля вздыблена, кусты выдернуты с корнями, деревья сломаны, лужи крови. Чуть пониже видим какой-то холмик, прикрытый мхом, ветками и разным лесным мусором. Подошли и обомлели: перед нами лежала мёртвая медведица. Задрал её самец…
— Зачем же он спрятал её? — перебивает парнишка удивлённо.
— Видишь ли, Пашка, эти лесные цари не очень-то любят свежее мясо, предпочитают протухшее, вот он и накрыл свою добычу мусором, чтобы быстрее приготовить себе лакомство. Если зайчонка поймает, и того сразу не съест: под мох его, подождёт день-два, потом лакомится… Стали мы с Василием Николаевичем отгадывать, из-за чего медведи поссорились. Осматриваем всё вокруг. Видим, рядом с холмиком молодая лиственница стоит со сломанной вершиной, а на стволе следы когтей большого медведя и медвежонка. Тут мы догадались, в чём дело. Видно, самец увидел медвежонка, тот — на лиственницу, он — за ним, но до вершины, куда забрался медвежонок, ему не добраться — тяжёл. Тогда он перегрыз её, и вершина упала на землю вместе с медвежонком. Но тут на помощь подоспела мать. Они и схватились.
— Разве медведь ест своих медвежат? — удивляется Пашка.
— Выходит, ест. Старый медведь — самый страшный враг медвежат. Этот злой, всеядный хищник не щадит ни своих, ни чужих зверят — всех под себя подминает, Зря ему приписывают добродушие. Несмотря на то, что он с виду неуклюжий, косолапый, этот зверь в схватке самый сильный, ловкий и быстрый. Ну вот, дальше мы с Василием Николаевичем решили освежевать медведицу, взять шкуру на поршни и немного мяса для собак. Стали переворачивать тушу, а из-под неё медвежонок — как фыркнет на нас, лапой норовит ударить. Мы его поймали, завернули в телогрейку. Успокоился. Ободрали медведицу, отрубили от туши задок и думаем: что же делать с медвежонком? Отпустить — сегодня же его слопает медведь; взять с собой — лишняя забота, да и зачем он нам? Василий Николаевич говорит: «Давай подальше от этого места отвезём и выпустим». На том и решили. Посадили медвежонка в кожаную суму и поехали дальше. В полдень приезжаем в подразделение Макаровой, а выпустить-то медвежонка по дороге забыли. Я и говорю Макаровой: «Нахлебника привезли, принимайте». Все в подразделении обрадовались, дескать, будет с кем потешаться, и оставили медвежонка у себя, Он быстро освоился. Ещё бы! Ведь в тайге надо искать пищу, ловить, копать, выслеживать, а тут готовое в рот кладут, и сахар, и ягоды, и сгущённое молоко, купают и даже играют с ним — не житьё, а масленица! Избаловался, разжирел. А когда подрос, всё пришлось в лагере прятать от него. Что ни найдёт — всё утащит, изорвёт, спрячет. Пороли его за шкоду — не помогало. За все проделки расплачивалась Макарова. Он же, хитрец, всегда к ней ласкался и её слушался.
И вот пришла осень. Что делать с медведем? Решили оставить в тайге. Шуба на нём была тёплая, и жира накопил на даровых харчах. Но не тут-то было: не идёт из лагеря, привык к людскому шуму, а в лесу тишина пугает его, да и одиночество, видно, не радует. Ничего не могли придумать. Привезли в посёлок. Перезимовал он, к людям ещё больше привязался, а весной опять взяли в тайгу, Но держать его в лагере уже нельзя было — шкодил на каждом шагу. Тогда и решили бросить Потапа. Уводили за несколько километров, обманывали, бросали, но, что ни делали, отвязаться от него не могли. А недавно Макарова нам сообщила, что напоила его спиртом. Вот уж он, говорит, побуянил, поревел, погрозился и, наконец, мертвецки уснул. А тем временем отряд снялся и ушёл.
— Что же с ним случилось дальше? — с нетерпением спрашивает Пашка.
— Сам видишь: живёт тут в Кедровом ключе, и, кажется, ему не так уж плохо…
А Потап шарит по стоянке, что-то ищет и иногда косит на нас малюсенькие барсучьи глазки.
Он сильно вырос с тех пор, как я видел его последний раз, Теперь это настоящий взрослый медведь — лесной царь, косолапый, лобастый. Даже во взгляде хотя и сохранилась ещё прежняя доверчивость, но уже появилась подозрительность и что-то настороженное. Пройдёт ещё немного времени, к нему вернётся всё звериное, присущее медведю, он станет хозяином Кедрового ключа…
Между тем Пашка достал горсть сухарей. Потап по шороху вмиг догадывается, что у того в руках, бросается к парнишке, хватает пастью сухари, и они хрустят на его острых зубах. Пашка хохочет. Гурьяныч всё ещё озабоченно наблюдает за внуком и зверем. А Пашка вдруг бросает остатки сухарей, подбегает к Гурьянычу, обхватывает его за шею руками;
— Дедушка, дедушка, разреши мне остаться с Потапом в лесу?!
— Что ты, голубчик, опомнись, что с тобой. — Старик ласково прижимает к себе внука и гладит его своею заскорузлой ладонью. — Кто же с медведем в лесу живёт?
— Я буду жить с ним. Помнишь, я читал тебе про мальчика Маугли? Он был царём джунглей!
Гурьяныч говорит строго:
— Оставь свои фокусы. Я вот бабушке расскажу, Она тебя никогда больше в тайгу не пустит.
У Пашки вянут глаза, Нижняя губа обиженно выпячивается.
— Лучше за водой сходи, непослушник. Позавтракаем, и надо в путь торопиться. Вишь, с юга тучи идут.
— А как же Потап? — волнуется Пашка.
— Не твоя забота! Медведь есть медведь! Бери чайник — и айда.
Пашка награждает меня и деда недобрым взглядом, будто и я в чём-то виноват. Оглядываясь, уходит по мокрой глянцевитой траве, пахнущей ночным дождём.
— Ишь ты, Маугли нашёлся!.. — ворчливо бросает ему вслед старик и поворачивается ко мне. — Взбредёт же в голову — остаться с медведем в лесу… Дружка встретил!
— Все мальчишки — фантазёры, Гурьяныч.
— А наш и взаправду может остаться. Только сыми с него узду, и останется тут, ей-богу, останется — на это у него причуды хватит. Бабушкой только и унимаю, Она-то с ним построже нас… Через него и мне от неё частенько перепадает, — со вздохом жалуется старик.
— Меня, Гурьяныч, другое беспокоит. Потап ведь теперь от нас не отстанет, а брать с собою никак нельзя. И спирта у нас нет.
— Спирта нет… — соглашается он и вдруг спохватывается: — И не дал бы. Негоже переводить на него добро! Что-нибудь придумаем, — заключает старик убеждённо.
Я складываю постели, палатку, вещи — пора собираться в обратный путь. Думаю о Пашкиной причуде — остаться с Потапом в тайге. Завидую парнишке: он весь полон мальчишеских мечтаний. Мне понятен жар, с каким он упрашивал Гурьяныча оставить его в лесу. Представляю себе странствующего по тайге Пашку с медведем. Выдержал бы он борьбу за существование? Голод научил бы его догонять козла, подкрадываться по-рысьи к добыче, лазить по деревьям с быстротою обезьяны, попадать камнем в птицу с точностью пули. Как всё это соблазнительно для Пашки! Пусть это живёт только в его мальчишеском воображении. Осуществи Пашка своё дикое желание, останься с Потапом в тайге и выживи — что бы он мог порассказать людям о природе?!
Я всё больше и больше привязываюсь к этому мечтательному, смешному конопатому парнишке из Медвежьего лога. Его с какой-то необыкновенной силой тянет в непознанный мир природы, он заражён мечтою о подвиге, и я уверен, что он рано или поздно совершит что-то смелое, большое, красивое, что его жизнь будет полна опасностей, риска, напряжений.
Пашка возвращается грустный. Вешает чайник на таган. Подходит к старику, сидящему на корточках у костра.
— Дедушка…
— Ну что ещё тебе?
— Возьмём с собой медвежонка?
— Бабушке для забавы, что ли? Она и без Потапа натерпелась от нас с тобой. К тому же медведю наречено природой тут, в лесу, быть, нечего без нужды неволить зверей.
Пашка упрямо молчит.
Всходит солнце. Тает в прохладном утре позолоченный туман. Тайга, ещё не успев просохнуть от ночного дождя, уже хмурится. Над ней, там, где синеет небо, плывут гонимые ветром лёгкие облака, холодком тянет от этих воздушных громад. Они навевают уныние на лес, на птиц, на людей.
Потап, деловито обшарив стоянку и подобрав языком всё, что считал съедобным, улёгся поодаль от костра, занялся своим туалетом. Он тщательно вылизывает мокрую шерсть на лапах, на груди, на боках… На морде беспечность. Глаза слипаются…
— Уснул, — говорю я шёпотом, кивая на медведя. — Давайте незаметно уйдём.
— Что ты — незаметно! — возражает Гурьяныч. — И у сонного зверя слух начеку. Его не обманешь. Да и нет надобности. Я думаю, не пойдёт он за нами. Теперь, побыв один в тайге, не расстанется с вольной жизнью. А ещё через месяц-другой совсем одичает, бояться человека станет. Так что таиться от него нам нечего. Я уж знаю…
Залит огонь. Завьючена Кудряшка. Гурьяныч берёт в руки повод, последний раз по-хозяйски осматривает стоянку. Медведь просыпается, настораживается и с беспокойством следит за нами.
Что тревожит зверя в эту минуту?
— Дедушка, мы его в цирк отдадим, пусть идёт с нами, — умоляет Пашка.
Старик строго грозит внуку посохом, смотрит на небо и шагает к речке. Медведь вскакивает, ковыляет за нами, но вдруг замирает на месте: идти за людьми или остаться?
Мы с Пашкой беспрерывно оглядываемся. Потап вдруг снова бросается неуклюжими прыжками по нашему следу и опять останавливается, упёршись широко растопыренными лапами в мягкую землю. В его позе — твёрдое решение: ни шагу дальше!
Мы перешли ручей и, прежде чем скрыться в тайге, ещё раз оглянулись. Это были незабываемые минуты. Потап стоял на месте. Он навсегда оставался в тайге, Лес победил. Тайга оказалась ближе, дороже беспечной жизни среди людей.
— Прощай, Потап!
Глава 14 В СОСНОВОМ БОРУ
На второй день, в полдень, мы прошли последний перевал. Старик подвёл нас к толстой берёзе, примеченной им три дня назад, срубил её и осторожно содрал кору одним большим пластом, скрутил трубкой, уложил на вьюк, и мы тронулись дальше.
Справа блеснуло крошечное болотце. За ним — равнина в пятнах озёр. Остались позади холмы.
— Куда Пашка девался? — вдруг спрашивает Гурьяныч.
— Недавно шёл следом за Кудряшкой, — растерянно отвечаю я.
— Уж не на озеро ли убег? Ему это раз плюнуть! Я тут подожду, а ты сходи за ним, приведи. Ежели супротив пойдёт — с ним такое бывает, — так ты его моей рукой пониже пояса.
Иду назад. Понять не могу, куда мог исчезнуть парнишка… Миную холм, вижу, в просвете между стволов лиственниц, сидит на корточках Пашка на нашем следу и, нагнувшись, что-то делает. Я крадучись подхожу к нему сзади, заглядываю через плечо — ничего не вижу.
— Ты чего отстал?
Пашка, вздрогнув, поворачивает ко мне голову.
— Смотрите, Кудряшка сослепу наступила на край гнезда рябчика. Видите, как измяла и часть яиц раздавила. Так я поправляю. Вот стенку прутиками восстановил, внутри мохом выстлал. Точно, как было, Яйца уложу, и пойдём.
Я молча наблюдаю, как парнишка заботливо укладывает в гнездо уцелевшие яйца, встаёт, поднимает вокруг гнезда помятый брусничник и молча любуется своею работой.
— Дедушка думал, что ты на озеро ушёл.
— Охота была, да побоялся: знал — ругать будет, не пошёл.
Мы быстро шагаем по тропке, догоняя Гурьяныча, Выходим к своей стоянке у края озёрной равнины, Здесь нас встречает Жулик. Как же он нам рад! Визжит, прыгает. Надо же было этой собачонке догадаться, что мы вернёмся сюда, и дожидаться нас!
С жадностью глотает она кусок хлеба, брошенный Пашкой.
— Ну, Жулик, и напугал же тебя косолапый! — говорит Гурьяныч, сбрасывая с Кудряшки груз.
Разводим костёр и, дожидаясь, когда сварится обед, греемся на солнце. Кругом весна, зазеленели лиственницы в перелесках, забурели кочковатые мари. И ручеёк, толкаясь: в камнях, спешит, зовёт куда-то вдаль, к неведомым просторам.
— Дедушка, мы поохотимся сегодня на озёрах? Надо повезти домой уток. Уж я без промаха: зря стрелять не буду, ты не беспокойся, — самоуверенно говорит Пашка.
— По уткам-то ты горазд, ничего не скажешь! — отвечает Гурьяныч. — А вот по мошнику, по глухарю без смекалки не суйся! Птица сторожкая, за моё почтенье! Усядется эта громадина на сук, раздуется вся, анафема, как индюк, шею вытянет, начнёт наяривать: «Чок-чок-чок-чк-чк». Послушать любо! — И Гурьяныч поворачивается ко мне. — Он ведь, мошник, не как другие птицы: строчит-строчит, да как с азарту зашипит. Тут, ежели умеешь подскакивать под песню, твоя и удача будет. Понимаешь, какая хитрость: пока шипит мошник, он глухой и слепой; вот и поспевай подскочить, сделай несколько прыжков и опять жди, когда зашипит. Ты что, никогда не добывал весною глухарей? — спрашивает он меня. — Уж и побаловал, бы я тебя на току, да не добраться отсюдова до него. Пашка настораживается.
— Дедушка, ты давно обещал сводить меня на ток, пойдёмте сегодня, — просит он и кивает мне головой: дескать, поддержите.
— Неплохо бы добыть глухарей, — поддерживаю я Пашку. — Ведь в нашем распоряжении ещё завтрашний день.
— Была бы тропа — об чем разговор, тут не так уж далеко: километров десять напрямик, да болота не пустят. А в обход, поди, не найти мне теперь тока. Давно хаживал.
— Пойдём, дедушка!..
— Ну, пристал!..
Гурьяныч выкладывает из чашки в кипящий котёл картошку, бросает туда же лавровый лист, поправляет огонь.
— Глухие места там, — усаживаясь на подстилку, продолжает он. — Мало кто захаживает туда. Птица там ещё водится. Вот разве попробовать Еськиной гривой пройти по-за озёрами?!
— Пройдём, ей-богу, пройдём, дедушка!
— Да помолчи ты, пострел! Пусть старшие скажут. И опять же Кудряшке с вьюком не пройти — места топкие.
— А мы часть груза на себя возьмём.
— Не знаю, что и делать. Воды много, нахлебаемся горя, за моё почтение.
Но уже ясно, что вопрос о глухариной охоте решён Гурьянычем и что не позже как после обеда он поведёт нас на ток по Еськиной гриве. Пашка об этом сразу догадался, обрадовался, начинает торопить нас:
— Чай пить не будем: как бы не опоздать на ток, напьёмся в бору.
— Ещё чего, без чая какой обед? Ишь заторопился. На тебя, Пашка, не иначе, узду надо надевать.
Пьём чай. Кудряшка за это время съедает свою порцию овса. Собираемся в путь.
Чтобы облегчить лошадь, мы взваливаем на себя часть груза. У Пашки за плечами рюкзак с посудой. На спине Гурьяныча полная котомка клади. Я несу спальный мешок. Робко переходим границу леса. Захлюпала вода под ногами. Расплылись перед глазами топи, завилял след по кочковатой земле. Вся равнина оперилась яркой зеленью троелиста и истекает сотнями ручейков...
Путь не радует. Идём болотами, бесконечными болотами, будь они прокляты!
— Вот за тем колком, кажись, Еськина грива.
Старик, подоткнув повыше полы однорядки, лезет через топь. Мы — за ним.
Впереди холмы за холмами. Небо бесцветное и низко висит над пустынной равниной, почти голой в матовых лоскутках застойной воды и утыканной дупляными лиственницами-уродами. Мох под ногами рвётся; мы мокрые по пояс. С меня уже сошло сто потов: Я не рад, что поддержал Пашкину затею.
Мне, человеку, выросшему в горах, равнина противопоказана, тем более заболоченная. Скучный рельеф меня быстро утомляет, тогда как среди скал, на вершинах гор, на ледниках, я чувствую себя превосходно.
За колком. Гурьяныч останавливается, беспокойно озирается по сторонам и морщится, точно от боли.
— Совсем запамятовал: ведь Еськина левее той сопочки пошла, придётся свернуть… Устал, говоришь, Пашка? На сухарик, пожуй, погоняй слюну… Чего, чего? Лямки жмут? А ты не обращай внимания, с песней иди. Ноги от песни не отстанут! — И старик, замурлыкав что-то под нос, шагает дальше.
— Дедушка, ты хорошо опознал место? Мимо бы гривы не пройти, может, там и тропа будет! — кричит ему Пашка.
— Ужо не обманусь. Там-то хорошо пойдём, только бы добраться до Еськиной, — не оглядываясь, отвечает Гурьяныч.
Если бы не уверенность старика, кажется, дальше и не пошёл бы — так намучился!
3а сопочкой попали на кочковатую непроходимую марь, залитую водою. Стали забирать вправо к ельнику, наткнулись на зыбун. Назад не стали возвращаться, полезли напрямик… Тут уж не до голода, не до лямок! В любом сухом месте, если вы устали, можете сесть и отдохнуть. Но здесь, на болоте, весною это невозможно — всё вокруг под водою. Дважды вытаскивали из грязи Кудряшку. Она покорно шла следом за нами. И мы на неё не оглядывались. Но, как только она попадала в беду, Жулик начинал лаять. Этим он снискал себе всеобщее прощение за проявленную трусость перед медведем.
— Дедушка, скоро грива? — уныло пристаёт Пашка.
— Потерпи, внучек, вон впереди темнеет, то уж непременно Еськина.
— Ещё так далеко! — огорчается парнишка.
— Тут я, кажись, обмишурился: надо было с места на закат брать — было бы ближе. — И старик, стаскивая с мокрой головы шапку, пятернёй чешет затылок.
Мокрые, невероятно уставшие, наконец-то выбираемся из болота и с величайшим облегчением ступаем на сухую землю. Это поистине самые счастливые минуты в наших охотничьих приключениях! Ведь в течение этих пяти часов мы видели перед собою только топкую почву и холодные болота, безрадостный пейзаж и пустое небо.
Гурьяныч, обернувшись, хитро смотрит на меня и от всей души громко смеётся.
— Обманул, ей-богу, обманул! Никакой тут Еськиной гривы не было с самого сотворения мира. Чёрт бы тут хаживал. Это я придумал, иначе бы не прошли.
Но у нас нет сил даже сердиться за этот обман. Быстро разводим костёр, сушим штаны, портянки. Торопимся дальше в глубь леса.
Скоро вечер.
После вязких болот и кочковатых марей идёшь по твёрдой земле легко. Пашка то и дело забегает вперёд, торопится, и тогда Гурьяныч кричит:
— Уймись, чего высовываешься и меня сбиваешь с пути!
Парнишка сдаётся, пристраивается следом за мною, но не может унять нетерпение.
Солнце то впереди, то сзади. Старик сбился с нужного направления, и мы, как мне кажется, бесцельно бредём по однообразному сосняку. Через час выходим на свежую тропу. Присматриваемся: да ведь мы тут шли!
— Нечистый попутал! — сокрушается наш проводник.
— А вы не отчаивайтесь, Гурьяныч, осмотритесь спокойно. Может, ток не в этом бору?
— Должно, тут! Сам одряхлел, а память слава богу! Из дома идёшь — закатное солнце в это время держишь в затылок, а с озера — надо ему быть на левой щеке. Видать, закружал. Ну, господи благослови, пошли! — И старик торопится дальше.
В вечернем лесу постепенно глохнут звуки. Редеют стайки мелких птиц. В небе уже ни одного коршуна. Изредка пропоёт комар да ветерок безнадёжно качнёт вершину.
Неужели опоздали? Какая досада! И вдруг потрясающий грохот над головой: огромный глухарь, хлопая тяжёлыми крыльями, сорвался с сосны и, неуклюже виляя между деревьями, скрылся в лесу.
Правее взлетел второй…
Гурьяныч отскочил вправо. Повернув к нам испуганное лицо, он подал знак не шуметь и торопливо увёл всех в еле заметную лощину.
Там мы и обосновались табором.
— Ты, Пашка, чего смотрел?! Надо же было ввалиться прямо на ток! Птицу разогнали…
— Я же, дедушка, впервые тут.
— «Впервые, впервые»!.. Сколько раз сказывал, что на току вершины деревьев всегда примяты. Об чем думал?!
— На тебя, дедушка, понадеялся, а то бы заметил.
— Другой раз гляди хорошо, не маленький. Отпускай Кудряшку, пусть чего-нибудь пожуёт. Жулика привяжи, потом за водой сходишь и дровишек на ночь припасёшь.
Пашка с упрёком смотрит на Гурьяныча — уж очень большая нагрузка. Но возразить не смеет. Ведь дед выполнил его просьбу.
Молча уводит Кудряшку.
— Теперь ему хватит дел до ночи, чтобы не убег, — поясняет мне старик. — А ты не убивайся, что на ток вовремя не попали: успеешь, натешишься. Мошники к утру все на своих местах будут.
— Пожалуй, схожу без ружья, — говорю я, — послушаю, может, какой запоёт.
— Пойди, пойди, только долго не задерживайся, к ужину поспевай.
Становится прохладно. Накидываю на плечи телогрейку. Тороплюсь уйти подальше, в манящий сумрак. Давно я мечтал побыть в это весеннее время в хорошем бору, наедине со старыми соснами, вспомнить о детстве, о кавказских лесах.
Осторожно пробираюсь между стволов. Иду на закат. В лесу сгущаются тени. Исчезающее солнце бросает на тайгу последний луч. Природа наполняется грустью.
Всё чаще попадается на земле глухариный помёт, сложенный кучками, похожий на спящих гусениц. В просторной синеве неба прокричал и смолк беркут. Пронёсся какой-то жук. Вдали заурчал козодой. А вот и запоздалые дрозды облепили рябину, устраиваясь на ночёвку.
Я прислоняюсь плечом к сосне, стою молча и жду. Маленькая пташка в простеньком сером оперении, усевшись на сучке против меня, без умолку поёт. Откуда столько задора у этой крошки?! Я вижу, как дрожит её приподнятый и слегка распушённый хвост, как что-то переливается в её раскрытом клюве. Она не сводит с меня своих чёрных, маленьких, как бусинки, глаз.
Солнце уходит в бездонную глубину вселенной.
Где-то над вершинами сосен в последний раз перед сном грустно пропел лесной конёк.
Неслышно в бор крадётся мрак. Старые сосны, о чём вы мечтаете в эту тихую вешнюю ночь? О чём грустите? Я тоже погружаюсь в думы…
И вдруг где-то впереди слышу странный, отменный звук, будто тяжёлая капля воды упала на жесть. Что бы это значило? Стою жду. Умолкает пичуга. Я чутко прислушиваюсь: не повторится ли этот загадочный звук? Вот снова щёлкнуло, но уже громче, потом ещё и ещё, и полилось глухариное пение сразу по всему сосняку, по всей засыпающей тайге, наполняя её могучим, страстным призывом.
Среди полной тишины глухарь пел громко, торжествующе. А я, забыв про всё на свете, жадно слушал, как он неистовствовал…
Но вот птица смолкает.
Точно посвежело в воздухе. Я глубоко вздохнул. Где-то далеко пронёсся по лесу ветерок, ласково коснувшись вершин своим крылом. Сосны качнулись не пробуждаясь, и всё опять замерло.
Слышу позади шорох тяжёлых крыльев — какая-то большая птица пролетела надо мною, с треском свалилась на вершину сосны и застыла чёрным настороженным силуэтом. Вот он, гордый красавец лесов! И так близко, что я даже различаю пестринки в оперении, белый кант на хвосте и лохматые ноги. Как жаль, что не взял ружья!
Птица топчется на ветке, как бы устраиваясь поудобней, вертит головой, и я вижу, как она, поднимая веером хвост, вся раздувается, слышу, как упругими зубцами крыльев нервно чешет сук — вот-вот запоёт.
Я жду.
Раздаётся резкое: «Чок, чок, чк-чк-чк…» Глухарь поднимает к небу краснобровую голову и, захлёбываясь, бросает в потемневшую синеву бора свой дерзкий вызов…
Будто пробудившись, ему сразу со всех сторон отвечают певцы. Изредка слышатся то там, то тут тяжёлые взмахи крыльев. Птицы шумно усаживаются на облюбованные вершины сосен и пропадают в темноте до утренней зари.
Смотрю на часы: четверть десятого. Пора возвращаться. Осторожно, чтобы не вспугнуть смолкших в ночной передышке птиц, шагаю по бору. Ещё больше сгустился мрак. Слышу, кто-то невидимый ходит по лесу, осторожно пробираясь между стволов. Вот сухая ветка звонко треснула, точно подломилась под лапой медведя. Я останавливаюсь. Часто-часто бьётся сердце. Чувствую, кто-то из темноты пристально следит за мною. Кажется, сделай шаг — и мы столкнёмся…
— Да нет же, это мне чудится, — вслух успокаиваю себя. — «Глухой, неведомой тайгою…» — запеваю тихо, и неприятное чувство неловкости пропадает.
Вот и огонёк блеснул. Синий дымок костра, медленно поднимаясь, окутывает тяжёлые кроны деревьев. Освещённая пламенем стоянка между золотых стволов сосен кажется самым желанным приютом на земле. Я прибавляю шаг. И только теперь чувствую, как холодна ночь.
— Убег, ей-богу, убег! — встречает меня Гурьяныч. — Кинулся, ружжа нет. Кликнул — митькой звали!
— Кажется, он тут по бору ходит, придёт, никуда не денется, — успокаиваю я старика.
— Птицу, дьяволёнок, распугает. Вот я доберусь до него!
— Всех не распугает, а какая улетит, утром вернётся. Пусть побродит в тайге, полюбит природу — человеком станет.
— Как же!.. — примирительно говорит Гурьяныч. — Уж я-то по себе знаю. Без природы человек — что дупляная лиственница на мари, нет в нём настоящей живости. К примеру, взять хотя бы нашего бухгалтера из леспромхоза. Придёшь к нему в контору — страшно к столу подойти. Ты ему ещё слова не сказал, а он уж на тебя глазищи пялит, а заговорит — что горячей лапшой обрызжет. Ну, скажи — зверюга лютый! Люди страсть как его боятся. А настанет праздник, ко мне на смолокурню приедет подышать хвойным воздухом, посидит у заводи с удочкой… Скажи пожалуйста — другой человек! Поймает пару пескарей и рад-радёхонек, он тебе и папироску даст, побасёнку расскажет. Ничего не позволит делать, всё сам: и дров принесёт, и ушицу сладит — милейший человек, крылышки подвяжи — и ангел. Так что природа для человека — за моё почтенье! — И старик часто-часто закивал головою.
Но тут мгновенный свет, точно молния, блеснул в лесу, и тотчас же потрясающий гром выстрела взбудоражил тишину. Эхо долго ворочалось по глухим ложкам. Потом слышно было, как что-то тяжёлое медленно сваливалось по веткам сосны и упало на землю.
Мы переглянулись.
— Убил! Ужо я его ремнём приструню! — возмущается Гурьяныч, а сам не может скрыть довольства, что Пашка такой отчаянный.
— Надо всыпать, — поддакиваю я.
— А вы тоже не потакайте ослушнику, — обращается ко мне Гурьяныч. — Говорю, нам с вами надо держаться заодно, поодиночке он нас живо объегорит.
— Уже объегорил, Гурьяныч. Слыханное ли дело — в этакую темень сшибить птицу с сосны!..
— Он-то сумеет! — с явной гордостью за Пашку перебивает старик. — Весь в меня, дьяволёнок. Таким же был…
Мы усаживаемся к костру, ждём Пашку.
Засыпает оглушённый выстрелом лес. Возвращается тишина — будто и не было выстрела. Теперь, кажется, никому уж больше в темноте не грозит гибель.
— Да, да, таким же был… — продолжает Гурьяныч. — У ребят головным ходил, спуску никому не давал. Где что — меня кличут. Помню, давно это было. Как-то пошли с ребятами весною в тайгу…
Но тут вскочил, насторожился Жулик. Дремлющая поодаль Кудряшка подняла голову. Послышался хруст сушняка. Я расшевелил огонь и в полосе яркого света увидел Пашку. Пятясь задом, он волоком тащил к стоянке глухаря.
— Как это тебя угораздило в темноте? — спрашивает старик.
— Ещё засветло, дедушка, приметил, где он сел, — охотно объясняет тот. — Пока дрова таскал — стемнело. Подобрался к сосне, а его-то в хвое не видно. Ружьё к плечу приложу и так, и этак — не видно. Хотел было по стволу подобраться к нему, да он сам выдал себя — заворочался, ну, я и пальнул.
Я смотрю на убитого глухаря, на его краснобровую голову, на пышный фиолетовый зоб, на пестринки в брачном наряде, на лохматые лапы с сжатыми когтями, и меня съедает проклятая охотничья зависть. Пашка оказался непобедимым соперником. И тут, на глухарином току, он уже успел опередить меня. Теперь вся надежда на утро. Я готов просидеть всю ночь у костра, лишь бы не проспать зарю.
Гурьяныч поднял глухаря, с восхищением потряс им передо мною и уже раскрыл рот, чтобы выразить восторг, но спохватился и сказал поучительно:
— Ты, внучек, тово, не жадничай, не спеши больно. За тобой не поспеть.
Мне неудобно перед парнишкой, у которого Гурьяныч как бы выпрашивает для меня снисхождение.
— Молодец, Пашка, — говорю я, приглушая охотничью зависть.
А он стоит довольный, улыбающийся.
Глухарь висит на сучке, и теперь наша стоянка напоминает бивак охотников. Если бы птица была убита мною, мы бы, конечно, устроили сегодня ночью пир. Но Пашка да, видимо, и Гурьяныч берегут её как трофей. Представляю Пашку, идущего по посёлку сквозь толпу детворы с глухарём, а то и с двумя, с перекинутым через плечо ружьём…
— А вы под песню мошника скрадали? — спрашивает меня Гурьяныч, чтобы отвлечь от грустных размышлений.
Я отрицательно качаю головою, хотя много раз бывал на глухариной охоте.
— Говорю вам, к мошнику всегда под песню подскочишь, ежели знаешь как. На примере бы вам показать — сподручнее было бы. — Старик вдруг чем-то загорается. — Пашка, а ну встань! Я стрекотать буду, а ты покажи дяде, как под песню подскакивать.
Пашка живо поднимается от костра, идёт на свободное место, весь подтягивается и, как перед плясом, замирает.
Свет яркого пламени золотит его кудри.
— Готов? — спрашивает Гурьяныч, отпуская кушак на животе и набирая полную грудь воздуха.
— Подожди, я ружьё прихвачу, — кричит Пашка. Через минуту начинается представление. Гурьяныч тихо заводит: «Чо-ок, чок-чок-чк-чк-чк… Чшш-щщ…»
Как только послышалось "чшшш", Пашка срывается с места, делает три огромных прыжка и замирает в тот самый момент, когда «мошник» перестаёт шипеть. Стоит он в странной позе, будто окаменевший: правая нога отстала и повисла в воздухе, весь он сгорбился, подался вперёд, а голова, откинутая назад, в прыжке, так и осталась обращённой лицом к небу.
Сделав паузу, Гурьяныч снова продолжает: «Чо-ок. Чок-чок-чк-чк…»
Но Пашка начинает сбиваться, срывается с места раньше, чем зашипит «мошник», или запоздает остановиться. Гурьяныч сердится.
— Дедушка, ты лучше меня скачешь, давай я стрекотать буду.
— Эко, не можешь, кака тут наука!.. — ворчит старик и уже уступчиво добавляет: — Ну пострекочи, а я покажу.
Пашка сходит с площадки, занимает место Гурьяныча на пне. Вижу, на лице у него какое-то лукавство. — Внимательно слежу за ним.
Гурьяныч отходит от костра, подтыкает за пояс длинные полы однорядки, расправляет плечи, берёт ружьё двумя руками так, чтобы в любой момент можно было его приложить к плечу, и кивком даёт знак внуку начинать.
Тот застрекотал. Но как! Я, буквально обомлел. В его звуках слышалась живая птичья интонация, страстный ритм, удивительное подражание. Он изредка щёлкал языком, будто птица в азарте касалась упругим крылом сучка.
«Ишь ты, какой мастер!» — подумал я. И как бы в подтверждение этого в лесу зачокал разбуженный его песней глухарь.
Гурьяныч дождался, когда «мошник» зашипел, молодецки сделал три прыжка и замер. Пашка повторил песню ещё и ещё, да вдруг как зачастит. Старик не хотел отстать от ритма, но в первом же прыжке задел ногами за валежник, споткнулся и, не удержав равновесия, упал.
Я подбежал к нему, помог подняться. Пашка схватился за живот, беззвучно хохочет.
— Ведь сманул же, дьяволёнок! Нарочно подстроил, ей-богу, подстроил. — Гурьяныч трясёт в сторону Пашки кулаком. — Ужо я тебя отстегаю ремнём! Подожди, бабушке всё расскажу, как глумишься над дедом, она те кудри завьёт!
Последняя угроза действует мгновенно. Пашка обрывает смех, послушно подходит к дедушке, подаёт ему слетевшую с головы шапку, стряхивает с однорядки мусор.
— Не говори бабушке, она расстроится.
Садимся ужинать. Едим молча. Гурьяныч то и дело растирает ушибленное колено и с обидой косит глаза в сторону Пашки. Вижу, тот вычерпывает из чашки остатки похлёбки, подносит ко рту, да вдруг как фыркнет, как захохочет снова. Старик хотел было цыкнуть на него, да сам не выдержал и тоже рассмеялся. А за ними и я. Смеялись все дружно, безудержно, забыв про ужин. Я, пытаясь Остановиться, закрываю рот ушанкой, но смех душит меня.
— Ишь, погодка нашёл для представления, — примирительно говорит старик.
Пашка прощён. Всем становится легко, весело.
Мы с Пашкой моем посуду. Гурьяныч обхаживает костёр: наваливает на него толстыми концами брёвна. Где-то в лощине долго, надоедливо бубнит заяц. Даже из него весна делает музыканта! Потом появляется летяга — забавный ночной зверёк, похожий на белку, но с перепонками на боках, позволяющими ему делать затяжные планирующие прыжки.
Летягу привлекает свет костра. Вот она быстро-быстро взбирается на вершину сосны, делает оттуда планирующий прыжок вниз и тёмным лоскутом проносится над нами. На противоположной стороне летяга липнет к стволу у самого основания, опять взбирается на вершину дерева, повторяет прыжки. Прыгает она бесшумно, с каким-то неутомимым азартом.
Низко горят звёзды. Одиннадцать часов ночи. Бор в этот поздний час кажется вымершим, мы — безнадёжно заплутавшимися в нём. Пашка молодец: уже забрался под одеяло, притих. Гурьяныч тоже готовится ко сну: раскладывает хвою, бросает на неё потник, снимает однорядку. Пора и мне. Разворачиваю спальный мешок, кладу под голову телогрейку, начинаю разуваться. Пашка опять как захохочет под одеялом. Гурьяныч растерянно смотрит мне в глаза и тоже смеётся.
Меня вдруг осеняет догадка: наверно, Пашка смеётся уже не над дедом, а что-то ещё замышляет и заранее радуется предстоящей проделке. Признаться, эта догадка не очень-то радует.
Старик пальцем манит меня к себе, припадает щетиной усов к моему уху, заговорщически шепчет:
— Разбужу до зари, пойдём вдвоём, чтобы он не слышал. Хватит с него и одного глухаря. Пусть поспит утром.
Я утвердительно киваю головой и, ничего не сказав о своём опасении, бесшумно отползаю к постели.
Втайне я завидую этому конопатому озорному пареньку, его ловкости, находчивости. Моя привязанность к нему всё крепнет. Но обстрелять его я всё же должен!
Глава 15 НЕОЖИДАННЫЙ ВЫСТРЕЛ
Меня будит лёгкий толчок в бок. Раскрываю глаза — вижу перед носом предостерегающий палец Гурьяныча: не шуметь! Воровски, осторожно выбираюсь из мешка. Пашка спит, согнувшись калачиком и закутавшись с головой в одеяло. Теперь уйти бы со стоянки незамеченными, и тогда… Словом, у нас есть шанс поправить свои охотничьи дела.
Бедный парнишка, как же ты будешь огорчён, когда проснувшись, не найдёшь ни меня, ни дедушки на месте! А ведь наверняка, засыпая, ты заказал себе встать раньше нас и исчезнуть прежде, чем мы пробудимся. На этот раз тебе не повезло!
Я на ходу подпоясываю патронташ, хватаю ружьё. Старик идёт с шомполкой, весь обвешан припасами: порох он держит в бычьем роге, дробь в кожаном мешочке, пистоны — в металлической коробочке. Всё это висит на груди, как доспехи. Паклю для пыжей он хранит на голове под шапкой, чтобы в непогоду не отмокла.
Уходим в лес, облитый лунным светом. Когда исчезает огонёк костра за густыми стволами сосен, Гурьяныч оглядывается.
— Ужо спохватится! — И он хитровато подмигивает мне.
Вокруг мертво и пустынно. Идём не спеша по еле заметным просветам. Впереди — старик. Твёрдой походкой он шагает по захламлённому лесу и, не глядя под ноги, обходит пни, колоды, рытвины. Я не отстаю от него.
— Кажись, пришли. Тут переждём — вот-вот мошник строчить начнёт.
Мы присаживаемся на валежину, ждём…
Луна прячется за тучи. Тьма-тьмущая встаёт в таинственной глубине бора. Ещё нет признаков рассвета. Ещё ничто живое не проснулось, не выдало своего существования. Но по каким-то неуловимым признакам уже чувствуется, что просыпается старый лес от сладостных весенних грёз, что вот-вот там, на востоке, за невидимыми хребтами появится победный свет утра.
С какой-то внезапностью сквозь немую тишь дремлющего леса прорвался громкий гортанный крик.
— Куропат! Теперь скоро… — шепчет Гурьяныч. Где-то далеко-далеко слабо зашумело — то ветерок несёт по лесу беспокойство.
Опять тягостная тишина — будто в заколдованный лес попали мы.
Гурьяныч поглядывает на восток, грустно вздыхает. Ему тоже невмоготу ожидание. Неужели утро проспало свой час?! Каждый звук, долетающий до слуха, тревожит воображение.
И вдруг знакомое: «Чо-ок…»
Я вздрагиваю, точно от удара. Гурьяныч хватает рукой меня за плечо, замирает.
Где-то повторилось: «Чок-чок…»
— Глухарь? — не веря себе, спрашиваю шёпотом.
— Он, мошник, — отвечает тот едва слышно.
Но вот слева, обжигая слух, неистово запела птица. Она пела среди полной тишины, бросая в пространство жгучий призыв. А на востоке, за густыми кронами сосен, просыпалось утро — там уже отделилось небо от земли.
В лесу ещё больше сгустился предрассветный мрак ночи.
Слышим, и справа зачокал глухарь. Другой запел сбоку. Сзади застонала копалуха… Лес захлебнулся.
— Шагов с полсотни пройдём, там и подскакивать станем. Ты только, тово, ногами не шаркай… Говорил, спусти штанины поверх голенищ. — И Гурьяныч подтянул на животе кушак, убрал повыше полы однорядки, бесшумно зашагал меж деревьев.
Я — за ним. Стараюсь ступать шаг в шаг. Он останавливается — и я тоже…
Песня не стихает: то уходит от нас, то слышится рядом, и тогда мы со стариком замираем, долго всматриваемся в тёмные силуэты вершин деревьев. Но глухаря увидеть ещё невозможно.
Стоим. Не могу унять стук сердца. Всё исчезает, не остаётся иных ощущений, кроме напряжённого ожидания. А мошник поёт. Сквозь мрак отступающей ночи, сквозь синие просветы крон, сквозь тишину разливается по всей громаде лесов его зовущий клич…
Он умолкает в короткой передышке и снова бросает в пространство: «Чо-ок, чок, чк-чк-чк…»
— К нему подскочим, — слышу шёпот.
Гурьяныч подаёт знак приготовиться. Он выбрасывает вперёд шомполку, настороженно ждёт. Я делаю то же самое. Пристально слежу за каждым его движением.
В раздутых ноздрях старика, в пристальном взгляде, в спружиненной спине, во всей позе чувствуется крайняя напряжённость, сосредоточенность опытного охотника.
Бор оживает, всё больше и больше наполняется глухариными песнями. Самцы поют наперебой друг перед другом, спеша насладиться короткой весенней зарёю. Отовсюду доносится шум сильных крыльев. Это опоздавшие. Они с треском падают на вершины сосен и с ходу бросают в лесное пространство свой горячий призыв.
Наш глухарь не обрывает «строчки». Мы уже с Гурьянычем подскочили близко к нему. Я его не вижу, но он где-то тут, рядом, в густых ветках старой сосны. Слышу, как в азарте он чертит упругими концами крыльев о сучок, как шелестит, падая на землю, сбитая им кора.
Ищу глазами глухаря в тёмных кронах сосен, заслоняющих нежный свет зари. Нет, не вижу. Опять тягостная тишина, слитая с мраком. Над нами испуганно зацокала белка и смолкла, будто схваченная кем-то. На «полу» протяжно стонут копалухи. Я всё смотрю в густое сплетение вершин — ищу певца.
Наконец-то вижу его, но не там, куда так напряжённо смотрел, а рядом. Вот оно, живое, угольно-чёрное пятно.
Теперь-то ты мой!
Припадаю щекой к ложу ружья. Медленно поднимаю ствол. Не торопясь подвожу мушку под птицу. Не очень-то видно цель. Ах, что будет, то и будет! Хочу потянуть за гашетку, но в этот миг будто зарница яркая блеснула напротив за чащей — и оттуда донёсся выстрел.
Это было неожиданно, в самый напряжённый момент, когда, казалось, ничто не могло помешать нашей удаче.
Мы не сразу понимаем, что случилось.
Обрываются, смолкают песни. Пугливо проносятся по бору стайки дроздов. Глухарь в зелёной гуще крон, обрызганный свинцом, точно прощаясь с родным лесом, ещё продолжает стрекотать, но всё тише, всё реже. Вот он встрепенулся, ожил, гордо поднял голову, черкнул резным краем крыльев о сучок, щёлкнул в последний раз и рухнул на землю.
Гурьяныч выводит меня из состояния оцепенения.
— Сострунить надо было тебя, Пашка! — кричит он гневно, хватая рукою бороду, точно пытаясь за неё удержать себя на месте. — Иди-ка сюда, ужо я тебе, безобразник.
Но за чащей, откуда грохнул выстрел, тихо. Ни шагов, ни шорохов. Будто никого там и не было.
— Пашка, не дури. Айда сюда! — раздражённо зовёт старик парнишку.
Но никого нет. Никто не подбирает глухаря. Ещё с минуту ждём. Уже не верится, что был выстрел, что на земле под сосною лежит, распластав крылья, цветистый мошник.
Теперь уже ясно: Пашка удрал.
— Какое наказание ему придумать? — Старик потрясает кулаком в воздухе. — Придёшь на табор, ей-богу, соструню, а то и взаправду бабушке пожалуюсь. Она тебе живо пропишет, не по-нашему.
Последние слова меня рассмешили. Видимо, Гурьяныч и сам побаивался бабушку.
Но сейчас не до смеха! Ловко же он выбил у нас буквально из-под носа глухаря! Два — ноль в его пользу. Не очень-то радостно.
Всё больше и больше светлеет. Тает сумрак ночи. Догорают звёзды. Где-то у журавлиного болота проблеял бекас и смолк до следующей ночи.
«Чок-чок, чк-чк…» —-- преодолев страх, начинает робко ближний глухарь.
Ему уже смелее вторят справа, слева. Песни слышатся звонче, торопливее. Бор оживает. Эхо разносит волнующие звуки по глухим закоулкам леса.
— Вы, Гурьяныч, берите глухаря и можете возвращаться на стоянку, варите завтрак, а я попробую сшибить вон того, за осинником, что на сосенке токует.
— Говорил я, он, шельмец, преподнесёт нам пилюлю, — ворчит недовольный старик. — Носи за него, ишь чего придумал!
Снова послышался выстрел — и шорох падающей по веткам птицы.
«Третий, — подумал я. — Так ведь можно и без единого выстрела остаться». И, даже не взглянув на убитого мошника, торопливо зашагал к осиннику. Какая-то слепая надежда ведёт меня всё дальше по посветлевшему бору.
Впереди низкорослый, густой ёрник. Дальше, метрах в полуторастах, на вершине маленькой сосенки — глухарь, впечатанный чёрным силуэтом в небесную голубизну. С минуту осматриваю лес: не подкрадывается ли к этому мошнику Пашка?
Слежу за песней. Отмахиваю огромными прыжками. Иногда мне удаётся скакнуть раз пять. Всё ближе и ближе. Остаётся полсотни метров… сорок… Ещё две песни — и уж теперь-то ты мой. Но тут какая-то сухая веточка попала мне под ногу, треснула, и глухарь, точно сбитый волной, взмахнул крыльями, шарахнулся в сторону. Завилял между стволами деревьев, ещё раз показался над вершинами сосен далеко за током и исчез.
Досадую на свою неповоротливость. Но охотничье счастье, видимо, подкарауливало меня именно тут, за ёрником. Слышу, справа надвигается на меня песня. Не чудо ли — глухарь токует на «полу»! Я бесшумно поворачиваюсь в сторону звука, жду. Жду, а сам думаю, что уже день, что скоро смолкнут певцы и останется на душе горечь неудачи. Ах, этот Пашка!
Вижу, что-то чёрное, огромное высунулось из-за ёрника и исчезло за толстой валежиной. Дожидаюсь, когда зашипит. Прыгаю. Ещё и ещё. Пытаюсь нагнать певца, но он, кажется, сам торопится к развязке: поворачивается влево, обходит чащу, направляясь ко мне. Сколько важности в его медлительной, слегка покачивающейся походке! Шея убрана в туловище, как у индюка, хвост раскрыт, сам весь раздулся. Идёт геройски на выстрел! Я дожидаюсь, когда он зашипит, спускаю боёк...
«Вот это глухарь — Смотри и завидуй!» — обращаюсь я мысленно к Пашке. Перед кем же мне похвалиться, как не перед ним. Великолепный экземпляр — хоть на выставку! Пусть лопнет от зависти, пусть и он проглотит пилюлю. Я впервые за эту охоту обрадован. Поднимаю глухаря, показываю его Гурьянычу, пришедшему на выстрел.
Старик взял его у меня, взвесил рукою:
— Отменный мошник, ничего не скажешь. Супротив него Пашкины три не потянут.
— Что вы, Гурьяныч!..
И как я ни убеждаю себя в том, что для Пашки удача куда важнее, чем для нас, всё же зависть не унимается во мне.
Давно взошло солнце. Один за другим отлетели на кормёжку глухари. Только на окраине сосняка ещё стрекочет молодёжь.
— Хватит, пошли, кончились песни, — заявил Гурьяныч, перекидывая через плечо глухаря и направляясь на табор.
Налетел недобрый ветер. Смолкли и молодые музыканты. Так хорошо начавшийся день внезапно помрачнел. Старик остановился, стащил с головы шапку, внимательно осмотрел плотный войлок туч, затянувших небо, прислушался, пытаясь понять, почему так тревожно гудит старый лес.
— Кажись, снегу надует, — сказал Гурьяныч и торопливо зашагал дальше.
На таборе тишина. Тоненькая струйка дыма дотлевающей головешки. Сонный Жулик. Пасущаяся Кудряшка. Тут всё, как бросили мы. И даже Пашка лежит на своём месте с согнутыми в коленках ногами, закутанный с головою одеялом, как будто он и не уходил.
Гурьяныч предупреждает меня, чтобы я не шумел, крадётся к сосне, бесшумно опускает глухаря. Приставляет к дереву шомполку. Затем развязывает кушак, складывает его вдвое, даёт мне один конец и начинает вить жгут.
— Притворяется… Ужо я его разбужу… — еле слышно шепчет старик мне на ухо.
Я слежу за лицом Гурьяныча, хочу узнать, насколько это серьёзно. Но на лице не заметно и тени гнева, а под усами — плохо спрятанная смешинка.
Гурьяныч ощупывает рукою скрученный жгут, ослабляет его немного, чтобы не так больно бил, и начинает подкрадываться. Обходит на цыпочках костёр, пригибается, почти не дышит...
А Пашка ничего не чует, спит себе.
Старик останавливается у изголовья, замахивается жгутом и левой рукой сдёргивает одеяло — на постели вместо Пашки три чурбака, положенные так, будто человек лежит с согнутыми коленками. Гурьяныч смотрит растерянно то на меня, то на чурбаки. Мы обескуражены.
— Вот и уследи, вот и усмотри за ним, не успеешь оглянуться — что-нибудь да натворит. Теперь все козыри в его руках! — И старик с досадой заталкивает чурбаки в огонь.
А с опушки раздаётся хохот Пашки! Потом слышим:
— Дедушка, не жги чурбаки, может, ещё ночевать будем.
— Иди, иди, я те, шельмец!..
Пашка появляется на стоянке с глухарём за спиною, радостный, весёлый. Из него так и брызжет мальчишеский задор, неукротимая радость удавшейся проделки.
Таков уж он, ничего не поделаешь. И в этом возрасте уже сказывается характер. Хвалю его в душе. Мне хочется обнять его и потрепать за мокрый чуб.
Пашкин верх. Об этом шумит бор, поют птицы, кричит в небе беркут — все за него. Но ему и этого мало. Он не может без проделок. Вижу, вешает своих трёх глухарей на сучок, за ноги; ветерок раздувает перья, от этого птицы кажутся огромными. Моего же глухаря Пашка вешает рядом за голову, и он по сравнению с теми кажется цыплёнком. Парнишка подсаживается ко мне, а сам нет-нет да и покосится на птиц, и по его лицу скользит лукавая улыбка.
Он достаёт из кармана затасканный сухарь, сдувает с него пыль. Разламывает пополам и с великодушием победителя протягивает мне половину. Сухарь хрустко лопается на зубах. До чего же вкусным кажется он, приправленный мясным запахом, что плывёт из котла!
— Дедушка, останемся на вечернюю зарю, — начинает Пашка.
— Не жадничай, три глухаря — куда с добром, — категорически отвергает тот. — Завтра тебе в школу и дяде Грише на работу.
— Мы до зари выйдем, успею к занятиям. — Парнишка подсаживается к деду. Липнет к нему.
Я вижу, как добреют глаза Гурьяныча — приятна ему ласка Пашки. Нет для старика большей радости, как эта близость с внуком.
Вот оно человеческое счастье!
А ведь у этих людей нет никаких богатств. Живут на смолокурне в Медвежьем логу. Спят на жёстких постелях. Деньги считают по копейкам. Плохо одеты да и едят, видимо, не очень-то сытно. И всё-таки они по-настоящему счастливы своими добрыми делами, чистой любовью друг к другу, своим честным трудом.
— Останемся, дедушка… — начинает приставать Пашка. — Ещё пару глухарей добудем, сдадим в столовую, бабушке обутки купим: ей ведь ходить не в чем.
У Гурьяныча хмурятся брови. Лицо мрачнеет. Шевелятся желваки. Пропадает ласковость в глазах. Он поворачивает голову к внуку, смотрит на него в упор, пронизывая пытливым взглядом до самого сердца. Что-то в словах Пашки расстроило его. Он легонько отталкивает от себя парнишку, встаёт, берёт чайник и неровным, сбивчивым шагом, не видя, что под ногами, медленно идёт в ложок за водою.
— Дедушка! — кричит ему вдогонку Пашка. — В чайнике кипяток запаренный, зачем взял?
Старик не слышит его, не убавляет шаг, так и уходит тяжёлой старческой походкой за стволы сосен.
— Он всегда расстраивается, когда я хочу что-нибудь сделать бабушке. «Ты, говорит, сам ещё дитя, вот подрастёшь…» — объясняет Пашка, — Но это пройдёт. А вы хотите остаться?
Я согласен с ним: надо задержаться на вечернюю зарю, добыть пару глухарей. Пусть сбудется Пашкино желание, о котором он сказал деду. Представляю радость бабушки, когда внук положит перед ней давно желанные ботинки, как она будет их обливать слезами, как зацелует Пашку, прижимая к груди его взлохмаченную голову. Потом бабушка начнёт любовно рассматривать эти обутки, примерять, прятать в сундук. Наверняка достанет заветную баночку брусничного варенья, заставит Гурьяныча принести из погреба солёных груздей, а Пашку пошлёт ставить самовар. Станут долго пить чай с румяными баранками, тоже привезёнными бабушке из посёлка. И все трое в эти минуты будут самыми счастливыми на свете…
Пришёл Гурьяныч. Его мрачные мысли ещё не развеялись. Я наливаю ему супу. Пашка сыплет в него горсть сухарей.
— Кудряшка совсем отощала на ветоши. Позавтракаем и будем подаваться к дому, — говорит старик после долгого молчания твёрдым голосом, выдерживая просительный Пашкин взгляд. — Погода-то не за нас, вишь, дурить начинает, — продолжает он.
— Дедушка, ты забирай вещи и иди с Кудряшкой, а мы останемся на вечернюю зарю и сразу, как луна взойдёт, тронемся. Только расскажи, как нам идти.
Старик не отвечает.
Завтракаем молча. Над нами серое, безрадостное небо с голубым просветом у западного горизонта. Поднимается ветер. Бор гудит. Стая мелких лесных птиц, укрывшись в чаще, ведёт ожесточённый спор. Видно, и они не знают, какая ожидается погода.
— Седлай Кудряшку, — говорит Гурьяныч, поднимаясь и стряхивая с бороды хлебные крошки. — Да смотри, Пашка, ночью пойдёте — не сходите с бора, слева болото держите, а справа — еловую чащобу. Километра через три на тропу выйдете, ею и доберётесь до посёлка.
Глава 16 НОЧНОЙ БУРАН
Как только Гурьяныч с Кудряшкой и Жуликом скрылись из виду, стало скучно. Нет солнца, нет птичьих песен в бору, и небо хмурое. Хорошо, что костёр весело трещит и не даёт унывать.
А ветер не на шутку разгулялся над бором. Косматый тяжёлый туман, как снежная лавина, ползёт низом по всему лесному пространству, обшаривая мари, лога, пытаясь взобраться на верх гребней, но ветер прижимает его к земле, гонит дальше…
Кладу на огонь последние два кряжа — сноп искристых брызг взметнулся по ветру.
Пашка, положив под голову чурбак, ложится на хвою и, прикрывшись телогрейкой, быстро засыпает. Не пробуждаясь, он поворачивает к огню то спину, то грудь — это уже привычка таёжника.
Я почистил браунинг и Пашкину «ижевку». Сходил за дровами. Не знаю, чем ещё занять себя. Страшно медленно тянется время. Вдруг ветер стих, будто разбившись о стену. Застыл разлохмаченный бор. Туман, редея, ползёт вверх, сливаясь с быстро несущимися тучами.
С мутного неба падает пушистый снег.
Чудны, непостижимы дела твои, великая Природа! Только что было солнечное утро, пели птицы, весело шумели ручейки — и вот снег! Чего доброго, вернётся зима.
Снежинки падают на раскрасневшееся от костра сонное лицо Пашки, жалят его капельками холода. Пашка отмахивается от них, как от мошки, и просыпается.
— Снег! — кричит он, вскакивая и осматриваясь.
В бору тихо — только шорох падающего снега. Он сыплется сильнее, гуще. Уже не тает на охлаждённой земле, покрывает её пушистой белизною… Снег заслоняет мир, прячет под собой только что народившуюся зелень и редкие цветы, разбуженные первым обманчивым дыханием весны.
И всё-таки зиме уже не заглушить пробудившейся жизни, нет в ней той силы, что чувствуется в осенних снегопадах.
В три часа посветлело. Снег прекратился. На небе появились голубые проталины. Стукнул дятел. Защебетали птицы. Природа осторожно сбрасывала с себя оцепенение.
— Значит, договорились, Пашка: убьём, вечером по глухарю — и домой.
Парнишка поводит плечами — не согласен. Поднимает хитрющие глаза, смотрит на меня заискивающе.
— Вечером, знаете, как разыграются мошники: только успевай подскакивать да стрелять.
— Ты не дури, нечего жадничать, добудем двух — вот и бабушке обутки.
Пашка не знает как возразить. С напряжением думает. Хочется ему своего добиться.
— Как пофартит, может, и одного не убьём — птица напуганная, — лукавит он. — Дедушка всегда говорит: «Ты, Пашка, не учись наперёд загадывать, вначале надо убить, а потом теребить».
— Правильно учит дедушка. Но мы говорим о другом. Только посмей ослушаться, тогда запомни: нашей дружбе конец!
Пашка киснет.
— Ладно, будет по-вашему, — выжимает он из себя. Но я не уверен, что это серьёзно. С ним действительно надо держать ухо востро.
Налетает холодный ветер. Он шумно проносится по вершинам сосен и стихает где-то за бором, оставляя позади себя всеобщее смятение. Потом снова прорывается, раздувает огонь, рвёт и мечет огненные лоскуты.
Надвигается буран. Он зародился где-то в тревожных просторах холодного Ледовитого океана и, налетая на материк, обжигает его ледяным дыханием. И в этом буйстве разгневанного ветра, в упрямстве леса есть непримиримость великанов.
«Ну зачем остался?» — начинаю я терзать себя. Не очень-то приятно так вот, один на один, встретиться в тайге со снежным ураганом.
Густой сумрак непогоды уже окутывает землю. Ветер усиливается, врывается в бор могучим прибоем.
Пашка сидит мрачный, не сводит глаз с надвигающихся чёрных, разлохмаченных туч, точно в их грозных контурах он угадывает какое-то знамение. Рушатся все его планы.
— Что, Пашка, не нравится? — не выдерживаю я. Он встаёт, запихивает в огонь последние головешки, подходит к сосне, прислоняется спиною к стволу и подставляет буре лицо. Ветер стегает его снежной пылью, давит тяжким воем, то, вдруг, стихая, тянет к себе, дразнит и набрасывается с новой злобной силой…
— Ух, сатанюка, разыгралась! —цедит сквозь зубы Пашка и заметно вздрагивает от озноба.
— Зря мы с тобой не послушались дедушку: надо было домой идти, — говорю я. — Какому глухарю взбредёт в голову высунуться с песней в этакую погоду?
Он не отвечает.
Заполошный ветер переходит в ураган: ничего не видно вокруг, всё сливается в общем вое неба и тайги, в стоне падающих деревьев. Мир взбунтовался. Резко похолодало. Настоящая зима.
Парнишка продолжает стоять, прижавшись спиною к сосне, обхватив откинутыми назад руками ствол. Весь собранный как перед поединком. На лице — упрямство. Не могу понять, что с ним.
— Пашка, иди погрейся!
Пашка пропускает мимо ушей мои слова. Он захвачен ревущим ураганом.
Я поднимаюсь, подхожу к нему, беру его за руку, усаживаю к огню.
— Вы боитесь пурги? — спрашивает он, хмуря брови.
— Как сказать?.. — уклоняюсь я от прямого ответа.
— А мне хоть бы что! Страсть люблю в бурю ходить по лесу. — И в его заблестевших глазах вспыхивает и долго не гаснет азарт.
— Значит, не боишься бури?
— Нет! Чего бояться! Чем пуще ревёт, тем больше хочется схватиться с ней.
— С кем?.. Что ты болтаешь!
— С бурей! — И парнишка угрожающе сжимает кулаки. — Человек сильнее. Главное, не трусить, — упрямо возражает он.
— Ишь ты, храбрец!
Он весь напружинивается, смотрит испытующим взглядом:
— Хотите, пойду сейчас?
— Куда?
Пашка кивает головою в ревущее пространство.
— Зачем?
— Схватиться с ней...
— Ещё новости! Не дури.
— А с вами такого не бывало?
Его вопрос всколыхнул воспоминания. Рёв урагана перенёс меня в детство, такое же беспокойное, как у Пашки, с вечной жаждой приключений. И мне становится понятной брошенная им фраза: «Схватиться с ней…»
— Бывало и со мной в твоём возрасте, Пашка. Я страшно любил проводить дни и ночи на берегу моря во время шторма. Ты не представляешь, какое бывает море, когда на него налетит вот такой же ураганный ветер. С какой яростью и с каким рёвом схватываются волны со скалами — жутко смотреть! Горы чёрной воды разбиваются в пыль о гранитные уступы. В шторме, Пашка, действительно есть что-то берущее тебя за душу. Да, ты прав, хочется побороться с ним… И вот однажды, когда был особенно сильный шторм, я не выдержал, решился…
— Правда? — воскликнул Пашка.
— Да, попробовал свои силы. — И я вспоминаю все подробности своей схватки с морем. — Чтобы прорваться в открытое море, надо было осилить первые две-три волны, иначе мне бы не выдержать поединка. Но каждый раз волны обрушивались на меня всей страшной тяжестью и отшвыривали далеко назад, на холодный галечный берег. Однако безрассудный азарт подстрекал, я снова и снова лез на горбы волн, пока не прорвался…
— А потом? — И парнишка нервно ёрзает на валежине.
— Потом?.. Потом я повзрослел и уж не делал таких глупостей. — Я не стал говорить, что меня едва спасли. — А штормующее море по-прежнему люблю. Оно всегда дразнит меня, заманивает, но теперь я не поддаюсь.
— Значит, боитесь?
— Это не то слово, Паша. Просто во мне не осталось детской безрассудности, которой ещё болен ты.
— Я бы не отступился, — ершится парнишка.
— В твоём возрасте все мы храбрые. Пошли-ка лучше за дровами, погреемся и будем собираться домой. Нечего нам тут больше делать.
Он согласно кивает головою и, уходя, бурчит что-то себе под нос.
Мы расходимся по лесу в поисках сушняка. Ветер налетает шквалом. Бор неистово гудит, точно о его стволы разбиваются волны бушующего океана. Становится всё холоднее.
…Я подновляю костёр. Присаживаюсь к теплу. Пашки ещё нет.
Достаю хлеб, кусок шпика, оставленный нам Гурьянычем, разрезаю его пополам, поджариваю на углях.
Едкий дым от пригоревшего шпика, брошенный ветром в лицо, отрывает меня от дум. Пашки всё нет. Начинаю волноваться. Где же он с дровами? И вдруг страшная мысль: не ушёл ли в буран? Наверняка ушёл. Надо же было мне рассказать про шторм!
Я вскакиваю, кричу сколько есть сил:
— Пашка!.. Пашка!.. — Но голос глушит буря.
Нигде никого. Только сосны упрямо качаются перед глазами да тучи, подвластные ветру, несутся мимо.
Бросаю в огонь остатки сушняка. Быстро съедаю хлеб со шпиком, укладываю котомку, беру ружья и покидаю стоянку. С чёрного неба на бор сходит густой, тревожный сумрак. Острое чувство тревоги овладевает мною.
Где найти Пашку?
Иду, тороплюсь. Бешеным морем гудит бор.
Вот след парнишки. Видно, что он не шёл, а бежал, оставляя в настывшем снегу глубокие вмятины. Бежал наперекор ветру неровной, пьяной стёжкой…
Я в глубине души спокоен за него. С ним ничего не должно случиться: в тайге он как дома, ночь его не страшит, спички у него за пазухой — костёр разведёт в любую погоду. Пусть уймёт свой мятежный дух, поспорит с ураганом. Пусть закаляется. В жизни всё это пригодится.
Настоящая зима окутала землю. Ни глухарей, ни гусиного крика в небе, ни пташки живой. Только я, как, есть один, бреду по омертвевшему пространству, шагаю среди качающихся стволов.
Снова повалил снег. В тучах гаснут остатки дневного света. Синеют и совсем пропадают просветы в бору. Вот и ночь. В темноте исчезает след парнишки — теперь не догнать.
Эх, Пашка, Пашка!..
Куда идти? Вспоминаю слова Гурьяныча: «Когда с посёлка на ток едем, закатное солнце держу на затылке». Значит, обратно мне идти на закат. Достаю буссоль,[7] ориентируюсь.
Враждебно встаёт предо мною незнакомая тайга. Бреду между чуть заметных стволов сосен навстречу буре. Чувствую, что тело спереди замерзает, немеет, и мне всё чаще приходится поворачиваться спиною, идти пятясь или отдыхать, прислонившись к сосне с подветренной стороны. Как что-то безвозвратно далёкое вспоминаю костёр, брошенный на стоянке.
Новый порыв ветра слепит глаза снегом, перехватывает дыхание. Рёв бора вырывается из шума урагана. Я нагибаю голову, прячу лицо, иду через силу, не зная куда. Становится всё труднее перешагивать валежник. Устал. А ночь, кажется, завладела землёй навечно, и ветер не утихает. Решаюсь развести костёр, отогреться и тогда продолжать путь.
Сбрасываю ружья и котомку. Забираюсь под ель. Руки окончательно закоченели, не повинуются. Кое-как набираю сухих веток. Складываю их горкой на очищенной от снега земле, подсовываю под топливо виток берёзовой коры, хранившейся за пазухой, и уже предвкушаю тепло. Какое великое счастье — огонь! Что делал бы я без него?
С трудом запускаю кисть правой руки в карман брюк. Не чувствую, а скорее слышу, как пальцы касаются спичечной коробки, с трудом вытаскиваю её и опять дую на пальцы, растираю их, думаю о том, что нельзя человеку одному в такую непогоду ходить по тайге.
С помощью зубов освобождаю коробку из резиновой упаковки. Пальцы, как грабли, беспомощны. Ничего не могу с ними поделать. Натираю кисти рук снегом, засовываю их глубоко под телогрейку, бегаю вокруг ели. Теперь и ноги не очень-то слушаются. Неужели не согреться? И тут вдруг начинаю ясно сознавать, как далеко я от посёлка, что поблизости никого нет и что в такую бурю нехитро и погибнуть.
Со страхом вспоминаю Пашку. А что, если он обессилеет в этой безумной схватке с бураном, не сможет развести костёр и замёрзнет? Что будет с Гурьянычем?.. Меня всего трясёт от этих мыслей. А сам бегаю вокруг ели. Движения всё же расшевелили кровь. Припадаю к сушнику. Пальцы стали послушнее. Чиркаю спичкой по коробке. Огонь!.. Жадно глотаю горячий воздух.
И вдруг сквозь вой бурана слышу гудок локомотива. Где-то недалеко посёлок! И точно гора холода сваливается с моих плеч. Тут уж не до костра. Хватаю рюкзак, ружья, застёгиваю телогрейку, спешу на звук. А гудок почему-то не смолкает, гудит долго, наполняя тревогой беснующееся пространство.
Как будто потеплело. Откуда и сила взялась! Отмахиваю метровыми шагами по лесу. И теперь уже не замечаю под собою ни валежника, ни пней, ни рытвин. Даже буран, кажется, послабел.
А гудок ни на минуту не смолкает, Что бы это значило? Не случилась ли беда, не пожар ли в посёлке?! Всё может быть в такую погоду.
Вот и край бора. Немного посветлело. Выбегаю на поляну. Яростный ветер обжигает лицо. Нахожу дорогу, занесённую снегом. Перехожу мостик. Сквозь ночной сумрак меня встречают огоньки в избах взбудораженного гудком посёлка.
Где же Пашка? Надо же было случиться такому! Снова упрекаю себя за недосмотр.
Пробегаю глухие переулки посёлка. Вот и домик, где я квартирую. Но что это? На лавочке у калитки сидит Пашка! Он с радостью бросается ко мне, ощупывает руками, точно желая убедиться, что это именно я, а не привидение, и исчезает в темноте.
— Пашка! Вернись! Но его и след простыл.
Хозяйка Акимовна, обеспокоенная сообщением Пашки, встречает меня с упрёком.
— Как можно в этакую погоду ходить по тайге, да ещё ночью?
— Знаю, нельзя, но так уж получилось. Пашка давно пришёл?
— Давненько.
— Пожар, что ли, в посёлке — гудок не смолкает?
— Какой там пожар, это Пашка решил, что вы заблудились, уговорил механика электростанции сигнал подать. Кажись, перестал, а то ведь, считай, почти два часа гудел. Ну и Пашка! Да что это я вас всё разговорами угощаю? Раздевайтесь, чаю горячего выпейте — враз согреетесь…
Переодеваюсь. Тепло смягчает остроту пережитого. Позади истерзанная бурей тайга, страх за Пашку, тщетная попытка развести костёр…
Каким волшебным напитком кажется крепкий чай!
А вот и Пашка. Он широко распахивает входную дверь, и его вносит в комнату холодная струя воздуха. Радостный, довольный, будто выиграл решающий в жизни бой.
— Я ночую у вас? — И, не дожидаясь ответа, снимает сапоги, раздевается.
Акимовна усаживает его за стол, наливает чаю, долго не сводит с него ласкового, доброго взгляда.
— Проклятая буря! — Пашка виновато заглядывает мне в глаза.
— Видать, и тебя прижала?
— Как бы не так! Пусть того пуще разыгралась бы!
— Так недолго и до беды.
— Я ведь немного в лесу побегал, вернулся на стоянку, а вас не оказалось. Погрелся и домой. Прибежал сюда, и тут вас нет. Подумал, что заблудились. Я — на электростанцию. Они и давай гудеть…
— Гудок здорово помог мне. Вот за это спасибо!. Пашка доволен, шмыгает носом, потеет от чая и, уставший от волнения трудного дня, от необычайных впечатлений, быстро засыпает.
А я долго не могу уснуть. Нет, никогда не забыть мне этого путешествия по тайге с Гурьянычем и Пашкой! Я словно вижу оголённую землю, усеянную бесчисленными пнями, табуны отлетающих птиц, вспугнутых выстрелом, слышу одинокий крик чибиса… Грустно от всех этих картин, грустно потому, что ещё не все люди научились беречь природу, понимать и любить её, как Гурьяныч и Пашка.
Как много открыл я для себя, как много понял за эти несколько дней.
Глава 17 ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ
Через день из Медвежьего лога приехали на Кудряшке всем семейством Гурьяныч, бабушка и внук. И тут я вспомнил, что обещал рассчитаться с Пашкой за паутину. Они, вероятно, прибыли за деньгами: ведь это его первый самостоятельный заработок.
Бабушка осталась на улице. Я её вижу впервые. Она худощава, с пригорбленной спиной, с уставшим старческим взглядом. На лице будто вырезанные резцом глубокие морщины. На ней старенькая меховая кацавейка, широченная юбка, прикрытая спереди чёрным фартуком. Голова закутана тёплым платком. На ногах новые ботинки. Они живо напоминают мне сцену в бору.
Гурьяныч с Пашкой зашли ко мне в кабинет.
— С добрым утром! — сказал старик, окинув меня быстрым беспокойным взглядом, — Слава богу, кажись, всё обошлось?
— Здравствуйте, Гурьяныч! Да, всё в порядке!
— Уж я его, негодника, как следует пропесочил: мыслимое ли дело бросить человека в незнакомой тайге, да ещё в непогоду.
— Строго-то, может быть, и не следует наказывать. Я же не новичок в тайге. Но всё-таки хорошо, что он догадался дать сигнал.
Гурьяныч и Пашка стоят у двери, неуклюже переступая с ноги на ногу, оба смущённые от неловкости.
— Сегодня у тебя праздник, Пашка, — получаешь первую зарплату.
Пашка засиял.
— Истинно первый заработок. Благодарим за добро, — вкрадчиво отвечает за него Гурьяныч.
— Как рассчитываться будем?
— Воля ваша. Труда-то не ахти как много затрачено… — говорит Гурьяныч, а сам не сводит с меня вопросительного взгляда.
— Сколько стоит одноствольная «ижевка» со всеми принадлежностями?
— В двадцать пять рублей куда с добром можно уложиться, ещё и на баранки бабушке выгадать можно.
Пашка ещё больше засиял; так, кажется, сейчас и брызнет из него восторг.
— Так вот что, Гурьяныч: я выпишу Пашке премию тридцать рублей. Купите ему ружьё, но до осени не давайте. Если он не перейдёт в седьмой класс, то вообще ружья его придётся лишить.
— Тут уж не беспокойтесь, спуску ему не будет.
— Я завтра тоже зайду в школу, вновь поговорю о нём. А сейчас идите в бухгалтерию, получите Пашкины деньги. Вам же, Гурьяныч, придётся приехать к пятнадцатому — это, значит, в следующую субботу — за получкой.
— Благодарю, непременно приеду…
Через полчаса, они оба вернулись в кабинет.
— Спасибо, что уважили. Хотелось бы спросить совета: «ижевку» ему купить или с рук подержанную «централку»?
— Конечно, «ижевку».
— Я того же мнения. Мы мигом сбегаем в магазин и, если разрешите, принесём показать. Придётся сразу взять и банку пороху, дроби, а чехол сам сошью.
— Заходите, буду ждать.
Вышли на улицу оба бесконечно счастливые. Деньги Гурьяныч унёс в сжатом кулаке: не растерять бы их до магазина.
Я наблюдаю за ними из окна.
Пашка бежит к бабушке, как резвый жеребёнок. Та сидит на лавочке, ждёт. Парнишка с разбегу припадает к ней, что-то восторженно говорит, показывает на дедушку, на его кулак, не может успокоиться. Сбылась мечта — у него будет «ижевка»! Какое это счастье для парнишки!
Старушка еле уловимым движением головы усаживает Гурьяныча справа от себя, а Пашку — слева. Брови у неё нахмурены. Концом платка она вытирает тонкие губы и начинает энергично «дирижировать» рукою; показывая в сторону Пашки, что-то быстро говорит. У парнишки после её слов пропадает на лице радость, он никнет. Дед не шевелится, сидит, прижавшись спиною к забору, будто и нет его тут.
Оба молчат.
А бабушка тычет пальцем в Пашкины латаные сапоги, в старенькую широченную телогрейку и что-то говорит, говорит. Затем неожиданно поворачивается к старику. Молча протягивает к нему руку, и я вижу, как разжимается у Гурьяныча кулак, как медленно раскрываются пальцы и как скомканные бумажки падают на старушкину ладонь.
Ни старик, ни Пашка не возражают. Ни слова. Молча следят, как бабушка не торопясь расправляет деньги, пересчитывает их дважды, прикидывает что-то в уме и, подняв подол верхней юбки, прячет глубоко в потайной карман. Гурьяныч отворачивается. Пашка вскакивает, но не смеет и рта раскрыть. А бабушка достаёт из наружного кармана платок с узелком, развязывает его и даёт внуку несколько монет. Затем встаёт, строго что-то говорит Гурьянычу, грозит пальцем. Потом усаживается поудобнее на телегу, будит вожжой задремавшую Кудряшку, и та не торопясь увозит её из посёлка в Медвежий лог.
Дедушка с внуком грустно смотрят ей вслед, пока Кудряшка не скрывается за поворотом.
Пашка придвигается вплотную к Гурьянычу, отдаёт ему несчитанные монеты. Оба сидят осиротевшие, подавленные, сконфуженные.
Потом оба заходят ко мне.
— Мы-то — за ружжо, а старуха повернула деньги на одёжину внуку, — говорит грустно Гурьяныч. — Конечно, тоже нужно.
У парнишки дрожат губы. Молчит.
— До осени, Пашка, ружьё не понадобится, а там видно будет, — пытаюсь успокоить его.
— Я тоже за это. Вот кончит школу, лето поработает со мною на смолокурке — лишний рубль заработаем. — И поворачивается к Пашке: — Вот тебе и ружжо будет!
У Пашки раскрывается рот.
— Непременно заработаем. Только бы бабушка не отобрала. А сейчас пусть распорядится: мне обутки на лето, а тебе, дедушка, рубашку.
У Гурьяныча дрогнули плечи, он пропускает мимо ушей последние слова.
— Ежели отберёт, мы тогда супротив пойдём, и дядя за нас будет. Как вы?
— Второй раз не отберёт. Ты только, Пашка, хорошо учись. Этого ей, видно, очень хочется, и она будет за тебя.
Мы прощаемся.
Так они и уходят с надеждой, что в следующий раз бабушка будет на их стороне.
В этот день мы получили радиограмму от Евдокии Ивановны Макаровой, что паутиновые нити натянуты, закончено исследование инструмента и она уже приступила к наблюдениям.
В субботу вечером я занимался упаковкой вещей. Теперь уж ничто не может помешать нашему вылету в далёкую тайгу. Пришёл Пашка. Перешагнув порог, он остановился, молча стал наблюдать, как я укладываю своё снаряжение, рыболовные снасти, фотоматериалы и всякую походную мелочь.
— Значит, улетаете? — грустно спросил он.
— Да, Пашка, улетаем.
— А я как же?
— У тебя школа, и на твоей ответственности дедушка и бабушка. Кто за ними смотреть будет?
— Куда же вы?
— В тайгу. Поеду в полевые подразделения и до зимы вряд ли вернусь. Почему это вдруг тебя удивило? Ты же знаешь, что я давно должен был лететь.
Пашка расстроен, садится на табуретку. Застывшими глазами смотрит мимо меня, о чём-то думая.
— Возьмите с собой!
— Я так и знал!
— Возьмите, дядя Гриша, обузой не буду.
— Ты соображаешь, что говоришь? Куда это я тебя возьму?
— Тогда я сам куда-нибудь уеду.
Я смеюсь.
— Вот посмотрите!..
— Интересно, куда и на чём ты уедешь? На Кудряшке? Ты же серьёзный парень — и вдруг такие разговоры! Вспомни, кто недавно обещал дедушке летом помочь на смолокурке? Кто хотел заработать на ружьё? Забыл? А бабушку на кого оставишь?
Пашка отводит глаза, молчит.
— Думаю, за ночь у тебя пройдёт это настроение. Ты поумнеешь, а в понедельник пораньше утром прибегай на аэродром проводить нас.
— Можно?! — обрадовался он.
— Приходи. А сейчас отправляйся спать.
— Рано на аэродром?
— С рассветом. Передай дедушке, что я улетаю. Если время у него будет свободное, пусть и он тоже придёт попрощаться.
— Непременно передам. Спокойной ночи!
Воскресенье прошло в хлопотах. Надо было закончить все дела в штабе экспедиции, а их всегда перед отъездом накапливается много. Только к концу дня наступило облегчение. Оставалось дождаться утра — и прощай жилые места.
Вечером в комнату вошла взволнованная Акимовна.
— Плохие новости я вам принесла.
— Что случилось? — встревожился я.
— Марфиного козлёнка убили.
— Борьку убили?.. Это кто же? Что за негодяй! — И мне невольно вспомнилась первая встреча в лесу с Борькой.
— Весь посёлок об этом говорит.
— Может, это только разговоры и Борька погуляет и вернётся в зимовье?
— Нет, это точно. Говорят, будто два дня назад козлёнок ушёл из избушки кормиться и как в воду канул — не вернулся. Марфа, конечно, догадалась, что с Борькой случилась беда, всю тайгу, бедняжка, исходила, да разве найдёшь, ежели убили.
— Но кто же убил?
— У Марфы в зимовье поболе недели жили два лесоруба из посёлка. Борька привязался к ним, на лесосеку бегал. Марфа и решила: наверное, это они польстились на козлёнка. Побежала в соседний лог, к ним на стоянку. И что же вы думаете? Шкуру нашла Борькину, копытца да кости.
— Что это за лесорубы?
— Нашенские мужики — Фёдор Кривых, что на речке живёт, и дед Гераська, сторож сельпо. Этим ничего не стоит, не впервой им пакостить. Хуже зверей! Марфа к ним с добрым сердцем, в зимовье пустила, может, хлебом-солью делилась, а они что сделали? Убийцы!
Тут распахнулась дверь, и в комнату торопливо вошёл Гурьяныч. Старик осунулся, выглядел уставшим, каким я не видел его даже в походе. Он, не поздоровавшись, присел на краешек табуретки и долго не сводил с меня грустных глаз.
— Порешили, негодяи, козлёнка! Сроду не ругался, да разве тут вытерпишь! У кого сердце не дрогнет от такого? Сам посуди: козлёнок с Марфой, можно сказать, примером всем нам были, как должен жить человек со зверем, а они порешили его. До каких пор будем терпеть пакостников на своей земле? Скажи, каку казнь им придумать?
Я вижу, как вдруг побагровело обветренное лицо Гурьяныча, как вздулись на нём синие прожилки вен и его глаза, всегда ласковые, добрые, наполнились гневом.
— Внуку ещё нужна моя забота, а то бы взял грех на себя. Сейчас ушёл бы в бор, своим судом расправился бы с убийцами.
— Это нельзя оставить безнаказанным. Они-то, Фёдор и дед Гераська, сроду шкодливые в лесу, — вмешивается Акимовна.
— Утром зайду к прокурору. Пусть статью им подбирает, сам на суде выступлю. Кончать надо с беззакониями в тайге, — строго говорит Гурьяныч.
— Съездили бы вы, Гурьяныч, к Марфе, ей легче будет, когда вас увидит. Надо бы вместе нам с вами отправиться, но у меня нет времени — завтра утром улетаю.
— Не знаю, как смотреть ей в глаза. За живодёров стыдно. Но придётся съездить. Ежели муж её, Тёшка, не вернулся с промысла, перевезу её с Петькой на смолокурню, с неделю у нас поживёт.
Акимовна загремела самоваром. Старику немного полегчало. Он сбросил с плеч телогрейку, пододвинул табуретку к столу. Долго пили чай.
— Человека надо сызмальства, как только он начинает своими ногами ходить, приучать к природе. Без неё как можно жить?! — говорит Гурьяныч с душевной болью. — К примеру, наши ребята из посёлка пойдут в лес, кака птичка попадётся, бурундук, белка, — с рогатки их, а то и с ружжа. Мимо гнёзд не проходят. Где зайчонка увидят — собаками стравят. Охальничают. На что годится?! А взрослые как ослепли, не видят, будто их не касается. Да и школа совсем в стороне. Что бы в неделю хоть на два часа уводить ребят в лес: им надо объяснять, для чего лес растёт на земле, кто живёт в нём. Даже в заведении такого нет. Оттого у людей и нет бережливости. А ведь ребята должны знать, что лес — это не только дрова да костры, но и великая человеческая радость. Насмотрелся я на лесное разорение и думаю: установить бы нам по всей стране в году несколько праздников и в эти дни всем народом выходить на природу, порадоваться да и пособить ей! Кака польза была бы для страны: враз бы поднялись леса, появилась бы всякая живность, звери и птицы, и браконьерству конец! — Гурьяныч решительно резанул по воздуху вытянутой ладонью. — А ведь нынче браконьеров поболе стало. В экспедициях все с ружжами, туристы тоже. Нигде от них спасенья нет живому, никаких законов не соблюдают. Говорят, что ружжа им нужны от медведей обороняться. Ишь побасёнку каку выдумали! Медведь пуще всего человека боится. Да его теперь днём с огнём не везде найдёшь. Мало стало. Право бы моё было — запретил брать ружжа в руки не в срок охоты, строгую ответственность наложил бы на беззаконников… — Старик посуровел, несколько минут сидел молча, потом добавил: — А главное, ребят надо сызмальства к порядку приучать, к уважению закона, иначе разорим мы свои богатства. Не так разве?
— Вы правы, Гурьяныч, не бережём природу, порою бываем даже беспощадны к ней. А ведь она как будто и охраняется хорошими законами, но законы — сами по себе, а браконьеры — сами по себе. Вы говорите, на ружья надо наложить запрет, но это, мне кажется, всего лишь полумера. Надо, чтобы у каждого из нас в сердце жила любовь к лесу, к зверю, к птице. Надо, чтобы у нас побольше было таких ребят, как Пашка. Уж они не позволят никому глумиться над природой…
— Дожить бы мне до этих лет! — говорит старик, поднимаясь и с грустью поглядывая на меня. — Они придут, разрази меня гром, придут! А на Пашку я тоже надеюсь. Он, шельмец, хотя ещё и не оперился как следует, спуску не даст охальникам. Подрасти бы ему скорее…
Мы прощаемся. Долго жмём друг другу руки. Вглядываюсь в лицо Гурьяныча — встретимся ли мы ещё когда-нибудь?
Не часто попадаются в жизни такие интересные люди, цельные натуры, как этот старик смолокур. Всё в нём доброе, прозорливое, умное. Эта доброта от леса, от общения с природой.
Я провожаю его за калитку. Мы ещё раз крепко пожимаем друг другу руки, и он уходит в темноту.
Возвращаюсь в комнату, сажусь за письма. О них обычно вспоминаешь в последние минуты сборов.
В доме тишина. Только ветер надоедливо стучит ставней, да на крыше гремит оторванный железный лист. Мне вдруг кажется, что кто-то неслышно вошёл в комнату, стоит за моей спиной. Оглядываюсь:
— Пашка! Ты что так поздно?
Вид у него ужасный. Он без шапки. Волосы взлохмачены. В глазах ярость. Парнишка с трудом выговаривает:
— Борьку убили!..
— Я уже знаю.
— Дайте ружьё, я им такое, устрою за козлёнка!..
— Что ты, милый мой, успокойся. Дедушка завтра сам съездит туда, разберётся.
— Не дадите? — в его глазах решимость. Он выжидающе косит на меня горящие глаза.
— Нет, не дам… Ты успокойся, без тебя разберутся.
— Обойдусь и без ружья, — бросает он, выскакивая из комнаты.
Я ловлю его в прихожей. Парнишка отчаянно сопротивляется, и мне с трудом удаётся удержать его.
Затаскиваю Пашку в комнату. Крепко держу его за руки. Он не сдаётся. Тяжело дышит, не смотрит мне в глаза. Слышу, как бурно стучит его сердце.
— Ты что задумал? Молчание.
— Лучше скажи. Тогда вместе решим, что делать. Самовольничать тут никак нельзя.
Парнишка лёгонько двигает плечами, пытаясь высвободить руки, и поворачивает ко мне красное, запорошенное яркими веснушками лицо.
— Никогда им не прощу. Отрыгнется им Борька, вот увидите!
— Наказать их, конечно, надо, но по закону, а ты сразу за ружьё!.. На что это годится? Долго ли с ружьём до беды?!
— Это я для смелости, — оправдывается Пашка.
— Для смелости… Ты ещё слишком мал, чтобы самому решать такие вопросы. Положись на дедушку. Он непременно придумает, как поступить с браконьерами. Не отступится. А тебе советую выбросить из головы свою затею. Вытаскивай из чехла мой спальный мешок, забирайся в него и спи.
Пашка постепенно успокаивается. — Ладно, можно и остаться, —примирительно говорит он.
Соблазн был велик — заснуть в походном меховом мешке. Пашке это даже не снилось. Он с удовольствием достаёт мешок, стелет его на полу, раздевается и, забравшись поглубже, затихает.
— Спокойной ночи! — говорю я, довольный наступившим перемирием.
Парнишка что-то бурчит в ответ и в избе опять становится тихо. Только ветер по-прежнему стучит скрипучею ставней.
Снова сажусь за письма. Скучающий хозяйский кот, усевшись рядом на табуретке, что-то доверчиво бормочет мне о своей кошачьей жизни. Пашка не спит, беспрерывно ворочается, вздыхает, что-то трудно додумывает.
— Дядя… — вдруг слышится его голос.
Я поворачиваюсь к нему. Он сидит на спальном мешке.
— Ты почему не спишь?
— Зачем они убили Борьку? — Голос его дрожит. Он с трудом сдерживает слёзы. — Я сейчас подниму всех своих ребят, побежим в бор, найдём их…
— Ты с ума сошёл — ночью в бор! Кто это тебе позволит?! — И я строго погрозил ему пальцем. — Говорю, дедушка им не простит, найдёт на них управу законом.
— Пусть дедушка по закону, а мы им сами что-нибудь устроим: на всю округу опозорим за Борьку так, что ни в тайге, ни в посёлке места им не будет. Вот посмотрите!..
— Успокойся, Пашка, никуда я тебя не пущу, а тем более собирать ребят. Спи. Утром поедешь со мною на аэродром.
— Возьмёте? — снова обрадовавшись, недоверчиво спрашивает он. — Ох, как мне охота близко посмотреть самолёт!
— Это я тебе устрою: и самолёт посмотришь, и проводишь меня. Я уезжаю надолго. Не знаю, встретимся ли мы ещё когда-нибудь с тобой, Пашка?
— Встретимся, о чём разговор. Иначе и быть не может!
— Ты прав: надо непременно встретиться. А теперь, поскольку нерешённых вопросов у нас больше нет, спи. Утром рано разбужу.
Он ещё посидел с минуту, поморщил лоб от каких-то дум и, забравшись в спальный мешок, затих.
Покончив с письмом, я с облегчением, точно гора тяжести свалилась с плеч, лёг в постель. Пашка уснул тяжёлым, беспокойным сном, стиснув в гневе пухлые губы и откинув далеко назад правую руку, будто намереваясь кого-то ударить. У его изголовья отдыхал кот. Положив усатую морду на сложенные полудугою передние лапы, он, мурлыкая, баюкал сон парнишки…
Меня будит энергичный толчок в бок.
— Встаньте, Пашка убег, только что выскочил из избы, — слышу тревожный голос Акимовны.
— Что же вы его не задержали?
— Где там мне задержать! Было схватила у двери, так он выскользнул, как налим.
С улицы доносится пронзительный свист. Я знаю: это у ребят сигнал бедствия, призыв к немедленному сбору. Он повторяется трижды и смолкает.
Я выскакиваю во двор. В предутренней тишине посёлка какая-то тревога. Где-то скрипнула калитка, послышались торопливые шаги по переулку, кто-то перелезал через заборы, бежал, затем напротив в доме хлопнула дверь, но сейчас же раскрылась, и женщина крикнула в темноту:
— Стёпка, вернись!
Выбегаю на улицу, но уже поздно. В переулке пусто, и только быстро удаляющийся лай собак выдаёт беглецов…
Стою долго, будто пригвождённый к месту, не знаю, что предпринять, чтобы удержать Пашку от неверного шага. И в то же время понимаю, что иначе Пашка поступить не мог, и я на его месте сделал бы то же самое. Но что он задумал? Нет, нет, он не сделает глупости, пальцем никого не тронет — на это он не способен. Но парнишка придумал какое-нибудь своё, мальчишечье наказание, вроде того, что он сделал, с собачником. В этом я убеждён. Тогда пусть ребята бегут в бор с болью за Борьку, за Марфу, пусть гневаются. Может быть, в этом гневе у них окрепнет любовь к природе, и они унесут её в жизнь, по-настоящему встанут на защиту лесов, птиц зверей, рыб — всего живого царства природы.
— В добрый час, ребята! — кричу я им вслед, и мне вдруг до боли хочется стать мальчишкой, бежать вместе с ними в бор и узнать, что же придумал Пашка в эту бессонную ночь…
Скоро утро, Акимовна на прощанье угощает меня пирожками. Усаживается рядом, долго смотрит в глаза.
— Молодец Пашка! — не выдерживает старушка. — Пусть он их, убивцев, малость пропесочит. Мы за него всем посёлком пойдём, в обиду не дадим.
— Значит, и вам, Акимовна, приглянулся Пашка?
— Как же, милый мой, на то я долго прожила на свете, чтобы разбираться в людях. А он-то ещё дитё, весь наружи. Хороший парень!
— Но ведь он с чужой улицы?
Акимовна добродушно улыбается.
— Пашку беру к себе на квартиру. С Гурьянычем договорилась, — торжественно заявляет она. — Ему от нас ближе в школу ходить, да и как будто сродни мне стал этот бесёнок. Вместе ждать будем вас. Когда вернётесь?
— Не знаю, Акимовна, наша жизнь, разведчиков, полна всяких неожиданностей. Может, больше и не встретимся. А за Пашку я рад, что он будет жить у вас. Вы, Акимовна, добрый человек, проследите по-матерински за ним.
Подъехала машина. Мы прощаемся.
Над землёю рассвет. Орут пробудившиеся петухи, в отдалении лают собаки. Столбы дыма встают над посёлком.
Я заезжаю за Василием Николаевичем. Меня радует мысль, что мы с ним надолго покидаем жилые места. Наш дом, наш очаг, наши мечты уже там, в далёкой тайге, у снежных вершин, на звериных тропах, куда мы давно стремимся. Наконец-то расстанемся с оседлой жизнью, чтобы надолго стать лесными кочевниками, полностью отдаться работе, приключениям, неудачам и успехам, всегда сопутствующим работе геодезистов. И в моём воображении возникают картины предстоящих таёжных походов, борьбы с дикой природой, новых открытий.
Но пройдут дни, недели, месяцы, и нас снова, может, с ещё большей силой, потянет из безлюдных пустырей обратно к родному очагу, к друзьям, к людям, и всё то, что мы сейчас спешим покинуть, покажется самым желанным, дорогим, необходимым.
На аэродроме уже собрались провожающие. Но среди присутствующих нет Пашки. Обидно. Хотелось на прощанье крепко обнять этого хорошего, полюбившегося мне паренька, сказать ему много тёплых слов. Вот когда я почувствовал, как он близок и дорог мне, этот маленький наследник деда Гурьяныча — будущий хранитель родной земли.
Гудят моторы. Машина выруливает на дорожку. Короткая передышка — и мы покидаем эту землю, посёлок, деда смолокура Гурьяныча, Пашку с их радостями и надеждами…
Я прошу командира самолёта не торопиться набирать высоту. Летим над знакомым бором. Где-то впереди, в густом сосняке, таится избушка Марфы. Уже узнаю лысые холмы, пересечённые Ясненским трактом поляны. Ещё какая-то доля минуты и… Что это? Ни зимовья, ни сарая… На том месте, где они стояли, лежит угольно-чёрное пятно да дымящиеся головешки.
— Значит, не пережила Марфа гибели Борьки, не простила, — сказал Василий Николаевич, отрываясь от окна самолёта.
Глава 18 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Всё лето мы с Василием Николаевичем бродили по таёжным просторам, взбирались на скалистые вершины гор, пересекали топкие мари, бурные реки. За это время мы побывали во многих полевых подразделениях геодезистов и топографов, помогали работать, жгли с ними ночные костры, топтали тропы, разделяли невзгоды кочевой жизни. И сколько бы мы ни бродили по безлюдным просторам, куда бы мы ни направлялись, всегда нас впереди ждали загадочные, манящие дали.
Очень часто в этих путешествиях мне вспоминалось старенькое зимовье в глухом Медвежьем логу, покосившееся, с заросшей бурьяном крышей, с маленькими оконцами, хотя я его никогда не видел. Я по-настоящему здорово полюбил и Гурьяныча, чудесного старика, пронёсшего через трудную жизнь свою человечность, и Пашку, конопатого паренька, беспокойного, в трудной жизни ищущего свою судьбу, и бабушку, которую оба они с большой заботливостью оберегают и без которой нельзя представить себе ни Гурьяныча, ни Пашку. Как много у этих людей сердечности и простоты, и не это ли делает их счастливее многих из нас?!
Не могу избавиться от ощущения, что Гурьяныч и Пашка вместе с Кудряшкой идут с нами по тайге. Я как будто продолжаю наблюдать, как настойчиво и осторожно старик раскрывает перед внуком таинственный мир живой природы, приучает беречь её, чтобы жизнь людей была красивой. И я как будто сам учусь у этого мудрого смолокура понимать её.
Незаметно уходят последние дни лета. Стынет земля, Прозрачней и чище становится воздух. Синеет безбрежная лазурь неба. Лес приумолк, и по низинам потекли жидкие туманы.
Мы с Василием Николаевичем не успели за короткое лето согреться. Свернули на юг, где было ещё много тепла и солнца. Шли напрямик, торопливым конским шагом, через пади, холмы, залесённые равнины. На плечах несли с севера первые признаки осени… Шли долго.
С нами топчет немереные тропы Загря. Без этой зверовой лайки нам было бы скучно в тайге. Он великолепно сложён, обладает сильным чутьём, предан нам, неутомим в своих таёжных приключениях. Он предупреждает нас о близости медведя, с которым у него давнишние счёты, о жировках сохатых и сокжоев, и в тяжёлые дни, когда у нас кончались продукты и их неоткуда было взять, Загря помогал нам добывать для пищи зверя.
Где бы я ни был, но когда вспоминаю осень, в памяти невольно возникают скалистые горы, подбитые снизу могучей кедровой тайгою, одетые в лёгкий пурпур, с ярким солнцем и белыми туманами, нависающими над бездонными пропастями, где осенними зорями ревут маралы.
Воспоминания обычно цепляются одно за другое, и сила привычки тянет в эти сказочные горы, чтобы ещё и ещё послушать брачную песню марала.
Ещё несколько дней пути, и мы доберёмся до посёлка, откуда начали весною своё путешествие. Там я снова встречусь с Гурьянычем и Пашкой. Чтобы приглушить свою тоску по парнишке, я решил при встрече подарить ему своё ружьё. Представляю, сколько у него будет радости!
Сегодня восьмое сентября. Осень в полном разливе. Остаётся всего лишь два дня, и заревут маралы. Мы торопимся, нам надо непременно добраться завтра до знакомых гор, они уже много дней перед глазами, надвигаются на нас своими зубчатыми вершинами. В этих горах мы с Василием Николаевичем сделаем однодневный привал, Чтобы на заре подслушать осеннюю песню марала.
Идём тайгою. Под её сводом вечный сумрак. Сюда не проникают лучи солнца, не доходят порывы ветра, здесь не живут звери, и крик случайно залетевшей птицы не оживляет её, а ещё больше подчёркивает глушь. В этом лесу постоянная сырость, нет ни трав, ни цветов и в мёртвой тишине гулко отдаются шаги каравана.
В это осеннее время зверь держится главным образом в верхней зоне леса, вблизи альпийских лугов. Там, под сенью скал, они находят себе прохладу и корм. Именно во второй половине сентября у маралов наступает бурный период их жизни, когда откормленные на горных травах самцы вступают в поединок друг с другом, в жестоких схватках меряют свои силы, тогда от их нескончаемого рёва, кажется, поют и тайга, и ущелье, и скалы. Быть в это время в обитаемых зверем горах — счастье, а увидеть их схватку натуралист может разве только мечтать.
У меня было письмо из Академии наук, с просьбой добыть для музея маралов — самца и самку. В это брачное время вообще все виды оленя имеют самый красивый наряд. Шерсть на них густая, хорошо прилегает к спине и бокам. Может, нам повезёт, и мы завтра отстреляем пару зверей.
Солнце ушло за полдень. Мы перебрели быструю речку Бутуй, вырывающуюся из гор, чтобы в тихих заводях, под охраной береговой тайги передохнуть. Теперь до нашего посёлка оставался один день пути, но мы свернули в ущелье и там отаборились. Палатку ставили без лишнего стука — зверь далеко слышит посторонний звук, боится его. Мы же должны были своё появление здесь держать в секрете.
Навалилась мошка. Пришлось развести небольшой дымокур для лошадей. Поставили палатку на тот случай, если нас застигнет здесь ненастье. Убрали вьюки и заготовили дров.
Василий Николаевич предлагает подняться к верхним гребням и там в скалах заночевать, чтобы не прозевать утренней зари.
Взбираемся на крутизну. За плечами котомки, ружья, в руках посохи. У меня к поясу привязан Загря.
Василий Николаевич — мой неизменный спутник по многим экспедициям. Нас сблизила любовь к природе, к скитаниям по неисследованным дебрям Сибири. Много лет мы отогревались у одного костра, топтали одну тропу, делились последним сухарём, жили одними думами. Он человек неразговорчивый, любит всё додумывать сам. На его загорелом лице глаза кажутся неприметными, но они необыкновенно пытливы, мимо них ничто не промелькнёт незамеченным.
Лес постепенно мельчает, выклинивается, не выдерживая натиска россыпей, стекающих серыми, ноздреватыми потоками сверху. С небесной высоты нас заметили беркуты. Они кругами ходят по бездонной синеве, роняя на землю пугающий крик.
На минуту я задерживаюсь передохнуть. Весь горизонт справа и слева от нас загромождён взмахами вершин, уже чуточку поседевших от снега. Между ними в провалах копятся вечерние тени. А внизу, в глубине ущелья, беснуется Бутуй. На его берегу видны палатки, кони и одинокая струйка дыма. Это наш лагерь.
Ещё небольшое напряжение, и мы у скал. Василий Николаевич, склонившись на посох, спокойным взглядом ощупывает местность и открытым ртом хватает воздух, напоённый прохладой снежников и пряным запахом разнеженных на солнце рододендронов. Я, усевшись на камень, отдыхаю. С каждым новым вдохом слабеет усталость, будто пьёшь живительную влагу, пьёшь и не можешь напиться.
Вдруг Загря вскочил и повернул морду к соседнему отрогу. Мы смотрим туда. Что-то серое мелькнуло внизу по кедрачу и быстро поднялось на гребень.
— Бык… — тихо шепчет Василий, хватая меня за руку. — Видать, нас учуял. Этот на трубу не придёт сегодня.
Я смотрю в бинокль. Верно, марал! Бежит он легко, ноги вразмёт, гребёт ими широко, во всю звериную прыть. Вот он выкатился на открытую седловину с болотцем в середине и, откинув назад рога, замер, видимо, прислушиваясь. До него метров триста пятьдесят, но в бинокль он кажется рядом, и я, как заворожённый, любуюсь им. Как чертовски он напряжён! В его застывшей позе — угроза. В широко расставленных ногах, в гордо откинутой голове, в ноздрях что-то властное, непримиримое. А какие изящные ноги, как всё в этом звере пропорционально, точно, гладко! И кажется он творением великого мастера, вылитым из светло-бурого металла.
— Что делать?.. Стрелять?! — спрашиваю я Василия Николаевича и прикладываю к плечу карабин.
— Нет, далековато, ранишь — уйдёт, а зверь, кажись, тот, какого мы ищем, — отвечает он.
Бык делает несколько торопливых прыжков, трясёт головой и с ходу падает в болото. Столб мутной воды окутывает зверя. В каком-то бешеном припадке он разбивает грязь копытами, падает в неё, вскакивает, снова падает, выворачивает рогами пласты земли и угрожающе стонет, бросая вызов невидимому противнику. Мы, затаив дыхание, наблюдаем: не часто приходится видеть марала в таком драчливом состоянии. Он ищет соперников, чтобы в первой схватке испытать свои силы.
Через минуту марал выскочил из болота весь в грязи. С рогов свисали клочья тины. Не задерживаясь, даже не стряхнув с себя прилипшую грязь, он махом бросился вверх по отрогу и скрылся за густой грядой кедрачей. Его путь в тишине дремлющих скал можно было проследить по глухому протяжному стону.
Какое-то время мы находимся под впечатлением виденной картины и молчим. Загря, после неоднократной попытки сорваться с поводка, повернулся к нам, и в его умных глазах можно было прочесть упрёк.
— Здоровущий, сатана, и жирен! Такого бы свалить! — говорит Василий Николаевич, почёсывая затылок. — Думаю, уйдёт далеко.
— Не должен бы, место тут ихнее: скалы, кедрачи, поляны, — отвечаю ему. — Самку найдёт — угомонится и заревёт, Тогда-то мы и подберёмся к нему с трубой. А сейчас уйдём отсюда, чтобы место не одушить…
Отходим влево через ложок, немного поднимаемся по ольховой чаще. Идём бесшумно, как тени. Тут на склоне не так просто найти место для ночлега, тем более нам, привыкшим к таёжному «комфорту».
Нас приютил старый кедр, росший рядом со скалою. Под ним уютно, сухо и можно укрыться от непогоды. Мы быстро организуем ночлег. Василий Николаевич остаётся готовить ужин, а я с Загрей отправляюсь на верх скалы встретить вечернюю зарю и послушать, о чём шепчет старая тайга в эту осеннюю пору.
Поднимаемся по узкому гребню, усеянному обломками гранита. Всё шире и дальше уходит горизонт. Мутнеет синева далёких гор.
Вот мы и наверху.
Я присаживаюсь на камень у края глубокого обрыва. Достаю кисет и с каким-то никогда не испытанным наслаждением закуриваю: отрываю бумажку, насыпаю махорки, уравниваю и начинаю крутить цигарку. А сам не свожу глаз с полян, что лежат подо мною. Кобель, усевшись на задние лапы, прислушивается, лениво шевеля ушами. Где-то за зубчатой грядой гольцов ещё не угасли последние лучи солнца. День ушёл. Над дикой рекой копится прозрачный туман, окутывая ущелья сумраком. Ни звука, будто здесь нет ни единого живого существа. И эта тишина создаёт впечатление первобытности и беспредельности.
Наконец, вижу: из перелеска соседнего отрога, словно привидение, выходит бык-марал, небольшой, но рогастый. Бесшумными шагами он поднимается на выступ скалы и настороженно замирает над пропастью. Я забываю про карабин, про Загрю: И вдруг из-за Бутуя, от скал, что нависают над рекою, в мёртвую тишину наступлющей ночи врывается рёв. В этой первой песне, ещё робкой, звучит с неповторимой силой и призыв, и угроза.
Вздрогнула тайга, ожили скалы, нетерпеливо взвизгнул Загря. Тотчас же с далёких-далёких мысов, прикрытых вечерним сумраком, долетает ответный рёв, строгий и басистый. А бык, что на соседнем отроге, продолжает стоять, прислушиваясь, как бы пытаясь разгадать по звуку силу ревущих противников. Он вытягивает шею, приподнимает голову, хочет сам зареветь, но из открытого рта у него вырывается только тихое мычание.
Снизу, из тёмных лощин, неслышно, воровски подкрался туман, неотвратимый, как ночь, и всё вокруг нас утонуло в белесоватой мгле.
Где-то за туманом погасала заря. Темень холодная, густая свалилась на горы.
Спускаюсь к Василию Николаевичу. Ноги скользят на крутых склонах, поросших поблекшей травою, срываются камни, уносят в невидимую глубину ущелья грохот обломков. Откуда-то наплывает протяжная песня марала.
Под кедром горит костёр, оттеснив от стоянки мрак наступившей ночи. Рядом с огнём ворох хвои для постели. Пахнет кашей, вяленой сохатиной, но ужин всё ещё не готов.
— Слышал? — спрашивает Василий Николаевич, кивнув головою в сторону Бутуя.
— Как же, слышал. Сам чуть не заревел от радости…
— В прошлом году первый двенадцатого числа запел, а нынче раньше, видно, нетерпение…
Туман незаметно исчез. Всё уснуло. Над нами дремлют каменные сторожа да мутится тучами небо. Какое блаженство костёр! Сядешь так вот, возле него, обнимешь сцепленными руками согнутые в коленях ноги и смотришь, как огонь пожирает головешки, как в синих вспышках плавятся угли. Кажется, ничто так не располагает к раздумью, как костёр.
После ужина спать. Но разве уснёшь? Неугомонное воображение рисует одну за другой картины. То я слышу рёв, то лай Загри, то бегу наперерез удирающему маралу. Промучился до полуночи и встал. У огня сидел Василий Николаевич, погружённый в свои думы.
Я поправил костёр, повесил чайник.
Никогда утро не было таким желанным, как в этот раз.
Но что случилось? С мутного неба повалил белыми хлопьями снег. В природе всё оцепенело в ожидании чего-то неизбежного. Неужели так страшны эти невесомые пушинки, хрупкие создания облачного мира?
Пушинки не тают на остывшей земле, они копятся, сглаживая шероховатую поверхность. Под их покровом исчезают бугры, россыпи, зелень...
Перед утром тучи свалились на запад, поднялась запоздалая луна и какая-то ночная птица крыльями потревожила настывший воздух.
— Пора, до рассвета надо выйти к верхним полянам и «зареветь», — говорит мой спутник, поднимаясь от костра.
Молча покидаем стоянку. Загря идёт со мною. Ещё властвует ночь, и не верится, что когда-нибудь наступит день. Луна освещает наш путь. Взбираемся выше и выше. Как тут свежо в этот предутренний час, как заманчиво долгожданное, полное волнений утро! Ни единый звук не нарушает покоя гор, только скрипит под ногами свежий снег.
Мы выбрались на верх отрога. Под последним кедром задержались. Ниже — обрыв, за ним длинной полоской вытянулась поляна, оконтуренная старыми кедрами. Тишина и покой властвуют над этой высотой.
Вот-вот народится заря. Хотя восток ещё мрачен, но уже чувствуешь её, вестницу приближающегося утра. Василий Николаевич тревожным взглядом окинул небо, достал из котомки длинную конусообразную трубу, сделанную из кедра.
— Попробуем зареветь, — говорит он, заметно волнуясь.
Став поудобнее, Василий Николаевич приложил тонкий конец трубы к влажным губам и с натугой потянул в себя воздух. Сильный звук разорвал тишину ночи. Он «ревел» с большим искусством, совершенно точно подражая голосу марала. И ещё не смолк последний аккорд, ещё перекликалось голосистое эхо, а из-за Бутуя, от тёмных скал, что нависают над рекою с противоположной стороны ущелья, уже послышался ответный рёв, ещё более грозный, более властный, нежели вчера.
Василий Николаевич повторил свою песню, слегка укорачивая звуки, и снова мёртвая тишина обняла горы. Всё напряглось, насторожилось, и мы замерли в немом ожидании.
А за зубчатыми грядами гор, за прозрачным туманом, из бездны сочится скупое утро. Гаснут звёзды. Уходит ночь, снимая с сонных кедров свой чёрный полог, И в этой убаюкивающей тишине слух ловит чьи-то торопливые шаги под обрывом. Загря, сбочив голову, смотрит вниз. Видим: из чащи выходит крупная маралуха, мягко ступая по зелёному мху. Она вся насторожена, что-то ищет возбуждёнными глазами и, вытянув шею, поворачивает голову к скале. Самка как будто удивлена, не понимает, почему её никто не встречает, куда делся бык — ведь он только что ревел, звал…
— М-м-м — тянет обманутая маралуха.
А мы стоим, сливаясь с тишиною, забыв про своё существование. Только Загре невмоготу этот молчаливый поединок. Один прыжок, и он повис на сворке. Самка, откинув голову, ловит шорох, смотрит выжидающе вверх. Она, несомненно, видит нас, однако что-то затуманивает ей глаза, не может понять, почему желанный шорох не приближается. Но вдруг её охватывает страх. Один, два пугливых прыжка, грохот камней, и самка исчезает в тени старых кедров.
— Дурень, на матку позарился, — ласково упрекнул Василий Николаевич кобеля.
Опять ждём. Вдали медленно и широко разливается по небу нежный свет осеннего утра. Белые космы тумана мирно дремлют по утёсам. К югу торопятся стайки мелких птиц. Где-то за ближним отрогом нетерпеливо взревел бык, и послушное эхо разнесло по горам грозный вызов.
— Пошли наверх, может, это наш ревёт, — бросает Василий Николаевич, и мы торопимся, взбираемся по крутому откосу.
Теперь дорога каждая минута. Ведь с наступлением дня самцы угомонятся, почти перестанут реветь и дадут о себе знать только перед закатом солнца. А если обнаружат нас, то и совсем уйдут.
Вот мы и на верху отрога. Осторожно подбираемся к краю и заглядываем вниз. Там лог, усеянный мелкими скалами и старыми кедрами. Где же бык? Не так просто заметить зверя, одетого в серый брачный наряд, среди россыпей и поблекшей травы. Хорошо, что с нами бинокли, и пока осматриваем лог, из-за соседнего отрога доносится тоненький голос быка, неуверенный, почти детский. Но он нас не соблазняет.
— Видишь? — шепчет Василий Николаевич.
— Где?
— На верхней скале, сюда смотрит, небольшой зверь, Но не наш, рога какие-то уродливые.
Я гляжу туда и то, что вдруг попало в поле зрения бинокля, радует меня: на полуразрушенной скале стоит бык, упёршись в гранитный постамент широко расставленными ногами. В его высоко поднятой голове, в мощной груди, повёрнутой к нам, и в чуточку сгорбленной спине — готовность к поединку. Во всей его позе настороженность. А рядом, под скалою, у него на виду мирно пасутся две самки. Он будто их не замечает, сторожко караулит тишину лога.
— Этого, кажется, я вечером видел, он нам не подходит.
Солнце осветило лесные закоулки. Запылали бездымные костры листопада, чётко выкроились дали. В небе плывут первые стаи журавлей. Бык, за которым мы следим, всё ещё стоит на скале, в настороженной позе. Кого ждёт он, подолгу всматриваясь в изорванный контур соседнего отрога, откуда нет-нет да и донесётся нескладный рёв молодого быка? Неужели там таится какая-то опасность?
— Разве зареветь потихоньку, может, подойдёт? — спрашивает шепотком Василий Николаевич и бросает в утреннюю тишину короткий приглушённый звук.
Бык даже не пошевелился, даже не повернул головы в нашу сторону, продолжая смотреть на соседний отрог. Опять оттуда, но уже ближе долетела нестройная песня всё того же молодого марала, но как теперь она вдруг взбесила быка на скале! Он угрожающе потряс головой, вдруг разрядился могучим рёвом, от которого, казалось, пробудились горы, и долгий шёпот не смолкал по скалистым овражкам, по густым кедрачам, повторяя угрозу.
А в это время на седловину, освещённую утренними лучами солнца, выходит зверь с роскошными рогами, статный, белёсый, тот самый, который вчера купался в грязном болоте и с кем мы сегодня искали встречи. Это у него оказался такой писклявый голос. Бык ни на минуту не задержался, не осмотрелся и с ходу, тяжёлой рысью, бросился в лог. По поведению противника, по его раздражённому рёву он, видимо, догадался, что с ним самки, и теперь, казалось, никакая сила не могла задержать его на полпути.
Дальнейшие события развернулись неожиданно и быстро. На скале не осталось марала. Спустившись к самкам, он пугнул их вперёд, навстречу сопернику, и все скрылись в разложине. Мы схватили котомки и тоже бросились туда. Теперь было ясно, что поединок неизбежен, что только сила решит, с кем должны остаться эти две самочки, виновницы осенних ссор и жестоких схваток.
Припадаем к толстому кедру. Выглядываем. Справа на косогоре стоят настороженные самки, смотрят на склон отрога. Быков не видно, но где-то впереди слышится треск. Мы бросаемся вперёд.
Скатываемся в лог. В такие минуты забываешь про всё, бежишь, не замечая рытвин, валежника, пней, не замечаешь, как сучья хватают одежду, как ветки хлещут по лицу.
Добираемся до открытого места. В двухстах метрах от нас по крутяку медленно поднимается навстречу сопернику бык, чьи самки остались на косогоре. Он угрожающе потрясает рогами, рвёт копытами пухлую землю и тихо, злобно стонет. Какая уверенность в силе, в его медлительном шаге! А сверху, сокращая расстояние саженными прыжками, на него надвигается другой бык, ещё более решительный, ещё более гневный. Он даже не остановился, чтобы рассмотреть противника, так, с ходу, всей своей тяжестью, навалился на него, сбил с ног, и оба покатились вниз.
Загря мечется, ходит на дыбках, не могу унять. Сбрасываю котомку, привязываю к ней кобеля, угрожаю расправой, если он не успокоится, и для убедительности даю ему затрещину. А сам подбегаю к камню и замираю, забыв про карабин.
С крутяка скатываются к нам сцепившиеся в смертной схватке быки. Мелькают рога, ноги, слышится приглушённый стон. Клубы горячего пара окутывают морды дерущихся. Потрясающее зрелище! Треск кустарника и грохот камней наполняют долину.
Как разнять дерущихся, чтобы потом добыть белёсого быка? Какой великолепный экземпляр для музея! Стреляю вверх. Сухой, колючий выстрел разрывает сцепившихся в схватке маралов. Но только на миг, чтобы снова, с ещё большей яростью, они набросились друг на друга. Однако в этом прыжке белёсый бык поскользнулся передними ногами, припал к земле, не успел вскочить, как противник со всей силой всадил ему в бок два острых отростка рогов. Тот взревел, потрясая ужасом горы, вскочил, но уже не мог сопротивляться. На наших глазах увял, уши упали, шерсть на боках поднялась. Стоящие подле самки ещё больше насторожились. Им тоже, видно, непривычна такая схватка быков.
А меньший самец, подбодрённый успехом, ещё раз бьёт противника рогами. Тот с тяжёлым стоном валится на землю. Я опять стреляю вверх, хочу прекратить эту жестокую расправу.
Теперь выстрел доносится до зверей пугающим звуком. Победитель бросается к самкам, и они все вместе, лёгкими скачками, удирают вправо, машут нам жёлтыми фартучками, прикрывающими зад, и исчезают за мелкими скалами.
Белёсый бык поднимается, пугливо оглядывается, бросается своим следом обратно на седловину, откуда пришёл. Но теперь в его прыжках нет прежней растяжки, он не может разогнуть скрюченную спину.
— Чего же не стрелял? — спрашивает меня Василий Николаевич, кивая головою в сторону скрывшегося быка.
— А ты почему не стрелял?
Он молчит.
Надо было действительно стрелять в белёсого быка, ведь он теперь всё равно не будет жить и мог бы украсить музей Академии наук. Но мы были буквально потрясены схваткой маралов и в последний момент забыли про всё на свете.
Василий Николаевич закуривает. Мне не по себе оттого, что так неладно получилось, упустили такого красавца. Нужно же было столько времени мечтать о такой встрече, потратить столько усилий, чтобы добраться сюда, наконец найти маралов и ни с чем уйти с гор.
Но горечь обиды не могла затмить того главного, зачем мы потратили много дней на путь сюда, карабкались по кручам в поднебесье. Мы увидели горы в осеннем наряде, видели схватку маралов. А добыча — это только часть наших желаний. О чём я очень пожалел — так это о том, что с нами не было Пашки. Такую картину не часто увидишь.
Прежде всего нам надо убедиться, насколько опасны раны у белёсого быка и как далеко он, напуганный нашим присутствием, сможет уйти, затем уже решать, что делать дальше.
Набрасываю на плечи котомку, привязываю Загрю к поясу, и мы поднимаемся к месту схватки быков. Раненый зверь ушёл по косогору. На его следу не видно крови. Но Загря продолжает с какой-то удивительной собачьей щепетильностью обнюхивать веточки, траву на следу марала и упрямо тянет меня вперёд.
— Видно, не наш, совсем ушёл… — заключает Василий Николаевич, сбрасывая котомку. — Чайку вот тут, у ручейка, попьём и айда на ту сторону Бутуя, там и вчера, и сегодня ревели быки.
— Чайку попить не плохо. А Загрю отпустить, пусть промнётся немного.
— Пускай!
Я отстегнул ошейник, и кобеля как ветром сдуло, мигом исчез в зарослях ольховника.
Мы сидим у костра, пьём чай. Уже день. Время тянется медленно.
— Ты ничего не слышишь? — спрашивает Василий.
— Нет.
— Неужто я ослышался… вроде собака слаяла, — и он, припав ухом к земле, долго слушает. — Ей-богу, собаки лают!
— Почему собаки, ведь Загря один?
— Лают две, — говорит он уверенно, складывает котомку, хватает карабин и, уже не разбираясь, что под ногами, торопится вниз.
За ручьём видим след марала. Идём дальше. Вот зверь прыгнул через валежину, и у него как будто от натуги раскрылись раны и брызнула чёрная кровь по кустам. Значит, бык ранен. Торопимся дальше. За седловиной будто кто-то бьёт в пустую бочку, это лают собаки. Где Загря нашёл себе компаньона? Но разве до этого теперь?! Ноги сами по себе бегут вперёд, пересекают лог, кедровый перелесок и выносят нас на соседний гребень. Останавливаемся отдышаться.
С отрога в глубоченный провал убегают зубчатые стены, и оттуда ясно доносится лай. Отдыхать некогда. Сбегаем вниз по звериной тропке. Теперь кажется совсем близко, уже долетает приглушённый рёв зверя. Нет сил побороть любопытство, и мы выглядываем из-за скалы. Видим выступ над обрывом и на нём раненого быка. Зверь умирает, он бьётся в предсмертной агонии, сползает к краю обрыва и летит вниз.
Осторожно спускаемся к нему.
Собаки молча сторожат добычу. Даже теперь, распрощавшись с жизнью, бык сохранил в своём внешнем облике что-то могучее, властное, присущее маралу только в брачный период. С Загрей небольшая собачонка, подстрижена под льва, с кистью на конце хвоста и с удивительно знакомой мордой. Откуда она взялась? Я хочу приласкать незнакомку, но она отвечает суровым взглядом, сторонится, видно — не бродячая. Её появление здесь кажется загадочным.
До темноты нам не управиться со зверем. Решаемся заночевать.
Вспыхнул костёр, и тонкая струйка дыма просверлила синь вечернего неба. Мы поджарили печёнку и уже готовились поздравить друг друга с успехом, как вдруг собаки всполошились.
— Никуда они от нас не уйдут, пусти-ка меня вперёд, — послышался басистый голос и затем торопливые шаги по камням.
Я вскакиваю. Кто они, эти люди, в такой глуши? Поднимается Василий Николаевич. Собачонка повернулась на звук, завиляла хвостом. Значит, браконьеры, — подумал я.
Видим, из кедрача показывается рослый старик, торопливо варежкой протирает глаза. Мы ещё не успели рассмотреть друг друга, как из-за него буквально выкатился мальчишка. Он останавливается на какую-то долю минуты, затем, выбрасывая руки вперёд, кричит:
— Дядя-а!.. — И несётся по крутяку вниз к нам, бросается мне на шею. Я обнимаю Пашку, долго кружусь с ним возле костра.
— Дедушка, узнаёшь?.. — а сам прижимается ко мне горячим комочком, бесконечно рад этой неожиданной встрече.
Гурьяныч как будто потерял свой шаг, спустился по рассыпушке не торопясь. Его суровое, обожжённое осенними ветрами лицо как будто посвежело, осветилось радостью, но не утратило своей строгости. Он на секунду задерживается у погибшего зверя, одним коротким взглядом измеряет его и вдруг весь мрачнеет.
Мы здороваемся. Кажется, никогда старик не казался мне таким первобытным от леса, от гор, от людской чистоты. Я держу его шершавую загрубевшую ладонь, смотрю в глаза, не понимаю, что случилось с ним?
— Пошто убили быка? — прерывает он молчание обвиняющим тоном и переводит свой взгляд на Василия Николаевича, потом на зверя.
— В драке погиб он, Гурьяныч. Но мы могли и убить его.
Я достаю из кармана разрешение на отстрел марала, подаю ему. И от первой прочитанной фразы лицо его мякнет, добреет.
— Значит, для музея Академии наук? Тогда с полем вас! Зверь при достатках, подходящий для этого, — и старик, приставив свою шомполку к дереву, обнимает меня не по летам могучими руками, липнет к губам бородатым лицом. — Вот уж никак не ожидал встретиться. Видать, судьбе угодно, чтоб мы ещё раз свиделись.
Он поворачивает всего меня к огню, долго, пристально осматривает, как бы пытаясь что-то найти.
— Вижу, здоров, и ничего как будто за это время не потерял, — с облегчением заключает старик, отпуская меня.
— А как вы, Гурьяныч, чувствуете себя, как бабушка, Кудряшка? Зимовье отремонтировали?
— А я с Пашкой думал, что вы забыли про нас, зачем вам наша забота, лишняя тяжесть… Живём без перемен, слава богу, хлеб есть, зимовье новое срубили, добрые люди помогли, зиму в тепле встретили, а вот бабушка…
— Что, болеет?
— Обижаем мы её, — старик косится на Пашку. Тот не выдерживает обвиняющего дедушкиного взгляда, отходит к зверю, осматривает его, ощупывает бока, удивляется.
— Бабушку обижать нельзя. Если это делает Пашка —- он исправится.
Мы с Гурьянычем присаживаемся к костру. Василий Николаевич отсекает ножом кусок печёнки, нанизывает её на берёзовый прут, приставляет к жару. Пашка достаёт из своей котомки домашний хлеб, чашки, сахар, разливает чай, устраивается рядом со мною на земле. Наступает минута молчания. Все мы ещё не можем прийти в себя от неожиданной встречи.
А солнце за Бутуем клонится к закату, и тени гор уже заполнили провалы.
— Вам потрафило нынче, — начинает Гурьяныч, смочив губы первым глотком горячего чая, — не то, что нам с тобой, внучек. В руках был и ушёл…
Пашка молча кивает головою, а сам весь в завтрашнем дне, по лицу вижу, захвачен какими-то планами.
— Вы тоже промышлять приехали? — спрашиваю парнишку, чтобы он заговорил.
— Нет, мы по другому делу, — отвечает за Пашку Гурьяныч. Он отставляет чашку с недопитым чаем, смахивает прилипшие к бороде крошки хлеба, начинает не торопясь рассказывать. — На прошлой неделе пришёл ко мне наш лесник, одногодок мой. Уважь, говорит, Гурьяныч, помоги, ревка у маралов начинается, в деревне зашевелились браконьеры. Всем приспичило в лес, кто по больничному, кто умышленно отпуск придержал к этому времени, как будто орешничать идут, а у самих волчьи думки. Ты бы, говорит он, присмотрел за зверем по дальнему хребту, а я метнусь в Ясненскую тайгу. Надо уберечь маралов, и так уж совсем мало их остаётся.
— Значит, вы тут с Пашкой в качестве добровольной общественной охраны маралов?
— Этот большой титул не про нас, — отвечает старик. — Мы приехали сюда помешать браконьерству. Одному леснику где же управиться с ними…
— Это верно, Гурьяныч, браконьер стал скрытный, подвижной, его, скажем, тут в горах не так-то просто обнаружить.
— Да, да, — перебивает меня старик, — ночует он без костра, таится, как хищник. Вчера вечером бросили Кудряшку в логу, а сами поднялись к скалам вечернюю зарю встретить. В горах она завсегда долгая и человеку близкая, перед нею будто исповедаешься. Только это мы присели на выступе, слышим — бык запел. Ну, говорю, Пашка, голосистый нам попался, доставай трубу, подзовём его, полюбуемся. Пашка у меня насчёт трубы мастер, — не без гордости добавляет он, посмотрев на внука. — Любую ноту за моё почтенье выведет. Только он запел, бык сразу отозвался. Ну, мы и давай подманывать его к себе: Пашка в трубу ревёт, а я берёзку кручу, будто бык со злости рогами её ломает. Слышим, ближе заревел, ещё ближе. Нам-то сверху вниз всё видно, как на ладони. Смотрю, мелькнула тень на опушке, — что-то усомнился я, говорю Пашке: опусти конец трубы в камни и потише зареви, вроде как бы зверь отдаляется. А бык поёт уже совсем близко. Я ещё пуще кручу берёзку. Вижу, из кедрача показывается человек с ружжом, да как заревёт. Гляжу, да ведь это же Емеля, наш деревенский парень! Ах ты, думаю, бестия! Схватить бы тебя тут…
Старик смолк и долго не мог приглушить гнев, Василий Николаевич подлил ему в кружку горячего чая. Он отхлебнул два-три глотка, успокоился.
— Ну и дальше? — не терпится мне.
— Затаились мы с Пашкой. А Емеля долго стоял, всё ревел. Потом, видим, поднимается на наш выступ, шагает, как рысь, неслышно, и только он показался из-за скалки, я его за грудки. Он было на меня, а тут Пашка подоспел, но не удержали, вырвался, митькой звали! Шапку оставил в залог.
— Судить надо, — говорит Василий Николаевич, разрезая дочерна поджаренную печёнку.
— Статьи, говорят, в законах наших нет, так мы же их сами пишем, не от бога они идут! — Старик снова загорается. — По-моему, попался с ружжом в лесу или, скажем, на озёрах в неохотничий сезон — срок ему давать. Сразу поуменьшится браконьеров и уважение к закону будет… Куда я только ни ходил по своим властям, все соглашаются; да, да, Гурьяныч, природу надо беречь, говорят мне, а сами думают: дескать, чокнутый старик! А я не смирюсь с разбоем, хотя и трудно мне, уже не по годам моя затея, да и не по силам. Другого боюсь: может, зря и Пашку толкаю на эту дорогу, по себе знаю, как трудно одному бороться.
— Нет, Гурьяныч, — перебиваю я его. — И вы, и Пашка не одиноки, всем нам дорога родная природа, понятна ваша боль за неё. Если мы в один голос скажем браконьерам — нет! — их не будет.
— Если бы так можно было сделать… — безнадёжным тоном говорит старик.
— Можно и нужно, пока ещё не всё упущено…
— Что же это мы, не успели встретиться, сразу за больное место берёмся? — вмешивается в разговор Василий Николаевич. — Давайте ужинать, а Пашка расскажет нам, почему он бабушку обижает. Я вижу, ты, как заправский охотник, собакой обзавёлся.
— Да это ведь Жулик! — говорит Пашка.
Мы с удивлением смотрим на «льва», узнаём Жулика.
— Кто же его так изувечил? — спрашиваю я.
Пашка смеётся. К нему возвращается разговорчивость.
— В деревне Жулика все собаки драли, даже обидно было, а как подстригли под льва — стали бояться его. Люди и те обходили стороною. Сюда шли, — парнишка вдруг вопросительно смотрит на дедушку и, посмелев, продолжает, — к околице стали подходить, вдруг слышим, женщина благим матом орёт: караул, лев! Мы с дедушкой сразу смекнули, в чём дело, прибегаем к ней, а она, тётя Наташа, с духом не соберётся, кричит: «Лев в хате блины ест!» Сбежались соседи. Смотрим, в дверях показывается Жулик, вся грива в тесте, в зубах блин, довольный. Увидел нас, завилял хвостом. Тут тётя Наташа догадалась, схватила дрын да за ним, но где же ей за львом… — и Пашка опять добродушно рассмеялся.
— Ишь, смеётся, шкодник. Подожди, доберусь до тебя! — и Гурьяныч грозит пальцем. — Хлопот сколько наделал своим львом. Была бы собака путёвая, а то — так, тьфу!.. Забрался в чужую избу, хозяйка блины пекла, как увидела льва, выскочила во двор и пока звала на помощь людей, — он поел все блины, залез мордой в макитру с тестом. На что годится! А ему смешно. Где же тут бабушке покойно жить, что ни день, то чего-нибудь натворит, а она, бедняжка, в ответе.
Слово «бабушка» действует на Пашку мгновенно: он мрачнеет, отворачивается.
— Вот с блинами, — продолжает Гурьяныч, повернувшись ко мне. — Ему-то шутки, а ведь Наташке придётся вернуть муку. Кому беспокойство? Бабушке!
Жулик точно вдруг понял, о чём идёт речь, встаёт и нехотя уходит с глаз. Василий Николаевич оделяет нас горячей печёнкой. После дневной голодовки ну и вкусной же она кажется здесь, в горах!
Едим молча. Костёр, распавшись на угли, дышит синим пламенем. Я наблюдаю за Гурьянычем. Нелегко ему в его годы бродить по горам. Сидел бы дома. Нет, не может. Тревожит старика неуёмная боль за родную природу. Ходит он с Пашкой по тайге одинокий, никем не признанный, сам по себе, пытаясь оградить леса, зверей, птиц от кощунственного отношения к ним. И как трудно ему сознавать, что кроме сочувствующих у него почти никого нет, будто только ему одному да Пашке и нужны красота и богатства нашей Природы.
На его смуглом лице синие блики дотлевающих углей. Он вдруг перестаёт жевать, поднимает голову, смотрит на внука.
— Попадись Емелька на пяток лет раньше, ей-богу, не ушёл бы от меня, — как бы оправдываясь, говорит Гурьяныч.
— Мы его шапку сдадим в сельсовет, и он ответит за браконьерство.
— В том-то и беда, внучек, что не ответит. Шапка не доказательство. Он скажет, дескать, где-то я её потерял, а Гурьяныч на меня по злобе. Да и не в том дело. Если бы сельсовет захотел — он враз бы пресёк браконьерство, законы по охране природы у нас есть строгие, да выполняем их плохо. Вот и дождались: раньше за Бутуем зверя было несчётно, в это время всю ночь хором пели, не давали уснуть, а вчера сам слышал, только трое ревело, и то нашенские деревенские мужики. Выходит, подчистую истребили, самок, телят не жалеют. А всё оттого, что не уважаем законы. — Гурьяныч переводит свой взгляд на меня. — Если бы одни деревенские шкодили — полбеды, а то ведь и от образованных людей спасенья не стало ни зверю, ни птице. Это я насчёт туристов. Хорошо человеку из города в лесу побывать, походить по горам, по речке спуститься на плоту или лодке. Полезное дело, особенно для молодёжи. А скажи, пожалуйста, кто ими управляет, туристами теми, или они сами по себе?
— Это организованное общество и очень большое. У них есть устав, всякие правила, инструкции…
— Спросить бы у ихнего самого старшего, для чего позволяют туристам летом с ружжами ходить?
— Знамо, стрелять! — вмешивается Василий Николаевич.
— В кого же стрелять, ежели не сезон охоты? Летом молодь растёт, а её под корень… Через нашу тайгу много троп проложили туристы, всё лето партия за партией, все с ружжами, и теперь там ни рябчика, ни кедровок, ни зверушек, даже певчих птиц повыбили. На что это годится?! Говорят, что туристы — это инженеры, студенты. С них бы и спросить! Ан нет, никто не остановит их, не устыдит, зачем они носят летом ружжа, будто так и надо. Видать, старшой, кто управляет туристами, сам не любит природу, равнодушный к ней, а то бы навёл порядок.
— Вы правы, Гурьяныч, никто за этим не следит. В правилах туристских обществ вы найдёте всё: как костёр развести, как переправиться через реку, как укрыться от непогоды, но как охранять окружающую нас природу от насилия, грабежа — этого ничего нет, или есть только между строк. И все, от руководителя до рядового туриста, знают, для чего берут ружья в тайгу, знают, что по тропам туристов местами всё живое истреблено, но делают вид, что это их не касается. Что верно, то верно.
— Неужто мы не можем спасти свои богатства?..
Старик смолк. Опустив голову, он долго сидел молча, совсем одинокий, разбитый всё той же болью за природу. У меня не было слов утешить его, и в то же время я понимал, как ему трудно сознавать своё бессилие в этой борьбе со злом, ставшим нашим всенародным несчастьем.
Пашка легонько толкает меня в бок, показывает на дрожащие руки Гурьяныча и подаёт мне знак прекратить разговор, иначе у дедушки с сердцем будет плохо.
Я утвердительно киваю головой.
— Кому чаю горячего? — обрывая молчание, спрашивает Василий Николаевич и, не дожидаясь ответа, наливает Гурьянычу полную кружку.
На снежных вершинах гор дотлевал тёплый осенний день. В кедровой таежке то тут, то там щебетал дрозд, подчёркивая звучность воздуха. Высоко в синеве плыло одинокое облачко, подбитое снизу ярким пурпуром.
— Пока светло, давайте займёмся устройством ночлега. Ты, Василий Николаевич, с Гурьянычем свежуйте зверя, а мы с Пашкой заготовим дров, хвои.
— Успеем, — протестует Пашка.
Я смотрю на парнишку, догадываюсь, что у него созрел другой план, и он уже весь захвачен им.
— Чего придумал? — тихо спрашиваю его.
— Пойдёмте на скалы, в трубу заревём, может, зверь близко есть, подзовём.
— А дрова готовить кто будет, дедушка?
— Потом, честное пионерское, сам натаскаю. Пойдёмте! — умоляюще шепчет он.
Ну как откажешь! Я соглашаюсь, Накидываю на плечи телогрейку, беру посох.
— Вы тут, Василий Николаевич, управляйтесь, а мы с Пашкой наверх сходим, зарю встретить. Скоро вернёмся.
Гурьяныч так и остался погружённый в свои тяжёлые думы, одинокий, не понимающий, почему мы так безжалостно относимся к природе.
Идём с Пашкой по гребню на верх скальных утёсов. Чем выше, тем шире открываются горы, уже погружённые в печальное ожидание ночи. Зыбкий вечерний полусвет поднимается к вершинам и там медленно тает, сливаясь с синевой низкого неба.
Вот мы и наверху. Я усаживаюсь на выступе, а Пашка становится рядом. Он продувает трубу, окидывает напряжённым взглядом лежащее под нами молчаливое пространство, над которым цепенеет прохладный воздух, напоённый ароматом альпийских лугов и смолистым запахом кедра. Затем он приложил тонкий конец трубы к губам, и чистый призывный звук накрыл горы, перехлестнул через отроги, долго тревожил тишину дремлющих гор. С какой лёгкостью и с каким изумительным мастерством «ревел» Пашка!
Мне вдруг вспомнилось: ведь этот же звук я уже слышал не раз.
— Так это ты пел вчера и сегодня за Бутуем? — спросил я Пашку.
— Я и браконьеры.
— А мы думали — звери…
Он ещё и ещё повторил свою песню, затем уселся рядом, и мы долго прислушивались к наступившей тишине. В вечерней мгле горы теряли свой грозный контур. Никто не отвечал. Откуда-то упал филин. Беззвучно описав под нами круг, он свалился под скалы и плавно потонул в кедровой чаще.
Пашка опускается на камень рядом со мной. Кладёт мне на колени локоть правой руки, я обнимаю его. Кажется, и ему и мне вдруг стало легко-легко.
Снизу доносится шорох камней — к нам не торопясь поднимается Гурьяныч. Он молча присаживается у наших ног, унимает одышку. Грустными глазами, уже ничего не ожидающими, смотрит старик в немое пространство. Хотя бы один звук прорвался до его слуха, развеял бы боль старого таёжника. Но никто не ревёт, не зовёт на поединок, не дразнится. Кажется, никогда тишина не была столь гнетущей, как в эти минуты.
— Не осталось зверя! — горько заключает старик, и я вижу, как вздрогнули его плечи, как сползает к нему Пашка, и они, обнявшись, ещё продолжают ждать.
А тайга молчит, как заколдованная.
На всю жизнь запечатлелась в памяти потухшая заря за Бутуем, уходящие в ночь горы и сгорбленная под тяжестью несбывшихся желаний спина Гурьяныча с прилипшим к нему Пашкой.
Нет, они не сдадутся!
Примечания
1
Однорядка — суконная верхняя мужская одежда без воротника.
(обратно)2
Подожок — палка, дубинка, трость
(обратно)3
Сокжой — дикий северный олень.
(обратно)4
Таган — палка, толстая ветка, над костром, для подвешивания котелка.
(обратно)5
Курумы — каменные потоки, стекающие с вершин гор.
(обратно)6
Учаг — верховой олень.
(обратно)7
Буссоль — специальный вид компаса.
(обратно)

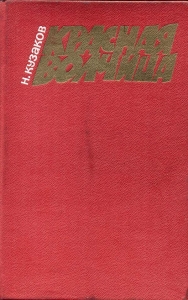


Комментарии к книге «Пашка из Медвежьего лога», Григорий Анисимович Федосеев
Всего 0 комментариев