Фазиль Искандер Паром
Издательство выражает благодарность Александру Леонидовичу Мамуту за поддержку в издании книги
Стихотворения и баллады
Ежевика
С урочищем зеленым споря, Сквозь заросли, сквозь бурелом, Река выбрасывалась в море. Рыча, летела напролом. А над рекою камень дикий. Но даже камень не был пуст. В него вцепился ежевики Расплющенный зеленый куст. Почти окованный камнями. Он молча не признал оков. Своими тонкими корнями Прожилья камня пропоров. …Не без опаски, осторожно Я ветку тонкую загнул И гроздья ягоды дорожной Тихонько на ладонь стряхнул. На солнце ягоды горели. Голубоватые с боков. Они лоснились и чернели, Как лак на панцире жуков. …Ты человек. Но поживи-ка! И выживи. И много дней Живи, как эта ежевика, Жизнь выжимая из камней!Дети Черноморья
Эй, барабанщики-банщики! Эй, трубачп-трубочисты! Сказочники, обманщики, фокусники, артисты. Старатели, кладоискатели, суровые землепроходцы. Любители лимонада, сами себе полководцы! Тычьтесь, пока не поздно, мордою в мякоть арбуза! Позванивают и побулькивают ваши веселые пуза. Вам ли, товарищ, скажите, вам ли, скажите, кореш, Гадкий утенок зализанный, комнатный этот заморыш! Воздух морей — полезней! Воздух лесов — полезней! Дерево — доктор, а листик — лучший рецепт от болезней. Карабкайтесь в горы, ребята, хватайте струю водопада. Шатающуюся у ног. Как всаженный в землю клинок! (Ветер пузырит рубаху. Солнце стоит в зените. По-лягушачьи с размаху В пену морскую летите!) Где-то заливы и заводи. Где-то Стамбул и Афины. Морем до самого полюса фыркающие дельфины! В сторону, в сторону шуточки! Этот рыбак знаменитый Ловит антенною удочки подводную песню ставриды. Кработорговцы, ныряльщики, донных ракушек владельцы. Храбрые красногвардейцы, таинственные индейцы. Грядущие космонавты, солнцем дубленные шкуры, Будьте здоровы, дети! Славлю вас, бедокуры!Хочу я в горы
Хочу я в горы, в горы, в горы, Где молодые облака Рождаются у ледника. Я не в беде ищу опоры. Мне жизнью были эти горы, Мне снятся влажные луга. Хочу туда, где водопад Летит, как брошенный канат. Качаясь на лету. Где, как раздавленный гранат, Закат течет по льду. Туда, где лавровишен грозди. Глаза чумазые скосив. Глядят без робости в обрыв, Где пастухи играют в кости, На камне бурку расстелив. Хочу я в горы возвратиться. Хочу я видеть, как волчица Скулит от ярости и ран, Когда, клыки ломая, тщится Железный перегрызть капкан. А дым бродяжий? Невесомо Клубится, обживая кряж… Знакомый, сызмальства знакомый. Стократ родней родного дома Пропахший ельником шалаш! Там над огнем, стекая жиром, С шипеньем каплют на дрова Круги задымленного сыра. Тяжелые, как жернова. Там пастухи коров, мычащих И вымя, как пудовый плод. По травам и цветам влачащих, К загонам гонят через чащи, Через речной холодный брод. Друзья, я с вами. И без клятвы Мы слово держим, как топор. А наши нервы крепче дратвы. Верны мы сердцем сердцу гор. Я к вам приду. Приду не в гости, Пройдя охотничью тропу От мелкой дружбы, мелкой злости В большую, трудную судьбу. И пусть, дыша в лицо мне жарко. Распахивая мордой дверь. На грудь мне кинется овчарка… Я узнан! Лучшего подарка Не надо. Скручена цигарка. Легко, спокойно мне теперь.Буйволы
Буйволы по берегу крутому Всем своим семейством толстокожим В полдень потянулись к водоему. Входят в воду, выбирают ложе. Тяжелее броненосных глыб, Черные, лоснясь до синевы, — Над водою лишь рогов изгиб Да сопение жующей головы. Вот лежит недвижно и угрюмо Стадо молчаливых работяг. Нравятся мне эти тугодумы За медлительный, но твердый шаг. За характер, не гадающий заранее — Камни ли ворочать, в горы ль, в грязь. Много людям сделали добра они. Перед ними не ласкаясь и не льстясь. Им под стать, где трактор не пройдет, Землю выпахать и, встретивши врага, Защищаться, выставив вперед Узловатые, гранитные рога. Пусть медлительны в работе буйволицы. Их доить дояркам нелегко, Но зато в подойники струится, Как смола, густое молоко. Каждый день по берегу крутому, В полдень появляясь неизменно, Буйволы проходят к водоему, Отработав утреннюю смену.Первый арбуз
Над степью висит раскаленное солнце. Сидят под навесом три волгодонца. На степь глядят из-под навеса. Едят с повышенным интересом. Еще бы! Ребята устали за день. Рубашки к телу прилипли сзади. А под столом в холодном ведре Арбуз прохлаждается в свежей воде. Фабричным клеймом на кожуре Кто-то старательно выскреб «В. Д.». Его на стол кладут осторожно, С минуту любуясь, не режут нарочно. Но вот в него нож вонзился, шурша, И брызнули косточки, скользки и липки. С треском выпрыгивая из-под ножа, Как будто живые черные рыбки. Арбуз просахарен от жары До звонкой и тонкой своей кожуры. Прохлада ознобом проходит по коже, А ломкие ломти на соты похожи. Влажной землей арбуз пропах. Он, как снег под ногами, хрустит на зубах, И сочная мякоть его красновата. Как снег, окропленный февральским закатом. Еще степи пахнут паленой травой. Еще на рубашке пот трудовой. Но с первой бахчи друзья принесли Первый арбуз — благодарность земли.Лето
Першит от влажной соли в глотке. А ну, еще один рывок! Я пришвартовываю лодку, Я выхожу на старый док. Вокруг хохочущее лето. Мальчишек славная орда. От наслаждения, от света Лениво щурится вода. Над поплавками, свесив ноги, Усевшись поудобней в ряд, Пенсионеры, как йоги. Сомнамбулически молчат. А это что? На солнце нежась. Лежит девчонка над водой. Ее обветренная свежесть Прохладой дышит молодой. Девчонка, золотая жилка, Отчаянная несудьба, Твоя монгольская ухмылка Еще по-девичьи груба. Другому нянчиться с тобою. На перекрестках сторожа. А я бросаюсь в голубое. Где стынет медленно душа. Ныряю. Скал подводных глыбы, Знакомый с детства тайный лаз. У глаз мелькнул какой-то рыбы Не очень удивленный глаз. Над сваей ржавой и зеленой Я гроздья мидий отыскал. Сдирая до крови ладони, Срываю мидии со скал. Но вот, как бы огретый плеткой. Выныриваю по прямой. Швыряю раковины в лодку И отдыхаю за кормой. Огромный, добрый и соленый. Из голубых, из теплых вод Промытым взором освеженный Мир незахватанный встает. Глазами жадно обнимите Добычу мокрую ловца! Напоминает груда мидий Окаменевшие сердца. Но, створки жесткие раздвинув Прямым охотничьим ножом, Я, к небу голову закинув. Глотаю мидии живьем. Еще останется на ужин, На летний ужин у крыльца, В конце концов, не без жемчужин Окаменевшие сердца.Парень с мотыгой
Откинув ситцевую блузу. По пояс оголен, черняв. Мотыжил парень кукурузу. По телу солнце расплескав. Он над обрывом шел по круче. Ломая землю и дробя, К дубку корявому на случай Веревкой привязав себя. Как бы веревке той противясь. Он двигался за пядью пядь. Но не могла тугая привязь Его движения связать. А пот зернистый и обильный, Густой, струящийся с трудом, Он отжимал ладонью пыльной И стряхивал со лба рывком. Вцепясь корнями в грунт тяжелый. Выравниваясь не спеша. Тянулись к небу новоселы. Листвою плотною шурша. …Каким неистовством натуры Он был от роду наделен. Чтоб оседлать медвежий, турий, К чертям сползающий уклон! Землею мокрою завален. Упорный, яростный, босой, В самозабвенье гениален, Как Леонардо и Толстой.Парень с ястребом
Он идет травою колкой От дороги в стороне. Кверху клювом перепелки Вздрагивают на ремне. Ястреб взглядом диковатым Озирает мир, крича, С головы его лохматой. Как с вершины кедрача. Вот курчавый виноградник, Вот и домик угловой. Там веселый палисадник Убран девичьей рукой. Он с заминкой свистнул тонко. Опершись о городьбу, И на свист его девчонка Выбегает на тропу. Легкая, летит, как пчелка. Бросив книгу на окне, И на лбу трясется челка. Современная вполне. Молода да тонкоброва, С чайником летит она Молодого, молодого. Молодецкого вина. И почти без передышки, Зарумянившись лицом, Поит малого из крышки. Сполоснув ее винцом. Парень пьет из этой чаши. Успевай лишь подносить! — Хорошо вино, да вяжет… Чем бы сладким закусить? Чем бы сладким? — белозубый Улыбается нахал. — Чем бы сладким? — глядя в губы. Он решительно сказал. Ну а ястреб? Он ревнует. Птица птицей, да не глуп. Ястреб хохлится, бунтует, Бьет кривым крылом о чуб! Час свидания недолог. Парень сходит под обрыв. Ожерелье перепелок Той девчонке подарив. Мимо тропок, мелколесьем Над оврагом запылил. Держит ястреб равновесье Плавным взмахом крепких крыл. Мимо тропок. Мимо! Мимо! По щетинистой траве В клубах пыли, в кольцах дыма Он, как жизнь, проходит мимо С ястребом на голове!Ночь
Голубеет асфальт под ногами. То ли сумрачно, то ли светло… Голубеет вода и камень. На песке голубеет весло. Настороженный по-оленьи. Слух мой ловит издалека Говорок, похожий на пенье. Шелест платья и стук каблука. Вот пушистая из тумана Вылетает стайка подруг. Может, поздно, а может, рано Я впервые задумался вдруг. Я не раз попадал им в сети, А теперь я грущу невпопад, Потому что девчонки эти Не ко мне, а к другим спешат. Неужели к тебе не проклюнусь. Никакой не вернусь тропой? Что с тобой мы наделали, юность. Что наделали мы с тобой. Ведь осталась любимая где-то. Та, которая ждет меня. Может быть, с позапрошлого лета. Может быть, со вчерашнего дня. …Теплоходы дымят на причале. На вокзале фырчат поезда. Разлучали нас, разлучали Обстоятельства, города… Мы кричали своим: «До свиданья!» Мы ловили испуганный взгляд. Чуть заметное губ дрожанье, И лицо за последнею гранью. Как деревья, огни и зданья. Опрокидывалось назад.Баллада о рыбном промысле
Ровно в четыре часа поутру, ровно в четыре часа. Уши раковин ловят смутные голоса. Люди, скребясь и рыгая, топают под обрыв. Взлохмачены, пучеглазы, ладони слюной окропив. Раскачивают баркасы, выталкивают в залив. Вчера хоронили товарища, столетнего рыбака. Земля под ногами, как лодка, покачивалась слегка. Сам председатель колхоза так помин открывал. Так открывал поминки, первый подняв бокал: — Смерть унесла товарища, хоть был он не очень стар. Двойным уловом, товарищи, ответим на этот удар. — Двойным и тройным уловом! — грянули рыбаки. Двойным и тройным уловом! — грохнули сапоги. А еще он сказал: — Товарищи! — крепче зажав стакан, — Встань, Сахалиди Христо, встань, Николай Лабан! Вы, молодняк желторотый, можно сказать, икра, В море, где нету милиции, драку подняли вчера. Добычи план забывая, бдительность и устав, В море подняли драку, рыбий косяк распугав. Перед лицом покойника и безутешной родни. Перед лицом товарищей — здесь перед вами они. Черт подери, клянитесь, что это в последний раз! Черт подери, иначе… — он кулаком потряс, — Черт подери, иначе не допущу на баркас. Перед лицом покойника и безутешной родни Двое встают и целуются, клятву дают они. Да. Сахалиди Христо. Да. Николай Лабан. Клянутся не думать за драку, клянутся думать за план. Ровно в четыре часа поутру, ровно в четыре часа. Поворачиваясь, уходят пристань, берег, коса. Белые вороны моря — чайки, крылами стуча, С поджатыми красными лапками проносятся мимо, крича. Пенится, колобродит, в страхе бежит от винта Вывернутая изнанкой сиреневая вода. А мы? Мы большими глотками, как огуречный рассол. Глотаем предутренний ветер, который хмель поборол. Море, высвежи голову, выслези, вымой взор! Мерно работает сердце, мерно стучит мотор. Ноги поджав, как Будда, сидит на руле старик. Крутая, крепкая шея, зубы, усы, башлык. Хитрый старик, без улова он не приходит домой. Не то чтобы приворот-слово — с морем язык другой. Он понял его коварство, мелей и ветров секрет, И море, как государство, платит за выслугу лет. Четверо режутся в карты. Скалят веселые рты. — Штрафованный, без передыху банку забортной воды! Чинит один волокушу. Трубка шипит в зубах, Как деревянная птичка, ходит игличка в руках. Я с ними. Я тот, кто смеется, и тот, кто сидит на руле, И тот, кто плетет волокушу, прочно петля к петле. Я тот, кто играет, смеется, проигрывает, я тот. Кто чаще других забортную холодную воду пьет. На горизонте в тумане густеет солнечный сок. Так на свету сквозь яичко просвечивает желток. Брызнуло солнце по краю овечьих, курчавых чащоб. Словно подбросила жница рыжей пшеницы сноп. Берег в кайме зеленой, белые города. Разом поголубела сиреневая вода! Но вот вырастает над морем рыбий загон-ставник. — А ну-ка на весла наваливайся! — приказывает старик. — А ну-ка, на весла, а ну-ка, баркас от воды отрывай! — Железные панцири мидий всосались в дерево свай. Меж сваями тихо проходим. Весла в руках и крюки. Как статуи ожидания, замерли рыбаки. Пружиня широкие шеи, сверкающие, как медь. Упругими перехватами двое выводят сеть. Крюками ворочают эти, пена бежит по волнам. Чтоб рыба ложилась на сети и смирно лежала там. Чтоб рыба ложилась на спину, ложилась и ни гугу! Клубится густая пена, подобная молоку. А мы? Мы гребем сачками. Гребем, выгребая груз Белесого, тряского стада набухших водою медуз. Чтоб сети не оборвало, рывками гребем и гребем. Медуз водяное стадо мы выгребаем с трудом. Пружиня широкие шеи, мерцающие, как медь. Упругими перехватами двое выводят сеть. Стойте! Забулькало море. Круги над водою. Кипит. Рыба заговорила. Рыбина говорит. Нашим сетям везучим, как женщинам, тяжелеть. Жадными перехватами тянем и тянем сеть. Выныривает с наклоном набитая рыбой гроздь. По рыбам ударило солнце и отскочило вкось! Сыплется, сыплется рыба! Падает на баркас. Бьется о дно, куражит, шаманит, пускается в пляс. Горбыль на сетях огромный с травою на плавнике. Как будто бы дачник сонный запутался в гамаке. Крапчата барабулька. Небесам удивлен карась. Ставрида и пеламида лежат, судьбе покорясь. Мы рыбу перебираем, сидим над грудой монет. Чеканку с чеканкой сверяем, иную глядим на свет. Кот морской ядовитый машет крысиным хвостом. Махать прекращает немедленно, раздавленный каблуком. В воздухе промелькнула, шлепнулась на волну. Мертвая, даже рыба камнем идет ко дну. Водою соленой окачены, прошитые потом стократ, Как будто морозом охвачены, рубахи и робы трещат. Однако же баста. Довольно. Пора подкрепиться. Пора. Мы досыта наработались. Мы голодны с утра. Сыр, вино и редиска. Это ли не благодать? Соль забыли — редиску будем в море макать. Мы напились и наелись. Много ли надо нам? Много ли надо, если хлеб и вино — пополам? Славлю силу мотора. Славлю удар весла. Славлю незлую мудрость рыбацкого ремесла. …Большое, доброе небо. Поскрипывает баркас. Тысячелетнее море в люльке баюкает нас.Хашная
В рассветный час люблю хашную. Здесь без особенных затей Нам подают похлебку злую И острую, как сто чертей. Обветренные альпинисты, Рабочие, портовики, Провинциальные министры Или столичные жуки. В земной веселой преисподней. В демократической хашной, Вчера, вовеки и сегодня Здесь все равны между собой. Вот, полон самоотреченья. Сидит, в нирвану погружен. Провидец местного значенья. Мудрец и лекарь Соломон. К буфетчице, к веселой Марфе, Поглядывая на часы. Склоняется в пижонском шарфе Шофер дежурного такси. В углу, намаявшийся с ночи. Слегка распаренный в тепле. Окончив смену, ест рабочий. Дымится миска на столе. Он ест, спины не разгибая. Сосредоточенно, молчком. Как бы лопатой загребая. Как бы пригнувшись под мешком. Он густо перчит, густо солит. Он держит нож, как держат нож. По грозной сдержанности, что ли, Его повсюду узнаешь. Вон рыбаки с ночного лова, Срывая жесткие плащи, Ладони трут, кричат громово: — Тащи горячего, тащи! Они гудят, смеясь и споря. Могучей свежести полны. Дыханьем или духом моря. Как облаком, окружены. Дымится жирная похлебка, Сытна бычачья требуха. Прохладна утренняя стопка. Но стоп! Подальше от греха! Горбушка теплая, ржаная. Надкушенная ровно в шесть. Друзья, да здравствует хашная. Поскольку жизнь кипит и здесь!Цыганы на пристани
На пристани цыганы. В глазах темным-темно. Граненые стаканы. Дешевое вино. Ладонями кривыми Стирая пот с лица, Сидят в лохматом дыме Два старых кузнеца. Давясь сухою воблой, Переходя на крик. Давясь слезою теплой. Заговорил старик. (Руками рвя у горла Потрепанный сатин): — Одиннадцать померло. Двенадцатый один! Стоит мальчонка рядом. Кудряв и черномаз. Глядит серьезным взглядом, С отца не сводит глаз. Бледнея от обиды, Нахохленней птенца, Глядит, глядит сердито На пьяного отца. А тот все рвет у горла Потрепанный сатин: — Одиннадцать померло. Двенадцатый один! Есть лошадь, жеребенок… И баба тоже есть. А это мой ребенок, И вот я, вот я весь! Пока еще не слабый. Пока еще в ходу. Возьму ребенка, бабу, Из табора уйду. Тебя любил я. Боже, Покрепче, чем коня. Цыганский бог, за что же Обидел ты меня?! Тобой обижен цыган. За что взял детей? Уйду в село на выгон Пасти чужих коней. Сыночек! Человечек! Где братья? Братья — нет! Буфетчик, эй, буфетчик! Дай мальчику конфет! Дай мальчику печенье, Котлеты тоже дай! Мученье есть мученье. Гуляй, сынок, гуляй! Но мальчик головою Мотает: «Не хочу!» Ладошкою худою Бьет батьку по плечу. Он сердится. Он мерзнет. Он тычет кулаком. — Пидем до мамки. Поздно. Пидем, отец, пидем! Подняв шапчонку с полу, Шатаясь, встал цыган. Его ведет за полу Упрямый мальчуган. Ведет его сурово, Быть может, до конца Притихшего, хмельного. Усталого отца.В парке
Над парком гремит радиола, Сзывая парней и девчат, — Танцует вечерняя школа, За поясом книжки торчат. Здесь пришлый народ и окрестный Плясать до упаду готов. Здесь девочки с фабрики местной, Матросы с торговых судов. От страсти хрипит радиола. Ботинки и туфли гремят. В обнимку вечерняя школа И кожобувной комбинат. Хозяин портального крана — Пускай не изысканный вид, Но мелочь порой из кармана Гусарскою шпорой звенит. Случайный стоит посетитель, Глядит, ошарашен и дик. Застегнутый наглухо китель. Сапог антрацитовый шик. Теряет он в топоте, в громе Сознания трезвого нить. Но некому в этом содоме Тяжелый портфель поручить. А вот и знакомые лица. Танцуют с военных времен. Им боязно остановиться. Им страшно лететь под уклон. На шаткие доски настила Из круга семьи и подруг Войны центробежная сила Их вбросила в бешеный круг. Пора бы какую новинку, К домашнему, что ли теплу Но словно заело пластинку, И некому сдвинуть иглу. А впрочем, гремит радиола. Ботинки и туфли гремят, В обнимку вечерняя школа И кожобувной комбинат. Но вот я заметил в сторонке: Кривляясь на узкой тропе, С подружками рядом девчонка Танцует сама по себе. И в каждом движенье насмешка И вызов небрежный судьбе. Зеленая крепость орешка. Уверенность, что ли, в себе. Сияет глазастое чудо. Которое не позабыть. И черт его знает, откуда Ее бесшабашная прыть! Смеется панамка, спадая С летящих дождинок волос, Смеется осанка лихая. Смеется облупленный нос. Как будто не крови томленье Ее пародийный протест, А хочет найти поколенье Свой голос, свой собственный жест.Родник
Родник в орешнике дремучем. Я заклинаю от беды Струю холодной и колючей. Железом пахнущей воды. Сгорая от колхидской жажды. Бродя урочищем глухим. Его мой дед открыл однажды И поселился перед ним. Родник! Воды живой свеченье Поит живое существо. Здесь даже летоисчисленье — Со дня открытия его. у каменной заветной ниши Ограду соорудил народ. А водопой чуть-чуть пониже — Сначала люди, после скот. В нем столько силы затаенной, Что даже колья вкруг него Листвою брызнули зеленой И знать не знали ничего. К нему с кувшином обожженным Я по утрам бежал один, И в тишине настороженной Гудело сердце, как кувшин. Над ним шиповник цвел глазастый. Какой-то паучок сквозной. Как конькобежец голенастый. Скользил по глади ледяной. Бывало, всадник мимоезжий Коня осадит у плетня. — А ну-ка, водочерпий, свежей! — И грузно свесится с коня. Он пил, покачиваясь еле, Взопревший конь топтал тропу, А капли пота холодели На стенках кружки и на лбу. Бывало, в праздник — кто безгрешен? Шатая выхрапом траву, У родника в тени орешен Гуляка преклонял главу. Орда девчат соседских наших Катилась под гору порой, Ольховый выстроив шалашик. Окатывалась той водой. О, сколько вскриков огорченных. Дрожащих улетало вдаль, Когда вода струёй крученой На их плечах разгоряченных Обламывалась, как хрусталь!Баллада об украденном козле
Пока не напьются мои быки (одры! в заготовку пора!), Мы будем курить и чесать языки, пока не спадет жара. Мы будем курить табак городской, которому нет цены… А вот что случилось над этой рекой за год до германской войны. То было лет пятьдесят назад, но я говорю всегда: Да здравствует крупный рогатый скот, а мелкий скот — никогда! Вот так же слева шумел Кодор, но я еще был юнцом. Вот так же мы в горы стадо вели (мир праху его!) с отцом. За веткой черники (эх, губошлеп!) я приотстал слегка. Но вот вылезаю я на тропу и вижу издалека: Чужой человек волочит козла… из нашего стада козел. Я сразу узнал козла своего, узнал и того, кто вел. Когда-то он в доме гостил у нас. Видать по всему — абрек. Не то из Мингрелии беглый лаз, не то цебельдинский грек. Но мы не спросили тогда у него: кто он! куда! зачем! Право гостей говорить и молчать не нарушалось никем. — Стой, — говорю и навстречу ему, — это наш, — говорю, — козел. Ты, помнишь, когда-то гостил у нас, ты с нами садился за стол. Но мы не спросили тогда у тебя: кто ты? куда? зачем? Право гостей говорить и молчать не нарушалось никем. Но он усмехнулся в ответ и сказал, тряхнув на плече ружье: — Право мое за правым плечом, и то, что я взял, — мое. Мало ли где я гулял и пил, и съеденный хлеб не клеймо. А то, что я съел у отца твоего, давно превратилось в дерьмо. Как пес на поминках, блевотой давясь, я вылакал этот стыд. Что делать? — когда говорит ружье, палка в руке молчит. Но все же я снова напомнил ему: — Ты с нами садился за стол. Но мы не спросили тогда у тебя, куда и зачем ты шел. Но он толкнул меня и сказал: — С дороги, иначе конец! Недосчитает не только козла к вечеру твой отец. — Потом он ударил козла ремешком и начал спускаться в падь. Что делать? — когда говорит ружье, палка должна молчать. Но он не знал, что навстречу ему товарищ идет с ружьем. «Ну что ж, — я подумал, — спускайся вниз, а мы наверху подождем». Пожалуй, он слишком много сказал про стадо и про отца. Но раз он такое все же сказал, я дело довел до конца. И вот, когда он спустился вниз (внизу шумела река), Навстречу товарищ спускался с горы, я видел издалека. Я все что надо ему прокричал, я был опозорен и зол, И голос мой, скрытый шумом реки, над вором, как ворон, прошел. Короче, когда я спустился вниз, все было готово там. Стоял он, словно в петле повис, и руки держал по швам. А рядом товарищ сидел с ружьем, в тени постелив башлык. У ног — чужой винтовки затвор, как вырванный прочь язык. Я бросил палку. Винтовку взял, на место вложил затвор. — Теперь, — говорю я, — тебе молчать, а мне вести разговор. Я снял ремешок с моего козла и бросил ему: — Держи! И если черта скрадешь в аду, своим ремешком вяжи. Так, значит, съеденный хлеб не клеймо и право за тем, кто сильней? Право твое за правым плечом, я буду стрелять левей! Ослепнув от страха, попятился он к обрыву за шагом шаг. Туда, где, давясь камнями, поток скатывался во мрак. Я мог бы и выстрела не давать, единственного того. Но я перед богом хитрить не хотел, я выстрелом сбросил его. С тех пор немало воды утекло, окрашенной кровью воды. Я знаю меру своей вины и меру своей правоты. В меня стреляли, и я стрелял и знал предательский нож, И смутное время меньшевиков, и малярийную дрожь. В меня стреляли, и я понимал, что это вернется опять. Что будут стреляющих из-за угла, из-за угла убивать. Конечно, что такое козел? Чесотка да пара рогов. Но честь очага дороже зрачка — наш древний обычай таков. И если ты вор, живи, как вор, гони табуны коней. Но в доме, который тебя приютил, иголку тронуть не смей. С тех пор немало воды утекло, взошло и ушло травы. Что ж, родины честь и честь очага не так понимаете вы. У каждого времени есть свое, которое будет смешным. Но то, что завтра будет смешным, сегодня не видят таким. Мы гнали водку из диких груш, вы — свет из дикой воды. Но и тогда не пили из луж идущие вдоль борозды. Два главных корня в каждой душе — извечные Страх и Стыд. И каждый Страх, побеждающий Стыд, людей, как свиней, скопит. Два главных корня в каждой душе среди неглавных корней. И каждый, Стыдом побеждающий Страх, хранит молоко матерей. Что ж, древний обычай себя изжил, но тот ли будет рабом, В котором сначала кровь из жил, а доблесть уходит потом. Пусть родины честь и честь очага не так понимаете вы. Но если сумеете вечно хранить, вы будете вечно правы. Но правом своим и делом своим вам незачем нас корить — Мы садим табак, мы сушим табак, мы просим у вас закурить.Баллада об охоте и зимнем винограде
Памяти Роуфа
Как ты рванулся, брат мой, Вслед за бегущей косулей! Как ты рванулся, брат мой. Пулей рванулся за пулей! Как ты стрелял с разбегу. Вниз пробегая по склону. Черный по белому снегу Вниз пробегая по склону Грянула третья пуля, Грянула, чтобы настигнуть! Перевернулась косуля. Хотела судьбу перепрыгнуть. Вихрями крови и снега Кончилась, затихая. Словно упала с неба Летчица молодая. Ты горло лебяжье надрезал, Чтобы не думать об этом. И обагрилось железо Струйкой горячей, как лето. И вдруг: виноградные гроздья, Лоза на ветке ореха. Ледяные, черные гроздья Сверкнули тебе из-под снега. Чудесная неразбериха! Ты дерево взглядом окинул. И ты засмеялся тихо И снова винтовку вскинул. И выстрел ударил над лесом, И эхо метну лось следом. Ты гроздья лиловые срезал. Как пару дроздов дуплетом. На шее тяжесть косули. Снега разрывая, как пахарь, Ты шел, а губы тянули Ягод холодный сахар. И капали капли со шкурки Тобою убитой косули, А виноградные шкурки Ложились, как черные пули. Мы знали в погоне надсадной Тяжелое пламя азарта. Но разве мы знали, брат мой. Какая нам выпадет карта? И разве я знал, что за год Губы навек остудишь. Как шкурки проглоченных ягод. Выплевывать легкие будешь? Ломоть поминального хлеба. Поминальной струи услада. Бесконечное зимнее небо. Ледяная гроздь винограда.В Сванетии
Никогда не позабуду Этот сванский хуторок. Он возник подобно чуду Среди каменных дорог. Здесь эпоха на эпоху Навалилась впопыхах, Здесь российскую картоху Сван сажает на полях. Край форели и фазана В пене с головы до пят. Во дворе любого свана Свой домашний водопад. Глядя в пропасти с уклона, Можно сдуру, невпопад. Дьяволу по телефону Позвонить в ближайший ад. Над дорогой в диком крене Хищно замерла скала. На лугу схлестнулись тени Самолета и орла. Океан травы и света Вчетвером проходим вброд. …Домик сванского поэта. Стой! Хозяин у ворот. Вмиг откуда-то из чащи Доставляет мальчуган Два ведра воды кипящей — Злой, пузырчатый нарзан. Ощущают, словно голод. Жаждой выжженные рты Сладостно томящий холод. Холод цинка и воды. Напились. Глядим на башни, Влажный пот стирая с лиц. Это сванский день вчерашний Смотрит из кривых бойниц. Вот он, дух средневековья. Романтические сны. Гордой кровью, бедной кровью Эти камни скреплены. А хозяин — дело чести — Шуткой потчует друзей. Сдав оружье кровной мести В исторический музей. Здесь оружьем не бряцают, Вместо вражьих черепов Вдоль стены ряды мерцают Турьих выгнутых рогов. Развалившись на кушетке, Выбираем тамаду, Стол ломится, словно ветка У садовника в саду. Сколько лиц! Восток и Запад Льнут к хозяйскому теплу. Запах трав и дружбы запах Лучшей из приправ к столу. Поднимая тост за дружбу. Как венчальную свечу. Чокнуться хочу я с Ушбой, С Ушбой чокнуться хочу! Потому что чище дружбы Ничего не знали мы. Потому что выше Ушбы Только Ушба, черт возьми! Между тем на пир из сада На слова мои в окно Ломится горы громада Вместе с небом заодно. Кончил я. Свежеет воздух. Зябко зыблется туман. Светляки, а может, звезды. Гаснут, падая в стакан.Абхазская осень
Дай бог такой вам осени, друзья! Початки кукурузные грызя. Мы у огня сидим. Ленивый дым. Закручиваясь, лезет в дымоход, И, глядя на огонь, колдует кот. Дрова трещат, и сыплются у ног. Как с наковальни, яростные брызги. Замызганный, широкобокий, низкий, К огню придвинут черный чугунок. Мы слушаем, как в чугунке торопко. Уютно хлюпает пахучая похлебка. Золотозубая горою кукуруза Навалена почти до потолка, И наша кухня светится от груза Початков, бронзовеющих слегка. А тыквы уродились — черт-те что! Таких, наверно, не видал никто: Как будто сгрудились кабаньи туши. Сюда на кухню забредя от стужи. Они лежат вповалку на полу. Глядишь — вот-вот захрюкают в углу И прежде чем варить их над огнем, Те тыквы разрубают колуном. Нанизанные на сырой шпагат. На гвоздике у закопченной дверцы. Как ленты пулеметные, висят Три связки перца. Вот, до поры всю силу свою пряча. Блестит в графине розовая чача. А только рюмку опрокинешь в рот — Ударит в грудь. Дыханье оборвет. И на секунду горла поперек Стоит, как раскаленный уголек. Над медленным огнем сидим. Глядим. Желтеет пламя. Голубеет дым. Мы не спешим. Мы пьем за чаркой чарку, Как мед густую, сладкую мачарку. Вдруг — настежь дверь. И прямо из тумана Им хоть по снегу бегать босиком — Ребята входят. Ведрами каштаны Несут с собой. И следом — ветер в дом. Сейчас в лесу во всей осенней мощи Багряные каштановые рощи. …Огонь поленья лижет, языкат, А в кухне запахам от запахов тесно. Вином попахивает поздний виноград, И виноградом — раннее вино.Дедушкин дом
Да пребудут прибыток и сила В том крестьянском дому до конца. Его крыша меня приютила. Не от неба — от бед оградила. Без него моего нет лица. Славлю балки его и стропила, Как железо, тяжелый каштан. Червоточиной время точило Его стены. Войною когтило Душу дома, Да выжил чудила, Хлебосол, балагур, великан! Так пускай же огонь веселится, Освещая могучие лица Молчаливых, усталых мужчин. Приспущены женщин ресницы. Веретена кружат. Золотится Старый дедовский добрый камин. Дым очажий во мне и поныне. Он со мной. Он в крови у меня. Обжитой, горьковатый и синий. …Дом стоял на широкой хребтине. Как седло на спине у коня. Двор округлый, подобие чаши. Алычою да сливой обсажен. Под орешней раскидиста тень. Мытый ливнями череп лошажий. Он на кол на плетневый насажен, Нахлобучен, надет набекрень. Неба мало столетнему грабу. Тянет яблоня мшистую лапу, Ядра яблок бодают балкон. По накрапу узнай, по накрапу. И на щелканье и на звон Зрелый плод. Он румяней и круче. Чаще в полдень звездою падучей Детству под ноги рушится он. Теплый вечер и сумрак лиловый. Блеют козы. Мычит корова. К ней хозяйка подходит с ведром. Осторожно ласкает имя. Гладит теплое, круглое вымя, Протирает, как щеткой, хвостом. Жадно пальцы сосцы зажали. Зазвенели, потом зажужжали Струйки синего молока. …Я не знаю, что это значит: Храп коня или лай собачий Все мне слышится издалека. И когда мне теперь неуютно, И какая-то горечь подспудно Лезет горлом, сжимает виски, Глядя в теплую темень ночную. Тихо-тихо сквозь зубы шепчу я: — Милый дедушкин дом, помоги! Помоги мне. Неужто напрасно? Или чем-нибудь веку опасна Родниковая ранняя рань? Дай мне силы раздвинуть плечи, Слово вымолвить по-человечьи. Первородною свежестью грянь!Опора
Когда сквозь звездный мир, натужась. Мы прорываемся подчас. Пространственный и честный ужас. Как в детстве, настигает нас. Куда втекает эта млечность? Что за созвездием Стрельца? Где бесконечности конечность? Что за конечностью конца? Но беспредельные просторы Рождают беспредельный страх. И, как слепец рукой опоры. Опоры ищем в небесах. Тогда духовное здоровье Всевышний возвращает нам. Вселенная — его гнездовье, В огнях далеких мощный храм! И бездна не грозит, ощерясь, И нам не страшно ничего. Он так велик, что даже ересь Живет под куполом его. Дом бога высится над нами. Мы в краткой радости земной Защищены его стенами От бесконечности дурной.Баллада об отречении Джордано
А.Х.
Отрекаюсь, господи Иисусе, Отрекаюсь, хмурый Магомет. С разумом, как с дьяволом, в союзе Утверждаю: благодати нет. Нет в Иерусалиме Иордана, Есть обыкновенная река. Неаполитанец, я, Джордано, Утверждаю: истина горька. Если видишь все с небесной кручи. Если ты придумал забытье Здесь в груди Джордано, всемогущий. Что тебе неверие мое?! Я ли прочертил железом веху? Я ли озарил кострами век? Ты помочь не можешь человеку. Как тебе поможет человек? Верующих веру не нарушу. Но и раб, что входит в божий храм. Темное сомненье прячет в душу. Верует с грехами пополам. Потому что страшно человеку. Думает живое существо. Звездную оглядывая реку: Неужели нету ничего?.. Отрекаюсь! Будут вечно трусы Взорами глотать пустую синь. Отрекаюсь, господи Иисусе. Совесть мне ответствует: «Аминь». И неверие, огромное, как вера. Передам я брату своему, Потому что совесть — это мера. Большего не надо никому. Но, сойдя с заоблачных кочевий. Самодержца сдерживая тик. Ты воскликнешь, господи, во гневе: «На костер, — прикажешь, — еретик!» Что же я отвечу? Был я молод. Занималось утро в серебре. Но за твой пронизывавший холод Я готов согреться на костре. Знаю, у огня столпится оголь. Руки греть и бормотать: «Иисус…» «Господи, на одного не много ль?» — Я подумаю и с дымом вознесусь. Снова раб возьмется за тележку, Но, преданье смутное храня. Юноша подымет головешку И прикурит молча от огня…Девушка с велосипедом
О девчонка в красной майке. Душу не трави! Подмосковная лужайка Посреди Москвы. Прислонясь к велосипеду. Молча ты стоишь У Московского Совета, У цветных афиш. В красной майке, в черных брюках Молча ты стоишь Юной вестницею юга… Каплет с крыш… И нахлынула такая Вдруг печаль. Неподатливо-тугая, Как педаль. Отливают лак и никель Новизной. Может, нужен тебе ниппель Запасной? Юность с кислыми дарами: Хлеб, война, кизил. Я любимую на раме. Понимаешь, не возил! Но вопросы безответны У жар-птиц. У колес велосипедных Много спиц. В майской майке, огневая. На седло Ты садишься, понимаю. Не назло. Мчишь без памяти. Глотая холодок. Только рубчатый на памяти Следок…«Ты говоришь: «Никто не виноват…»
А.Х.
Ты говоришь: «Никто не виноват, Но теплых струй не вымолить у рек. Пускай в долинах давят виноград, Уже в горах ложится первый снег». Я говорю: «Благодарю твой смех». Я говорю: «Тобой одной богат. Пускай в горах ложится первый снег. Еще в долинах давят виноград».Ястреб-перепелятник
Когда летит на черноморские долины Усталый запах вызревших плодов. Тогда кончается сезон перепелиный. Охотники пускают ястребов. Что ястребу? Ему бы в небо взвиться, Но, странную тревогу затая. По-своему грустит и плачет птица И не спешит в далекие края. Бездомный дух, горячая истома, Дух перелета головы пьянит: А ловчий ястреб кружится у дома И даже сесть на руку норовит. И, на него в смятении похожий. Предчувствием хозяин оглушен: Ведь, что ни говори, товарищ все же. Еще один окончился сезон. Что ястреб мне? Что ястребиный коготь? Отчалит осень в золотом дыму. Но та привязанность не может не растрогать. Хотя она, конечно, ни к чемуКувшины
Сквозь листья по струе луча Жара стекает на лощины. Кувшины моют у ручья Три женщины, как три богини. Берут за шиворот кувшин. Чтоб воду выплеснуть наружу, Как будто прошлогодних вин Безжалостно смывают душу. Чтоб не осталось и следа! Звенят кувшины от затрещин! Стекает пьяная вода К ногам разгоряченных женщин. Я останавливаюсь вдруг, Внезапным сходством пораженный: В загаре обнаженных рук Загар кувшинов обожженных. Работала день ото дня В порыве творчества едином Природа солнца и огня Над женщиной и над кувшином. Прекрасна древняя игра, Где шлепают водой из ведер. Где линии кувшиньих бедер Идут от женского бедра. Широкий материнский жест! Чадохранительницы края Винохранилища, катая. Смеясь, купают, как невест.В давильне
В давильне давят виноград — Вот что важнее всех событий. В дубовом дедовском корыте Справляют осени обряд. Крестьяне, закатав штаны, Ведут языческие игры. Измазанные соком икры Работают, как шатуны. Работают крестьяне в лад. Гудит дубовая колода. Летят на гроздья капли пота. Но пот не портит виноград. Жуют ногами виноград! И нету ног святей и чище. По травам летним, по грязище Ступавших тыщи лет подряд. Жизнь — это что такое, брат? Давильня, а не живодерня. Но дьявол путает упорно, И кости юные трещат. Люблю давильни вязкий чад, Шипенье, чмоканье и стоны, Спиртовый воздух напряженный… В давильне давят виноград. Топырится над гроздью гроздь, Как груди смуглые южанок. Дождемся свадебных гулянок. Тогда, тогда, как повелось. Хозяин распахнет подвал. Друзьям собраться за столом бы! Взорвутся солнечные бомбы! Под стол слабейших, наповал! За стойкость мужества, мужчины. За клин, что вышибает клин! Неважно, кто открыл кувшин, А важен вкус вина в кувшине. Пью, рог тяжелый накреня, Да будет рогом изобилья, А если что сказать забыл я. Друзья доскажут за меня.Кофейня
Нет, не ради славословий Экзотических причуд Нам в кофейне черный кофе В белых чашечках несут. Сколько раз в житейской буре Обездоленный мой дух Обретал клочок лазури После чашки или двух! Веселящие напитки, Этот вашим не чета. Мне от вас одни убытки Да похмелья чернота. Глянуть в будущее смело Спьяну всякий норовит. Здесь, друзья, другое дело: Ясность мысли веселит. От всемирного дурмана Напузырится душа… Черный кофе — без обмана, Ясность мысли хороша. Принимаю очевидный Мир без радужных одежд, Пью из чашки яйцевидной Долю скорби и надежд. Пью и славлю кофевара, В ясной памяти пою Аравийского отвара Неподкупную струю. Спросит смерть у изголовья: — Есть желания, проси! Я отвечу: — Ясный кофе Напоследок принеси.Гранат
Гранат — некоронованный король. Хотя на нем зубчатая корона. Сладчайшую испытываю боль. Когда ему распахиваю лоно. Гигантское в руках веретено. Что солнечную нить в себя вкрутило. Зерно к зерну, граненое зерно В ячейку каждую природа вколотила. Теперь никак не оторвать мне глаз, Полураскрытая передо мной пещера, Где каждый мне принадлежит алмаз. Но мера жажды — стоимости мера. Ты прикатился к нам из жарких стран. Ты рос, гранат, на дереве ислама. Но, пробужденный, ты прожег Коран, Однажды вспыхнувши под пальцами Хайяма. Скажи, гранат, где истина, где ложь? Я проклял золотую середину! Но ты заступник мой, и ты ведешь Светящеюся лампой Аладдина. Ворвись, гранат! Развороши нам жизнь! Мы стали слишком въедливы и скупы. Чтоб яростною свежестью зажглись Непоправимо стынущие губы! Чтоб мы, глотая эту чистоту. Учились, терпкую обсасывая мякоть. Выкладывать себя начистоту. Начистоту смеяться или плакать. Чтоб этот красный кубок под конец Испить до дна и ощутить такое, Что в нас вложили тысячи сердец, Но вложены они в одно большое. Тяжелый плод ладонями зажат. Тягучей влагой губы освежаю. Я выжимаю медленно гранат. Как будто тяжесть штанги выжимаю. Так вот где тайна мощной красоты! В тебе, гранат, земля соединила Взрывную силу сжатой кислоты И сладости томящуюся силу.Художники
На морду льва похожая айва. Какая хмурая и царственная морда! Впервые в жизни я подумал гордо: Чего-то стоит наша голова! Мы обнажаем жизни аромат. Все связано — и ничего отдельно, И творческая радость не бесцельна. Когда за нами люди говорят: «Мы связаны. Природа такова. На свете любопытного до черта! На морду льва похожая айва, Какая мудрая и царственная морда!»Причина бога
Когда сквозь звездный мир, натужась. Мы прорываемся подчас. Пространственный и честный ужас. Как в детстве, настигает нас. Куда втекает эта млечность? Что за созвездием Стрельца? Где бесконечности конечность? Что за конечностью конца? Но беспредельные просторы Рождают беспредельный страх. И, как слепец рукой опоры. Опоры ищем в небесах. Тогда душевное здоровье Всевышний возвращает нам. Вселенная — его гнездовье, В огнях далеких мощный храм! И бездна не грозит, ощерясь, И нам не страшно ничего. Он так велик, что даже ересь Живет под куполом его. Дом Бога высится над нами. Мы в краткой радости земной Защищены его стенами От бесконечности дурной.Свиданье
Сквозь сутолоку улицы московской, Сквозь легкий дождь она ко мне бежала. От столкновенья робости с отвагой Порывисто струился каждый шаг. Струились волосы и платье на груди, Разбросанно струился легкий плащ, Разорванно, как финишная лента. Струился шарф. Она ко мне бежала. Досадуя на все, что гасит скорость. Как бы выбрасываясь из одежды. Ладонями дождинки отстраняя. Как отстраняют ветки на пути… Вот так она бежала через площадь, Закинув голову движеньем олимпийским, С лицом, горящим и надменным от стыда. Так в древности к возлюбленным бежали Или, прекрасна в доблести гражданской, В кварталы Рима римлянка вбегала. Чтоб городу кричать: «Враг у ворот!» И стоит ли теперь мне говорить, Что мы в кино чуть-чуть не опоздали. Шла итальянская картина в этот день.Старики
Не умирайте, старики, Я вас прошу, не умирайте. Удите рыбу у реки. Табак в ладонях растирайте. Не молодиться напоказ, Я против старческих чечеток. Но ваш медлительный рассказ Под щелканье янтарных четок… Я вспоминаю каждый раз Ваш облик, солнцем прокопченный, Оазисы знакомых глаз Над местностью пересеченной. Не умирайте, старики, Я вас прошу, не умирайте! Любому смыслу вопреки Живите, в шахматы играйте. Шагнуть не вздумайте за край И не заглядывайте в яму. Ты — первая не умирай. Я больше всех боюсь за маму. Далекая седая мать Все ждет, когда я преуспею. — Ну ладно, — говорю, — успею… Но страшно лень преуспевать. …Прекрасно летом в царство птиц Катить, забыв про поясницу. Из всех тиранских колесниц Младенческую колесницу. А что тираны? Кровь, туман Да лживой скуки постоянство. И чем несчастнее тиран, Тем абсолютнее тиранство. …Вы, как деревья в листопад. Еще в плодах судеб, событий… Благословляю ваш закат! И все-таки — не уходите.Разговор с генералом Н.
Памяти А. Твардовского
Седой и смуглый генерал. Весь в орденах, как в латах. На клубной сцене вспоминал Свой путь, друзей крылатых. Неповторимы времена Мальчишеских идиллий. Неповторимы имена. Которые любили… Горел великий ореол, Мы верили с друзьями, Что круглосуточно орел Парит под облаками. Спасать на льдине четверых Рвались в любой квартире. Но гибли тысячи других Во глубине Сибири. Быть может, зная эту боль. Но и помочь не в силе. Вы, как поэты в алкоголь, В рекорды уходили. Той темы не коснусь пером Попутно и поспешно. Я не о том, я не о том. Хоть и о том, конечно. Но вы сказали под конец: — Когда б не время, верьте. Пахал бы землю, как отец Ее пахал до смерти. Подумать только — генерал! Нет, генерал не пахарь. Зал эту шутку принимал И, принимая, ахал. Зал аплодировал еще, Он знать давал, ликуя. Что понимает хорошо Дистанцию такую. С грехом и горем пополам Тот самодержец умер. Но прокатился по рядам Его державный юмор. Я понимаю, генерал. Не та, не та эпоха. Но ведь и Лев Толстой пахал, А разве это плохо? При громкой славе на виду. Простите откровенье. Откуда к черному труду Негласное презренье? Не дай мне Бог надеть узду Угрюмого урода. Но если каждому звезду — Не хватит небосвода. Пускай иной трудом долез, Свою звезду нащупал. Его, качая, до небес Бросать опять же глупо. Не в том, что, вырвавшись из тьмы. Чего-то достигаем, А дело в том, что вы и мы Россию постигаем. Но силу права между тем Мы путали с мандатом… «Кто был ничем, тот станет всем…» И даже депутатом? Да я и сам не доверял Случайным тем приметам. Нет, не придирка, генерал. Ах, если б только в этом… Меня тревожит юный зал, И если я запальчив, Прошу прощенья, генерал. Но ведь и я не мальчик.Летучая мышь
Устав от первобытных странствий Под сводами вечерних крыш. Вне времени, хотя в пространстве. Летучая трепещет мышь. Как будто бы под мирным кровом. Тишайший нанеся визит, В своем плаще средневековом Вдруг появился иезуит. И вот мгновенье невесомо. Как серый маленький дракон. Кружит, принюхиваясь к дому: Что в доме думают на сон? Так порождает суеверье Ее неслышимый полет Не тем, что выродились перья, А тем, что птица не поет. Она колышется над нами, Прильнув к открытому окну, Пастообразными крылами Прядет гнилую тишину. Толчется птица и не птица, Кружит, безмолвие храня, И вдруг на светлое садится. Но светлого боится дня. И этот облик полуптичий Висит, неясностью страша. Но с адским символом двуличья Не соглашается душа. Добычи вечная дележка Под сводами пещер и крыш… Сова — летающая кошка — Летучую кромсает мышь!Опоздавшие к пиру
Опоздавшие к пиру Пьют с расчетом, умно. Веселятся не с жиру. Им другое дано. Захмелевшие гости, Кверху лица задрав, Как бы с радостной злостью Ошарашили: — Штраф! Отшутиться потуги: Значит, снова штрафник? Улыбаются други: Ты все тот же, шутник. Значит, снова на пушку? Значит, радуйся, цел? Он гостей и пирушку Трезво взял на прицел. Пиджаки или фраки — Не понять ни черта. Поутихли вояки — Только дым изо рта. И женились, поди-ка, Поубавился пыл. Только бывший заика Заикаться забыл. Обивали ладоши, Поднимали бокал… Постаревший святоша Алкоголиком стал. И страшнее, чем маски (На бюро! На парад!) — Лица в желтой замазке. Восковые подряд. Опоздавшие к пиру Пьют с расчетом, умно. Веселятся не с жиру. Им другое дано. Недовольны, не в жилу (Закуси! Сулугун!) Он берег свою силу. Как дыханье бегун. Он берег. А не слишком? Сжал мучительно рот: — Эту горечь, братишка. Что-то хмель не берет. Я кайлом и лопатой Двадцать лет продолбил, Я последний ходатай Магаданских могил. Значит, кончено? Крышка! Променяли на снедь! Эту горечь, братишка… — Пред-ла-га-ется петь! Словно обухом в темя Этот радостный крик. То ли рухнуло время, То ли треснул ледник. То ли в панике урки: Наше дело — хана! То ли в радость придурки: — Помянем пахана! От напитков ударных Зашатались миры От снегов заполярных До родимой дыры. Как рубаху с размаху, Баянист рвет меха. Разрывай хоть до паху — Не замоешь греха. Гости пьяны в дымину. Именинника дичь. Продымили домину, Хоть пожарников кличь. Этот прямо из глотки К умывалке прирос. Как на тонущей лодке Захлебнулся насос. Разъезжаются гости. В зверобойных мехах. Отработаны кости. Как на бойне в цехах. А хозяйка устала. Обескрыленный взгляд. — Вы с вокзала? — С вокзала. Надо ж, как говорят. Столько лет и событий… — Да, такие дела… — Ради бога, звоните, Мне еще со стола… В мутный час предрассветный, Среди страшных утрат. Что ему этот бедный Грустной женщины взгляд? Он уходит куда-то. Лагерей старожил. Одинокий ходатай Магаданских могил. Он уходит… Россия… Скрип шагов. Тишина. Словно после Батыя, Спит вповалку страна.Германия (1934)
Орало радио на площадях, глашатай двадцатого века. У входа в рай стоял морфинист под вывескою «Аптека». Гипнотизеры средней руки на государственной службе. Читали доклады штурмовики о христианской дружбе. И равно летели потом под откос, слушая мерные звуки, И те, кого усыпил гипноз, и те, кто спали от скуки. А скука такая царила в стране, такое затменье рассудка, Что если шутка могла развлечь — только кровавая шутка Молчали надгробья усопших домов, молчали могилы и морги. И сын пошел доносить на отца, немея в холодном восторге. Орало радио на площадях, глашатай двадцатого века. Пока не осталось среди людей ни одного человека. А дни проходили своей чередой, земля по орбите вращалась, Но совесть, потерянная страной, больше не возвращалась.Двое
Потрескивали по ночам цикады В сухом смолистом древнем сосняке. Они звучали странно, как цитаты Из книги вечности на мертвом языке. А тело юное дневным палящим жаром Бестрепетно дышало в простоте, Светящееся в темноте загаром, Остыть не успевало в темноте. И день вставал, как счастье, неподвижен. Чтоб тут же лечь в горячие пески. Под сосняком веснушчатым и рыжим Баркасы драили ночные рыбаки. Пыталась петь, слегка перевирала Мелодии полузабытой вязь. Ладонями песок перебирала. Стекала струйка, мягко золотясь. Такие же волна перетирала Песчинки у оранжевой косы. Ладонями песок перебирала. Текли и таяли песочные часы. Как струйка этого песка во власти Судьбы, по-своему сверяющей весы. Не понимали двое, что у счастья Такие же песочные часы. Не понимали двое. Но в наклоне Ее руки сквозила эта связь… Безвольно и безоблачно с ладони Стекала струйка, слабо золотясь.Прощание с осенью
Последние осенние деньки. Над морем стелются прощальные дымки. У солнца над водой прощальный взгляд. А люди медлят и прощаться не хотят. Но солнце говорит: «Пора, прошу. Я вам еще с дороги напишу». В последний раз коричневый навар Вам в чашечки сливает кофевар. Медлительный в природе перелом. В последний раз работая веслом, Рыбак прощальную оглядывает ширь. Слепа судьба, но леска — поводырь. Клюет лобан! Вот тяжелеет снасть. Почуяв над собой чужую власть, Он гневно рвет тугую тетиву, С крючком во рту ныряет в синеву. Он будет плавать в темной глубине С железным привкусом свободы на губе. Закуривает медленно рыбак И долго смотрит на воду, чудак. Над морем зыблется голубоватый пар. Он кровью слушает лучей нежаркий жар… Перебирает прошлое в уме… Но что это под банкой на корме? Он шпильку ржавую — как этот день далек! Из-под ребра шпангоута извлек. И запах водорослей вдруг ударил в нос, Тяжелый, острый, тянущий взасос… Он думает: «Она стояла здесь. Железный привкус у свободы есть». А голос с пристани летит во все концы. Как бы приказ для всех: — Отдать концы!..В зоопарке
В зоопарке узнал я, не в школе. Умирают фламинго в неволе. У директора вечно волынка: Нарушается план по фламинго. Умирают без шума, без жалоб… Что ей, птице, на ножке стояла б… В теплоте электрической грелки Подаются лягушки в тарелке. А по стенам от края до края Виды все африканского рая. Виды разные и пампасы, Травы красные, как лампасы. Над фламинго кричат попугаи. Колорит создавать помогая. Жизнь прекрасна. Одна лишь заминка: Умирают в неволе фламинго.На катке
Чуть усталых от побежек По живому хрусталю Обожаю конькобежек. Конькобежцев не люблю. Только в девичьей натуре Эти гибкие круги. Удлиненные фигуры. Удлиненные шаги. В струях музыки и света Мчатся музыкой двойной Разноцветные планеты По орбите ледяной. Полюсов соединенье, Искры сыплются вразлет! Жар подспудного горенья Тянет девушек на лед. Что не скажется словами. Ни в какие времена, Пишут девушки ногами Вековые письмена. Я однажды расшифрую Борозду за бороздой, Как пластинку ледяную, Круг арены ледяной. Юной женственности сила Силы пробует не зря! Слишком долго тормозила Слишком вязкая земля… И покуда боги дремлют, Амазонки сквозь века Горячат и гонят землю Острой шпорою конька.Студенты
На ужин — булка. Поцелуи, Как увлажняющие струи. Какая может быть зубрёжка, Когда луна глядит в окошко? Долой учебник и тетради! От хохота трясутся пряди. Летят шпаргалки, как листовки — Знак забастовки. Ему или себе в угоду Влетает в зеркало, как в воду! Ужимки и дикарский танец, Смущающий зеркальный глянец. Но не смущается напарник: — Огня, — кричит, — я твой пожарник! К нему в объятья, полыхая, На койку прыгает, лихая. От сумасшедшего веселья Дрожит студенческая келья.Вечер
Серебристый женский голос Замер у опушки. Гулко надвое кололось Гуканье кукушки. День кончался. Вечерело На земной громаде. В глубине лазури тлела Искра благодати. День кончался. Вечерело В дачном захолустье. И душа сама хотела Этой свежей грусти. И, как вздох прощальный, длился Миг, когда воочью Божий мир остановился Между днем и ночью.Ода апельсину
Хозе Ф.
О апельсин, моя отрада, Мы в южном все-таки родстве. Ты — как внезапная Гренада В январской ледяной Москве. В нас оживают сластолюбы При виде долек золотых. Преувеличенных, как губы У современниц молодых. Вокруг оранжевого шара Движенье стужи и жары. Но проспиртована недаром Ткань его плотной кожуры. Еще отравленные тучи Дождят с отравленных небес. Но сладок дух его могучий. Он в панцирь золотистый влез. Так мы храним от жизни хмурой Надежды сладостный мотив. Своею собственною шкурой Всю горечь быта процедив. И мир становится огромней, Когда великолепный плод С лотка морозного в лицо мне Испанской кровью полыхнет!Упряжка
Что за выдумка, однако? Среди зимних сосен рыжих Впереди бежит собака. Сзади — девушка на лыжах. Легкой палкою махая. Поводок в руке — внатяжку. Мчится девушка лихая, Рвется храбрая упряжка. В снежном вихре, в клубах дыма Налетели, пролетели. Полыхнул румянец мимо. Мимо лыжи прошумели. Здравствуй, творческая тяга. Жизни древняя приманка. Ты, лохматая собака. Ты, лохматая беглянка. Только пар качнулся зыбко Над лыжней, едва протертой. Мне запомнилась улыбка На большой собачьей морде. Затихает в дальней чаще Серебристое виденье. Ну, а что такое счастье — Чудо, молодость, везенье? Может, зимняя дорога. Да веселая отвага. Да фантазии немного. Да хорошая собака.Детство
Какая это благодать! Я вспоминаю: ночью летней Так сладко было засыпать Под говор в комнате соседей. Там люди с нашего двора, У каждого свой странный гонор. Мир, непонятный мне с утра, Сливается в понятный говор. Днем распадется этот круг На окрики и дребезжанье. Но сладок ночью слитный звук, Его струенье и журчанье. То звякнут ложкой о стекло, То хрустнут скорлупой ореха… И вновь обдаст меня тепло Уюта, слаженности, смеха. И от затылка до подошв. Сквозь страхи детского закута. Меня пронизывает дрожь. Разумной слаженности чудо. Я помню: надо не болеть И отмечать свой рост украдкой, И то, что долго мне взрослеть, И то, что долго, — тоже сладко. Я постигаю с детских лет Доверчивости обаянье. Неведенья огромный свет, Раскованность непониманья. Да и теперь внезапно, вдруг Я вздрогну от улыбки милой. Но где защитный этот круг Превосходящей взрослой силы? Бесплодный, беспощадный свет И перечень ошибок поздних… Вот почему на свете нет Детей, растеряннее взрослых.Змеи
Дымился клей в консервной банке. С утра, как братья Райт, в чаду Смолистые строгаем дранки. Рисуем красную звезду. И вот, потрескивая сухо, Сперва влачится тяжело. Но, ветер подобрав под брюхо, Взмывает весело и зло. Он рвется, рвется все свирепей! Потом мелькает вдалеке, Как рыба, пойманная в небе. Зигзагами на поводке, До самой, самой верхней сини, Последний размотав моток… Под ним ленивые разини. Под ним приморский городок. А он с размаху бьет по снасти. Дрожит пружинистая нить! И полноту такого счастья Не может небо повторить. Звезда горящая, флажочек, Я помню тайную мечту: Когда-нибудь веселый летчик Подхватит змея на лету. Но летчики летели мимо. Срывались змеи со шнуров… Назад! Назад! Неудержимо! А где-то Чкалов и Серов… Змей улетал из захолустья. Как чудо, отданное всем. Глядели с гордостью и грустью И понимали — насовсем.Ночные курильщики
Мужчины курят по ночам, Когда бессонницу почуют. Не надо доверять врачам, Они совсем не то врачуют. Ночных раздумий трибунал. Глухие ножевые стычки… Когда бессилен люминал. Рукой нашаривают спички. Огонь проламывает ночь. Он озарил глаза и скулы. Он хочет чем-нибудь помочь. Пещерный, маленький, сутулый. По затемненным городам Идет незримая работа, Мужчины курят по ночам. Они обдумывают что-то. Вот низко прошуршит авто. Вот захлебнется чей-то кашель… Но все не так и все не то, И слышно, как скребется шашель. Трещит, разматываясь, нить: Удачи, неудачи, числа… Как жизни смысл соединить С безумьем будничного смысла? Спит город, улица и дом. Но рядом прожитое плещет. Как птица над пустым гнездом. Над ним душа его трепещет. Он думает: «Мы днем не те, Днем между нами кто-то третий. Но по ночам, но в темноте Тебя я вижу, как при свете». Две тени озарит рассвет. Они сольются на мгновенье. Она в него войдет, как свет, Или уйдет, как сновиденье.Огонь, вода и медные трубы
Огонь, вода и медные трубы — Три символа старых романтики грубой. И, грозными латами латки прикрыв. Наш юный прапрадед летел на призыв. Бывало, вылазил сухим из воды И ряску, чихая, сдирал с бороды. Потом, сквозь огонь прогоняя коня. Он успевал прикурить от огня. А медные трубы, где водится черт. Герой проползал, не снимая ботфорт. Он мельницу в щепки крушил ветряную. Чтоб гений придумал потом паровую. И если не точно работала шпага. Ему говорили: не суйся, салага! — Поступок, бывало, попахивал жестом. Но нравился малый тогдашним невестам. Огонь, вода и медные трубы — Три символа старых романтики грубой. Сегодня герой на такую задачу Глядит, как жокей на цыганскую клячу Он вырос, конечно, другие успехи Ему заменяют коня и доспехи. Он ради какой-то мифической чести Не станет мечтать о физической мести. И то, что мрачно решалось клинком, Довольно удачно решает профком. Но как же, — шептали романтиков губы, — Огонь, вода и медные трубы? Наивностью предков растроган до слез, Герой мой с бригадой выходит на плес. Он воду в железные трубы вгоняет, Он этой водою огонь заклинает. Не страшен романтики сумрачный бред Тому, кто заполнил сто тысяч анкет.Христос
Христос предвидел, что предаст Иуда, Но почему ж не сотворил он Чуда? Уча добру, он допустил злодейство. Чем объяснить печальное бездейство? Но вот, допустим, сотворил он Чудо. Донос порвал рыдающий Иуда. А что же дальше? То-то, что же дальше? Вот где начало либеральной фальши. Ведь Чудо — это все-таки мгновенье. Когда ж божественное схлынет опьяненье. Он мир пройдет от края и до края. За не предательство проценты собирая. Христос предвидел все это заране И палачам отдался на закланье. Он понимал, как затаен и смутен Двойник, не совершивший грех Иудин. И он решил: «Не сотворится Чудо. Добро — добром. Иудою — Иуда». Вот почему он допустил злодейство. Он так хотел спасти от фарисейства Наш мир, еще доверчивый и юный… Но Рим уже сколачивал трибуны.Завоеватели
Крепость древняя у мыса, Где над пляжем взнесены Три библейских кипариса Над обломками стены. Расчлененная химера Отработанных времен Благодушного Гомера И воинственных племен. Шли галеры и фелюги, С гор стекали на конях В жарких латах, в пыльной вьюге, В сыромятных кожухах. Греки, римляне и турки. Генуэзцы, степняки. Шкуры, бороды и бурки. Арбы, торбы, бурдюки. Стенобитные машины Свирепели, как быки, И свирепые мужчины Глаз таращили белки. Ощетинивали копья, Волокли среди огня Идиотское подобье Деревянного коня. Очищали, причащали, Покорив и покарав, Тех, кто стены защищали, В те же стены вмуровав. И орлы, не колыхаясь, Крыльев сдерживали взмах. Равнодушно озираясь На воздетых головах. А внизу воитель гордый Ставил крепость на ремонт. Ибо варварские орды Омрачали горизонт. Стенобитные машины Вновь ревели, как быки, И свирепые мужчины Глаз таращили белки. Печенеги, греки, турки. Скотоложцы, звонари. Параноики, придурки, Хамы, кесари, цари: — Протаранить! Прикарманить! Чтобы новый Тамерлан Мог христьян омусульманить, Охристьянить мусульман. И опять орлы, жирея, На воздетых головах Озирались, бронзовея В государственных гербах. Возмутителей — на пику! Совратителей — на кол! Но и нового владыку Смоет новый произвол. Да и этот испарится, Не избыв своей вины. Три библейских кипариса Над обломками стены. Плащ забвения зеленый Наползающих плющей, И гнездятся скорпионы В теплой сырости камней.Толпа
Толпа ревела: — Хлеба! Зрелищ! И сотрясала Колизей, И сладко слушала, ощерясь. Хруст человеческих костей. Уснули каменные цирки, Но та же мутная волна. Меняя марки или бирки. Плескалась в наши времена. Народ с толпою путать лестно Для самолюбия раба. Народ, толпящийся над бездной. История, а не толпа. И в громе всякого модерна, Что воздает кумиру дань, Я слышу гогот римской черни, В лохмотьях пышных та же рвань. Все было: страсти ширпотреба И та нероновская прыть. Попытка недостаток хлеба Избытком зрелищ заменить. Но даже если хлеба вдосталь. Арены новой жаждет век. А в мире все не слишком просто, И не измерен человек. Но из былых каменоломен Грядущий озирая край. Художник, помни: вероломен Коленопреклоненный рай.Античный взгляд
Широкий жест самоубийцы — Как перевернутая страсть. Кого он призывал учиться — Возлюбленную, время, власть? Петли вернейшее объятье И прямодушие свинца, И содрогание конца, Как содрогание зачатья! А мощный римлянин, в дорогу Спокойно осушив бокал. Рабу сенаторскую тогу Откинул: — Подойдет, ей-богу! И до упора — на кинжал!Раньше
Нам говорят: бывало раньше, Случалось раньше — верь не верь. Не говорю, что будет дальше. Но раньше — это не теперь. Не та весна, не та погодка. Бывала раньше неспроста Жирней селедка, крепче водка. Теперь вода и то не та. Не так солили и любили… Попробуй исповедь проверь. Но ведь и раньше говорили. Что раньше — лучше, чем теперь? В увеличительные стекла, Как детство, старость смотрит вдаль. Там выглядит царевной Фекла, Гуляет нараспах февраль. Там молодость кричала: — Горько! — А было сладко, говорят. Недаром старость дальнозорка, Не отнимай ее услад. И в этом нет жестокой фальши, И надо этим дорожить. Тем и прекрасна рань, что раньше Жить предстояло, братцы, жить.Лифтерша
Мокрый плащ и шапку В раздевалке сбросил. — Как делишки, бабка? Мимоходом бросил. Бросил фразу эту Сдуру, по привычке. Вынул сигарету. Позабыл про спички. Тронула платочек, Руки уронила: — Так ведь я ж, сыночек, Дочку схоронила… Вот беда какая, Проживала в Орше, А теперь одна я… — Говорит лифтерша. А в глазах такая. Богу в назиданье. Просьба вековая. Ясность ожиданья — Нет яснее света, Зеленее травки… Так у райсовета Пенсионной справки Просят… Выше! Выше! Нажимай на кнопку! Аж до самой крыши Адскую коробку! Никакого счастья Нет и не бывало, Если бабка Настя Этого не знала. Правды или кривды Не бывало горше. Подымает лифты Старая лифтерша. К небесам возносит Прямо в кабинеты… А еще разносит Письма и пакеты.Усталость
Отяжелел, обрюзг, одряб, Душа не шевелится. И даже зрением ослаб. Не различаю лица Друзей, врагов, людей вообще! И болью отдает в плече Попытка жить и длиться… Так морем выброшенный краб Стараньем перебитых лап В стихию моря тщится… Отяжелел, обрюзг, одряб, Душа не шевелится.Тоска по дружбе
Л С
Мне нужен собрат по перу — Делиться последней закруткой, И рядом сидеть на пиру, И чокаться шуткой о шутку. Душа устает голосить По дружбе, как небо, огромной. Мне некого в дом пригласить, И сам я хожу, как бездомный. Тоскуем по дружбе мужской. Особенно если за тридцать. С годами тоска обострится. Но все-таки лучше с тоской. Надежды единственный свет, Прекрасное слово: «товарищ»… Вдруг теплую руку нашаришь Во мраке всемирных сует. Но горько однажды открыть, Что не во что больше рядиться, С талантом для дружбы родиться. Таланта не применить… Тоскую по дружбе мужской Тоской азиатской и желтой… Да что в этой дружбе нашел ты? Не знаю. Тоскую порой.Сирень и молнии. И пригород Москвы…
Сирень и молнии. И пригород Москвы Вы мне напомнили, а может, и не вы… Сирень и сполохи, и не видать ни зги, И быстрые по гравию шаги, И молодость, и беспризорный куст, И самый свежий, самый мокрый хруст. Где кисти, тяжелея от дождя, Дрожмя дрожали, губы холодя. Дрожмя дрожали, путались, текли. И небом фиолетовым вдали Твой город, забегая за предел, Библейским небом грозно пламенел И рушился, как реактивный вал, И в памяти зияющий провал. Так значит — все? Так значит — отрешись? Но я хочу свою додумать жизнь. Когда дожить, в бесчестие не впав. Нет признаков, мой друг… Иль я не прав? Но почему ж так хлещут горячо Сирень и молнии и что-то там еще. Похожее на плачущую тень? Кто ты? Что ты? Я все забыл, сирень…Молитва за Гретхен
Двадцатилетней, Господи, прости За жаркое, за страшное свиданье, И, волоса не тронув, отпусти, И слова не промолви в назиданье. Его внезапно покарай в пути Железом, серой, огненной картечью. Но, Господи, прошу по-человечьи. Двадцатилетней, Господи, прости.Баллада о блаженном цветении
То было позднею весной, а может, ранним летом. Я шел со станции одной, дрозды трещали где-то, И день, процеженный листвой, стоял столбами света. Цвела земля внутри небес в неповторимой мощи. Четыре девушки цвели внутри дубовой рощи. Над ними мяч и восемь рук, еще совсем ребячьих. Тянущихся из-за спины, неловко бьющих мячик. Тянущихся из-за спины, как бы в мольбе воздетых, И в воздухе, как на воде, стоял волнистый след их. Так отстраняются, стыдясь минут неотвратимых, И снова тянутся, любя, чтоб оттолкнуть любимых. Так улыбнулись мне они, и я свернул с дороги. Казалось, за руку ввели в зеленые чертоги. Чертоги неба и земли, и юные хозяйки… Мы поиграли с полчаса на той лесной лужайке. Кружился волейбольный мяч, цвели ромашек стайки. Четыре девушки цвели, смеялись то и дело, И среди них была одна — понравиться хотела. Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной, Глазами — радостный испуг от смелости крамольной. Был подбородка полукруг еще настолько школьный… Всей добротой воздетых рук, улыбкою невольной. А я ушел своим путем и позабыл об этом. То было позднею весной, а может, ранним летом. Однажды ночью я проснусь с тревогою тяжелой, И станет мало для души таблетки валидола. Сквозняк оттуда (люк открыт!) зашевелит мой волос, И я услышу над собой свой юношеский голос: — Что жизнь хотела от тебя, что ты хотел от жизни? Пришла любовь, ушла любовь — не много и не мало. Я только помню — на звонок, сияя, выбегала. Пришла любовь, ушла любовь — ни писем, ни открыток. Была оплачена любовь мильоном мелких пыток. И все, что в жизни мне далось — ни бедной, ни богатой. Со мной существовало врозь, уничтожалось платой. И все, что мужеством далось или трудом упорным, С душой существовало врозь и становилось спорным. Но был один какой-то миг блаженного цветенья. Однажды в юности возник, похожий на прозренье. Он был превыше всех страстей, всех вызубренных истин. Единственный из всех даров, как небо, бескорыстен! Так вот что надо было мне при жизни и от жизни. Что жизнь хотела от меня, что я хотел от жизни. В провале безымянных лет, у времени во мраке Четыре девушки цветут, как ландыши в овраге. И если жизнь — горчайший вздох, то все же бесконечно Благодарю за четырех и за тебя, конечно.Однажды девушка одна
Однажды девушка одна Ко мне в окошко заглянула. Смущением озарена. Апрельской свежестью плеснула. И после, через много дней, Я замечал при каждой встрече. Как что-то вспыхивало в ней И что-то расправляло плечи. И влажному сиянью глаз. Улыбке быстрой, темной пряди Я радовался каждый раз. Как мимолетной благодати. И вот мы встретились опять. Она кивнула и погасла, И стало нестерпимо ясно. Что больше нечего терять.Камчатские грязевые ванны
Солнца азиатский диск, Сопки-караваны. Стой, машина! Смех и визг. Грязевые ванны. Пар горячий из болот В небеса шибает. Баба бабе спину трет. Грязью грязь сшибает. Лечат бабы ишиас. Прогревают кости. И начальству лишний раз Промывают кости. Я товарищу кричу: — Надо искупаться! В грязь горячую хочу Брюхом закопаться! А товарищ — грустный вид. Даже просто мрачный: — Слишком грязно, — говорит. Морщит нос коньячный. Ну а я ему в ответ: — С Гегелем согласно, Если грязь — грязнее нет, Значит, грязь прекрасна. Бабы слушают: — Залазь! Девки защекочут! — Али князь? — Из грязи князь! — То-то в грязь не хочет! Говорю ему: — Смурной, Это ж камчадалки… А они ему: — Родной, Можно без мочалки. Я не знаю, почему В этой малокуче, В этом адовом дыму Дышится мне лучше. Только тело погрузи В бархатную мякоть… Лучше грязь в самой грязи, Чем на суше слякоть! Чад, горячечный туман Изгоняет хвори, Да к тому же балаган. Цирк и санаторий. Помогает эта мазь. Даже если нервный. Вулканическая грязь, Да и запах серный. Принимай земной мазут, Жаркий, жирный, плотный. После бомбой не убьют Сероводородной! А убьют — в аду опять Там, у черта в лапах, Будет проще обонять Этот серный запах. Вон вулкан давно погас, Дышит на пределе! Так, дымится напоказ, Ну, а грязь при деле. Так, дымится напоказ, Мол, большая дума, А внутри давно погас. Грязь течет из трюма. Я не знаю, почему В этой малокуче, В этом адовом дыму Дышится мне лучше! Вот внезапно поднялась В тине или в глине. Замурованная в грязь, Дымная богиня. Слышу, тихо говорит: — В океане мой-то… — (Камчадальский колорит) Скудно мне цевой-то… И откинуто плечо Гордо и прекрасно, И опять мне горячо И небезопасно. Друг мой, столько передряг Треплет, как мочало, А поплещешься вот так — Вроде полегчало.На лежбище котиков
Я видел мир в его первичной сути. Из космоса, из допотопной мути. Из прорвы вод на Командорский мыс Чудовища, подтягивая туши. Карабкались, вползали неуклюже, Отряхивались, фыркали, скреблись. Под мехом царственным подрагивало сало. Струилось лежбище, лоснилось и мерцало. Обрывистое каменное ложе. Вожак загадочным (но хрюкающим все же). Тяжелым сфинксом замер на скале. Он словно сторожил свое надгробье. На океан взирая исподлобья С гримасой самурая на челе. Под мехом царственным подрагивало сало. Струилось лежбище, лоснилось и мерцало. Ворочая громадным, дряблым торсом, Секач над самкой годовалой ерзал, Сосредоточен, хладнокровен, нем, И, раздражаясь затянувшимся обрядом. Пыхтел усач. Однако тусклым взглядом Хозяйственно оглядывал гарем. А молодняк в воде резвился рядом. Тот, кувыркаясь, вылетал снарядом. Тот, разогнавшись, тормозил ластом И затихал, блаженно колыхаясь. Ухмылкой слабоумной ухмыляясь. Пошлепывая по спине хвостом. Но обрывается затишье и дремота. Они, должно быть, вспоминают что-то. Зевота скуки расправляет пасть. Как жвачка, пережеванная злоба Ласты шевелит, разъедает нёбо, И тварь встает, чтоб обозначить власть. Соперники! Захлебываясь, воя, Ластами шлепая, котиху делят двое. Кричащую по камням волоча. Один рванул! И темною лавиной С еще недокричавшей половиной К воде скатился и затих, урча. Два секача друг друга пропороли! Хрипя от похоти, от ярости, от боли. Воинственным охваченные пылом, В распоротых желудках рылись рылом. Заляпав кровью жаркие меха! Спешили из дымящейся лохани Ужраться до смерти чужими потрохами. Теряя собственные потроха… И хоть бы что! Подрагивало сало. Струилось лежбище, лоснилось и мерцало. Здесь каждый одинок и равнодушен. Покамест сам внезапно не укушен. Не сдвинут с места, не поддет клыком. И каждый замкнут собственной особой. На мир глядит с какой-то сонной злобой Недвижным гипнотическим зрачком. Здесь запах падали и аммиачно-серный Извечный дух вселенской свинофермы. Арктическая злоба и оскал. Здесь солнце плоское, закатное, рябое, Фонтаны крови над фонтанами прибоя, И сумрак, и гряда безлюдных скал. — Нет! — крикнул я. — Вовеки не приемлю Гадючьим семенем отравленную землю. Где мысли нет, там милосердья нет. Ты видишь сам — нельзя без человека! Приплюснута, как череп печенега. Земля мертва, и страшен звездный свет. А ночь текла, и млечная громада Спиной млекопитающего гада Отражена… И океанский вал. Над гулом лежбища прокатываясь гулом. Холодной пылью ударял по скулам И, пламенем белея, умирал.Ночной пир на развалинах Диоскурии
А.Х.
Обжор и опивал Достойная опора, Я тоже обладал Здоровьем горлодера. Я тоже пировал При сборище и зелье. Где каждый убивал Старинное веселье. В непрочности всего, Что прочным предрекалось, Одно твое лицо. Как пламя, подымалось. Полуночной судьбы Набросок в лихорадке, И линия губы Как бы прикус мулатки. В непрочности всего Несбыточного, что ли… Вовек одно лицо Пульсирует от боли. И потому его На дьявольскую прочность В непрочности всего Пытает червоточность. И потому у губ Так скорбны эти складки, Но потому и люб Твой пламень без оглядки. Пусть обескровлен пир От долгих посиделок, И плотно стынет жир Предутренних тарелок… И страшен невпопад Трезвеющий Иуда, Его далекий взгляд Откуда-то оттуда… И все-таки, клянусь. Мы сожалеть не будем, Что нас подводит вкус От голода по людям. Ты слышишь чистый звук. За окнами простертый? Крик петуха, мой друг, Но этот город мертвый… Крик петуха, мой друг. Под млечным коромыслом. Где тонет всякий звук, Не дотянув до смысла.Фальшь
Невыносима эта фальшь Во всем — в мелодии и в речи. Дохлятины духовной фарш Нам выворачивает плечи. Так звук сверлящего сверла, Так тешится сановной сплетней Питье с господского стола Лакей лакающий в передней. Прошу певца: — Молчи, уважь… Ты пожелтел не от желтухи… Невыносима эта фальшь, Как смех кокетливой старухи. Но чем фальшивей, тем звончей. Монета входит в обращенье. На лицах тысячи вещей Лежит гримаса отвращенья. Вот море гнилости. Сиваш. Провинция. Шпагоглотатель. Невыносима эта фальшь. Не правда ли, очковтиратель?! Давайте повторять, как марш, Осознанный необратимо, Невыносима эта фальшь. Да, эта фальшь невыносима.Кюхельбекер
Защемленная совесть России, Иноверец, чужой человек. Что тебе эти беды чужие, Этот гиблый пространства разбег! Что тебе от Москвы до Тибета — Ледовитый имперский простор? Что тебе это все? Что тебе-то? Этот медленный мор, этот вздор? Что тебе это мелкое злобство, На тебя, на себя, эта ложь? Как вкусившего сладость холопства Ты от сладости оторвешь? Что тебе эти бедные пашни, Что пропахли сиротским дымком, Что тебе эти стены и башни. Цвета крови, облитой белком? Что тебе? Посмотрел и в сторонку. Почему же, на гибель спеша, В ледовитую эту воронку, Погружаясь, уходит душа…Лев Толстой в Ясной Поляне
От тесноты квартир, от пресноты, От пошлости любого манифеста В горах вам не хватало высоты, А на земле вам не хватало места. Какая же устроит благодать Вас, неустроенных у всех времен на стыке? И не могла оседлость оседлать. Хотя пытались многие владыки. Пытались и пытали эту прыть. Догадываясь смутно и тревожно: Движенье мысли невозможно победить. Хотя, конечно, попытаться можно. Летело в ночь от страждущей души Усталому и сумрачному богу: — Страданием страданье ублажи И обреки на вечную дорогу! От Беринга куда-то на Таймыр, От тесноты в тоске по океану… Так можно ли, когда неясен мир. Не бросить, прокляв. Ясную Поляну? Так, изменяя собственной родне. Вы в странствиях искали постоянства. Не странно ли, в такой большой стране Вы умирали в поисках пространства? Тесны моря. Объятия невест. Тесна Сибирь, и тесен каждый город. О, ищущий руки российской жест И сладострастно рвущий тесный ворот! Он верою сломал неверию Хребет. Но пусты невода. Он словом победил империю. Но не был счастлив никогда.Тютчев
Откуда этой боли крик Или восторг в начале мая? Смешной и суетный старик Преображается и вмиг Меч гладиатора вздымает! Многообразна только мысль, Все остальное исчерпалось. Над нами тютчевская высь — Испепелись и воскурись! — Попробуй взять ее — осталась. Что чудо лирики? Огонь, Из бездны вырванный зубами. И странен стих, как звездный камень, С небес упавший на ладонь.Маяковский
Большой талант как бы свирепость Петровская: — Да будет флот! Все бывшее почти нелепость! Наоборот! Наоборот! Довольно любоваться замком Воздушным! Настоящий строй! Довольно прижиматься к мамкам! Своей обзаведись семьей! Он ходит яростный и хмурый: — Не то! Не так! Наоборот! — Отталкиваясь от культуры. Культуру двигает, как род! Он говорит: — Вперед, подранки! У вас пронзительней права! Но ваши маленькие самки — Курдюк, что убивает льва. Любовь! Любовь! Его химера! Пантера! Кукла без размера! Он знает, но глаза, глаза… Брезгливый комплекс Гулливера И лошадиная слеза.Бывает, боль твоя наружу…
Бывает, боль твоя наружу Не может вырваться никак, И что-то смутно гложет душу, И на душе тревожный мрак. Когда во рту больные зубы. Вот так какой-то защемит. Гадаешь, поджимая губы. Не зная сам, какой болит. Когда ж среди корявых дупел Болящий зуб, как некий звук. Почуял, языком нащупал Ее пульсирующий стук — Боль не стихает. Но от века Страшится хаоса душа. И даже в боли человеку Определенность хороша.Мне снились любящие руки…
Мне снились любящие руки. Они тянулись и просились. И музыки далекой звуки Сквозь толщу жизни доносились. Сквозь толщу жизни эти звуки, Сквозь мусор горьких заблуждений. И эти любящие руки, Как ветви, с робостью весенней Тянулись долгое мгновенье И не решались прикоснуться. Как будто их прикосновенье И означало бы — проснуться.Ушедшей женщины тиранство…
Ушедшей женщины тиранство Превозмоги, забудь, замкнись! Опустошенное пространство Упорная заполнит мысль. Из прожитого, как из глыбы. Глядится мысль в грядущий день. Но грустные ее изгибы — Живой предшественницы тень. Промчатся годы, и другая, Другая женщина уже, Мысль, словно воду, вытесняя. Располагается в душе. И смех ее, и бедный лепет Нам озаряет Божий день. Но красоты духовной трепет — Той, побежденной мысли тень. И лишь поэт, веками маясь. Марает скорбную тетрадь, И мысль и женщину пытаясь В одном пространстве удержать.Анита
Глухонемая девочка Анита, Меня увидев, бросилась ко мне. Ручонками колени обхватила И головой барашковой, шерстистой Потерлась о пальто… И, вдруг лицо Вверх запрокинув, распахнула мне И что-то длинно, длинно промычала. Я наклонился. Тронуло лицо Младенческое, влажное дыханье, И темные, масличные глаза Незамутненной радостью струились. Кто я? Что я? Знакомый человек. Возможность приложения любви. Возможность промычать ее блаженно. Желанье головенкой потереться. Как бы заложенное в каждой пряди Крутой, барашковой, свалявшейся слегка. И благодарное рыдание во мне Вдруг поднялось, и горло запрудило, И смерзлось в нем, не вырвавшись наружу. Глухонемая боль, вернее, хуже. То, что от боли остается там, на дне… Как горько все, любимая, как горько… Бессмысленная сладость поцелуев, Которыми любви заткнули рот. …Любовь — тоннель, что роют с двух сторон. Не так ли вор в чужой квартире ночью, Не смея свет зажечь, торопится, спешит И, спичками все чиркая, хватает Бессмысленные вещи. В том числе И те, что выдадут его потом при свете. Когда любовь не окрыляет зренья, Когда любовь не расширяет совесть. Когда она самообслуга страсти, Пускай двоих, она ничуть не лучше. Гораздо хуже одинокой, той… Была привязанность, как рок или, точней, как рак… Глухонемая девочка Анита, Как много горьких мыслей пронеслось. Когда младенческое влажное дыханье И ясное, как божий звук, мычанье Мне ясно озарило жизнь мою! Ты, и не жившая, что знаешь ты о жизни? Не слышавшая этот мир ни разу. Не говорившая на нашем языке. Откуда понимаешь все, что надо? Ты славная, ты вечная догадка, Что в этом нету никакого чуда. Мы с замыслом прекрасным рождены, Но чудо — пронести его до смерти. Добро — внутри. Но страшен мир наружный, И страшен жест ограбленной души. Ладонями прикрытое лицо: Не говорить, не думать, не смотреть!Один жалеет бедняков…
Один жалеет бедняков. Другой детей и стариков. Еще кого-то третий. Да мало ли на свете. Кого жалеть не жалко? А мне моя весталка Твердит: — Бесстрашных жалко!Кудрявая головка…
Кудрявая головка. Упавшая на грудь… Случайная обмолвка Вдруг распахнула суть. Ты засмеялся: «Рыльце Любимое в пушку… Не берегут кормильца На этом берегу». Но по кристаллу жизни Лжи трещина прошла, Так боль за боль отчизны Однажды обожгла. Ты истины виденье С улыбкою отверг. А день, как в дни затменья. Медлительно померк.Воспоминанье об отце, работавшем на фруктовом складе
Это было так давно, Когда я и собачка моя За оркестром бежали по городу. Это было так давно, Когда деревенские гости К нам домой приезжали на лошадях. Это было так давно, Когда летчики над городом Еще высовывались из аэропланов. Это было так давно, Когда женщины в ведрах таскали Урожай дождевой воды. Это было так давно. Когда саранча Еще казалась коричневым кузнечиком. Это было так давно. Когда в жаровнях осени Еще лопались жареные каштаны. И только фруктовые лавки порой. Только фруктовые лавки Тобою пахнут, отец мой.Эгоизм
В великом замысле природы Есть чудо из чудес — глаза! Мы видим небо, зелень, воды. Все расположенное за Пределом нашим. Не случайно Себя нам видеть не дано. Какой тут знак? Какая тайна? Что в тайне той заключено? Другой! Вот поле тяготенья И направления любви. В глазах другого отраженье Твое — найдут глаза твои! Там облик твой порою зыбкий, Порой струящийся, как свет. Живой, мерцающий и гибкий Твой незаконченный портрет. А человек в слепой гордыне Доверил зеркалу свой лик. Чтобы отчетливый отныне Ему служил его двойник. Но, замысел первоначальный Своей же волей истребя. Он в этой четкости зеркальной Лжет, фантазируя себя.Любитель книг
Любитель книг украл книгу у любителя книг. А ведь в каждой книге любителя книг, В том числе и в украденной книге, Говорилось: не укради. Любитель книг, укравший книгу у любителя книг. Разумеется, об этом знал. Он в сотнях своих книг, В том числе и в книгах, не украденных у любителей книг, Знакомился с этой истиной. И авторы этих замечательных книг Умели каждый раз этой истине придать новый, свежий оттенок. Чтобы истина не приедалась. И никто, как любитель книг. Тот, что украл книгу у любителя книг. Не умел ценить тонкость и новизну оттенков. Которыми владели мастера книг. Однако, ценя тонкость и новизну оттенков В изложении этой истины. Он как-то забывал о самой истине. Гласящей простое и великое: — Не укради! Что касается меня во всей этой истории. То я хочу сказать, что интеллигенции Не собираюсь выдавать индульгенции.Вино
У тетушки, бывало, стопку Перед сияющим блином. А легкую печаль, как пробку. Случалось вышибать вином. Все это молодость и младость, И рядом музыка гремит. Подруги юная лохматость И просто к жизни аппетит. И просто розовую чачу На рынке в утреннюю рань. И всю серебряную сдачу Бродяге — промочить гортань. Плод животворного безделья Вино и с гонором хандра. Но страшно позднее похмелье. Коньяк, не греющий нутра. Теперь лишь тем и знаменито Питье, туманящее взор. Что и не нужно аппетита, А надо догасить костер. Жизнь отключающее зелье И впереди и позади. Нет, шабаш черного веселья, Друзья, господь не приведи!Ах, как бывало в детских играх…
Ах, как бывало в детских играх — Зарылся с головой в кустах! И от волненья ломит в икрах, И пахнет земляникой страх! Поглубже в лес, кусты погуще. Чтоб интереснее игра! И вдруг тревогою сосущей: — Меня найти уже пора! И холодеет под лопаткой: — В какие дебри я залез! — Невероятная догадка — И разом сиротеет лес! Ты сам выходишь из укрытья: — А может, просто не нашли? — Какое грустное событие: Игра распалась. Все ушли. …Вот так вот с лучшей из жемчужин Поэт, поднявшись из глубин, Поймет, что никому не нужен. Игра распалась — он один. Под смех неведомых подружек Друзья в неведомом кругу С обычным продавцом ракушек Торгуются на берегу.Моцарт и Сальери
В руке у Моцарта сужается бокал. Как узкое лицо Сальери. Вино отравлено. Об этом Моцарт знал. Но думал об иной потере. Вино отравлено. Чего же Моцарт ждал. На узкое лицо не глядя? В слезах раскаянья и вдребезги бокал, Сальери бросится в объятья? Вино отравлено. Печаль — и ничего. Распахнутые в звезды двери. Взгляд не Сальери прячет от него. Но Моцарт прячет от Сальери. Вино отравлено. А Моцарт медлил, ждал, Но не пронзила горькая услада. Раскаянья рыдающий хорал… Тогда тем боле выпить надо. Все кончено! Неотвратим финал! Теперь спешил он скорбный час приблизить. Чуть запрокинувшись, он осушил бокал. Чтобы собрата взглядом не унизить.Отрезвленье
Чтоб разобрать какой-то опус, Я на пиру надел очки. Мир отвлеченный, словно глобус. Ударил вдруг в мои зрачки. И, отрезвевшею змеею, Я приподнял глаза в очках. Грохочущею колеею Катился пир на всех парах. Остроты злобные, как плетки, И приговоры клеветы. Как бы смердящие ошметки Душ изрыгающие рты. Я оглядел мужчин и женщин Сквозь ясность честного стекла И увидал извивы трещин, Откуда молодость ушла. Вот эту я любил когда-то, А эти были мне друзья. И где тут время виновато. Где сами — разобрать нельзя. Что сотрясало вас, мужчины. Какие страхи пропастей? Нет, эти страшные морщины Не от возвышенных страстей! Что юности сказать могли бы. Покинувшей далекий сруб. Властолюбивые изгибы Вот этих плотоядных губ? Уже вдали, уже отдельно От пережитого всего. Душа печалилась смертельно. Но не прощала ничего. А воздух распадался рыхло, И под уклон катился пир. Я снял очки. Душа притихла. И воцарился горький мир.Ложь
В устах у молодости ложь Или бахвальство в клубах дыма, Не то, чтобы простишь — поймешь, Оно, пожалуй, исправимо. Поймешь застольных остряков И лопоухого позёра. Но лица лгущих стариков. Но эта ярмарка позора, Но этот непристойный дар. Что, как работа, многих кормит… Апоплексический удар. Едва опередивший бормот… За что, за что пытать судьбу Перед вселенской немотою, Когда одна нога в гробу. Канкан отплясывать другою?!Жизнь, нет тебе вовек прощенья…
Жизнь, нет тебе вовек прощенья, За молодые обольщенья. За девичьих очей свеченье. За сон, за ласточкину прыть. Когда пора из помещенья, Но почему-то надо жить С гримасой легкой отвращенья. Как в парикмахерской курить.Неясный звук
Что там? Тревогою мгновенной Неясный звук протрепетал. То человек? Или Вселенной До нас доносится сигнал? Что там? Тоскует мирозданье? Иль ропот совести и зов? То всхлипы тайные страданья Или капели водоклев? Что там? Рыданье или хохот? Шуршанье веток или крыл? (Машины пробежавшей грохот Тот звук неясный перекрыл.) Что там за стенкой шевелится? Сосед? Он спит или не спит? Хрипит, придушенный убийцей, Или, подвыпивший, храпит? Неясный звук! Здесь воля наша Водоразделом пролегла. Весов таинственная чаша Над бездною добра и зла. Не говори потом: — Не предал… Не знал… Понятья не имел… Да, ты не знал! Да, ты не ведал! Поскольку ведать не хотел!Прекрасное лицо миледи…
Прекрасное лицо миледи Нас потрясало неспроста. Оно — намек, что есть на свете Души бессмертной красота. Оно намек, что есть на свете Светящаяся доброта. Сама ж прекрасная миледи Не смыслит в этом ни черта. В ее ногах и в зной, и в стужу, Коленопреклоняясь зря, Влюбленные искали душу. Как пьяницы у фонаря… Несовместимы совершенства: Почти всегда в одной — одно. И на частичное лишенство Живущее обречено. Самой природе перегрузки Не по плечу мильоны лет. В прекрасной мантии моллюска Жемчужин не было и нет. …А он влюбился, бедный малый, Не понимая ничего. Простим, простим, простим, пожалуй. Ошибку дивную его!Баллада о юморе и змее
В прекрасном, сумрачном краю Я юмору учил змею. Оскалит зубки змейка. Не улыбнись посмей-ка! Но вот змеиный юмор: Я всхохотнул и умер. Сказали ангелы в раю: — Ты юмору учил змею, Забыв завет известный, Вовеки несовместны Змея и юмор… — Но люди — те же змеи! — Вскричал я. — Даже злее! …И вдруг зажегся странный свет. Передо мной сквозь бездну лет В дубовой, низкой зале Свифт с Гоголем стояли. Я сжал от боли пальцы: — Великие страдальцы. Всех лилипутов злоба Вас довела до гроба. — Учи! — кивнули оба. и растворились в дымке, Как на поблекшем снимке. Я пробудился. Среди книг, Упав лицом на черновик, Я спал за письменным столом Не в силах совладать со злом. Звенел за стенкой щебет дочки. Но властно призывали строчки: В прекрасном, сумрачном краю Я юмору учил змею…Детство и старость
Не именины и не елки. Не лимонадные иголки. Не сами по себе, не в лоб. Но детства сладостный захлеб. Но тайно льющийся из щелки. Куда прильнули наши челки. Грядущей жизни праздник долгий. Его предчувствия озноб. Порой не так ли — кто ответит? — В глазах у мудрых стариков Грядущей жизни праздник светит, Иль близость кроткий взор приветит Не смерти, что любого метит, — Освобожденья от оков.Суеверие
Что сулят нам в грядущем созвездия. Что гадалки, что кошки, что сны? Суеверие — призрак возмездия Затаенного чувства вины. Бога нет. Но во тьме бездорожия Много странных и страшных примет. Суеверие — вера безбожия. То-то боязно! Бога-то нет.Время
Расплывчатый образ времени Внезапно щемяще и четко Качнулся над старой кофейней Поверх поседелых голов. Где форварды моей юности, Перебирая четки, Перебирают возможности Своих незабитых голов.Когда в толпе с умершим другом…
Когда в толпе с умершим другом Лицо подобьем обожжет, С каким блаженством и испугом В груди сожмет и разожмет! Пусть для тебя еще не вечер. Но кажется, далекий миг Втолкнул и вытолкнул до встречи Космической ошибки сдвиг. Так на вершине поднебесной Альпийским холодом дыша. Почти внезапно бездну с бездной. Пьянея, путает душа. Как дети в радостную воду. Она кидается в обрыв, Как бы вселенскую свободу Еще в земной предощутив!Сходство
Сей человек откуда? Познать — не труд. Похожий на верблюда Пьет, как верблюд. Похожий на оленя Летать горазд. Похожий на тюленя Лежит, как пласт. Что толку бедолагу Жалеть до слез? Похожий на конягу И тянет воз. В броню, как черепаха, Одет иной. Переверни — от страха Замрет герой. А тот стучит, как дятел, В кругу родни. Держу пари, что спятил От стукотни. Качается головка, Цветут глаза. Не говори: — Плутовка. Скажи: — Гюрза! Похожий на совенка Возлюбит мрак. Похожий на ребенка — Мудрец, чудак. Похожий на барана — Баран и есть! Похожий на тирана Барана съест. И в ярости пророка Жив носорог. Когда коротконого Мчит без дорог. Я думаю — живущий Несет с собой Из жизни предыдущей Жест видовой. Остаточного скотства, Увы, черты. Но также благородства И чистоты. Забавно это чудо — И смех и грех. И страшен лишь Иуда: Похож на всех.Элегия
День, угасая на лету. Там на закате колобродит. И горизонт свою черту. Еще условную, проводит. Не потому ли дарит ночь Живому мудрая природа, Чтобы, привыкнув, превозмочь Мрак окончательный ухода? Так друга кроткая рука, Встречая нас в родном предместье. Как бы смягчив издалека Готовит к неизбежной вести. Что смерти черный монумент? Единство времени и места. Но грусти мягкий аргумент Сильней нелепого протеста. Покуда эта грусть свежа, В огнях столиц и в захолустье — Мы живы. Мертвая душа Не ведает вечерней грусти. И потому в закатный час Не обо мне грусти и майся, О жизни, разлучившей нас, Грусти. И грусти не пугайся.В горах Армении
Вдали от гор давно закисли: Размер, стопа. Вверх по тропе в первичном смысле Ступи, стопа. Вокруг армянские нагорья. Легко, светло. Здесь некогда плескалось море. Но истекло. Бог на людей за жизнь без веры, За грех по гроб (Не половинчатые меры) Низверг потоп. Да сгинет лживое, гнилое. Пустой народ! Дабы от праведника Ноя Пошел приплод. О Арарат над облаками. Когда б не ты. Еще бы плавал Ной над нами. Ковчег, скоты. Еще бы плыл и плыл над нами Сквозь хлябь времен. И над ревущими волнами Архангел-слон. Он протрубил у Арарата: — Я вижу брег! Но оказалось, рановато Приплыл ковчег. И сын, возмездию не внемля (Не Сим, но Хам), Привнес на вымытую землю Родной бедлам. Мелькали царства, книги, числа… Кумирни зла. Как бы в огонь — вовек и присно! Как бы дотла! Что человек для человека? О Арарат! Из всех, кого вспоило млеко, Он виноват. Он совесть заменил насущным: Вперед! Вперед! Как будто совесть сам в грядущем Изобретет. Ракеты, космос, книги, числа. Плоды ума. Ветхозаветная зависла Над нами тьма. Покуда в атомном дымище Мир не усоп, Вода, по крайней мере, чище, Я за потоп. И если дело до ковчега Дойдет, как встарь, На борт — не стоит человека. Такая тварь! Мы это чувствуем боками Своей тщеты. О Арарат над облаками. Когда б не ты!Гегард
С грехом и горем пополам. Врубаясь в горную породу, Гегард, тяжелоплечий храм. Что дал армянскому народу? Какою верой пламенел Тот, что задумал столь свирепо Загнать под землю символ неба. Чтоб символ неба уцелел? Владыки Азии стократ Мочились на твои надгробья, Детей, кричащих, как ягнят, Вздымали буковые копья. В те дни, Армения, твой знак Опорного многотерпенья Был жив, Гегард, горел очаг Духовного сопротивленья. Светили сквозь века из мглы И песнопенья и лампада. Бомбоубежищем скалы Удержанные от распада. Страна моя, в лавинах лжи Твои зарыты поколенья. Где крепость тайная, скажи. Духовного сопротивленья? Художник, скованный гигант. Оставь безумную эпоху. Уйди в скалу, в себя, в Гегард, Из-под земли ты ближе к Богу.У ног цветок из камня вырос…
У ног цветок из камня вырос, Склонил тюрбан, С тобою рядом нежный ирис. Бодряк-тюльпан. Там вдалеке внизу отстойник Шумов, речей. А здесь, как молоко в подойник. Журчит ручей. Орел над головой в затишье. Паря, уснул. Крылом, как бы соломой крыши. Чуть шелестнул. Что дом! И слова не проронишь О нем в тиши. Душа, задерганный звереныш. Дыши, дыши. Вот этой тишиной блаженной. Щемящей так. Как будто в глубине Вселенной Родной очаг. Что было первою ошибкой? Где брод? Где топь? Жизнь сокращается с улыбкой, Как в школе дробь. Что впереди? Я сам не знаю… Эдем? Вода? Все та же суета земная Спешить туда. Дыши! Врачуй свои увечья. Но ты молчишь. И стыдно пачкать этой речью Вот эту тишь. И тишина во мне отныне На век, на час. И вопиющего в пустыне Слышнее глас.Светлячок
В саду был непробудный мрак. Без дна, без края. И вдруг летит, летит светляк. Струясь, мерцая. Небесной свежестью дыша, Неповторимо, Как будто мамина душа. Помедлив — мимо. Как будто мамина душа. Сестры улыбка, Внушают нежно, не спеша. Что скорбь — ошибка. Да, да, все там уже, светляк, А мы с тобою, Еще сквозь мрак, еще сквозь мрак, Хоть с перебоем. Ты знак великий и простой. Намек поэту. И даже женственности той. Которой нету. По крайней мере здесь, окрест. Но кем завещан Тебе печально-плавный жест Античных женщин? Кому ты предъявляешь иск, Светясь негромко, За все страданья и за писк В ночи котенка? Но ты летишь из бездны лет, И мнится это: Свое подобье ищет свет. Сиротство света. И все же просквози, продень Сквозь ночь свой разум. Был день (ты гаснешь!), будет день, Ты — служба связи. Не вероломство твой зигзаг. Но мудрость, благо. На миг ты прячешься во мрак От злобы мрака. Чтоб снова вспыхнул, светлячок. Твой теплый абрис. Какой чудесный маячок, Какая храбрость! Сквозь этот хаос мировой, Чтоб мы не кисли, Ты пролетел над головой, Как тело мысли. Но не пойму я, дай ответ Без промедленья. Движенье вызывает свет Иль свет — движенье? Учи, светляк, меня учи. Мне внятно это, Вот так бы двигаться в ночи Толчками света. Ты победил не темноту. Дружок, однако, Ты побеждаешь полноту Идеи мрака.Баллада о народовольце и провокаторе
Я думал: дьявол — черный бог, И под землей его чертог. А на земле его сыны Творят наказы сатаны. Нам дан, я думал, Божий меч. И если надо, надо лечь Костьми за этот горький край, Но, умирая, умирай! И так полжизни нараспах, И я клянусь, ни разу страх Не исказил мои черты. Но молнией из темноты: — Предатель в собственных рядах! И я узнал печальный страх. Да, он сидел среди друзей. Он просто говорил: — Налей! Он пил походное вино. Он чокался, но заодно Он вычислял моих гостей, Сам вычисленный до костей. Полуубийца, полутруп, А был когда-то нежно люб. Я ввел его в ряды бойцов. Которых сбрасывал он в ров. Я ввел его, я виноват. И я отправлю его в ад. Полуубийца, полутруп, Ты был, мне помнится, неглуп. Есть логика в любой борьбе: Будь равным самому себе. Ты, растекавшийся, как слизь. Теперь в петле моей стянись! Когда душа смердит насквозь. Смердите вместе, а не врозь! С невыносимою тоской И проклиная род людской, Я сам раздернул крепкий шелк, Он вытянулся и замолк. Лети! Там ждет тебя твой князь. Лети! Чертог его укрась. …Но дьявол это просто грязь.Огонь
Та молодость уже в тумане. Бывало, радостная прыть. Хоть щелкнул коробок в кармане, А все ж приятней прикурить. Меня вела не сигарета, Но тайная догадка та. Что подымает даже эта Незначащая доброта. От «Беломора» — обеспечен. От «Примы» — что и говорить. Бывало, даже от «казбечин» Мне удавалось прикурить. Иному вроде бы и жалко, Но поделился огоньком. А этот вынул зажигалку И дружбу сотворил щелчком. Спешащего просить — мученье. Здесь смутной истины черты: Тенденция несовмещенья Динамики и доброты. А этот не сказать, что грубый. Но, подавая огонек. Он как бы процедил сквозь зубы: — Быстрей прикуривай, щенок! Тот в поучительных привычках И словно хлопнул по плечу: — Что, экономия на спичках? Прикуривай! Шучу! Шучу! А тот затяжкою подправит Свой огонек, глотая дым. И неожиданно добавит: — Пивная рядом. Сообразим? Ну, вот и сообразили честно И закусили огурцом. Любой хорош. С любым не пресно. Один лицом. Другой словцом. Ах, годы! Горестный напиток! Куда девался без затей Доверчивости той избыток И обожания людей! От любопытства не сгораю, В толпе, включая тормоза. Почти тревожно выбираю Над сигаретами глаза. И сам я молодости глупой, Как битый жизнью ветеран, Сую огонь, уже сквозь зубы Как бы шепча: — Быстрей, болван!Ночная баллада
В ту ночь мне снился без конца неузнанный мертвец И голос говорил: — Пора, там ждет тебя отец. Но почему-то медлил я над трупом молодым. И вдруг я понял: это я. Он трупом был моим. Но он, я посмотрел в лицо, красивей и юней. Ведь я его превосходил живучестью своей. Я нежно приподнял его, я нес его во сне. «Какой он легкий, — думал я, — тяжелое во мне». Внезапно страшно стало мне, не за себя, за мать. Так в детстве страшно было ей на рану показать. «Скорей, скорей, — подумал я, — я должен спрятать труп, В густом орешнике в тени, задвинуть за уступ». Пусть думает, что сын забыл… Не еду, не лечу… Неблагодарность сыновей им все же по плечу. По жизни матери моей (не обошла судьба) Плывут, на люльки громоздясь, жестокие гроба. «Не надо прятать ничего», — мне разум повторял. «Нет! — я шептал ему во сне. — Ты близких не терял». Я пробудился, я лежал среди ночных светил, Рассветный ветер с ледника мне спину холодил. Костер привальный догорал, едва клубился дым. И серебрился перевал под небом ледяным. Там караванный Млечный Путь светил моей душе, А рядом спал товарищ мой с рукою на ружье. Я головешки подтянул, чтоб не бросало в дрожь, И я поверил в этот миг, что есть святая ложь.Тост на вокзале
Давайте жить, как на вокзале, Когда все главное сказали. Еще шампанского бутылку, Юнца легонько по затылку: — Живи, браток, своим умишком И людям доверяй не слишком. А впрочем, горький опыт наш Другим не взять на карандаш. Давайте жить, как на вокзале. Или не все еще сказали? Не чистоплотен человек. В нем как бы комплексы калек. Он вечно чем-то обнесен, Завидуют чуть не с пелен, Должно быть, губы близнеца Губам соседнего сосца. В грядущем населенья плотность Усугубит нечистоплотность. Давайте жить, как на вокзале, И если все уже сказали, Мы повторим не без улыбки: — У жизни вид какой-то липкий. Воспоминанья лучших лет Как горстка слипшихся конфет. Мужчина глуп. Вульгарна баба. Жизнь духа выражена слабо. И отвращенья апогей — Инакомыслящий лакей. Давайте жить, как на вокзале. Когда все главное сказали. Гол как сокол! Легко в дорогу! Уже перепоручен Богу Вперед отправленный багаж. Свободный от потерь и краж!Честолюбие
Как грандиозно честолюбье Порой у маленьких людей. Как нервы истерзали зубья Непредсказуемых страстей! Еще расплывчата за мраком, Еще неясна в чертеже, Тень подвига с обратным знаком. Так подлость торкнулась в душе! Вдруг весть! Такой-то соубийца. Клятвопреступник, имярек! А раньше был, как говорится. Вполне приличный человек. Что он хотел, ничтожный, слабый. Теперь раздетый догола? Значительным побыть хотя бы В самой значительности зла.Святыня
Святыня не бывает ложной, Бывает ложным человек. С чужой святыней осторожней, Не верящий святыням век. Святыня дружбы и семейства, И чаши, из которой пил. Или языческое действо. Как вздох у дедовских могил. Там молятся дубовой роще. Здесь со свечой у алтаря. А где-то рядом разум тощий Язвит молящегося: — Зря! Зачем он простирает лапу, Чтобы ощупать благодать. Когда тысячелетним табу Не велено переступать? Бывает миг! Всего превыше. Когда душа творит сама. Под ритуальное затишье, В смущенной паузе ума. Но есть и злобная гордыня Высокий затоптать закон… Пустыню породит пустыня, Как скорпиона скорпион. Благословляю исцеленье От чревобесия гордынь Святынею уничтоженья Уничтожителей святынь.Душа и ум
Когда теченье наших дум Душа на истину нацелит, Тогда велик и малый ум. Он только медленнее мелет. Душа есть голова ума, А ум — его живая ветка. Но ум порой, сходя с ума, — Я сам! — кричит, как малолетка. Своей гордынею объят. Грозит: — Я мир перелопачу! — И, как безумный автомат. Он ставит сам себе задачу. И постепенно некий крен Уже довлеет над умами, Уже с трибун или со стен Толпа толпе долбит: — Мы сами! И разрушительный разбег Однажды мир передраконит. …Вдруг отрезвевший человек, Схватившись за голову, стонет. Сбирая камни, путь тяжел. Но ум, смирившийся погромщик. Работает, как честный вол, Душа — надолго ли? — погонщик.Памяти Чехова
Он был в гостях и позвонить домой Хотел. Но странно — в памяти заминка. А ощущалось это как грустинка. «Стареем, — он подумал, — боже мой. При чем тут грусть? Грусть — старая пластинка. Какой-то дрянью голова забита. Как редко, кстати, я звоню домой…» И вдруг припомнил — жизнь его разбита.Цветы
И я любил свеченье роз, Бутонов вздернутые пики, Разбросанные после гроз, И сжатый аромат гвоздики. Весна, весна кому не лень Букеты за городом нижет, А одуревшая сирень Сама ломающего лижет. И в вазах жаркие цветы. Недолгие дары вокзалов, Как те хохочущие рты Над светлой влагою бокалов. Какие я букеты вез. Какие девы улыбались! Но чаши царственные роз Как в страшном сне вдруг осыпались. И орхидея на груди. Слегка сладящая, как дынька… Скажу, господь не приведи. Тебя — гниение и линька. Оплот последней красоты Там, над альпийскою тропою, Простые горные цветы, Устойчивые к скотобою.Форели
Не то что б вышел провиант, А так, забавы ради. Принес форелей лейтенант. Поймал на водопаде. К огню присел продрогший гость. Он молод был и весел. Одежду мокрую насквозь Он у огня развесил. Я в руки взял еще живых. Хватавших воздух глоткой. Была приятна тяжесть их. Как тяжесть самородка. Я трогал плавники и хвост. Оглядывал форелей. Вдоль спин, как отраженье звезд, Накрапинки горели. Где тайна этой красоты Прохладной и лучистой? Печать среды? Печать воды Высокогорной, чистой? Одолевая непокой И смутное ненастье, Форель дрожала под рукой, Как вероятность счастья. Удач я в жизни не искал. Но все-таки, но все же Такая ночь, такой привал Иных удач дороже. Зачем мы ехали? Куда? Не помню — и не надо. Но не забуду никогда Ту ночь у водопада. Хребта заснеженный гигант В холодном лунном свете, Тебя, товарищ лейтенант, И три форели эти.Обслуга
Официанту, и шоферу, И слесарю, и полотеру Даем на чай, даем на чай, Мол, на, бери и не серчай! Но тайное сомненье гложет, Догадкой смутною тревожит. Как будто обещал им счастье, А вместо счастья — маргарин. И это чувствует отчасти На чай берущий гражданин. Не потому ли не впервые Берет надменно чаевые И, нас же вывалив, как сор. Стреляет дверцею шофер!Орлы в зоопарке
Орлы, что помнят свои битвы поименно. Дряхлеют за вольерами и спят. Как наспех зачехленные знамена Разбитой армии владельцев небосклона. Небрежно брошенные в склад. Вдруг вымах крыл! Так что шатнулась верба За прутьями. Что вспомнилось, орел? Плеснув, в бассейне вынырнула нерпа, Но зоопарк не понесет ущерба: Кругом железо, да и сам тяжел. Другой срывается на гром аэропорта. Все перепуталось в опальной голове. Он, крылья волоча, шагает гордо. Приказа ждет, а может быть, рапорта. На босу ногу в дачных галифе.Положительные эмоции
Бывает, от тоски сдыхая И ненавистью полыхая К себе и к жизни: тлен и прах! …Долга трамвайная стоянка. Двух эфиопов перебранка. Тьму усугубивших впотьмах. Вдруг, Боже, запах каравая. Звон запропавшего трамвая! Пошло! Пошло! И впопыхах Летит окурок прямо в урну. Как метеор в кольцо Сатурна, Вскочил, и поручни в руках!Определение скуки
Отчаянья девятый вал Подхватывал, бывало, Выныривал, переплывал. Вжимался пальцами в причал. Вновь набегающий смывал — Бултых с причала! Печаль, понятную уму, И грусть вечернюю в дыму Превозмогу, оттаяв. И только скуки не пойму — Страданье негодяев.Минута ярости
Чтоб силу времени придать, Перезавел часы опять, И снова лопнула пружина. Опять бежать к часовщику. Как на поклон к временщику?! Взорвись, замедленная мина! И с этим хвать часы об стол. Я время с треском расколол, Детали к черту разлетелись! Быть может, мы уже в конце, И каменеет на лице Доисторическая челюсть.Память
Поздравить с днем рождения забыл. Потом забыл и самый день рожденья. И вот приносит почта извещенье, Что умер друг. А он его любил. Он плакал одиноко в темноте. О чем? О том, что некогда, когда-то Была забыта маленькая дата. Образовалась щель. И мы не те. Он плакал, но и думал что есть сил О том, что сам он некогда, когда-то Забвением, пускай условной, даты Начало смерти друга положил. И собственного, может быть, конца Началом стала щелочка зиянья. Но эту мысль, и не без основанья. Он не хотел додумать до конца.Слепой
Когда ударит свет в оконце И вскрикнет ласточка в саду, Слепой, проснувшийся от солнца. Глаза откроет в темноту. Что впереди? Давно немолод. Давно впотьмах пустынный зрак. Что зимний день? Там темный холод. Что летний день? Горячий мрак. Но есть любимый сон о детстве: Подсолнух в золотой пыльце И никаких грядущих бедствий… Там свет. И мама на крыльце. Так что ему реальность яви? Сон, что его врачует стон, Он предпочесть не только вправе — Явнее яви его сон. Явней — над этой черной ямой И потому над пустотой, Помедли, свет, помедли, мама, Гори, подсолнух золотой…Ребенок
Первозданною радостью брызни И рассмейся от счастья навзрыд! За невидимой бабочкой жизни По лужайке ребенок бежит. Косолапые эти движенья, Человек, человек, человек! И зеленой земли притяженье. Убыстряющее разбег. Пузырящийся парус рубашки Да кудряшки, и только всего. Верноподданные ромашки Припадают к ножонкам его. И трясется от хохота прядка. Он бежит через лес васильков, И зубов его верхних двойчатка Ослепительней облаков. Никому никакой укоризны, Вздор — сомненья и мелочь обид. За невидимой бабочкой жизни По лужайке ребенок бежит. И земля, улыбаясь на топот, Подстилает траву, как постель. И ступням его шепчет, должно быть: Параллель, параллель, параллель!Когда движения и ветра …
Когда движения и ветра Не обещает небосвод, Беру линейку геометра: Ребенок все-таки растет. Когда на дно влекут ошибки, Смешно сказать, хватаюсь вдруг За полукруг твоей улыбки. Как за спасательный свой круг. Когда просвечивает шейка Яичком, поднятым на свет, Я ощущаю радость шейха, В тени тянущего шербет. Когда я говорю о счастье Вне романтических легенд. Ты, мой глазастик и ушастик, Один, но мощный аргумент. И даже рубашонки вырез Сладчайшим обдает теплом, Ты из нее, играя, вылез Как бы мужающим плечом. И я реку: — Душа телесна, А тело, стало быть, небесно. И может быть, ты в этом весь: Не спахтанная жизнью смесь. Мужай, мужай, ребенок милый. Ты — направление. Я — сила. Фонарик мой в ночном лесу. Ты — свет. Но я тебя несу.Бывает, от дома вдали…
Бывает, от дома вдали Вдруг слышишь — ребенок твой плачет. Неужто его привезли? Но как это? Что это значит? Спросонья тряхнешь головой: Гостиница, койка, усталость… Очнешься, поймешь, что не твой. Но длится щемящая жалость. Что ж! В мире безумных страстей Мы люди, покуда ранимый Нам слышится голос детей, От собственных — неотличимый.Бывает, сын, с детьми играя…
Бывает, сын, с детьми играя. Заметив издали меня, Замрет и смотрит не мигая, А за спиною беготня. Нырнуть в игру или хотя бы На миг рвануться и прильнуть? Ах, с папою или без папы Еще до вечера чуть-чуть! О, этот взгляд, мне душу рвущий. Как бы рассеянный слегка. Неузнающий, узнающий. Издалека, издалека!Свадьба
Уютная зелень, усадьба Стоит у подножия гор. Абхазская гулкая свадьба Выходит столами во двор. Как беркуты, хохлятся старцы. Целую их нежно в плечо. Вы живы еще, ачандарцы. Так, значит, мы живы еще! Хоть сдвинулось что-то, конечно, Чего удержать не смогли. У коновязи небрежно Стоят табунком «Жигули». И кто-то базарит кого-то, И в голосе истая страсть. Разинута крышка капота. Как некогда конская пасть. А рядом топочутся танцы, И ноги стегает подол, И парни, как иностранцы, В ладони: — Хоп! Хоп! Рок-н-ролл! и девушка с глупой ухмылкой Все тянет-потянет баян. А этот танцует с бутылкой, Должно быть, напился, болван. Где гордая скромность чонгури. Где статная стройность парней? Так волны всемирной халтуры Бушуют у наших корней. Моторами мир исскрежещен, И мы устаем без причин От слишком размашистых женщин И слишком крикливых мужчин. Лишь сумрачно хохлятся старцы, И шепчется мне горячо: — Вы живы еще, ачандарцы. Так, значит, мы живы еще! Что делать? Эпохи примету. Глотаю бензинный дурман. Но только не музыку эту. Не этот на пузе баян!Жалоба сатирика по поводу банки меда, лопнувшей над рукописью
Возясь с дурацкой ножкою комода, На рукопись я скинул банку меда. Мед и сатира. Это ли не смелость? Но не шутить, а плакать захотелось. Расхрустываю клейкие листочки. На пальцы муравьями липнут строчки. Избыток меда — что дерьма достаток. Как унизительны потоки этих паток! (Недоскребешь, так вылижешь остаток.) Что псы на свадьбе! Нечисть и герои. Достойные, быть может, новой Трои, Заклинились, замазались, елозя! И скрип, и чмок! Как бы в грязи полозья. Все склеилось: девица и блудница. Яичница, маца, пельмени, пицца… А помнится… Что помнится? Бывало, Компания на бочках пировала. Ах, молодость! Особенно под утро Дурак яснеет, отливая перламутром. Цап индюка! И как баян в растяжку! И в гогот закисающую бражку! Я струны меж рогами козлотура Приструнивал, хоть и дрожала шкура, Вися между рогов на этой лире. Без сетки предавался я сатире. Сам козлотур заслушался сначала. Он думал, музыка с небес стекала. Радар рогов бездонный этот купол С тупою методичностью ощупал. Потом все ниже, ниже, ниже, ниже… (Я хвастаюсь: влиянье сладкой жижи.) Засек… Счесал… И ну под зад рогами! Как комбикорм, доносы шли тюками! Смеялся: — Выжил! Горная порода! — Вдруг шмяк — и доконала банка меда. Противомедья! Яду, Яго, яду! Но можно и коньяк. Уймем досаду. (Он тоже яд по нынешнему взгляду.) В безветрие что драться с ветряками? Костер возжечь неможно светляками. Швыряю горсть орехов на страницу. Мой труд в меду, сладея, превратится В халву-хвалу, точнее, в козинаки. Хрустящие, как новые гознаки. О господи, зачем стихи и проза? Я побежден. Да здравствует глюкоза! Но иногда…Талант
Явленье нового таланта Благословляем наперед. В нем радость юного атланта. О, как он далеко пойдет! О нем мы судим без усилий По храброй доброте лица, По звону струнных сухожилий, Не понимая до конца. Что уязвимы все таланты Самой открытостью чела. Страшнее лагерной баланды Туманная реальность зла. Тебя блондинка изувечит Или издательская мышь. И все-таки лети, мой кречет. Хоть от судьбы не улетишь!Юность
Где луг во всем великолепье И василеют васильки, Где росчерк ласточки на небе Быстрее пушкинской строки? Где ветер свежий и упругий, Как первый с грядки огурец? Струились волосы и руки. Дождь заструился наконец. Где облик девушки и цапли И под сосной веселый страх. Где холодеющие капли На лбу, на шее, на зубах? Где звон посуды на веранде После прогулки и дождя. Где легкий разговор о Данте Или о странностях вождя? Где круг друзей-единоверцев И споры, споры — грудью в грудь? Где с водкой чай, где шутка с перцем. Но не обидная ничуть? Где взрывы смеха на веранде И жажда честной новизны, Где вариант на варианте Всемирных судеб и страны? Где все, кого потом утрачу (Еще юны, еще легки!), Где друг, оставивший нам дачу И укативший в Соловки? Где этот дух, где этот запах. Где этот смех, где этот вздох, Где ты, как яблоко, в накрапах. На переломе двух эпох?Ода всемирным дуракам
Я кризиса предвижу признак И говорю: — В конце концов Земле грозит кровавый призрак Переизбытка дураков. Как некогда зерно и кофе, Не топят дурака, не жгут. Выращивают на здоровье И для потомства берегут. Нам демонстрируют экраны Его бесценный дубликат, И в слаборазвитые страны Везут, как полуфабрикат. Крупнокалиберной породы Равняются — к плечу плечо, А есть на мелкие расходы. Из местных кадров дурачье. Их много, что в Стамбуле турков. Не сосчитать наверняка. А сколько кормится придурков В тени большого дурака! Мы умного встречаем редко. Не встретим — тоже не беда. Мыслитель ищет, как наседка Не слишком явного гнезда. Зато дурак себя не прячет. Его мы носим на руках. Дурак всех умных одурачит, И умный ходит в дураках. Дурак — он разный. Он лиричен, Он бьет себя публично в грудь. Почти всегда патриотичен, Но перехлестывает чуть. Дурак отечественный, прочный. Не поддается на испуг. А есть еще дурак побочный. Прямолинейный, как бамбук. Хвать дурака! А ну, милейший. Дурил? Дурил. Держи ответ. Вдруг волны глупости новейшей Накрыли, смыли — наших нет. Бессильна магия заклятья. Но красной тряпкой, как быков. Великолепное занятье Дразнить всемирных дураков!Гневная реплика бога
Когда возносятся моленья. Стараясь небо пропороть: — Прости, Господь, грехопаденье. Чины, гордыню, зелье, плоть… Теряет вдруг долготерпенье И так ответствует Господь: — Вы надоели мне, как мухи! От мытарей спасенья нет! Ну, ладно бы еще старухи. Но вам-то что во цвете лет?! Я дал вам все, чем сам владею. Душа — энергия небес. Так действуйте в согласье с нею Со мною вместе или без! Не ждите дармовых чудес. Я чудесами не владею! У нас по этой части бес. Душа — энергия небес. Тупицам развивать идею Отказываюсь наотрез!Русский язык
Когда фанатик-словоблуд Дал тезис черни: бить лежачих! В халтуру выродился труд И стало подвигом ишачить. Когда рябой упырь народ Распял, размазал сапогами. Растлил, как женщину, урод. Под нары затолкав пинками. Когда морозный нашатырь Бил прямо в зубы за Уралом, Народ в телятниках в Сибирь Валил, валясь лесоповалом… Среди загаженных святынь Кто не признал холопских лямок. Кто встал твердынею твердынь? Дух языка, воздушный замок! Какое диво, что сатрап Не охамил твои чертоги. Народу в глотку вбивший кляп С тобой не совладал в итоге! Цитатки, цыканье, цифирь. Как сатанинское обличье. Кровосмесительный пузырь. Лакейское косноязычье! А что народ? И стар и мал. Растерзанный и полудикий, У репродуктора внимал Камланью грозного владыки. Язык! Как некогда Господь Под этим грустным небосводом, Животворя и сушь и водь, Склонись над собственным народом. Всей мощью голоса тебе Дано сказать по праву, Отче: — Очухайся в дурной гульбе. День Божий отличи от ночи! Иначе все! И сам язык Уйдет под чуждые созвездья. Останется животный мык За согреховное бесчестье! …Когда-нибудь под треск и свист Родную речь эфир означит. В мазуте страшный тракторист. Не зная сам чему, заплачет.Возвращение
Мне снилось: мы в Чегеме за обедом Под яблоней. А мама рядом с дедом В струистой и тенистой полосе. Жива! Жива! И те, что рядом все: Дядья и тетки и двоюродные братья. На бедной маме траурное платье. О мертвых память: значит, это явь. Дымится мясо на столе и мамалыга, (Кто в трауре, тот жив — точна улика!) И горы зелени и свежая аджика. А брат кивает на нее: — Приправь! Кусок козлятины, горячий и скользящий. Тяну к себе, сжимая нежный хрящик. И за аджикой. Но козлятины кусок Вдруг выскользнул и шмякнулся у ног. Как в детстве не решаюсь: брать? Не брать? — Бери, бери! — кивнул все тот же брат, — Здесь нет микробов… — Замер виновато И покосился на второго брата. Но почему? Догадкою смущаюсь И чувствую: плыву, плыву, смещаюсь. И лица братьев медленно поблекли. И словно в перевернутом бинокле. Себя я вижу чуть ли не младенцем. А рядом мама мокрым полотенцем Отвеивает малярийный жар. Мне так теперь понятен этот дар! Сладящая, склонившаяся жалость. Там на земле от мамы мне досталась. Там утро новое и первый аппетит, И градусник подмышку холодит. Там море теплое! Я к морю удираю, С разбегу бухаюсь и под скалу ныряю. Вся в мидиях скала, как в птичьих гнездах. Выныривай, выпрыгивай на воздух! Ногой — о дно и выпрыгни, как мяч! Спокоен берег и песок горяч. Домой! Домой! Там мама на пороге Меня встречает в радостной тревоге: — Ты был?.. — Молчу. Чтоб не соврать, молчу я. Полулизнет плечо, полуцелуя. И эта соль и эта боль сквозная — Вся недолюбленная жизнь моя земная! Тогда зачем я здесь? Зачем? Зачем? Во сне я думаю… А между тем Второй мой брат на первого взглянул, И ярость обозначившихся скул Была страшна. И шепот, как сквозняк, Беззвучно дунул: — Сорвалось, тюфяк! Я пробудился. Сновиденья нить Распутывая, понял: буду жить. Без радости особой почему-то. Но кто сильней любил меня оттуда. Не знаю я. Обоим не пеняю. Но простодушного охотней вспоминаю. Он и аджику предложил, чтоб эту местность Я подперчил и не заметил пресность.Жизнь заколодило, как партия в бильярд…
Жизнь заколодило, как партия в бильярд В каком-нибудь районном грязном клубе. Здесь на земле давно не нужен бард, А мы толчем слова, как воду в ступе. И все-таки за нами эта твердь И лучшая по времени награда: Для сильной совести презрительная смерть Под натиском всемирного распада.Язык
Не материнским молоком, Не разумом, не слухом, Я вызван русским языком Для встречи с Божьим духом. Чтоб, выйдя из любых горнил И не сгорев от жажды, Я с ним по-русски говорил, Он захотел однажды.Опала
Еще по-прежнему ты весел И с сигаретою в зубах Дымишь из модерновых кресел Во всех присутственных местах. Еще ты шутишь с секретаршей И даришь ей карандаши. Но сумеречный призрак фальши Колышется на дне души. Еще в начальственном обличье Ничто и не сулит беду, Но с неким траурным приличием Тебе кивнули на ходу. Еще ты ходишь в учрежденье, Еще ты свойский человек. Но желтой лайкой отчуждения Стянуло головы коллег. И тот, кого считал ты братом, С тобой столкнувшись невзначай. Как бы кричит молчащим взглядом: — Не замарай, не замарай! И как там стойкостью ни хвастай, Прокол, зияние в судьбе. Зрак византийский государства Остановился на тебе.Хорошая боль головная…
Хорошая боль головная С утра и графинчик на стол. Закуска почти никакая. Холодный и свежий рассол. Ты выпил одну и другую Задумчиво, может быть, три. Гармония, боль атакуя. Затеплится тихо внутри. И нежность нисходит такая. Всемирный уют и покой. Хорошая боль головная Избавит тебя от дурной!Народ
Когда я собираю лица, Как бы в одно лицо — народ, В глазах мучительно двоится. Встают — святая и урод. Я вижу чесучовый китель Уполномоченного лжи. Расставил ноги победитель Над побежденным полем ржи. Я вижу вкрадчивого хама. Тварь, растоптавшую творца. И хочется огнем Ислама С ним рассчитаться до конца. Но было же! У полустанка В больших, разбитых сапогах Стояла женщина-крестьянка С больным ребенком на руках. Она ладонью подтыкала Над личиком прозрачным шаль. И никого не попрекала Ее опрятная печаль. Какие-то пожитки в торбе И этот старенький тулуп. И не было у мира скорби Смиренней этих глаз и губ. …А Русь по-прежнему двоится, Как и двоилась испокон. И может быть, отцеубийца Такой вот матерью рожден.Высота
В необоримой красоте Кавказ ребристый. Стою один на высоте Три тыщи триста… В лицо ударил ветерок. Так на перроне Морозные коснулись щек Твои ладони. Почти из мирозданья вдаль Хочу сигналить: — Ты соскреби с души печаль. Как с окон наледь. Карабкается из лощин На хвойных лапах Настоянный на льдах вершин Долины запах. Толпятся горы в облаках, Друг друга грея, Так дремлют кони на лугах, На шее — шея. Так дремлют кони на лугах, На гриве — грива. А время движется в горах Неторопливо. Вершину трогаю стопой, А рядом в яме Клубится воздух голубой. Как спирта пламя. Нагромождение времен. Пласты в разрезе. Окаменение и сон Всемирной спеси. Провал в беспамятные дни, Разрывы, сдвиги. Не все предвидели они — Лобастых книги. Но так неотвратим наш путь В любовь и в люди. Всеобщую я должен суть С любовной сутью Связать! Иначе прах и дым Без слез, без кляуз. Так мавром сказано одним: — Наступит хаос. Связать! Иначе жизни нет. Иначе разом Толчок! И надвое хребет Хребтом Кавказа.Король кафе «Националь»
Он был воинственный гуляка. Широкошумный, как рояль, И как бы нации во благо Любил кафе «Националь». По части душ — свиданье в шесть. По части груш — всегда «дюшес». По части вин — «Киндзмараули». Он царственно сидел на стуле, Его цитаты орошал Всегда наполненный бокал. Он был, как дьявол, остроумен, И сколько б за ночь ни лакал. Хранил, как монастырь игумен, Высокой шутки идеал. Остротой сжатой, как депешей. Он обменяться мог с Олешей. Порою деньги занимая, Он важно говорил: — До мая! Я прогорел, как мой роман. И рифмовал «Кармен — карман». Застольцев временно покинув, Переводил родных акынов: Арык, балык, рахат-лукум. Канал в пустыне Каракум… О, аксакал! О, саксаул! Конец! В парную, как в загул! Поэт, философ и фантаст. Он был в дискуссиях клыкаст. Но в поисках единоверца То разум возвышал, то сердце. А надо бы сменить местами… Что знаем о себе мы сами? Ах, если б крикнуть: — Рокируйся! И можно партию спасти! В ответ из времени: — Не суйся! Я партию держу в горсти! Фигуры сметены. Цейтнот. Старик меня не узнает. Полубезумный и неловкий Трясет кошелкою в столовке. Многосезонное пальто. И с губ срывается: — За что? Где тот блистательный двойник, Жизнь понимавший, как пикник?! Глагол времен! Шумит река! Я обнимаю старика. Стою на том же берегу, Хочу понять и не могу: Зачем свиданья ровно в шесть И тающий во рту «дюшес»? Зачем один и тот же столик И смех скептический до колик? Зачем кафе «Националь» И гегельянская спираль? Где все? Где максимы? Где вирши? Есть пулеметный взгляд кассирши И дважды пригвожденный бред: Нарзан и комплексный обед.За то, что верен мой союз…
За то, что верен мой союз С тобою, Пушкин или Тютчев, За то, что мягок, да не гнусь, За то, что тверд, хоть и уступчив. За то, что с душащим сукном. Со мной сквозь зубы говорящим. Не сговорился ни о чем Перед затменьем предстоящим. За то, что мягок, да не гнусь. За простодушие поэта. Меня убьют, но я клянусь, Хотел сказать совсем не это. Душа реальна. Вот мой дом. И потому меня живьем Никто не взял, не сжал, не скрючил. Идею чести целиком Я в этом мире ледяном На жизнь, как шапку, нахлобучил.Мысль действие мертвит…
Мысль действие мертвит. Так Гамлет произнес. Страны мертвящий вид — Под мерный стук колес. Где свежесть сельских вод? Где ивовая грусть? Где девок хоровод? И прочее, что Русь? Виною сатаны Или вина виной — Последний пульс страны Пульсирует в пивной. Здесь мухи, муча глаз. Должно быть, на века Гирляндами зараз Свисают с потолка. Здесь редкий выкрик: — Па! Прервет отца, — не пей! Целую ясность лба Белесых малышей. Так обесчадил край. Так обесчудел век. И хлеба каравай Черствей, чем человек. Мысль действие мертвит. Так Гамлет произнес. Страны мертвящий вид Под мерный стук колес. И видит Бог, увы. Нет сил сказать: — Крепись! Мы в действии мертвы. Так где же наша мысль?Когда дряхлеющее зло…
Когда дряхлеющее зло Не пальцами, так вонью душит. Когда до горла подошло И даже выше — нёбо сушит… Когда страна, хоть в крик кричи. Молчит безмозглая громада, И перекликнуться в ночи Уже и не с кем и не надо… Когда та женщина в тиши Тебя убийцам предавала, Неисчерпаемостью лжи Твой воздух жизни исчерпала… Когда твой бывший друг тебя (Любитель Генделя и Баха), Струей лакейскою кропя, Сквернил, как осквернитель праха… Когда жаровней адской жгут Обид твоих ожесточенье. Но долг Господний, долгий труд. Терпенье, говорит, терпенье… Меч правосудья отложи До срока, без угроз, без жалоб. Но самому себе скажи: — Пожалуй, выпить не мешало б…Грипп
Н. Н. Вильмонту
Тошнит от самого себя, От мыслей давних, от привычек. От сигарет сырых, от спичек, Точней — от самого себя Тошнит. Я слышу в тишине: Вот подползает, вот подперло… На улицу! Пальто, кашне Тошнотно облегает горло. Вещает на стене плакат: Падеж скота, какой-то ящур. И очередь, как в дни блокад, — Все что-то ищут, рыщут, тащат. Опять разрыли тротуар. Все тянут, не протянут кабель. Какой-то вар, какой-то пар… То оттепель, то снегопадаль. Бедлам горсправки: позвонить. Сан. уз. и масса обольщений. Соединить, разъединить Обломки кораблекрушений. И вдруг, как пошлости обвал, Как непристойность на кладбище: Болван собачку потерял. Полгорода собачку ищет! Толпою давится метро. Потом выблевывает где-то. И содрогается нутро. Я думаю: к чему все это? То оттепель. То гололед. И вдруг поймешь всем нездоровьем. Что воздух болен белокровьем. Сама материя гниет! Гниет сопливая зима. Не снег, а грязное повидло. И трется не народ, а быдло… О Господи, сойти с ума! О Господи, как все обрыдло!Наследник
Был знак великий над Россией, Но незамеченный прошел. Юнец, больной гемофилией, — Ему ли предстоит престол? Он знаком был, ребенок хилый, Полупрозрачный, как янтарь. Над ним берлинское светило Склонил лечебный календарь. Но не было того лекарства У слабого царя в руке. И не дитя, а государство Уже висит на волоске. Он знаком был, ребенок милый, Что надо загодя народ Готовить, старого кормила Предупреждая поворот. Кто знал? Лишь речи в перепонки, Где каждый каждого корит. Дурная мать заспит ребенка. Дурной отец заговорит. Под этот говор дремлет барство Иль в табор мчит на рысаке. И не дитя, а государство — На волоске, на волоске… И рухнуло! За кровь в подвале, За детскую, за всю семью — Мы долго, долго проливали Безостановочно, свою. Мы долго, долго истекали Безостановочно, своей. Об этом ведали едва ли В стране теней, в стране теней… Когда под вышками дозорных Мы перекраивали край. Лишь с криком души беспризорных Влетали в уплотненный рай. Вот что однажды, над Россией Застенчивой звездой взойдя. Стране, больной гемофилией, Больное предрекло дитя. Не европейскою наукой. Не азиатской ворожбой. Но только покаянной мукой Мы будем спасены судьбой.Сельский юбиляр
Как будто выкрик: — К стенке! К стенке! И в клубе грозовой угар! Над кумачом слепые зенки Слепой таращил юбиляр. Его товарищ-однолетка, Почти в падучей ветеран, Кричал со сцены о разведке, О рубке красных партизан. Там весело гуляла злоба. Там юбиляр вздымал камчу. Там целовал его Лакоба, И Коба хлопнул по плечу! Но юбиляр тому накалу Всем обликом не отвечал. Он ни оратору ни залу, Чему-то своему внимал. Чему? С мучительной гримасой, Сквозь окончательную тьму, Что видел юбиляр безглазый — Свет, что обещан был ему? Ему обещанный когда-то И им обещанный другим. Что наша слепота — расплата За то, что, зрячие, не зрим? К окну склоняясь поминутно. Он словно выходил на след Какой-то мысли… Смутно, смутно Лицом нащупывая свет. А за окном платан могучий. Смиряя кроной летний жар. Вдруг закипал листвой кипучей, И это слышал юбиляр. Казалось, новым ослепленьем Положен старому предел. Как будто, став полурастеньем. Он свет единственный узрел.Утраты
Памяти Юрия Домбровского
Какие канули созвездья, Какие минули лета! Какие грянули возмездья, Какие сомкнуты уста! Какие тихие корчевья Родной, замученной земли. Какие рухнули деревья. Какие карлики взошли! Отбушевали карнавалы Над муравейником труда. Какие долгие каналы. Какая мелкая вода! Расскажут плачущие Музы На берегах российских рек. Как подымались эти шлюзы И опускался человек. И наше мужество, не нас ли Покинув, сгинуло вдали. Какие женщины погасли. Какие доблести в пыли! А ты стоишь седой и хмурый: Неужто кончен кавардак? Между обломками халтуры Гуляет мусорный сквозняк.Истерика
Ты знал — та женщина, конечно, не права. Но ты в кусты ушел от передряги. Неужто истина и правда — трын-трава? Чего боялся ты? Психической атаки? И то сказать! Здесь дрогнет и герой И в ужасе замрет, немой и кроткий, Когда низринется весь хаос мировой Из пары глаз и судорожной глотки. …Философ, впрочем, говорил о плетке.Беседа со слепым, или любовь к истине
Мы оказались рядом с ним у рощи на скамье. — Я загорел? — спросил слепой, и стало стыдно мне. Он продолжал ловить лицом лучей нежаркий жар. — Вы загорели, — я сказал, — и вам идет загар. — Как вы успели? — я польстил, — весна еще вот-вот… — К слепому солнце, — он в ответ, — сильнее пристает. И горделиво на меня он повернул лицо. А я подумал: мой слепой успел принять винцо. — С наукой не вполне в ладу, — я осмелел, — ваш взгляд. Сказал и ужаснулся сам за слово невпопад. Он не ответил ничего, ловя лицом лучи, Потом на рощицу кивнул и — вздох: — Галдят грачи… Замолк, руками опершись на палочку свою. И вдруг добавил: — Жизнь есть жизнь. Я, знаете, пою. Послушайте, как я пою, чтоб оценить мой дар. Неужто здесь?! — А он в ответ: — У входа на базар… Так вот, — сказал я (про себя), — откуда ваш загар.Памяти Высоцкого
Куда, бля, делась русска нация? Не вижу русского в лицо. Есть и одесская акация. Есть и кавказское винцо. Куда, бля, делась русска нация?! Кричу и как бы не кричу. А если это провокация? Поставим Господу свечу. Есть и милиция, и рация, И свора бешеных собак. Куда, бля, делась русска нация? Не отыскать ее никак. Стою, поэт, на Красной площади. А площади, по сути, нет. Как русских. Как в деревне лошади. Один остался я. Поэт. Эй, небеса, кидайте чалочку. Родимых нет в родном краю! Вся нация лежит вповалочку. Я, выпимши, один стою.Я не знал лубянских кровососов…
Я не знал лубянских кровососов; Синеглазых, дерганых слегка. Ни слепящих лампами допросов, Ни дневного скудного пайка. Почему ж пути мои опутав, Вдохновенья сдерживая взмах, Гроздья мелкозубых лилипутов То и дело виснут на ногах? Нет, не знал я одиночных камер И колымских оголтелых зим. Маленькими, злыми дураками Я всю жизнь неряшливо казним. Господи, все пауки да жабы. На кого я жизнь свою крошу. Дай врага достойного хотя бы, О друзьях я даже не прошу.Недопрорыться до Европы…
Недопрорыться до Европы, Недоцарапаться до дня… Так под завалом углекопы Лежат, маркшейдера кляня. Что им маркшейдер большелобый. Что чужедальняя весна? Как под завалом углекопы, Лежит огромная страна. Не задохнуться! Это было! Не задохну… Сочится газ… Хватай же, как рукой перила, Ртом этот воздух каждый раз Сухой, как сталинский приказ!Ненапечатанная повесть…
Ненапечатанная повесть — Я вырвал на рассказ кусок! И смутно торкается совесть, И на зубах хрустит песок. За что? Я не смягчил ни строчки. Но зябко оголился тыл. Как будто хлеб у старшей дочки Отнял и сына накормил.Послеатомный сон
Кажется, цел небосвод. Но не уверен, не спорю. Тихо и страшно плывет Айсберг по Черному морю. Некто последний, один. Машет руками нескладно. Над полыньей среди льдин. Что в полынье? Непонятно. Хохот безумца и страх Душу во сне сотрясает. Дочь его с рыбой в зубах Из полыньи выползает.Человек цепляется за веру…
Человек цепляется за веру, Как за ветку падающий вниз, И когда он делает карьеру, И когда над бездною повис… Человек цепляется за веру. Вечно ищет и искать готов Темную и теплую пещеру В каменной пустыне городов. Он за веру держится, условясь Жить как люди… Только б не чудить. Только б несговорчивую совесть Богу веры перепоручить. Человек цепляется за веру. Безразлично, эта или та. Страшно людям оживить химеру, Но еще страшнее пустота. Верующих вечная забава… Не хватает палок и камней… От меня направо и налево Струи человеческих страстей. И стучит отзывчивая палка. Иноверец падает, хрипя. Верующим бить его не жалко. Потому что бьют не от себя. Человек цепляется за веру, Держится пока что до поры, Потому и можно изуверу Зажигать высокие костры. И пока он держится за веру И готов ей праведно служить. Тихий дьявол возжигает серу. Потирает руки: — Можно жить…Поэту
Взгляд в долину с горы погружать: Благодать, благодать, благодать. Из сует выпадай, выпадай И в природу, как в детство, впадай. Электрический — сколько ватт? — Взгляд у ястреба звероват. Струи ив над струением вод. Дева-иволга влажно поет. Но на дуб, вопиющий от ран, Обернись, как араб на Коран. Чтоб из глаза соринку извлечь. Нужен дружеский глаз, а не меч. Не нужны доброте кулаки, А нужны доброте кунаки. Но от славы (помои в упор!) Уклонись, как хороший боксер. Руку павшему дай и молчи. Сам отчаяньем — не дотопчи. Приблизительность, нечто, туман — Для художника страшный капкан. И невольно ложится на лист: Победивший романтик — фашист.Определение поэзии
Поэт, как медведь у ручья. Над жизнью склонился сутуло. Миг! Лапой ударил с плеча. На лапе форель трепетнула! Тот трепет всегда и везде Лови и неси сквозь столетья: Уже не в бегущей воде. Еще не в зубах у медведя!Натруженные ветви ломки…
Натруженные ветви ломки. Однажды раздается хруст. Вот жизнь твоя, ее обломки Подмяли ежевичный куст. Присядь же на обломок жизни И напиши еще хоть раз Для неулыбчивой отчизны Юмористический рассказ.Летний лес
Здравствуй, крона вековая до небес! Здравствуй, временем непролитая чаша! Летний лес, птичий лес, вечный лес — Это молодость моя или наша? Начинаются и шорох, и возня Где-то в сумраке зеленом, в тайных гнездах. Словно капли дождевые, щебетня Сквозь мерцающий, пульсирующий воздух. Переплеск, перестук, перелив… Я мелодию угадываю все же: — Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив! — И я тоже! И я тоже! И я тоже! Дикий голубь, зимородок, соловей… Я прошу тебя, лесное бездорожье. Ты печаль мою трамвайную развей! Все мы были и юнее и моложе. Переплеск, перестук, перелив. Голос птицы родниковый и глубокий: — Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив! Брызжет с веток и охлестывает щеки. Это песня широты и доброты. Небо есть. Солнце есть. Так чего же? — Ну а ты? Ну а ты? Ну а ты? — Я не знаю… Ну, конечно… И я тоже.В больнице
Памяти Д. К.
Послушайте, не говорите «бред!». Еще не поздно позвонить ОРУДу. Водитель гонит на зеленый свет, И красное разбрызгано повсюду. Нет, не нарочно гонит. Не назло! Он заболел, он должен быть уволен! Меня догадкой сразу обожгло, Я только посмотрел и вижу: болен! Но у него отличнейший бензин. Да и в запасе целая канистра. Он выжимает километров триста! Мне страшно за доверчивых разинь! Остановить и отобрать права! Дальтоник он! Он не имеет права! Вас минуло, так не расти трава?! Очередная сплетня и забава?! Там, где цвета не могут различать. Запомните, не будет исключенья, А крови цвет имеет ли значенье Там, где цвета не могут различать? Ведь не годится для таких затей Он, человек устроен слишком хрупко. По городу грохочет мясорубка… Но главное — предупредить детей. Остановить! Дать знать издалека! Иначе, дурень, врежется с разбега! Нет, нет! Не бить! Не подымается рука. Жестоко бить больного человека. Ну хорошо. Не столковались мы. Я буду здесь стоять, как столб дорожный. По крайней мере, будьте осторожны. Сограждане, особенно с детьми… Но что это? Рассвет? Зеленый свет… Сестра, простите, я сорвал повязку, Я болен, доктор? Лихорадка? Бред? Простите, доктор, это неувязка… Но главное — предупредить детей.На ночь
И, отходя ко сну в тиши. Вздохнуть и прочитать, расслабясь. Всех помыслов дневных души Непредсказуемую запись. И молвить, счастье затая. Оценивая день свой в целом: — Сегодня, слава богу, я Особых глупостей не сделал.Остроумие
— В чем остроумия природа? — Души внезапная свобода. «Меня, — кричит нам, — изреки», — И, словно рыба из реки, Выпрыгивает с языка На радость нам и остряка! — А вот наш друг к нам ходит в гости, Он остроумен только в злости. В чем остроумия секрет. Верней, чем пыл его согрет? — Вот вам ответ, если угодно: Во зле душа его свободна!Вавилон
И я любил веселый грохот Дымящих, как вулкан, пиров. И смех, переходящий в хохот, Землетрясенье животов. Небезуспешные потуги Юнца, задиры и враля. Попасть в объятия подруги. Отталкиваясь от Кремля. Порой насмешливая лира За горечь молодых утрат Дотягивалась до кумира, Но и кумир давал под зад. Не голос праведный с амвона И не молящиеся лбы, Свалили башню Вавилона Захохотавшие рабы. Что делают вавилоняне? Обломки башни продают Или, как добрые славяне. Усевшись на обломки, пьют. И рассуждают об эпохе, О славе башни говорят: — А было все-таки неплохо. Когда кумир давал под зад. Да и куда глаза корячить. Когда грядущее темно. И глупо дураков дурачить. Смеяться стало несмешно. Веселью с грохотом и стуком — Заткнись, — кричу, — не до забав! Блаженство — с выключенным звуком. Башкой к столешнице припав… И если веры остается Последний, маленький оплот — Не в тех, кто все еще смеется. Скорее в тех, кто молча пьет И думает: не глас с амвона И не молящиеся лбы. Свалили башню Вавилона Захохотавшие рабы. Восстаньте, города и пашни, Чтобы избыть вселенский грех: И глупость вавилонской башни, И этот вавилонский смех!Монолог старого физика
Склероз бывает благородный. Душе таинственно угодный. Забылась, слава богу, каста. Мой мозг, и это не секрет. Освободился от балласта Всех баллистических ракет. Я не находка для шпиона, Скорей подпорка для пиона. Не помню меры своей лепты: Все формулы ушли в рецепты. Да, в наше время каждый физик Был в дамском обществе маркизик… Как там? Де Сад? Или Садко? Чтобы ходить недалеко. Сейчас в науке рубят суку. На коей двигали науку. Науку опустили в люк. Должно быть, бериевский трюк. К чертям! Податься бы на юг! Но некуда. По слухам, балты Отгородились вплоть до Ялты. Нельзя сказать народу: — Мал ты! Но и нельзя сказать: — Велик ты! Все это, знаете, реликты. Народ отнюдь не богоносец. Ему вредна такая лесть. Другое дело — богопросец — Такому и окажем честь. Но актуальнее сейчас «Критическая масса» масс. Народ не радует реформа Без ясной формулы прокорма. Хранят ее какие сейфы? Напрасно дразните гусей вы! Пейзаж России после битвы, Хотя снега не замели, Понять возможно, если кит вы Или китиха на мели. А что же, если вы не кит? Просить у Запада кредит? Или с дистанции ума Сойти, но не сойти с ума? Все это значит — сильный ум Устал быть пулею дум-дум. …Я видел на экране Думу, Как бы умов народных сумму. Но Менделеева таблица Лишь одному могла присниться. Вот ключик к этому замочку: Всяк думающий — одиночка. Стал забывать среди людей Сначала имена вождей. Потом начальников своих. Как звать его? Или как их? Иван Иваныч или как там? А ведь встречались позже как-то. Он все переходил на спич И зажигался, словно спичка. Он был начальник-невеличка. Ну как его? Иван Ильич? А может быть, Илья Иваныч? Мне вредно напрягаться на ночь. Был в наше время в моде Беккет. Теперь другой. Какой-то Рэкет В любом киоске, говорят. Опасный автор для ребят. Сулят такие тиражи Неслыханные мятежи! Тем более турецкий курд Готовит мировой абсурд.Фонарик
Покидая этот шарик.
Исчезая вдалеке. Храбрый, маленький фонарик Хорошо зажать в руке. Где же взять этот целебный Храбрый, маленький фонарь. То ли сказочный, волшебный. То ли Божий инвентарь? Надо в жизни и при жизни Заработать на него. Свет погас. Фонарик, брызни! И не страшно ничего!Причины
Разбойники разбой чинили, Чинили перья писаря, Мостовщики мосты чинили Для войска грозного царя. Так душегубов подчинили И суд суровый учинили Над главным — в чине бунтаря. Но слухи о его кончине Преувеличивали зря. Он выжил и в другой личине Предстал причиной Октября!Взгляните на небо…
Взгляните на небо: Погода какая! Купите мне хлеба — Цена небольшая. Купите мне кофе Бразильский, бразильский! У нас на Голгофе Такие изыски. Бутылку сухого Для пиршества строчек. Но можно любого И брынзы кусочек. Звоните в контору, Скажите, мол, болен. Тот самый, который Еще не уволен. А вам, чтоб не кисли В годину лихую, Я ваши же мысли Для вас расшифрую.Притча
Графин вина — ему награда. Тебе — корзина винограда. Ты недоволен? Ты не рад? Бери графин, дай виноград! Ведь виноградная корзина Вина содержит три графина. И после выжимки мы с ним, Конечно, их опорожним. Вот так завистливая лень Проигрывает каждый день И, жить и выпить торопясь. Теряет с выгодою связь. …Об этом миру и векам Христос вещал ученикам, Прихлебывая заодно Древнееврейское вино. Быть разумом живей и прытче Он завещал, как в этой притче.Сила
Да, стрелка компаса склоняется, дрожа, В ту сторону, где вытянутый меч. Сильнее блеска мысли блеск ножа. И все-таки хочу предостеречь: Всего сильней евангельская речь.Соринка зла
Соринка зла влетела в душу. Пытка. И человек терзается в тиши. И плач его — последняя попытка, Попытка выслезить соринку из души.Слеза
Таинственным законам вторя, Слеза — двум крайностям помехам Опасные пределы горя. Опасные пределы смеха.Ударит в щеку негодяй…
Ударит в щеку негодяй! Скорей вторую подставляй! Не кровь — не верь своим глазам, Любовь стекает по щекам. Не этого хотел Христос, Но виснет в воздухе вопрос.Груша
Вот на столе большая груша. А за окном зима и стужа. Напоминает сочный плод Горячий юг и желтый мед. Философ вымолвил солидно: — Да, эта груша сердцевидна. Не потому ль который век Кусает сердце человек? Воскликнет тот, что был не в духе: — Не груша, а свинья на брюхе! И прошипит завистник злой: — Здесь груши лопают зимой! Художник нарисует грушу И утолит рисунком душу. А я скажу, глотая слюнки: — Живая груша на рисунке. Но почему она живей Той, что росла среди ветвей? Уже закладывает уши, А мы о груше, груше, груше. Нас доведет вопросов рой До бесконечности дурной. И только тот, кто грушу съест, Нам распахнет и Ост и Вест, Освободив наш ум от груши. Как бы кивнет: — Вперед, капуши! Хороший аппетит балбеса — Невольный двигатель прогресса.Одним — от мысли корчиться…
Одним — от мысли корчиться. Шепча: — Держись, держись. — Одним — для жизни творчество. Другим — для жизни жизнь. Кто прав? Не ясно никому, И потому, и потому, Коль нет других событий, — Живите как хотите! Есть преимущества в раю. Я их, бесспорно, признаю. И все-таки поверьте: Жизнь популярней смерти!Старик и старуха
Море лазурное плещется глухо. Залюбовался издалека: Входят в море старик и старуха. Медленно входят. В руке — рука. За руки взявшись, все дальше и дальше. Дальше от нас и от грешной земли. Это трогательно без фальши. Как хорошо они в море вошли! В юности было… Впрочем, едва ли… Где-нибудь в Гаграх или в Крыму. С хохотом за руки в море вбегали. Но выходили по одному. Боже, спаси одинокие души. Всех одиноких вблизи и вдали. Как эти двое жили на суше? Так вот и жили, как в море вошли. Музыка счастья доходит до слуха И отдается болью слегка. Входят в море старик и старуха. Уже под водою в руке — рука.Честь и совесть
Какой земли какие жители Когда-то честь и совесть сблизили? Взорвется честь: — Меня унизили! Заплачет совесть: — Вас обидели! Чем дышит честь? Поймешь ли бестию? Гарцует вновь молодцеватая. И вечно честь клянется честию, И вечно совесть виноватая. Не знаю, беды ли, капризы ли Или трагедия любовная? Взорвется честь: — Меня унизили! Заплачет совесть: — Я виновная. Как поживает честь картежника. Сметающего куш со столика? И не смущает ли художника Больная совесть алкоголика? Честь исповедуют воители И предъявляют, словно алиби. А совести они не видели, Но и увидев, не узнали бы. Влетает в глаз раскрытый совести Соринка мира, мир коверкая, А честь перебирает новости: Не оскорбительна ли некая? Взорвется совесть: — Пир бесчестия! А честь: — Опять меня обидели! Над нами каркают известия. Грозя чумой земной обители.Метаморфозы
Испепелившийся факир Восстал из пепла. Он — банкир. Народ ограбивший банкир Испепелился, как факир. Кто он? Как там его? Мавроди? Он вроде грека, мавра вроде. Милиция сулит полмира За горстку пепла от банкира. Прокуратура ищет лица. Способные испепелиться. И вдруг сама, испепелясь, Налаживает с ними связь В соседних виллах во Флориде. Загадка, что ни говорите.Как славно умереть и испариться…
Как славно умереть и испариться. Вчера ты был, сегодня нет тебя. Друзей и близких опечаленные лица. Как хорошо! И выпили, любя! Но техника и сущность перехода Неделикатная гнетет меня. Больное тело требует ухода. И дальше с трупом грязная возня. Испытываю к небу благодарность Не потому, что утешает твердь. Но в ритуалах веры санитарность, И только вера очищает смерть.Улыбка
Улыбка — тихое смущенье, Начало тайны золотой. А смех — начало разрушенья Не только глупости одной. Что помню я? С волною сшибка В далекой молодости той. И над водой твоя улыбка Промыта страхом и волной. Язвительного варианта Подделку вижу без труда. Улыбка, как сестра таланта. Не длится долго никогда. Улыбка Чаплина, Мазины, Робеющая без конца. Преодоленный плач отныне Нам будет разбивать сердца. Вокруг хохочут жизнелюбы. Как будто плещут из ведра. Твои раздвинутые губы Как бы процеженность добра. И даже ангелы, что вьются Над жизнью грешной и земной, Не представляю, что смеются, Но улыбаются порой.И у меня был отец…
И у меня был отец Тем нескончаемым летом. Господи, это конец! Разве я думал об этом. Ссылка. Вокзал. Поезда. Нас навсегда разлучили. С лязгом колеса тогда Детство мое раздвоили. Это не поздний укор. И вспоминается слабо. Вас узнаю до сих пор, Недосказавшие: «Папа…»Зигзаг любви, паденья и осечки…
Зигзаг любви, паденья и осечки, Восторг, затишье, хаос мировой! И вдруг над бездною — вниз головой! …А надо было танцевать от печки. Милее мельница, шумящая на речке. Огромных, глупых крыльев ветряной.Город или мир в тумане…
Город или мир в тумане? Полночь. Смутный силуэт. Пьяный роется в кармане И бормочет: — Басурмане, Ключ нашел, а дома нет.Диалектика
Не великие ученья, А совсем наоборот: Первобытный способ тренья Искру жизни создает. Но невидимое глазом Той же техники приплод: Тренье разума о разум Искру мысли создает.Сдыхаю от тоски…
…Сдыхаю от тоски. И вдруг письмо поклонника! Я встрепенулся. Как Христос покойника, Он оживил меня, нежданный адресат. Как ты узнал? Как вовремя мой брат Неведомый склонился к изголовью. Все угадав далекою любовью. Не раньше и не позже, в нужный миг Любовь пересекает материк. Вот чудо из чудес. Любовь есть Бог. Из праха я восстал и вышел за порог.Когда я выключаю свет…
Когда я выключаю свет. Внезапно вспыхивает разум. Чтобы найти незримый след Всего, не видимого глазом. Вопросы эти или те, Неодолимые, нависли. Но хищно разум ловит мысли Кошачьим зреньем в темноте.В итальянском музее
Вот памятник античности. Прекрасно. Должно быть, римлянин стоял со мною рядом. Глядел я долго на него. И не напрасно. Я каменел. Он оживал под взглядом. Я каменел, он оживал под взглядом. Так что же будет? Дальше, дальше, дальше! Но я решил — давно конец балладам. Не надо мне потусторонней фальши. Не оживив античного мужчину, В конце концов я отвернулся, братцы. Я выкинул из жизни чертовщину. Да и в стихах не хочется мараться.Слово
Чтоб от горя и заочно, И впрямую и побочно Не осталось ничего, Надо точно, очень точно Словом выявить его. Только слово в мире прочно. Прочее — житейский вздор. Горе, названное точно. Как сорняк летит в костер!Любовь и дисциплина
Средь споров мировых и схваток Себя вдруг спросишь: — Назови, На чем стоит миропорядок? На дисциплине? На любви? Но здесь от страха гнутся спины И я кнуту не прекословь! Где мощный мускул дисциплины. Там изгоняется любовь. Сойдись, любовь и дисциплина, Создай порядок и покой! Где золотая середина? Нет середины никакой! Меж дисциплиной и любовью Который год, который век, Порой отхаркиваясь кровью. Метаться будет человек? И лишь пророки-исполины Напоминают вновь и вновь. Что жизнь без всякой дисциплины Дисциплинирует любовь.Да, государство с государством…
Да, государство с государством Хитрит, не ведая помех. И здесь коварство бьют коварством, У них один закон на всех. Но грех чудовищный и низкий На дружбе строить свой улов. Ведь близкий потому и близкий. Что защищаться не готов.Россия пьющая
Любовь, разлука, ностальгия — Ряды обиженных мужчин Повсюду пьют. Но лишь в России Своя особенность причин. История — сплошное блядство: Борьба злодея с дураком. Зато и равенство и братство У нас за пиршеским столом. Свобода! Как не расстараться. Как не подняться на волне! — До дна! До дна! Свобода, братцы! Вдруг бац! И сами все на дне. Спасайся от хандры и сплина, С парами алкоголя — ввысь! У нас такая дисциплина: Нам, не допив, не разойтись. Все пьют и даже бьют посуду Недорогого образца. И только мы всегда, повсюду Все допиваем до конца. Не то чтобы от страсти пылкой Горазды выпить тут как тут, Томит сомненье над бутылкой: Грядет запрет? Или сопрут? И кто осудит нашу склонность? У нас национальный стиль! Достигнутая завершенность — Опорожненная бутыль! Над нами шаткость и непрочность, Сердца пустуют и казна. Тем неизменней наша точность — Бутылку допивать до дна. Какая жажда нас изводит? Чем россиянин одержим? Объем обиды превосходит Объем посуды со спиртным. Долой ханжу или невежду! О полной трезвости потом… Сначала выпьем за надежду На паузы между питьем!В Париже на публичной казни…
В Париже на публичной казни В толпу Тургенев окунулся. Но сей сюжет кроваво-грязный Не выдержал и отвернулся. В Париже на публичной казни Быть Достоевскому случилось. Глядел он прямо, без боязни, Как с плахи голова скатилась. Кто был добрее и честнее. Неужто спорить нам до гроба? Страны родимой ахинея. И невдомек, что правы оба. Тот страшный мир, где мы замкнулись, Я разомкнул и ужаснулся: Там все от казни отвернулись. Или никто не отвернулся!Совесть
Дарвина великие старанья, Эволюции всемирная волна. Если жизнь — борьба за выживанье, Совесть абсолютно не нужна. Верю я — в картине мирозданья Человек — особая статья. Если жизнь — борьба за выживанье, Выживать отказываюсь я. Есть бессовестность, конечно, но не это — Тянут люди трепетную нить — Неизвестному кому-то, где-то До смерти стараясь угодить. Кто создал чудесный этот лучик, И кого он не пускает вспять? Погибали лучшие из лучших. Чтобы этот лучик не предать. Говорить, конечно, можно много. Многое понятно между строк. Совесть есть, друзья, реальность Бога, И реальность совести есть Бог.Есть странный миг любви…
Есть странный миг любви. Ее пределы Особенно заметны ночью в стужу. Когда душа уже не греет душу, Еще усердней тело греет тело, Как бы попытка страсти полыханьем Возжечь любовь искусственным дыханьем! Но обрывается… Раскинулись в тиши Две неподвижности — ни тела, ни души.Поэту
Нет щедрости щедрей, чем Пушкин. И не пытайся быть щедрей. Читатель скажет: — Новый Плюшкин, Незванный гость среди гостей. А здесь на музыку атака. Куда ты в музыку полез? На Блока и на Пастернака Ушла вся музыка небес. Но если ты поэт и воин. Попробуй, с хаосом сразись! Великий Тютчев недостроен. Поскольку бесконечна мысль.Исповедь абсурдиста
Сумасшедшая страна, Сумасшедшая жена, Сумасшедшие друзья. Можно жить или нельзя? Надо приструнить страну, Надо приглушить жену. Сдать немедленно друзей В исторический музей. Лопнет, как струна, страна. Обхохочется жена. Скажет, поглядев в окно: — Не пойти ли нам в кино? А друзья в музее в ряд Истуканами стоят. Шепчет каждый истукан: — Есть и водка, и стакан.Вещи
Да, вещи тянутся к вещам, И никому от них не тесно. И это внятно мне и вам, И даже почему-то лестно. Но в некий, непонятный час. Как колокол над головою: — Встань и иди! — ударит глас С неслыханною прямотою. — Встань и иди! — великий глас. Судьбы сладящая тревога. Но ты среди вещей погас. Баррикадируясь от Бога. — Встань и иди! — впадая в транс. Не выбросив себя наружу. Ты упустил последний шанс Спасти, быть может, свою душу. Что остается? Без затей Жить, ничего не нарушая. Платком, легчайшим из вещей, Глаза порою осушая.Красота
Какие проводы и встречи, Далекий юг, далекий год! Пришвартовавшийся под вечер. Дышал, как пахарь, теплоход. Она у поручней стояла. Светясь собой из полутьмы. Глазели на нее с причала Гуляки разные и мы. Фигуры легкой очертанья. То ли улыбка, то ли смех И льющееся обаянье Ни на кого или на всех. Благославляю изумленность Ее прозрачной красотой. Тобой, летучая влюбленность, И недоступностью самой! Гремело рядом: — Вира! Майна! В кофейне затевался пир. Непостижима ее тайна. Но ею постигают мир. Лицо, бледнеющее в нимбе Чуть золотящихся волос. Причал. Богиня на Олимпе И заглядевшийся матрос.Плач по Черному морю
А.Х
С ума сойти! Одна секунда! Где моря теплый изумруд? Одесса, Ялта и Пицунда — Для нас умрут или замрут? Потеря в памяти хранится, Другим потерям — не чета: России — южная граница, России — летняя мечта. России — южная граница. Страна от самой Колымы Сюда мечтала закатиться И отогреться до зимы. Суля вселенскую свободу, Россия, смыслу вопреки. Тебя разбили, как колоду. Картежники-временщики. Измордовали твою сушу, Порастащили по углам. Но море Черное, как душу, Хотелось крикнуть: — Не отдам! Где горы зелени, где фрукты. Где на закате теплоход? Всё разом потеряла вдруг ты. Оставив земляков-сирот. России южная бездомность. Где пляж горячий, где песок? Где моря Черного огромность И кофе черного глоток?Слон
Что главное в зверинце? Слон. Там, где имеется в наличье. Всемирной пошлости заслон И лопоухое величье. А простодушный его вид — Есть богатырская примета. Переминается. Стоит Горою, ждущей Магомета. Его доверчивая лень Не ждет удара ниоткуда. Но столь доступная мишень Смущает даже лилипута. Как тянется к нему дитя, Как рад, могучему, ребенок! Детей на спину громоздя, Он сам играет, как слоненок. Жующий листья и плоды. Он доказал, добра посланец. Что в мире крови и вражды Мощнее всех вегетарьянец. На толки суетной молвы. На лозунги любой окраски Глядят с огромной головы Чуть иронические глазки. В любом краю, в любой сезон Он — в государстве государство! Где слон в пространство погружен, Там вытесняется коварство. …Когда Господь его лепил Любовно, долго, без аврала. Был у него избыток сил Или избыток матерьяла? Сказал он: — Истина ясна, Никто не может быть в загоне. Поставив на ноги слона. Он сдунул бабочку с ладони. …Когда от скуки тянет в сон И все мечты в душе закисли, Скажи себе: — Да будет слон! И сгинут мелочные мысли.Айсберг
Плыл, мечтая, одинокий айсберг В океане сумрачной воды, Чтобы подошла подруга-айсберг И согрела льдами его льды. Океан оглядывая хмуро, Чуял айсберг, понимал без слов: Одиночества температура Ниже, чем температура льдов.Тысячелетье в тупике…
Тысячелетье в тупике От слов, услышанных в дорогу; — Ударившему по щеке, — Сказал, — подставь другую щеку Неужто мысли нет иной? И не было? Так миром правят. Жди с окровавленной щекой. Когда другую окровавят. Чего Он от людей хотел? Ждал час, когда мы хлопнем дверью? Терпенья нашего предел Неужто вычислял? Не верю! Чего же Он хотел тогда? Он ждал преображенья муку. Взрыв совести. Огонь стыда, Смиряющий у бьющих руку.Наш человек
Сто языков, как день вчерашний, Он помнит и наречий тьму. На новой Вавилонской башне Быть переводчиком ему. Он всех строителей научит По-русски водку пить, как спец, Потом раскаяньем замучит, И рухнет башня под конец. …А Бог воскликнет: — Молодец!Природа и человек
Гигантский дуб или орех В полнеба высится с пригорка. Сам по себе, а не для всех. Вот тайна нашего восторга. У небоскреба стань и стой. Он людям о себе вещает. Но любоваться высотой Гордыня замысла мешает.Смерть
…Предпочитаешь эту или ту? Спросили, как услужливые черти. Я никакую не хочу, поверьте. Но если говорить начистоту. Страшна не смерть, а ожиданье смерти. Тогда вперед! Ни ада и ни рая Не загадав… Ни другу, ни врагу Не досказав, что говорят у края… Так, финишную ленту разрывая, Вдруг падают спортсмены на бегу.Протирающая очки
Там торкались в стекло окна Зелено-гибкие побеги. Была задумчива она. Полуопущенные веки. Взяв со стола его очки. Она платком их протирала. Движение ее руки Движенье ветки повторяло Руки трепещущей наклон, И ветки за окном скольженье… С улыбкою подумал он: Далековатое сближенье. И вдруг послышалось остро, Как сказанное кем-то слово: Чем машинальнее добро. Тем убедительней основа. Порою тихо и светло. Чуть приподняв очки повыше. Она дышала на стекло. Так на птенца ребенок дышит. И эта белизна платка Щемящей сладостью смущала: Так в детстве мамина рука Глаз от соринки очищала. И он подумал: чудеса! Не совпадения удачность — Приоткрывает небеса Рука, творящая прозрачность! И прожитое вороша, Знававшая такие корчи, Вдруг успокоилась душа — Почуял он — и стала зорче. Он разглядел издалека, Как некий запоздалый сокол: Сестру и мать у очага, Что и не снилось из-за стекол.Гармония природы есть вранье…
Гармония природы есть вранье. Всё прочее — случайные детали. Птенцов в гнезде сожрало воронье, Пока за кормом сойки улетали. Не утешают в птицах небеса. Глухие реки, горные походы. От подлости людей уйдешь в леса. Куда уйдешь от подлости природы? ПеределкиноНочь и день
Частица смерти — ночь. Частица жизни — день. Порой бессонницы пылающее бремя В сон не дает переступить ступень. Ревнует смерть за отнятое время. Жизнь простодушнее — не смотрит на весы. Мы просыпаемся, а солнце уж в зените. Вот плата за бессонные часы. Спокойна смерть и шепчет: спите, спите.Народ
Ни паровоз, ни теплоход Не утолял его страданья. Столетье мается народ В огромных залах ожиданья. Он мается или привык? Зал ожидания — Россия. О чем задумался, мужик. Обиды у тебя какие? Он удивляется со сна, Бормочет в поисках веселья: — Как мало выпито вина, Какое долгое похмелье…Страна моя — и смех и грех…
Страна моя — и смех и грех, Твои дворцы, твои халупы. Мысль о тебе — пустой орех, А мы обламывали зубы. Друг юности, не прекословь! Какие споры! Лихорадка! Была, как первая любовь, О горькой истине догадка. Глоток базарного винца Над шумом нищенской веранды. И кофе, кофе без конца Тасует спорщиков таланты! …Где горы пожелтевших книг? Где сборища в гостях у друга? Добро и зло зашли в тупик, Не в силах одолеть друг друга. Давно не спорим мы теперь. Что толку, прав или не прав ты? Но в мире нет страшней потерь Потери любопытства к правде.Рождение человека
Дикарь в лесу бананы ел, Рукой прокорм прикрыв сурово. И жадно на него глядел Младенец племени чужого. Младенец чмокал, как во сне. Дикарь и сам как бы спросонок. Но равнодушно не вполне Подумал: голоден ребенок. Держаться крепче надо впредь Законов племени и веры. Ребенка хочется жалеть, Хоть он не из моей пещеры. Тогда невидимый огонь Влетел в него, сорвавшись с неба. И он ребенку ткнул в ладонь Прообраз будущего хлеба. Ребенок ел. Он дал еще. Чему-то смутно удивился. И вдруг подумал: хорошо… И человек на свет явился.Обрываясь с неведомых крон…
Обрываясь с неведомых крон, Уходя в непомерные дали, Только ржавые крики ворон Над Россией рассвет означали. Так бывало всегда и везде. На рассвете вороны толкутся. Ну а певчие, певчие где? Ждут, когда легковеры проснутся.Вопрос
Ты скажешь: — Быть или не быть? А может: — Пить или не пить? Что лучше? Так или иначе. Без философской городьбы. Признаемся, наморщив лбы. Достигнуть ясности дабы, Что упрощение задачи — Есть усложнение судьбы.Формула розы
На цветущую розу взгляните. Не сходите при этом с ума, Потому что она — вне ума, Красоты идеал в чистом виде. Ну а если сошел ты с ума. Роза вылечить может сама. О шипы ее пальцами ткнись — Вместе с кровью прорежется мысль.Ласточка
А.Х
Какой порыв, какой размах, О, ласточка, черти черту! Как поиск истины впотьмах. Твои зигзаги на свету! О, ласточка, какой размах! Стремительная чистота. Так вольно реешь в небесах И так трепещешь у гнезда! Гнездо под крышею у слег, Где тянутся птенцы в мольбе. Какая храбрость, человек. Она доверилась тебе! Забудем тягостные сны. Ночную тень земных обид. А небеса нам не страшны. Там роспись ласточки парит. 30 декабря 1999Просьба
Не допил — бессонница. Перепил — похмелье. Не за нами гонятся Радость и веселье. Не грехами ль родины Мы грешим и сами? Иль греховна родина Нашими грехами? Нету и теории: Что же тут первично? Мы — вино истории, Выпитое лично. Пить — борьба с химерою, Мера непростая. Как бороться с мерою, Меру соблюдая? Я не знаю, в ранге ли К Богу обращаться. Помогите, ангелы, С Богом пообщаться.Дружба
Гремела музыка. Вино лилось рекой. Бывало, вместе пировали. Но друг вильнул, слегка махнув рукой, На первом же опасном перевале. Что верность друга? Что его плечо? Мы упиваемся участьем. Прижатые друг к другу горячо Объединяющим несчастьем. Оно нас сводит, не сводя с ума, Поет о дружбе непреложно — Больничная палата и тюрьма. Всё остальное ненадежно.Сон о бессоннице
Я сказал аптекарю: — За труд Не сочтите, я бессонницею мучим. Старые таблетки не берут, Нет ли, что новей или покруче? Есть! — кивнул он, — но на вечный сон. Нет! — вскричал я, — это не годится! Ну, так что же вам? — надулся он. Мне восьмичасовую крупицу. От таблетки, что на вечный сон. Отломить крупицу? Вы об этом? Здесь не нарушается закон, — Отпарировал я, — действуйте пинцетом. Он вздохнул: — Аптекаря учить — Дилетантов древняя отрада. Вечным сном бессонницу лечить Тоже, доложу вам, грубовато. Микроскоп придется применить… Применяйте, только не тяните! Часть и целое придется примирить… Затрудняюсь… Позже позвоните… Впрочем, что там! Лучше целиком! Раз и всё! Подобно хирургии. Способ сильный, только мысль о нем Вызывает приступ аллергии. Угодить, я вижу, трудно вам. Знаете, не будем торопиться. Аллергию вылечим, а там… — Мне бы только малую крупицу. — Это же прекрасно — вечный сон! — Ни за что! — я крикнул, иссякая. Вам обломится! — вдруг улыбнулся он. Но у вечности, забыл, цифирь какая?О матери
Как матери портрет нарисовать. Превозмогая горечь опозданья? Страдания твои лечила мать. Превосходящей болью состраданья. И в этой боли сладостный прибой Сегодняшнюю боль твою утешит. Ее душа дышала над тобой И в небесах, быть может, еще дышит.Абхазское застолье
Святыня древняя абхазского застолья. Старейшина кивает; приступить. Над нами магия вина и хлебосолья. Ее души никто не в силах отменить. Потом мы торжествуем или ропщем, Но как скала — над поздней суетой: Мы связаны вовек ошибкой общей Или божественного братства добротой.Молчание с другом
Как хорошо беседой пренебречь. Порой бессмысленно-случайной. Бывает, слово заменяет речь. Еще многозначительней — молчанье. Порою к другу тянешься опять В ночной тиши, не выходя из дому, Сказать ему, что нечего сказать, — Нужней душе, чем исповедь чужому.Почтовый ящик
Открыл почтовый ящик. Спустившись налегке. Ты ждал конверт, хрустящий Как яблоко в руке. Подруги или друга Слова почти из уст. И вдруг — немая мука — Почтовый ящик пуст. Короткое веселье И холод до нутра. Похожий на похмелье. Тем более с утра. Ты усмиряешь жадность. Азарт своей мечты. Но ширится наглядность Первичной пустоты. И в скуке предстоящей Кого тебе винить? Сменить почтовый ящик Или судьбу сменить? И мысли бестолково В душе твоей снуют. Ведь ничего такого Не ждал за пять минут. И не конверт хрустящий, Когда сказал, как есть: Через почтовый ящик Мы ждём благую весть.Время
Хорошо или плохо. Но, зубами скрипя, Пережили эпоху. Доживаем себя. Вдохновенное племя. Одолев немоту. Словом сдвинуло время — Даже с кляпом во рту. Новым дивам дивились, Хоть держали в уме: От тюрьмы отвалились, Привалились к суме. И покуда иуда На иуду кивал. Появился, как чудо. Без труда капитал. И не новый сановник, И не старый конвой — Капитал и чиновник Тихо правят страной. Без особых усилий. Знать не зная греха. На глазах у России Жрут ее потроха. Никакого тиранства. Не бунтует печать. А про доблесть гражданства Даже стыдно сказать. Обновили эпоху, Но на смене тряпья Подловили, как лоха, И страну и тебя. Новым веяньям ловко Как бы верность храня, Провели рокировку Воровства и вранья. Вдохновенное племя. Где теперь твоя мысль? Ты раздвинуло время, И скоты ворвались. Ничего не осталось. Только шрамы в судьбе. Твоя к родине жалость. Моя жалость к тебе. Затихает горячка. Никаких панихид! Всероссийская жрачка Всероссийских элит.Как звать его…
Как звать его? Забыл опять. Остался призвук, а не звук. Стареем, и за пядью пядь Сужается заветный круг. Когда ж умерших имена Забуду вдруг — ошпарит стыд, Как будто предстоит страна, Где их окликнуть предстоит.Мировая политика
Гляжу я на политиков в тоске. Все на одной на шахматной доске. Здесь шахматы, и домино, и шашки. По фляжке в день и никакой поблажки. Для равенства, а также из расчета: Не отрываться от народа. То-то! Здесь офицер. Он мигом, автоматом Поставит мат или покроет матом. Здесь кони ржут. Здесь дамы рвутся в дамки. Здесь умники в цейтноте или в лямке. Здесь славят будущее словом иль плакатом. Но «с Новым годом» говорят, как «с новым гадом». Здесь нет стыда. Услуги за услуги. Здесь лишь ораторы краснеют от натуги. Здесь голосуют громко, чтоб отныне Не слышать вопиющего в пустыне. (К законам физики еще один причисли: Чем больше голосов, тем меньше мысли.) Здесь можно все. Но невозможна личность. Здесь личность — это, вроде, неприличность. Здесь понимается без всяких аллегорий. Что ад и рай — тюрьма и санаторий. Здесь нет свидетелей разбоя и дележки. А небо? Небо — средство для бомбежки. …Терпеньем переполненная чаша. Хоть и неясно — Бога или наша? Здесь белый с черным интригует заодно. Хоть сам прихлопнут фишкой домино. Здесь на трибуне депутат, как на ладье. Бичует бич, бичом грозя судье. Перекликаются враждебные ферзи Для конспирации на языке фарси. Здесь патриот, что, впрочем, не впервые. Мысль удлинил за счет длины России. А либерал как раз наоборот: За счет всемирности дает ей укорот. Как следствие — туманную всемирность Еще туманней делает настырность. Здесь Юг велит водою подмываться. А Север что? Бумажкой подтираться. Мир от войны почти на волоске. Переполох на шахматной доске. Спасут, быть может, Запад и Восток: Две крайности — наждак и кипяток. А некто (кто?!) с бутылкой минералки Не видит в этих играх аморалки. Без пафоса, перебирая четки. План хаоса обдумывает четкий.Лермонтов
Почти благодарный услуге. Быть может, шепнув: — Не тяни… Усталый от муки и скуки. Он рухнул, как пахарь в тени. Над этим обрывом клыкастым Покой наконец он обрел. Раскинувши руки, распластан, Как в небе распластан орел.Тело и мысль
Величие духа мы славим обычно, Но жертвенность тела, пожалуй, первична. Кормили из ложечки старого Канта. В предсмертное детство впадал старикан-то. Как странно: в полнеба огромные мысли, А руки бессильно вдоль тела повисли. Бессильно повисли, а раньше, бывало. Сводили с размаху кремень и кресало. Бессмертные мысли под куполом тверди. А бедное тело готовится к смерти. К чему же тогда светоносные мысли? Чтоб люди людей в темноте не загрызли.Философ
Он занят загадкою грозной. Она не смущает его: Зачем мирозданию звезды И сам человек для чего? Как связанность соли и хлеба Души человеческой суть — Вместившая звездное небо И совесть в единую грудь.Жизнь — неудачное лето…
Жизнь — неудачное лето. Что же нам делать теперь? Лучше не думать про это. Скоро захлопнется дверь. Всё же когда-то и где-то Были любимы и мы. И неудачное лето Стоит удачной зимы.Вдохновенье
Вдохновенье — вдох мгновенья. Вдохновенье — это дар Чуять в небе перемены. И как ножевой удар — Вертикально кровь из вены! Так выталкивают ввысь Ослепительную мысль Вдохновенье — вдох мгновенья.Поэмы
Малыш, или Поэма света
Отдохновение уму, Душе от злобы дня заслонка, Да славится в любом дому Щебечущий цветок ребенка. Ты смутно узнаешь черты. Ты как бы вспоминаешь жесты. Неужто это снова ты? …И прошумят из пустоты Надежды, подлости, оркестры.* * *
— Сынок, не заплывай за буй! — С крыльца с тревогою мгновенной. Ах, голос мамы: — Не горюй! — Теперь, должно быть, из Вселенной. — Сынок, не заплывай за буй! Не за-плы-вай!.. — сладит тревога. Сказать уж некому: — Подуй! — Приплясывая от ожога. Когда один, куда ни глянь. Среди всемирного раздора. Слабейшему опорой стань! И в том, глядишь, твоя опора.* * *
Как соблазнительно проста Судьбы свободная прикидка. Как будто с чистого листа Прожить еще одна попытка. Два варианта — путь земной. Какой счастливый? Вот задача. Но от того, что знаешь свой, Второй и есть твоя удача.* * *
Вот эволюции исток. Шлеп! Шлеп! Чарующие звуки! Вполне успешно делом ног Усердно занятые руки. Он ненавидит произвол Вещей, подробности рутины. Любой предмет — на пол! На пол! Не в этом главное, дубины! Вот соску, что без молока. Молочные сжимают зубки. Задумался и чмок! слегка По принципу потухшей трубки. Спит на балконе-корабле. Сопит, посвистывает дроздик. Вдруг SOS! Мычит: — Ко мне! Ко мне! Трясется капитанский мостик, — Где мой стюард? Где мой дурак? Ищите трубку! Трубку! Трубку! Свистать наверх! На полубак! Спустите, если надо, шлюпку! Ищу. Мотает головой С оттенком сдержанного гнева: — Уволю! Ты совсем тупой! Не справа выпала, а слева! …Да, тупость. Правду говоришь. С годами взрослые линяют. У нас за тупость, мой малыш (Сказать: гуманность — согрешишь). Не принято, не увольняют. А на ночь поят молодца. Нет, не в отца (на всякий случай!) Стрижет! Добулькал до конца! А выражение лица: После бутылки спится лучше.* * *
Чего ни цапнет, в рот сует. Сам и алхимик и пробирка. Газету «Правда» — вправду в рот, А вслед (для тиража) — копирка. Отбил мочалку, как в бою! Не унывает! Въелся в пемзу! А там! Хвать рукопись мою! И на зубок! (как раньше!!!) цензор! Чего ни встретит, тянет в рот. Успеешь вытянуть — он в слезы. Обоев ленточки грызет. Лосенок! Это ж не березы! Вот скинул вазу с высоты. Не в вазе дело! Просто дико Жевать невинные цветы. Хоть пахнет пряником гвоздика! Все в рот! Гантели и кота! Картошка! Ложка! Брошка в кильке! Где женщины! Сюда! Сюда! Прочь с палубы хотя бы шпильки!* * *
Вгляделся, голову склоня: — А ну-ка, папа мой, не кисни! Во всем бери пример с меня. Улыбка — первый признак жизни. Украдкой сунешься, шутя, В его игрушечное царство, Весь заливается дитя. Смеясь над опытом коварства. У зеркала. Во весь размах Он хочет окунуться в бездну. Там папа с кем-то на руках. Но с кем? Вот дотянусь и тресну! Хоть философия и дичь. Дается правильно задире: Сначала мир в себе постичь. Потом себя постигнуть в мире. А вот стекло окна — предел. Подобья не находит память. Забавно воздух затвердел. Так славно воздух барабанить!* * *
Впервые за зиму во двор. Скрипучая полуколяска. Зима теряет свой напор. Темно-лиловая окраска. Он вспоминает: — То? Не то? Чирикало в зеленых купах. Теперь деревья без пальто, А люди, как нарочно, в шубах. Здесь даже взрослые вполне Снуют без дела неустанно. Не от меня или ко мне, А сами по себе. Как странно! Взглянул, сомненье не тая, — Идет с кошелкою старушка. Мол, непонятная усушка: Еще не бабушка моя. Тогда зачем уже старушка? Снег рыхло шмякается с крыш. Он смотрит вверх не без опаски. Вдруг на тропе другой малыш. Наглец! И он в полуколяске! Взгляд у обоих — не обман. Достоинство и равнодушье. Так с богдыханом богдыхан, Должно быть, на тропе верблюжьей. Мол, раньше было: — Я и мир! Мои и женщины и злато! Теперь и я и ты — кумир. А мир все тот же. Жидковато! Разъехались. Привет! Привет! У каждого своя горбушка. И даже с молоком чекушка! …Прошла собака. Глянул вслед. Нет, слишком крупная игрушка. Я подошел. Он оглядел. Чуть улыбнулся осторожно: Ты в шубе сильно почужел. Но, в общем, догадаться можно. Домой! Там жар от батарей. Здесь холодно и незнакомо. Я дома все-таки главней, И потому приятней дома.* * *
Пыл сатирический умерь, Дабы не подводить отчизну! Сработанная плохо дверь (Особый путь к социализму) — Не прикрывалась. Удалось. Достигнуть плотника. (Элита!) Работает. Сопит. Авось Подладит чертово корыто! Свои сто грамм он поимел. Перед работою. Законно. Питье есть смазка гегемона, Чтобы в работе не скрипел. Пока он ковырял пазы И грохотал, как в преисподней, Малыш мой изучал азы Профессии почти господней. Вот плотник прикрывает дверь И ручку пробует оттуда. Малыш как заревет: — Не верь!.. Он запирает нас. Иуда! Тот двери распахнул и вспять. И как бы сдерживаясь в споре: — Чего орать? Чего орать? Я ж не могу не закрывать? Тогда хоть стойте в коридоре! Стоим. Он закрывает дверь. И малышу не страшно это. А плотник говорит: — Теперь Попробуем из кабинета. Вошел. Закрыл. Безумный крик: — И ты от нас не запирайся! Ах, непонятен мой язык? Тогда и вовсе убирайся! Тут плотник: — Черт вас подери! — Швыряет инструменты в сумку. — Чего столпились у двери! Или мальчишку убери! Или гони за вредность — рюмку! И смех и грех! Но детский взор, Быть может, видит тот простор Всечеловеческого братства, Где одинаковый позор: Что запирать. Что запираться.* * *
Внезапно шлепнулся и в рев! И сквозь обилие капели Он как бы говорит без слов: — Куда ж вы, взрослые, глядели? Куда глядели вы? Куда? Вы! Вы! — переводя дыханье, — Ах, никуда?! Ах, никуда?! Так вот вам!.. — И — до заиканья! А там в глазах, на самом дне Обида горькая, немая: Я понимаю — больно мне. А вот за что? Не понимаю. И вдруг замолк! Жизнь хороша! Уже ручонками и телом К чему-то тянется душа: Зла не держу. Займемся делом.* * *
К любому падает на грудь И обнимает, как знакомца. Жизнеприятельство. От солнца, От бульканья, от перезвонца Перепадает всем чуть-чуть. Так женщина после всего Ласкает близкого тихонько. Мужчина думает — его. Она ж, не зная ничего, Уже — грядущего ребенка.* * *
Вода, как женщина, малыш, Таит идею оголенья. И вот сияющий голыш. Смущенное прикосновенье. Нет, нет… Не слишком горячо. Зачем-то высунул мизинчик. Доверился! Еще! Еще! Не то — Амур, не то — дельфинчик. То шлепнет по воде сплеча. То самого волнишкой смоет, Душ! Попадание прямое! Играет луч внутри луча. Как бы взаимно щебеча. Две чистоты друг друга моют! Не хочет из воды. Кричит! Аж выворачивает душу Мол, я — амфибия, мой вид (Ты понимаешь, троглодит?!) Еще не просится на сушу! Но как забавно! Каждый раз Накинешь простынь с головою, И вмиг замолк, притих, погас. Что там случается с тобою? Решил, быть может, в простоте: Тепло, темно… Ах, жизнь-плутовка! Несут куда-то в темноте… Я, значит, снова в животе. Из живота кричать неловко.* * *
Вошел в двенадцатом часу. Он спит. Святая безмятежность. Держать стараюсь на весу Свою избыточную нежность. Опять к Востоку головой. Ну что ты скажешь человеку! В самом покое непокой. Ползет, как правоверный в Мекку! Лицом молитвенно в матрац, Но к небу выпятился задик. Какой насмешливый намаз! Ты кто? Хайям? Или Саадик? Чем занимает сон его? Опять игрушками? Обедом? Что видит он? Да ничего! Поразмышляем и об этом. Он мог бы, думаю, без слов Сказать, откинув одеяло: — Я никогда не вижу снов. Мне не хватает матерьяла.* * *
Сознанье хаоса есть явь. Что наши сны организует. И мы во сне — то влет! То вплавь! Когда фантазия газует! Сон — после драки кулаки. Как говорил поэт: — Помашем! Или до драки синяки. Вздохнем, проснувшись: — Бьют по нашим! Кто бьет? Известно — дураки! Мы им (во сне!) еще покажем! Сон — Коба едет на арбе. Что означает? Только кратко! Нам как бы чудится ЧП, А сон как бы его подкладка. Добавим парочку мазков. Опять о нас, а не ребенке. Сон — выделение мозгов. Душа нуждается в пеленке. Сон — Коба едет на арбе. В его тени уже Камчатка! Сон пострашней. Как бы в мольбе: — Хозяина! — на канапе Сама сжимается перчатка! Но если жизнь равна себе, Как спирт сгорает без остатка! Счастливые не видят сны. Как и часов не наблюдают. И те, которым дни пресны. Как сброшенные в ров, страшны. Из снов беззвучно выпадают. Так было. Я поставил крест На всех мечтах необозримых. Как председатель злачных мест Зимой сопливой на озимых. Орлы, признавшие насест, Есть индюки. Не пощадим их! Не снились мне — ни ост, ни вест, Ни призраки моих любимых. И да простится этот жест: Из раны сердца, как червей, Я выковыривал друзей. Меня родимый свинобес Волок по слизистым уступам. Все дальше, дальше от небес. За свинобесом свинобес. Как знак всемирности, процесс Замкнул швейцарец с ледорубом. Так вот он, господи, прогресс, В его значении сугубом! И вдруг ты, чудо из чудес. На четвереньках в сон мой влез, Я рассмеялся и воскрес: Ты мне приснился с первым зубом! — Да будет свет! — малыш исторг. И я нажал на выключатель. О, ломоносовский восторг. Омытый золотом старатель! Природа света — давний спор. Два великана — Гете — Ньютон. Вопрос неясен до сих пор И окончательно запутан. По Ньютону свет — вещество. По Гете свет — идея света, Добра над мраком торжество, Как вдохновение поэта! (Хоть непонятно ничего, Но как-то поощряет это!) По Ньютону — цвет вещество. Частица бьет в глазной хрусталик. А цвет — иллюзия его. Как бы видение того. Кто выпил сам хороший шкалик. По Гете — цвет он цвет и есть. Свет подвергается атакам, А цвет суровой правды весть. Финал баталии со мраком. И потому нам колорит О компромиссе говорит. Великим славу воскурим! Но все-таки по всем приметам Чего-то не хватало им. При чем тут веймарский режим! Ребенка не хватало им, Ребенка в опытах со светом! Был Ньютон из холостяков. К тому же яблоком контужен, Детородящих пустяков Не приглашал к себе на ужин. Но Гете, Гете, первоцвет Искавший, как пастух теленка, Варум Фергессен зи, поэт, Что реагирует на свет Щебечущий цветок ребенка? И так, с ребенком на руках. Почти что чаплинская лента: Малыш и свет. Малыш впотьмах — Для чистоты эксперимента. — Да будет свет! — я сам исторг. И стало в комнате просторно. А ломоносовский восторг Был зафиксирован повторно. Семь раз с ребенком на руках. Семь раз он к свету простирался! Семь раз (запомните!) впотьмах Ко мне теснее прижимался! С проверкой опыта возни Не предстоит. Свидетель рядом. Я не Лысенко, черт возьми, Коров кормивший шоколадом! Когда малыш впотьмах прижал Ко мне трепещущее тельце, Вскричали физики: — Аврал! — Ребенка гений доказал: Любовь и свет — есть однодельцы. А Гете издали кивал: — Да, я предвидел сей провал, Я их назвал — тюрьмовладельцы! Их опыты — насилье, кнут! Природы-матери стенанья Они нам нагло выдают За добровольные признанья. Был Гете легкий Геркулес, Он созерцал наш мир, не пучась. Его к природе интерес Был не надрез или разрез. Он обтекал ее текучесть! И тут совсем недалеко До вывода, который, кстати: Как свет белеет молоко, А молоко есть жизнь дитяти. Подставленная щедро грудь, (И щедрость — свет!), любовью сжатый. Прекрасен этот Млечный Путь, Как бы в лампаду из лампады. Свет есть любовь. Любовь есть свет. (Другого не было и нет!) Дитя цветущее и ветка. И человек, конечно, свет. Но разложившийся нередко. Свет — хлеб с голодным пополам. Прозрачно-золотистый храм. До мысли радующий око. При жизни явленная нам. Единственная явность Бога!* * *
Впервые встал. Шатнуло вбок. Задумался почти печально. Смелей, смелей! Еще шажок! И да поможет тебе Бог Надежнее, чем сила ног, Стоять и мыслить вертикально!* * *
Ну а теперь к себе, малыш. Хочу начать стихотворенье. Ты протестуешь, ты кричишь. Тебя уносят, мой малыш. Искусство — жертвоприношенье. За дело! Комната в дыму Сдирается с картины пленка. Да славится в любом дому Щебечущий цветок ребенка.Паром
На гаснущих пиршествах жизни. На свадьбах и тризнах отчизны Всё меньше и меньше желанных. Всё больше и больше незваных. Друзья обратились в знакомых. Приветствовать странно кивком их. И не приветствовать странно Кивком же в дверях ресторана. Зато как естественно в морге. Где неуместны восторги. А те, что вышли в начальство, Не нас приглашают на чай свой, А если б и пригласили, В каком разговаривать стиле? В дилемме: паек или пайка? Есть некая тайная спайка. О чем рассказать могли бы Они. Но молчат по-рыбьи. Питаясь икрою пайковой. Хранимой, как тайна алькова. Наш Дарвин и без фрегата Открыл в человеке гада, Обратным ударом плети Задвинув тысячелетья. Что делать? И только к умершим Мы нашу любовь не уменьшим. Они новгородское вече По радио ловят под вечер, Дознаться хотят до причины Страны ли своей ли кончины. Должно быть, опущенный кабель, Размыло от каплющих капель, И не сотрясает глушитель Тамошнюю обитель. Раздавлены наши надежды, Как мальчики в Будапеште Или как женственность Праги, Сама приспустившая флаги. Разбрызгало нас, раскромсало. Свихнувшихся тоже немало. Их души, смешавшись с мозгами. Отваливались кусками. Иные далеко-далече От нас и от нашей речи. Другие вроде поближе. Понятнее те, что в Париже: Уроды соборов милее Уродов на Мавзолее, Хотя б потому, что грифоны Не шамкают в микрофоны. Мы те же и всё же не те же. Всё реже, и реже, и реже Бывалые наши застолья И шуток свободных фриволье. И хлоркой продутых вокзалов Несет от банкетных бокалов, И хочется, больше не споря. Домой — из чужого подворья. Домой! Но всё меньше родимых, Развеяло ветром, как дым их Очнешься — ни дыма, ни дома… Но местность как будто знакома. Очнешься! Как сиро! Как сыро! Отбился я, что ли, от мира? Конец! Но, быть может, начало. Скрипучие доски причала. Река с рукавами Кодора. Паромщик багром до упора Налег, и со скрежетом блока Срывается в темень потока Огромный паром неуклюжий… Как тихо внутри и снаружи! И дальше на левобережье Не виден ни конный, ни пеший. А помнится, в детстве, бывало. Когда рукава затопляло. Встречали родных в половодье. Держа лошадей за поводья. …Качнулся фонарь или лампа. Паромщик! Да это ж Харлампо! Теперь он хозяин парома Пастух наш, сменивший Харона. А дядя, умерший от рака, Насмешник, смеется: — Однако И здесь мы не можем без грека. Как горцы без козьего млека. — Повыше фонарь или лампу! — Я крикнул: — Да ты ли, Харлампо?! Я помню жестокую дату. Вас вывезли в сорок девятом И сбросили в степь Казахстана… Он глянул сурово и странно И молвил по-гречески: — Нэпе, В гробу я видал ваши степи. Я грек. А у грека Эллада, Эгейского моря прохлада. И мрамор, над миром парящий. Мне снится всё чаще и чаще. О нас, что в барханы зарыты. Не вспомнили ваши пииты. И только в родные пределы. Без визы пройдя Дарданеллы, Как плакальщицы, дельфины Три дня волновали Афины. Но что там! И греки легко нас Забыли… О, хронос! О, хронос! Он смолк, и в молчании горьком Стал черпать из днища ведерком, Как будто не течь, но теченье Потока имело значенье. Как будто не это корыто Спасал он, но честь Демокрита. Я крикнул: — Фонарь или лампу Повыше! Кто рядом, Харлампо? Он молвил, огонь подымая: — Сегодня раскладка такая — Твои здесь. Я их горевестник, А брат твой мне брат и ровесник. Как будто от взрыва над крышей Взметнулись летучие мыши! И вдруг! Но без стен и без крыши, Я признаки нашего дома Узнал в очертаньях парома. Да, брат мой… Его по затылку Признал я. Склонившись, бутылку. Отнюдь не с запиской, конечно. За борт окунал он прилежно. (Следила сестра безутешно.) Кто смолоду с Бахусом свыкся. Тот пьет и над водами Стикса. А рядом кузен огнеглазый. Охотником и скалолазом Он был, но в тюрьме по доносу Загнулся, не вынув занозу Из сердца, как истинный кровник. Хоть умер недавно виновник. Он так говорит: — Перевозчик, Прибудет на днях мой доносчик. Он умер, но все же вторично Я должен убить его лично. На банке передней у края, Какую-то ручку строгая. Белея рубахой нательной Мой дед примостился отдельно. — Ах, дедушка мой горбоносый. Твои ли несметные козы Трещали в чегемских чащобах. Пугая коров крутолобых? Блеющим водопадом Стекали к загонным оградам? Но дед меня слушать не хочет И словно при жизни бормочет: — Слюнтяи! Ленивое племя! Пахать, говорю, уже время! …Бывало, с последней звездою За первой ступал бороздою, Шел, землю взрезая, как масло. Покуда заря не погасла. Пласты за пластами валились, Как дымные ломти, сочились Земли нашей жирные комья… И словно осекся: — О чем я?! — И сквозь задрожавшие губы, — Сгубили быков душегубы. Не знаю я, как там на небе. Кто занят заботой о хлебе. Но к Богу, сбираясь по круче С мотыгой, я думаю, лучше. Я думаю, и без чегемцев Хватает ему иждивенцев. …Он ручку в клинок забивает И вмиг обо мне забывает. А вот на корме моя мама… На берег покинутый прямо Глядит и глядит ненаглядно, Не видит меня, вероятно. И шепчет, я слышу, со вздохом: — Мне сын мой привиделся плохо. Мы все-таки вместе отныне, А он там один на чужбине. У губ ее горькая складка. Как сладко, бывало, как сладко Ту складку при жизни хотелось Разгладить… Да вот не успелось. …Аресты, и войны, и ссылки. В Сибирь принимались посылки. А что в них? Чеснок да консервы. Но ищут приемщицы-стервы Оружья, точнее, записки — И в клочья — табачные низки. Как будто на листьях табачных Шифровки о происках мрачных. Посылки ползли, доползали. Хотя и не знаю, всегда ли. Но чаще всего адресаты, Не выдержав зимней осады. Невидимые за ширью. Лежали уже под Сибирью, Как некая плата за злато. Что вырыла та же лопата. Чесночные связки над ними Могли быть венками сухими. В стране суетливых героев. Бараками Север застроив. Пьянея от ласки и таски. В предчувствии неувязки, Наркомы, как наркоманы. Зубами ломали стаканы. Шел пир победивших лакеев. Но дым его жирный отвеяв. Который стоял коромыслом. Ты стала достоинством Смысла. Беззвучною силой презренья. Рождая на миг уваженье. Отпрянувшего шакала. Но стая опять подступала. Печальная здравость крестьянки В ребенке, в подростке, в подранке, Энергию боли сгущала В какой-то кристалл идеала. Царапающий алмазом. Но сохраняющий разум. О, как ты несла свою ношу! О, мама! Я тоже не сброшу. Пока в этом мире я значусь, О вас расскажу и расплачусь. Пред Господом с этою книгой Предстану, как дед мой, с мотыгой. Прощайте, прощайте, прощайте. Хотя бы во сне обещайте. Являться и вновь уноситься. Душа — это легкая птица. Навряд ли о жизни загробья Расскажут мне ваши подобья. Но мысленно: — Кто там? — прикинешь И как-то спокойней за финиш. А если подробности вытрясть Из мужества — детская хитрость — Быть может, стремление к маме. Хотя и не ведаем сами. Но я не скажу, что убийца Есть средство с любимыми слиться. Прощайте, прощайте, прощайте! И сны мои вновь навещайте! Что смерть? Это путь населенья Из города снова в селенье. Но так ли, как в детстве, бывало. Когда рукава затопляло. Встречали родных в половодье. Держа лошадей за поводья? Огонь над водой убывает. Мой дом от меня уплывает. Отбросив ненужные стены. И тает во мгле постепенно Огня покачнувшийся конус, И шепот далекий: — О, хронос!Баллада о свободе
Как тот, что пил, на копье опершись, и ел свой шашлык с копья, Так я таскался с тобою всю жизнь, пером по бумаге скребя. Свобода, где, когда, почему я полюбил тебя. Как тот, что пил, на копье опершись, и ел свой шашлык с копья? Свобода, как весело морю отдать своей невесомости груз. И красный сок течет по щекам — свобода — разбитый арбуз! Свобода, я за оркестром бегу и рядом собачка моя. Белочка, мы за свободой бежим, свободные, ты и я! Свобода — это впервые верхом. Не тряская рысь, а галоп. И ветер, волнуя, целует меня, как женщина мальчика — в лоб Свобода — ты дядя любимый мой с вечной усмешкой у рта. И легкость! Легкость, легкость во всем! Легкость и острота! И вдруг он исчез. И детство в разрез! Прощай, капитан Немо! Бухта Нагаева. Магадан. Мое первое в жизни письмо. Бухта Нагаева. Магадан. Как пионер в Артек, К дяде любимому по ночам я совершал побег. Нет, не возмездье меня вело в глухой, одинокой борьбе. Нет, не возмездье меня вело, а только любовь к тебе. Можно и без свободы прожить. Это как жизнь при луне. Но круглосуточный лунный свет ужас внушает мне. И если я пел над бегущей волной — серебристый бег ковыля, И водопад дрожал, как клинок, и женщиной пахла земля; И если сумерки я воспел опущенных тихо ресниц; И взлет дирижерских рук сравнил со взлетом множества птиц; И если в позе стекающих ив мерещился мне всегда Призыв к милосердию и чистоте — молитва или вода; И если в горах в болтовне пастухов дохнуло Гомером вдруг: — Да будь ты горящей рубашкой на мне — тебя я не скину, мой друг! И если я с мордою льва сравнил нахмуренный взгляд айвы, И тайну внезапных смертей открыл — авитаминоз любви; И если ловил я приметы земли яростно и остро. Как рот мальчугана после игры бурлящее ловит ситро; И если я понял: вечерняя грусть, природы пригашенный свет — Прививка печали, чтоб все-таки жить в мире, где мамы нет; И если ценил я приметы земли: пахнет кувшином винцо, У раздувающего огонь богоподобно лицо! И если любил я приметы земли: к финишной ленте стремясь. Грудью бегуньи подхвачена страсть и опадает, струясь!* * *
И если любил я приметы земли, думаю, было за что: На электрическом счетчике вдруг — ласточкино гнездо! И если действительность я приподнял и приспустил небосвод, И место их встречи искусством назвал и это искусство живет! И если я сам чинодрала скрестил с обычной домашней козой, То все потому, что свободу любил, воздух ее золотой! Как тот, что пил, на копье опершись, и ел что придется с копья. Так я таскался с тобою всю жизнь в лохмах надежд и репья. Нет, не возмездье меня вело в глухой одинокой борьбе. Не романтическое весло, а только верность тебе. Входило в условье игры обнажать фланги и личный тыл, За каждый расплывчатый снимок твой я теплою кровью платил. Этого не отнимет никто. Это мне было дано. Свобода сама играла во мне, как юмор и как вино. Я улыбаться учил страну и в первый миг сгоряча Даже в Кремле улыбнулся один — и схлопотал строгача. Лики чинов позднее мрачил вид мой, всего окромя, Как если б в райком въехал верхом, копьем в коридорах гремя! То ли свидетель жизни иной, то ли на эту — прицел… Так Сталин на сына от первой жены, глядя на Яшу, мрачнел. Конечно, наивность; я молод был и в этом не вижу вины: Сумма улыбок, надеялся я, изменит характер страны. Улыбка — в бездонное небо глазок или на пыльный тракт. Утечка пафоса и вообще внегосударственный акт. Но это угрюмство подвальных лиц меня убивало всегда: Теперь я стыжусь того, что хотел, но не стыжусь стыда. Слепому, который еще не шагнул, но уже перила схватил. Надежней перила без лестниц, чем лестницы без перил. Слепому, который, перила схватив, уже в пустоту шагнул, О том, что он знает, мешает сказать потусторонний гул.* * *
Эта страна, как огромный завод, где можно ишачить и красть. Что производит этот завод? Он производит власть. Власть производит, как ни крути — хочешь, воруй и пей! Ибо растление душ и есть — прибыль, сверхприбыль властей. И вещество растленных душ (нация, где твой цвет?) Власти качают для власти, как из кита спермацет.* * *
Как время крестьянам погоду ловить — самая благодать! — Как время женщину удержать и время с женщиной рвать. Так, думаю я, для каждой страны есть исторический миг… Встань за свободу и стой стоймя! Не устоял — не мужик. Мы прозевали время свое, прошляпили, протрепав. В этой стране все зыбко плывет, даже тюремный устав. Мы припозднились, гоняя дымы, вина, шары, чаи. Глянул в окно, а там давно гниют, фашизея, свои.* * *
Бег под кнутом! Бег от кнута! Пьянки — загранки! — Закрут! Бег под кнутом! Бег от кнута! И никогда — на кнут. — Стой, кто идет! — Я же стоял?! — Если стоял — ложись! — Я ведь лежал! — Если лежал, мать твою, в землю вожмись! Какому Шекспиру?!.. Волчицей Светлана летит из кольца! При помощи праха мужа бежала от праха отца! От черного юмора этих вестей можно сойти с ума. Но безумие новостей здравого жаждет ума!* * *
С этой страны, как ковер со стены, содрали этический слой Дворянства! И великий народ стал великой туфтой. Грустно. И ни черта не понять, что там мозгует режим: Северным рекам шеи свернуть или отнять Гольфстрим! В галстуках новая татарва. Впору сказать: Салям! Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам. Мне надоел бледнолицый Ислам! Грязный Шахсей-вахсей, Где битый цепями укажет сам на слабые звенья цепей! Не то чтобы с гор или с неба упал и отряхнул штаны, Я генетически не совпадал с рефлексами этой страны! Мимика, жесты, мигающий глаз, пальцев хозяйский знак. Я понимать не желаю язык сторожевых собак! Не понимаю и не пойму! Предпочитаю отлов! Стою, как последний индеец, с копьем — ни шашлыков, ни зубов! Бухта Нагаева. Магадан. Дикое слово — цинга. Помнится, дядя из дома просил юмора и чеснока. Тень его встречу. Я старше теперь. Можно признаться ей: «Так получилось, но всю свою жизнь я верен улыбке твоей».* * *
Друга облапив свободной рукой, ни на кого не косясь, Я никогда не пройду Москвой, громко ругая власть. Сын мой, время уходит мое, твое еще не пришло. Нет основания полагать, что ты не застанешь зло. Ноя не хочу, чтобы ты продолжал столетнюю эту войну, Где бочки клевет катит клеврет и жизнь всегда на кону Я каждому встречному в этой стране свободную душу дарил. И каждый второй (да и первый порой!) мне личную яму рыл. Наспех, должно быть, рыли они, под свой лилипутский рост. Я все еще жив и только на лбу линии новых борозд. — Что это? — Спросишь. — Зависть, Мой сын, религия всех калек. И нелюди никогда не простят того, что ты — человек. Впрочем, довольно… Ошибки отца, сын мой, не повтори! Свобода — свобода только тогда, когда растет изнутри. Но я не хочу, чтобы ты продолжал столетнюю эту войну, Где бочки клевет катит клеврет и жизнь всегда на кону. Из самого пламени я кричу, но не сочтите за бред, За выслугу лет Бога прошу сыну белый билет! Я не прошу за выслугу лет отставку и пенсион. Белый билет для сына прошу! Не для себя пансион! Господи, для сына прошу: это тебе по плечу! Честным, но непричастным войне сына видеть хочу! Но если честность сама по себе уже невозможна там. Сын мой, я на другом берегу. Мужчина решает сам.Эпиграммы и шутки
Источник звука
Мы слышим громкий лай его, Не замечая самого. Новейшей физики черта: Есть лающая пустота.Экономия
Перерасходовала яд! Кусать гадюке не велят. И безработная гадюка Шипит в тоске: — Какая мука Яд экономить, как бензин. Когда кругом толпа разинь!Торгаш
Он отказался от идей Скотоподобных торгашей. Но дело в том, что за отказ Дерет он втридорога с нас.Прямота
Наш друг, он, как султан Гамид, Своим друзьям в глаза хамит. А за глаза друзьям хвала. Как бы заочная халва. Коль не хамить нельзя, ханыга. Уж лучше за глаза хами-ка!Венок сонетов
Он был живым среди поэтов, Но, написав «Венок сонетов». Себя убил в расцвете лет Венком увесистым поэт. У изголовья иль у ног Поставить роковой венок? Шепнула скорбная вдова: — Достойней все же голова.Маятник
То губы чмокают в тиши. То вдруг скелеты — костью о кость! Раскачка низменной души; Сентиментальность и жестокость!Иуда
Иуда — сильный человек, Я говорю к тому, Что убивать его вовек Не грешно никому!Хам
Слышу ли поступь победную хама? Да, слышу Если и сам не услышу, хам не услышать не даст.Говорун
Весь ум на кончик языка Загнал и корчит знатока. Чтобы с его умом покончить. Мы отхватили этот кончик!Гремучка
Мадам — гремучая змея. Об этом знала лишь семья. А на людях бывала дивной. Включив глушитель портативный.Злопыхатель
Напоминает он весьма Везувий злобного дерьма. Пока я думал так, робея, Погиб, как некогда Помпея!Гад
Небо гада Небогато. Лишь созвездье Скорпиона Светит гаду с небосклона Благосклонно.Рассеянный
Выдавил свежую пасту на щетку зубную. Щетку ко рту поднеся, вспомнил, что нету зубов.В мастерской художника
Гостелюбивый наш мастер гостя встречает любезно. Любит, однако, его он в уходящий момент. — Мысли в полотнах больших, — мастер сказал нам, — большие. Кстати, и гостю спереть эти полотна трудней.Желудь
Как живете? — спросит молодь. Я скажу: — Живу, как желудь, Между дубом и свиньей. Хрюкающей подо мной. Ты ведь дуб! — скажу я дубу. Он ответит: — Это грубо! — И стряхнет меня свинье. Хорошо живется мне!Совесть
Те, кто совестью торгуют, Тем торгуют, чего нет, И, о совести толкуя. Натолкуют сто монет. Веселей торгуйте, братцы, Ведь нельзя проторговаться. Тем торгуя, чего нет!В защиту лакея
На что надеялся лакей. Когда свой нож всадил мне в глотку! Я прохрипел ему: — О’кей! Лакею поднесите водку! — Я сам хотел себе свернуть Вот эту дорогую шею. Но я, как барин, не умею, А он — лакей. Он понял суть. И хоть де-юре он — злодей. Но действовал, как мой лакей!Сверхчеловек
А кто такой сверхчеловек. Создатель новой Мекки? Он просто недочеловек Верхом на человеке.Одной красавице
Пой, красавица! Мужчин глухая раса С дней Адама предпочла уже Хорошо организованное мясо Хорошо организованной душе.Молитва
Господь, наш путь тобой завещан. Спаси, не требуя причин. Страшусь неженственности женщин И бабомыслия мужчин.Переводы из Редьярда Киплинга
Баллада о Западе и Востоке
О, Запад есть Запад. Восток есть Восток, они не сомкнутся нигде, Пока души не вывернет, как потроха. Всевышний на Страшном суде. Но Запада нет! И Востока нет! И нам этот блеф не к лицу. Когда с доблестью доблесть, два сына земли — ни с места! — лицом к лицу! Кемал бежал с двадцатью людьми в края, где крепок адат, И кобылу полковника, гордость его, увел из-под носа солдат. В конюшню нырнул ни свет ни заря, когда проскрипел дергач, Шипы крутанул и подковы прочь! Пальцами в гриву — и вскачь! И полковничий сын, разведчик лихой, в огонь водивший отряд. Сказал: — Неужто, ребята мои, от нас уйдет конокрад? И тогда в ответ встал Мохамед, Россальдара славного сын: — Кемала ловить — все равно что ловить рассветный туман долин. Он в сумерки пройдет Абазай, в Бонайре встретит зарю. Но форт Букло ему, как назло, не миновать, говорю. И если галопом к форту Букло, быстрее, чем птица на юг… Бог помощь! У входа в ущелье Джагей схлестнемся, и вору каюк! Но если прошел он ущелье Джагей, назад вороти коней. Там люди Кемала, им нет числа, они как в поле репей! Справа скала. И слева — скала. Терновник, и небо мертво. И только затворы клац да клац! Оглянешься — никого. — Полковничий сын вскочил на коня. Конь — адский котел его грудь, А шею согнуть — что шеей своей виселицу свернуть! И вот уже форт встречает его, зовет на дружеский пир. Но тому, кто Кемала решил обуздать, — узда обеденный жир. И вот уже форт Букло позади, а он все быстрей и быстрей. Кто хочет вернуть кобылу отца, спешит к воротам Джагей! Кто хочет вернуть кобылу отца… Вот он! Мелькнул конокрад! Полковничий сын рванул пистолет, и на скаку, наугад Он выстрелил раз! Он выстрелил два! А пули все скок-перескок! — По-солдатски стреляешь! — крикнул Кемал, — посмотрим, какой ты ездок! — В громе копыт ущелье Джагей, и пыль, словно рушится твердь. Скакун летел, как летит олень, но кобыла — как рыжая смерть. Скакун, засекаясь, грызет мундштук, тяжелея, клюет головой, А кобыла играет легкой уздой, как девчонка перчаткой порой. Слева — скала. И справа — скала. Терновник, и небо мертво. И только затворы клац да клац! Оглянешься — никого. …То ли месяц они согнали с небес, то ли согнули в рог? Скакун уже мчится, как раненый бык, а кобыла — что стригунок. И грянул скакун о кучу камней, забился, сползая в завал. Но — осадил кобылу Кемал и всадника поддержал. Он вышиб из рук его пистолет: — Не к месту шальной свинец! Ты жив еще, малый, лишь потому, что дорог Кемалу храбрец. За двадцать миль здесь нету скалы, не сыщешь корявого пня. Откуда бы мой человек не достал того, кто целит в меня. И стоит мне руку слегка приподнять и после ладонью в траву — Устроят шакалы шакалий пир, рассевшись по старшинству. И если на грудь моя голова как знак упадет без сил. Те коршуны, что над нами свистят, ужравшись, не вымахнут крыл. — Но легко отвечал полковничий сын: — Твои гости единых кровей, Не лучше ль убытки сперва подсчитать, сзывая высоких гостей? Когда тысячи сабель на воздух плеснут, чтоб кости мои вернуть. Окажется вору шакалий пир не по карману чуть-чуть. Наши кони потопчут хлеба на корню. Солдаты вырежут скот. И урожай соломенных крыш голодный огонь сожрет. Что ж, если цена по карману тебе и собратья ужина ждут, Воем, как и положено псу, сзывай шакалов, я тут! Но если цена чересчур высока — и хлеб, и кровли, и скот… Верни мне кобылу отца моего — и кончим на этом счет. — Кемал пятерней ухватил его и поставил перед собой: — Ни слова о псах! Здесь с волком волк — бывалый и молодой! Коль трону тебя — да буду я жрать падаль и саранчу! Ты шутку кидаешь навстречу копью, ты хлопаешь смерть по плечу! — Легко отвечает полковничий сын: — Честь рода важней головы. Отец мой дарит кобылу тебе, друг друга стоите вы. — …А кобыла меж тем хозяину в грудь уткнулась мордой своей… — С тобой мы равны, но кобыла всегда любит того, кто юней. Пускай же она конокрада дар легко несет, как перо: В расшивке седло, и чепрак к седлу, и звонких стремян серебро. — И полковничий сын достает пистолет: — Нас выстрел трезвит порой. Я тем пистолетом стрелял во врага, я другу дарю другой. — Дар за дар! — воскликнул Кемал. — Твой отец, чтоб меня побороть. Плотью от плоти своей рискнул, и я ему шлю свою плоть. — Он свистнул сына. И сын его — одним прыжком из-за скал. Стройно качнувшись, словно копье, с отцом своим рядом встал. — Вот твой хозяин! — кивнул Кемал. — Служи ему, словно щит. Он водит разведчиков ночью и днем туда, где дело горит. Пока я сам не расторг союз, в законе его права. За кровь его теперь на кону, мой сын, твоя голова. Отныне хлеб королевы — твой хлеб, и враг королевы — твой враг. И если облавой сквозь мрак на отца — иди на отца сквозь мрак! Служи ему верно в походном седле, в горах и на плоской земле, Где, может, в чинах подымешься ты, а я подымусь в петле. И они взглянули друг другу в глаза, которым неведом страх, И клятву на братство дали они на соли и на хлебах. На гладком клинке, который поднял огня и земли замес. На рукоятке стального ножа, на имени Бога Чудес. Два сына, два брата на седла свои и к форту Букло — намет! А в форте Букло: — Он один уходил… Откуда же этот приплод? — Но вот показались казармы вблизи и двадцать сабель — в упор. И каждая сабля хотела лизнуть кровь жителя жарких гор. — Ни шагу! — вскричал полковничий сын. — Ни шагу! Оружие прочь! Я прошлою ночью вора искал, я брата нашел в эту ночь. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, они не сомкнутся нигде, Пока души не вывернет, как потроха. Всевышний на Страшном суде. Но Запада нет! И Востока нет! И нам этот блеф не к лицу. Когда с доблестью доблесть, два сына земли — ни с места! — лицом к лицу!Заповедь
Прямее голову! Когда вокруг смятенье — Тебя в смятении смятенные винят, К ним не испытывай законного презренья, За непрезрение не требуя наград. И ждать умей! И жди не уставая! Оболганный, не замечай лжеца И, равновесием крикливость побивая, Не будь смешным, не корчи мудреца. Умей мечтать — не став рабом мечтанья, Плененный мыслью, помни: плен есть плен. Что впереди? Триумф или изгнанье? А вдуматься — то и другое — тлен. Терпи, когда кретинам в назиданье Твой труд мошенники коверкают кругом. Строй заново разбитой жизни зданье, Склонись, не брезгуя обломками при том Пусть разлетится нажитое — пух и перья! Без риска жизни нет! Но, проиграв, — Ни слова! Ни полслова о потере! Всё заново! И — никаких! Ты прав! Когда ослабнут тело, кровь и нервы И вдруг захочется, упав, лежать ничком. Тогда последнее, что есть еще в резерве, Подымет воля и вперед — броском! Умей с толпою говорить не опрощаясь, Не мельтеша — беседовать с царем. Жить, даже дружбою не слишком обольщаясь. Чтобы не слишком горевать потом. Жизнь, как дистанция, уходит, голубея. Ты понял всё? Так начинай забег! Ты миром овладел, собой владея, И более, мой сын, ты — человек!Эссе
Размышления писателя
Одно из самых очаровательных воспоминаний детства — это наслаждение, которое я испытал, когда наша учительница первых классов читала нам вслух на уроке «Капитанскую дочку». Это были счастливые минуты, их не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю жизнь. Счастлив человек, которому повезло с первой учительницей. Мне повезло.
Александра Ивановна, моя первая учительница, любовь и благодарность к ней я пронес сквозь всю жизнь.
Уже зрелым человеком я прочел записки Марины Цветаевой о Пушкине. Из них следует, что будущая мятежная поэтесса, читая «Капитанскую дочку», с таинственным наслаждением все время ждала появления Пугачева. У меня было совсем другое. Я с величайшим наслаждением все время ждал появления Савельича.
Этот заячий тулупчик, эта доходящая до безрассудства любовь и преданность своему Петруше. Невероятная трогательность. Разве Савельич раб? Да он на самом деле хозяин положения! Петруша беззащитен против всеохватывающей деспотической любви и преданности ему Савельича. Он беспомощен против нее, потому что он хороший человек и понимает, что деспотичность именно от любви и преданности ему.
Еще почти ребенком, слушая чтение «Капитанской дочки», я чувствовал комическую перевернутость психологических отношений хозяина и слуги, где слуга и есть истинный хозяин. Но именно потому, что он бесконечно предан и любит своего хозяина. Любовь — главнее всех.
Видно, Пушкин сам тосковал по такой любви и преданности, может быть, ностальгически переодел Арину Родионовну в одежды Савельича.
Главным и неизменным признаком удачи художественного произведения является желание вернуться к нему, перечитать его и повторить наслаждение. В силу жизненных обстоятельств мы можем и не вернуться к любимому произведению, но сама надежда, мечта вернуться к нему греет сердце, придает жизненные силы.
Насколько легко ограбить, обмануть культурного человека в жизни, настолько трудней его ограбить в духовном отношении. Потеряв многое, почти все, культурный человек, по сравнению с обычным, крепче в сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать «Казаков» и «Войну и мир» Толстого. Далеко не все потеряно.
Чтение Достоевского в юности производило потрясающее впечатление. Я до сих пор уверен, что человек, прочитавший «Преступление и наказание», гораздо менее способен убить другого человека, чем человек, не читавший этого романа. И дело не в том, что Достоевский говорит о справедливой наказуемости преступления.
Дело в том, что Достоевский в этом романе разворачивает перед нашими глазами грандиозную психическую сложность человека. Чем отчетливее мы понимаем психическую сложность живого существа, тем трудней его уничтожить.
Нормальный человек может срубить дерево, некоторым образом чувствуя жалость к нему, с еще большим чувством жалости, но преодолевая его, он может зарезать животное, чтоб воспользоваться его мясом, но перед убийством человека для нормального человека встает невидимая, но хорошо ощущаемая стена — это сама психическая сложность человека. Человек слишком сложен, чтобы убивать его. Убивая человека, ты слишком многое убиваешь заодно с ним, и прежде всего свою душу.
Убийство человека — это в миниатюре уничтожение жизни на Земле. Профессиональный убийца сам психически примитивен, почти как животное, и потому он не видит большой разницы между убийством человека и животного.
Однажды я спросил нашего знаменитого священника и богослова отца Александра Меня, впоследствии зверски убитого топором:
— Вам приходилось ли когда-нибудь убивать?
— Однажды шмеля убил, — сказал он с сожалением, — был раздражен, а он слишком пристал ко мне.
Это был человек огромной религиозной и светской культуры.
Еще пару слов о Достоевском. Лица его героев как бы слабо озарены еще далеким, но уже начавшимся пожаром всемирной катастрофы. И они, его герои, интуитивно чувствуют приближение этой катастрофы, спешат, захлебываются, надрываются, скандалят, пытаясь спасти свою душу или пытаясь, как отец Карамазов, ужраться жизнью до наступления этой катастрофы. Надвигающаяся катастрофа стократ усиливает чувство жизни в его героях. Гениальные прозрения соседствуют с мусорным потоком слов. У героев Достоевского слишком мало времени, чтобы сжато, афористично говорить. Слишком мало времени осталось до катастрофы, слишком много вопросов еще не разрешено, и состояние предкатастрофной правды обрекает его героев на захлебывающееся многословие. Иначе было бы недостаточно правдиво.
В этом основа стилистики Достоевского. Предкатастрофное состояние героев. Сама жизнь Достоевского: эшафот, каторга, ожидание припадков вырабатывали его яростный предкатастрофный стиль.
Вообще свой собственный стиль есть абсолютная, единственная, последняя правда каждого настоящего писателя.
Как бы умен или красноречив ни был тот или иной писатель, но если мы не чувствуем его собственного стиля, который нас подхватывает, значит, у этого писателя нет высшей духовной правды, ради которой он пишет. Наличие собственного стиля, собственного почерка писателя неизменно делает правдой любую его фантазию. Отсутствие собственного стиля неизменно делает пустой фантазией любую его правду. Стиль невозможно выработать искусственно, как парус не может выработать ветер, который его надувает. Писатель может, как Достоевский и Толстой, говорить тысячи противоречивых вещей, но если все это несется в русле его стиля, значит, все это правда.
В этой связи вспоминаю записанный Горьким эпизод его разговора с Львом Толстым. Ручаюсь только за смысл.
— Страшна та женщина, — сказал Толстой, — которая держит мужа за душу.
— Но ведь в «Крейцеровой сонате», — напомнил Горький, намекая на совсем другую материю, данную нам в ощущениях, — вы имели в виду прямо противоположное место.
— Я не зяблик, чтобы все время петь одну и ту же песню, — ответил Толстой.
До этого они говорили о зябликах.
* * *
Всю мировую литературу я разделяю на два типа — литература дома и литература бездомья. Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии. Разумеется, при этом качество литературного произведения зависит не от того, какого типа эта литература, а от силы таланта художника.
Интересно, что в русской литературе эти два типа художников появлялись нередко в виде двойчатки, почти одновременно.
Так Пушкин и Лермонтов — достигнутая гармония (Пушкин) и великая тоска по гармонии (Лермонтов). Такая же пара: Толстой — Достоевский. В двадцатом веке наиболее яркая пара: Ахматова — Цветаева.
Литература дома имеет ту простую человеческую особенность, что рядом с ее героями хотелось бы жить, ты под крышей дружеского дома, ты укрыт от мировых бурь, ты рядом с доброжелательными, милыми хозяевами. И здесь в гостеприимном и уютном доме ты можешь с хозяином дома поразмышлять и о судьбах мира, и о действиях мировых бурь.
Литература бездомья не имеет стен, она открыта мировым бурям, она как бы испытывает тебя в условиях настоящей трагедии, ты заворожен, затянут видением бездны жизни, но всегда жить рядом с этой бездной ты не хочешь. Впрочем, это во многом зависит от характера читателя.
Литература дома — преимущественно мудрость (Пушкин, Толстой). Литература бездомья — преимущественно ум (Лермонтов, Достоевский).
Мудрость сразу охватывает все окружение, но видит не так уж далеко, потому что далеко видеть и не надо, поскольку, видя все вокруг, мудрость убеждается, что человек везде человек и страсти человека вокруг одинаковы.
Ум имеет более узкий кругозор, но видит гораздо дальше.
Так, Достоевский разглядел далеких бесов и в бешенстве помчался на них, как бык на красную тряпку.
Литература дома всегда гораздо более детализирована, поскольку здесь мир — дом, и нельзя не пощупать и не назвать милую сердцу творца домашнюю утварь.
Литература бездомья ничем не детализирует, кроме многообразия своего бездомья, да и какие могут быть милые сердцу детали быта, когда дома нет.
Зато литература бездомья гораздо более динамична, она жадно ищет гармонию и в поисках этой гармонии постоянно убыстряет шаги, переходящие в побежку, а иногда, отрываясь от земли, летит.
Безумный безудерж Достоевского — и мощный замедленный ритм Толстого.
Как динамична Цветаева и как статична Ахматова! И обе — великие поэты. Ахматова — литература дома. Цветаева — литература бездомья. И сразу, с ранней юности, обозначилась таковой, хотя родилась и жила в уютном профессорском доме.
Оба поэта — люди трагической судьбы. Но одна из них сразу стала поэтом дома, а другая поэтом бездомья.
В известной мере Ахматова и Цветаева выступают в двадцатом веке в роли Пушкина и Лермонтова. И мы как бы догадываемся, что если бы не роковые обстоятельства, Пушкин прожил бы долгую жизнь и умер бы своей смертью. Лермонтов тоже прожил бы гораздо дольше, но трагический конец его был предрешен.
Разумеется, в совершенно чистом виде эти два типа литературы почти не существуют. Но как две мощные склонности они реальны. Они необходимы друг другу и будут сосуществовать вечно.
* * *
В истории развития мировой культуры есть загадочные явления. Одним из таких явлений я считаю наличие в магометанском мире великой поэзии, но отсутствие, во всяком случае до последнего времени, великой прозы.
Мы, например, знаем, как богата персидская поэзия, но где же проза? Где великий психологический роман?
Я думаю, дело в христианской основе европейского искусства. Хотя Толстой писал, что все религии говорят одно и то же, но все-таки у каждой есть свой существенный оттенок.
Христианство придает исключительную важность жизни человеческой души. Весь человек — это душа. Или человек чистотой своей души добивается ее бессмертия, или губит свою душу греховной жизнью, или, осознав свой грех, через покаяние добивается выздоровления души. Христианство в своей основе в Евангелии уже рассмотрело все комбинации душевной жизни человека и пути ее спасения.
Христианская культура в ее литературном развитии никак не могла не проникнуться этой основой христианской мысли. Но как выразить в рассказе или в романе состояние человеческой души? Единственное средство — изобразить психическую жизнь человека. Вне изображения психической жизни человека невозможно понять его душу Постепенно это стало литературной традицией, и в девятнадцатом веке она достигла полного развития в европейском и русском психологическом романе или рассказе. И уже талантливые, но атеистически настроенные писатели не могли обойтись без глубокого изображения психической жизни человека. Таков наш Чехов. Будучи атеистом, он чисто музыкально уловил и великолепно зафиксировал действие евангельского сюжета на простого человека. И вся серьезная русская и европейская литература — это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца. Все псевдоноваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение, ибо дело художника вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души.
Мы говорим: эта картина поэтична, этот рассказ или стихотворение поэтичен. Но что это значит? Конечно, это значит, что они талантливы. Но в чем суть самого таланта? Талант необъясним, как Бог, но Бог объясним необъяснимостью таланта.
Суть, на мой взгляд, в том, что истинный талант ту или иную картину жизни умеет осветить светом вечности, умеет вырвать из жизни и показать ее на фоне вечности. Мы радуемся такому художественному произведению, часто не осознавая причину радости. Мы говорим себе: «Как живо! Как точно! Как правдиво!»
И все это верно, но не до конца. На самом деле нас восхищает эта живость, правдивость, точность потому, что все это просвечивается сквозь вечность. Нас радует и обнадеживает двойственность ее существования. Картина нас радует здесь, потому что одновременно там. Она ровно настолько радует здесь, насколько она там.
Мы чувствуем, что красота вечна, что душа бессмертна, и наша собственная душа радуется такому шансу. Художник нас утешает правдой своего искусства. У искусства две темы: призыв и утешение. Но в конечном счете и призыв есть форма утешения.
Если легко понять, почему нас восхищает толстовская Наташа, как вечная женственность, казалось бы, трудней понять, почему такой мошенник, как Ноздрев, нас тоже по-своему радует, мы хохочем, как правдиво его Гоголь рисует.
Мы чувствуем, что человеческая вздорность в лице Ноздрева тоже вечна и обречена на вечное художественное, а не просто басенное разоблачение.
Несколько раз в жизни, встречая вздорного жулика, пытавшегося мне что-то всучить, я начинал взрываться от возмущения и вдруг вспоминал: Господи, это же Ноздрев, как точно он его повторяет!
И как это ни странно, сила возмущения ослабевала, я только пытался отстраниться от него, что было тоже нелегко, потому что сам новоявленный Ноздрев не понимал, что я в нем уже угадал Ноздрева. Все это становилось смешным, потому что новоявленный Ноздрев, не понимая, что он уже разоблачен, упорствовал, и чем больше упорствовал в мошенничестве, тем феноменальней делалось его сходство с уже давно описанным Ноздревым.
Гениальный создатель человеческих типов как бы угадывает вечный химический состав этого типа, заставляющий его в любых исторических обстоятельствах действовать одинаково. Господи, думаем мы, там крепостное право, а здесь социализм или капитализм, а Ноздрев все тот же.
Наше знание Гоголя — это часть нашей культуры и, как видим, знание культуры утешает. Мы говорим себе: это Ноздрев, а Ноздрев и не может иначе действовать. И эта же культура подсказывает нам, как иллюзорны любые социальные эксперименты, при которых якобы Ноздревы исчезнут. Социальная критика того времени вполне ошибочно решила, что Гоголь создал сатиру на крепостническую Россию. На самом деле Гоголь, если в «Мертвых душах» и создал сатиру, то это сатира на все человечество, хотя человеческие типы, естественно, как у русского писателя, у него имеют национальную физиономию. Вечность, в которую поместил своих героев Гоголь, мы ощущаем как могучее нравственное небо, под которым его герои видятся особенно приплюснутыми и смехотворными. Но читатель все время чувствует внутри произведений Гоголя это могучее нравственное небо и в конечном счете смеется, но и жалеет их.
У другого нашего знаменитого сатирика, у Зощенко, мы не чувствуем, да и сам он не видит, никакого нравственного неба над головой своих героев. Поэтому его произведения воспринимаются как очень тонко беллетризованные научные очерки, что-то вроде антидарвинизма, невероятно смешные рассказы о превращении человека в обезьяну Безнадежность у Зощенко столь велика, что перестает быть даже пессимизмом, который, сожалея об удаленности человека от полюса добра, все-таки признает его двухполюсность.
* * *
Я хочу высказать предположение, которое может показаться парадоксальным. Гений нации самым слабым, отсталым формам национальной жизни придает самый цветущий вид. В этом, может быть, подсознательно сказывается благородный пафос лечения нации, если это вообще возможно.
Думаю, что в общей исторической перспективе это возможно. Великий гуманистический пафос русской классической литературы общепризнан. Томас Манн назвал русскую литературу святой. Но не есть ли это реакция национального гения на жестокость российской жизни, попытка лечения ее?
Великая немецкая философия и великая немецкая музыка, самые поднебесные формы культуры не есть ли реакция на слишком практичную, приземленную немецкую жизнь?
Знаменитый трезвый французский разум, то, что Блок назвал «острый галльский смысл», не есть ли реакция на французское легкомыслие?
Национальный гений как бы говорит своей нации: «Подымайся! Это возможно. Я ведь показал, что это возможно!»
Среднему человеку любой нации можно сказать: «Скажи, кто твой национальный гений, и я скажу, кто ты. Только наоборот». Национальный гений обладает еще одним парадоксальным свойством. Как французы повлияли на Пушкина — мы знаем. Как Шиллер повлиял на Достоевского — мы знаем. Как Достоевский повлиял на всю новейшую мировую литературу — мы знаем.
Чтобы созрел великий национальный писатель, необходимо, чтобы он прошел межнациональное перекрестное опыление. Оказывается, предварительным условием углубленного национального самопознания является знание чужого, прививка чужого. Существование национального гения доказывает, что народы должны стремиться к сближению. То, что либеральная политика (мысль о сближении народов) стремится доказать риторически, культура на практике уже давно доказала.
* * *
Слово поэта обладает таинственной, мистической властью над ним и его судьбой. Вспоминая стихи русских поэтов первого ряда, я не могу назвать ни одного, кто бы писал о самоубийстве. Никого, кроме Маяковского, Есенина и Цветаевой. И все трое покончили жизнь самоубийством.
Какая связь между поэтическим словом и жизнью поэта? Видимо, огромная, но до конца понять мы ее не можем. Материалистически это можно объяснить так: эти трагические поэты слишком часто зависали над бездной и рано или поздно должны были по теории вероятности сорваться в нее. И сорвались. Мне кажется, такое объяснение недостаточно убедительно. Более трагическую судьбу, чем у Достоевского, трудно представить. Он не только иногда, но всю жизнь сознательно зависал над бездной, однако покончить с жизнью никогда не стремился. Он страстно изучал бездну, точно зная, что человечество скоро само зависнет над ней. И он, изучая бездну, искал средство спасти его.
У поэта, как и у всякого человека, может возникнуть нестерпимая боль, отвращение к жизни, желание покончить с этой болью. Но, видимо, есть грандиозная разница между желанием покончить с этой жизнью и его зафиксированностью в поэтическом произведении. Дьявол хватает это стихотворение и бежит к своему начальству, как со справкой: «Вот его подпись! Он сам захотел!» Дьявол вообще любит справки.
Слово поэта — суть его дело. Зафиксировав в стихотворении желание уйти из этой жизни и продолжая жить, поэт подсознательно превращается в позорного неплательщика своего долга. И совесть рано или поздно взрывается: пишу одно, а живу по-другому. Выход тут только один: покаянное проклятие того рокового стихотворения, но проклятие, тоже зафиксированное в поэтическом произведении.
А еще лучше никогда поэтически не фиксировать желание смерти ни родным, ни родине, никому. Даже если такое желание возникает.
Выходит, я выступаю против искренности поэта? Да, я выступаю против греховной искренности поэта. Неискренность всегда отвратительна. Но иногда и искренность отвратительна, если она греховна.
Если жизнь представляется невозможной, есть более мужественное решение, чем уход из жизни. Человек должен сказать себе: если жизнь действительно невозможна, то она остановится сама. А если она не останавливается, значит, надо перетерпеть боль.
Так суждено. Каждый, перетерпевший большую боль, знает, с какой изумительной свежестью после этого ему раскрывается жизнь. Это дар самой жизни за верность ей, а может быть, даже одобрительный кивок Бога.
В связи со всем этим я хотел несколько слов сказать о так называемом серебряном веке русской литературы. У нас его сейчас безмерно захвалили. Конечно, в это время жили великий Блок, великий Бунин, кстати питавший пророческое отвращение к этому серебряному веку, были и другие талантливые писатели.
Но Серебряный век принес нашей культуре, нашему народу неизмеримо больше зла, чем добра. Это было время самой разнузданной страсти к вседозволенности, к ничтожной мистике, к смакованию человеческих слабостей, а главное, всепожирающего любопытства к злу, даже якобы самоотверженных призывов к дьявольской силе, которая явится и все уничтожит.
Самое искреннее и, вероятно, самое сильное стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» великолепно демонстрирует идеологию Серебряного века.
Где вы, грядущие гунны, Что тучей нависли над миром? Слышу ваш топот чугунный По еще не открытым Памирам.И кончается стихотворение так:
Бесследно исчезнет, быть может. Что ведомо было одним нам. Но вас, кто меня уничтожит. Встречаю приветственным гимном!Какой самоубийственный гимн, какой сложный человек, восторженно думали многие читатели того времени. А ведь Брюсов — человек, хотя и талантливый, совсем несложный, а наоборот, примитивный, и даже с примитивной хитростью, что гунны учтут его гимн. И гунны, явившись, действительно учли этот гимн и самого Брюсова пощадили и даже слегка возвеличили его.
* * *
Поговорим о брезгливости. Тема эта в сегодняшней России особенно актуальна. Откуда она вообще взялась?
Представим себе миссионера на стоянке дикаря. Тот уже овладел огнем и настолько цивилизован, что ест жареное мясо. Он жадно отправляет в род дымящиеся куски. То ли от дыма, то ли от простуды вдруг у него потекло из носу. Дикарь почувствовал под носом неприятное щекотание и, чтобы унять это щекотание, не прерывая приятное занятие, мазнул под носом очередным куском мяса и отправил его в рот.
И тут наш миссионер пытается ему объяснить, что он нехорошо поступает. Он срывает лопоухий лист с близрастущего куста, приближает его к собственному носу (платок слишком сложно) и показывает, как надо было поступить. Дикарь внимательно выслушивает его и вдруг с сокрушительной разумностью говорит:
— Но ведь это не меняет вкус поджаренного мяса!
И в самом деле миссионер вынужден признать, что для дикаря это не меняет вкус поджаренного мяса.
Брезгливость — плод цивилизации и культуры. Это легко подтверждается на примере ребенка. Маленький ребенок в состоянии полуразумности, как маленький дикарь, тянет в рот все, что попадает ему под руку. Позже, наученный окружающими людьми, он усваивает уровень брезгливости своего времени.
Как наглядно, что физическая брезгливость человека развивается вместе с цивилизацией, и какая драма человечества, что нравственная брезгливость развивается гораздо медленней, хотя и само ее развитие многим может показаться спорным.
Но я предполагаю, что нравственная брезгливость в человеке развивалась вместе с религией и культурой. Не обязаны ли мы более всего Евангелию за то отвращение, которое мы испытываем к предательству? Образ Иуды стал нарицательным. И хотя поток доносов достаточно мощен до сих пор, но не был бы он еще более мощным, если бы люди не содрогались, уподобляя себя Иуде?
Настоящее художественное произведение не может обойтись без этического напряжения. Читая настоящую литературу, мы не только наслаждаемся красотой, но и невольно развиваем в себе нравственные мускулы. И в этом, грубо говоря, практическая польза культуры.
Но культура таит в себе свою трагедию. До тех, кому она нужнее всего, до широких народных масс, она доходит медленно, слишком медленно. Такое впечатление, что самая малая доза культуры создает в народе насыщенный раствор и все остальное выпадает в осадок. Культурой в основном пользуются культурные люди, и получается, что культура сама себя пожирает. В этом ее трагедия.
Как ее преодолеть — вопрос грандиозной сложности, который должно пытаться разрешить общество в целом и государство. Техническое развитие человеческого ума вырвалось вперед, оторвалось от культуры и грозит человечеству гибелью то ли от рук террористов, то ли от рук безумного диктатора, овладевшего атомным оружием. То ли просто от нового варварства вседозволенности псевдокультуры, которой народ пичкают глупые книги и средства массовой информации и которую народ активно поглощает и потому, что она примитивная, и потому, что она поощряет низменные человеческие инстинкты. Проявляя нравственную брезгливость, мы должны уже сегодня с этой псевдокультурой бороться более беспощадно.
Положение народа еще более драматично, чем положение самой культуры. Народы мира теряют нравственные нормы своих традиций, вырабатывавшиеся тысячелетиями, а настоящей общечеловеческой культуры, как я уже говорил, пока почти не усваивают. Не случайно терроризм в мире принял международный характер. Уверен, что лихие боевики сыграли в этом свою роль. Народы уходят от своей народной культуры и не приходят к общечеловеческой. На вопрос: «Умеешь ли ты читать?» — один из героев Фолкнера отвечает: «По-печатному могу. А так нет».
Давно замечено, что полная неграмотность нравственно выше полуграмотности. Это касается и интеллигенции.
…В связи с наступающим хамством. Небольшой пример, как любил говорить вождь. Насколько я помню из литературы, в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века слово «дерзость» имело отрицательный смысл.
Говорили: «Повар надерзил. Пришлось отправить его на конюшню».
Уже у Даля, конечно, в связи с развитием живого языка, это слово имеет два практически противоположных смысла. Дерзость — необычайная смелость. Дерзость — необычайная наглость и грубость.
С начала двадцатого века положительный смысл этого слова в сущности становится единственным. Чем больше хамство побеждало в жизни, тем более красивым это слово выглядело в литературе. И уже невозможно ему вернуть первоначальный смысл. Иногда люди, не замечая комического эффекта, противопоставляют это слово первоначальному смыслу. «Наглец, но какой дерзкий», — говорится иногда не без восхищения.
Таким образом, слово «дерзость» — небольшая филологическая победа большого хамства.
* * *
Вот математическое определение таланта. Талант — это количество контактных точек соприкосновения с читателем на единицу литературной площади. Онегинская строфа дает нам наибольшее количество контактных точек, и именно поэтому «Евгений Онегин» — самая гениальная поэма русской литературы. Пушкин нам дал изумительное по точности описание самого состояния вдохновения. Но откуда оно берется, он не сказал.
Я скажу просто: вдохновение есть награда за взыскующую честность художника. Верующий уточнил бы — награда Бога.
Атеист сказал бы: награда нашей нравственной природы. На что верующий мог бы спросить: а откуда взялась ваша нравственная природа? Но этот спор вечен.
Когда перед нами истинно талантливое произведение, это всегда субъективно честно, но охват истины зависит и от силы таланта, и знания предмета, и того идеала честности, который выработан данным писателем. Вдохновение вбрасывает писателя на вершину его идеала. Но вершины идеала Льва Толстого или просто хорошего писателя Писемского находятся на разном уровне, и тут наша собственная честность в измерении их достижений должна учитывать это. Толстой со своей высоты видит всех и потому виден всем. Просто одаренный писатель со своей высоты тоже видит кое-что и виден каким-то людям. Более того, какие-то части открывающегося ландшафта одаренный писатель может видеть лучше гения. Только боюсь, что это мое утешение не остановило бы Сальери. Крайность.
Вдохновение может заблуждаться, но оно не может лгать. Скажу точнее, все истинно вдохновенное всегда истинно правдиво, но адресат может быть ложным. Представим себе поэта, написавшего гениальное стихотворение о животворной разумности движения светила с востока на запад. Можем ли мы наслаждаться таким стихотворением, зная, что оно не соответствует законам астрономии? Безусловно, можем! Мы наслаждаемся пластикой описания летнего дня, мы даже наслаждаемся очарованием доверчивости поэта: как видит, так и поет!
Такие ошибки бывают, но они сравнительно редки, потому что вдохновение вообще есть одержимость истиной, и в момент вдохновения художник видит истину со всей доступной ему полнотой. Но одержимость истиной чаще всего приходит к тому, кто больше всего о ней думает.
Я скажу такую вещь: существует жалкий предрассудок, что, садясь писать, надо писать честно. Если мы садимся писать с мыслью писать честно, мы поздно задумались о честности: поезд уже ушел.
Я думаю, что для писателя, как, видимо, для всякого художника, первым главнейшим актом творчества является сама его жизнь. Таким образом, писатель, садясь писать, только дописывает уже написанное его жизнью. Написанное его личной жизнью уже определило сюжет и героя в первом акте его творчества. Дальше можно только дописывать.
Писатель не только, как и всякий человек, создает в своей голове образ своего миропонимания, но неизменно воспроизводит его на бумаге. Ничего другого он воспроизвести не может. Все другое — ходули или чужая чернильница. Это сразу видно, и мы говорим — это не художник.
Поэтому настоящий художник интуитивно, а потом и сознательно строит свое миропонимание, как волю к добру, как бесконечный процесс самоочищения и очищения окружающей среды. И это есть наращивание этического пафоса, заработанное собственной жизнью. И другого источника энергии у писателя просто нет.
Виктор Шкловский где-то писал, что обыкновенный человек просто физически не смог бы за всю свою жизнь столько раз переписать «Войну и мир». Конечно, не смог бы, потому что у обыкновенного человека не было такого первого грандиозного акта творчества, как жизнь Толстого, породившая эту энергию.
Живому человеку свойственно ошибаться, спотыкаться. Естественно, это же свойственно и писателю. Может ли жизнь писателя, которая в первом акте самой жизни прошла как ошибка и заблуждение, стать предметом изображения во втором акте творчества на бумаге?
Может, только в том случае, если второй акт есть покаянное описание этого заблуждения. Искренность покаяния и порождает энергию вдохновения. Я бы ничего не имел и против заранее запланированного заблуждения, но это пустой номер, при этом не выделяется творческой энергии.
В России жил один из самых гармонических поэтов мира — Пушкин. Больше никогда не повторившееся у нас — великое и мудрое пушкинское равновесие. Однако гармония в российской жизни пока никак не удается. И никогда не удавалась. Был, говорят, Петр Великий. Может быть, гений, но как человек воплощение самых крайних крайностей. И не было ни одного гармонического царя, не говоря о генсеках.
Впрочем, кажется, при Екатерине наметилось какое-то равновесие: извела мужа, но ввела картошку. Эта наша ученая Гретхен очень любила военачальников и сильно приближала их к себе. Вообще при Екатерине каждый храбрый военный человек имел шанс быть сильно приближенным. Может быть, поэтому, говорят, Россия при Екатерине вела самые удачные войны. Она ввела в армии принцип личной заинтересованности. Нет, мудрого пушкинского равновесия и здесь не получается.
Как же так? В России был величайший гармонический поэт, а гармонии никогда не было. Но раз Пушкин был в России, значит, гармония в России в принципе возможна. Почему же ее нет? Выходит, мы плохо читали Пушкина. Особенно политики.
Я бы предложил в порядке шутки, похожей на правду, будущим политическим деятелям России, положив руку на томик Пушкина, давать клятву народу, что перед каждым серьезным политическим решением они будут перечитывать Пушкина, чтобы привести себя в состояние мудрого пушкинского равновесия.
Все остальное мы уже испытали: дворцовые перевороты с удушением монарха, реформы, контрреформы, революции, контрреволюции — ничего не помогает, нет гармонии в российской жизни.
Пушкин — наш последний шанс. И если мы еще иногда способны шутить — это тоже Пушкин.
Поэты и цари
На мой взгляд, идеальное государство — это такое государство, о существовании которого мы вспоминаем один раз в году при виде налогового уведомления.
Чем хуже государственное устройство, тем больше мы о нем думаем. Чем больше мы о нем думаем, тем меньше мы занимаемся своим делом. Чем меньше мы занимаемся своим делом, тем хуже государство. Есть ли выход из этой дурной бесконечности?
Иногда хочется огрызнуться словами поэта: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!»
Но тут всплывают слова Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала». Хочется крикнуть: «А ты не оглядывайся!» Но, видно, нельзя не оглянуться, не получается.
Иногда думается, как и сто лет назад: может, наша страна слишком огромна и оттого наши беды? Может, благополучие народа зависит от количества разума на единицу государственной площади?
Озираясь на русскую литературу девятнадцатого века, видишь не только великих художников, но и политических борцов, иногда создателей государства в государстве.
Взаимозацикленность писателя и власти удивительна. Начиная с Пушкина, власть не сводит глаз с писателя, но и писатель не сводит глаз с властей.
За свободолюбивые юношеские стихи Александр Пушкин был сослан в Бессарабию Александром I. В бурной душе молодого Пушкина, кажется, должны были прозвучать такие слова: «Не ты, а я царь! И я это тебе докажу!»
И доказал. Все творчество Пушкина можно рассматривать как особый вид доказательства: власть духа выше власти силы. Настойчивые, сладострастные воспевания Петра Великого отчасти намек на ничтожность, плюгавость современных ему царей.
Медный всадник, скачущий по мостовым Петербурга, кажется, призван пугать не только Евгения, но и обитателей Зимнего дворца. Во всяком случае, Николай запретил печатать «Медного всадника». А случаен ли Гришка Отрепьев, Пугачев в заячьем тулупчике с барского плеча? Так, похаживают, чтобы цари не забывались.
Сама возможность двойничества, самозванства вносит оскорбительную сомнительность в абсолютную власть царей. Пушкин как бы говорит: «Меня, Пушкина, заменить нельзя. А вас можно».
В какие бы дали свободного романа ни уносился Пушкин, он не забывал своих соперников по трону духа, своих гонителей и обидчиков. В итоговом «Памятнике» не случайно:
Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.Еще доклокатывает страсть уходящей жизни: главою непокорной. Но последняя обрывистая строка овеяна не только гордостью, но, если вслушаться, можно уловить в ней и призвук грусти: а стоило ли состязаться? И не доясняет ли причину этой тайной грусти концовка «Памятника»:
И не оспоривай глупца.Однако спор продолжается. Рыком раненого льва встретит Лермонтов смерть Пушкина и примет опалу, как эстафету. Через много лет из Ясной Поляны бывший артиллерийский офицер Лев Толстой несколькими тяжелыми снарядами обрушит последний бастион николаевской эпохи. У него будет свой счет, но это и месть за Пушкина.
Вот кто действительно победил всех царей, императоров и президентов. Вот он стоит, с рукой, засунутой за пояс, и смотрит на нас прямым, немигающим взглядом. Мужицкий царь! Гордыня правоты! В неслыханной ясности слога беспощадное понимание хронической тупости человечества! Ясности, полной ясности! Чтобы ни один человек потом не сказал: «Я это не так понял».
Знает ли он, что и через сто лет ни один серьезный писатель планеты, засев за книгу, не сможет не учитывать могучую магнитную аномалию Ясной Поляны?
Что ему Петр Первый, что Наполеон? Убийца не может быть великим, он может быть только мерзавцем. И он спорит с царями в творчестве и в жизни. Русским царям хватило ума не посадить его в тюрьму, чего он жаждал, и не хватило подлости устроить что-нибудь вроде случая на охоте.
Да и что ему цари, когда он один с каменным топором логики в руках уже пытается остановить громыхающие обозы мировой цивилизации. Думаю, не потому, что был против нее вообще, а потому, что звериным чутьем угадывал ее опасную неподготовленность.
Не представляю Толстого, живущего на земле во время безумия Первой мировой войны. Хочется думать, что организаторы бойни так и не решились начать при нем.
Но вот он умер, и все рухнуло. Говорят, последними его словами были: «Не понимаю…» На языке этой жизни он хотел понять если не ту жизнь, то хотя бы смысл смерти. Всю жизнь от жизни требовавший ясности, он и от смерти требовал ее. Но не дождался и честно передал это людям: «Не понимаю».
Можно и так расшифровать его слова: «Там что-то происходит, но что именно, понять не могу».
Из всех больших русских поэтов послереволюционной России Маяковский первым прервал великую традицию спора с царями. Дело, конечно, не в том, что спорить с вождями революции стало куда опасней, чем спорить с царями. Если б это было так, обязательно в стихах кое-что осталось бы. Вдохновение озаряет душу поэта моментальными снимками и обнажает то, что сам поэт может и не замечать. Образ, созданный поэтом, который одновременно раскрывает его сильную и слабую стороны, он изменить не может, если сокрытие слабостей влечет за собой искажение образа. Настоящему художнику цельность его метафоры важней его личной репутации. Так что дело не в этом, а совсем в другом.
Маяковскому от природы было дано сознание большого трагического поэта. Сознание это оказалось для него непосильной ношей. Все его дореволюционное творчество — боль, ярость, ненависть.
Как бешеный бык с налитыми кровью глазами, он кружился по дореволюционным аренам России. Ему было очень плохо. В стихах постоянные угрозы самоубийства.
Кстати, насколько я помню, из больших наших поэтов только Маяковский, Есенин и Цветаева писали о самоубийстве, и все трое покончили с собой. Не знаю, пророчество ли это или страшная реальность их жизни: кто часто зависал над пропастью, один раз мог и сорваться. Все-таки я предостерег бы поэтов писать на эту тему.
Это как если повторять человеку одно и то же, а он не понимает. И ты срываешься в крик. Самоубийца, вероятно, повторяя в жизни одно и то же, неожиданно срывается в крик.
Маяковский об этом писал чаще всех. Он ждал, что должна случиться какая-то внешняя катастрофа, которая избавит его от внутренней.
При гипертрофированности его поэтического сознания он вполне мог чувствовать себя сейсмическим аппаратом, предсказывающим близость этой катастрофы. Если бы он жил в Японии, вероятно, он предсказывал бы неслыханное землетрясение Но где взять землетрясение в долинной России, и он предсказывал революцию.
И вдруг революция свершилась. Как человек, на котором горит одежда, бросается в реку, он бросился в революцию. Содрал с себя горящую одежду трагического сознания и как будто выздоровел и влюбился в Ленина. Так пациент психиатра может влюбиться в своего врача, избавившего его от великой боли.
Тогда понятно, почему футурист Маяковский, сбрасывавший своих предшественников с парохода современности, как пьяный со стола бутылки, не мог вступать в спор с Лениным.
Ленин сделал революцию. Революция избавила Маяковского от боли. Завтра она весь мир избавит от боли. Если мир этого сегодня не чувствует, то только потому, что он не может быть таким чутким, как поэт. Он, Маяковский, и боль сильнее всех чувствовал как поэт и по этой же причине сейчас чувствует, что боль стихает. Он верит! Революция пришла, чтобы мир избавить от боли, — и потому он ощущает, что боль действительно стихает. Такова сила самовнушения этой мощной и одновременно суеверно уставившейся в будущее личности.
Революция снимает боль — и вдруг уже после революции опять выброс страшной боли — поэма «Про это». Любовь не получается и после революции. Как понять? И снова нахмуренный, суеверный взгляд в будущее — все ответы там. И ответ приходит. Очень просто. Революция победила только в России, а поэт — всемирное вместилище боли. Надо, чтобы революция победила во всем мире, и тогда уже действительно никогда не будет боли.
И этот выход из трагедии, кажущийся столь фантастичным в жизни, получается убедительным в поэме. Такова особенность Маяковского. Только через грандиозное преувеличение проявляется истинная реальность его поэзии.
Если не считать этой его поэмы, практически почти все послереволюционное творчество Маяковского действительно поздоровело и, увы, во многом поглупело. Только изредка вскинется прежний Маяковский — и снова сложит крылья, словно боясь, именно боясь пробудить старых демонов сомненья.
Бунтарь притих. Отныне все измеряется революцией. Нет мелкого дела: Фелиция, милиция, сапожники, пирожники, пьяницы, ударницы — всех, всех наставит на путь истины. Кого юморком подбодрит, кому и тюрьмой пригрозит.
Тот ли это гордый, трагический юноша, обещавший повести за собой Наполеона, как мопса? Сидит себе и вяжет чулок, как в хорошем сумасшедшем доме. Его меланхолическое указание на то, что это он вяжет чулки для санкюлотов, ничего не проясняя, усугубляет наши подозрения.
И, конечно, пишет стихи о Ленине. После смерти Ленина создает о нем поэму. Странно, что при всей искренности его любви к Ленину у него ничего не получается. Такое впечатление, что ему не за что уцепиться. Получается голая риторика. Он никак не может связать Ленина со свойственным собственной природе трагическим сознанием. Он сам от этого сознания отгородился и сам через Ленина пытался создать оптимистическую поэзию. Видно, тут концы с концами не сходятся, и Ленин получается у него слишком плакатным.
Интересно, что Пастернак в «Высокой болезни» с одной попытки берет вес и талантливо рисует портрет Ленина, разумеется, в духе времени сильно идеализированный:
Он управлял теченьем мыслей И только потому — страной.Это, конечно, упрек вождям, которые пришли после Ленина. Здесь Пастернак идет вслед за Пушкиным. Так Пушкин кивает на Петра.
Но действительно ли он управлял полетом мыслей? Я хочу понять этого человека. Я листаю его статьи, вчитываюсь в них, стараюсь уяснить, что стоит за этой многообразной ненавистью и однообразной скукой. И вновь убеждаюсь, что ничего не стоит, кроме самой ненависти и скуки. Повсюду я чувствую энергию бодающего ума, но нигде не проникаюсь красотой глубокой мысли, потому что таковой нет. Да и не может быть, строго говоря.
Пафос Ленина — не истина, а цель, понятая как истина. При таком психическом складе все, что тормозит движение к цели, отбрасывается с величайшим презрением. Сомненья, остановки, раздумья порождают глубокую мысль. Но я ни разу не встретил в его статьях и письмах сомнения.
Мысли, афоризмы, точные наблюдения над человеческой природой, высказанные великими историческими деятелями, остаются с нами независимо от нашего отношения к этим деятелям. Я ни разу не слышал, чтобы люди, связанные с культурой, перебрасывались ленинскими афоризмами.
Говорят, он был гением взятия и удержания власти. Не знаю. В одной из записок гражданской войны Ленин пишет каким-то начальникам: надо увеличить хлебный паек железнодорожникам, чтобы они лучше работали, и соответственно снизить хлебный паек остальным гражданам. Пусть умрут еще тысячи людей, зато мы спасем страну.
Так он пишет. Что ж тут гениального? И таких записок много. А вот его пророчество. В речи перед комсомольцами он говорит, что они, комсомольцы, через двадцать лет будут жить при коммунизме. Мог ли такое сказать проницательный человек, да еще сделавший своим богом контроль и учет?
В нравственном облике великого борца с обществом эксплуататоров забавная черта: всю жизнь нигде не работал, всегда жил на чужие деньги.
А между прочим, насколько я помню, анархист Кропоткин считал делом абсолютно принципиальным, чтобы социалист-революционер своим собственным трудом зарабатывал свой хлеб насущный. И сам всю жизнь кормил себя своим трудом.
Ленин же, начиная с шушенской ссылки, где содержался на вполне приличный государственный кошт, совершенно беззастенчиво теребит мать-пенсионерку: шли деньги, шли деньги. Как-то даже неловко читать эти письма. Хочется отвернуться, не видеть, не слышать.
Позже, живя многие и многие годы за границей, он рассылает письма во все концы света и особенно в Россию с просьбами, легко переходящими в требования, выслать деньги по его адресу.
Любимое занятие его в это время — женить какого-нибудь шалого большевика на богатой купеческой вдове. Понятно, с какой целью. Где ты, свободный от денежного мешка, социалистический брак? Вообще, когда в письмах речь идет о том, чтобы у кого-то выцарапать деньги, его сухой стиль революционного столоначальника приобретает оттенок некоторой коровьей игривости.
Нет чтобы по семейной традиции пойти поработать в какую-нибудь женевскую гимназию. Хоть на полставки, как сейчас говорят. Ведь вполне интеллигентный человек со знанием языков. Куда там! Ну, что ты, Коба, замешкался? Где мой любимый Камо?
А как обстоит дело с созидательными идеями? Насколько я знаю, именно он придумал соцсоревнование, которое должно было подхлестнуть трудовой азарт рабочих. До сих пор подхлестывает. Могло ли такое прийти в голову серьезному государственному деятелю? И почему он не подумал, что рабочие уже сотни лет трудятся на предприятиях капиталистов, а те почему-то не догадались таким простым способом повысить производительность труда.
Кстати, обреченность оппозиции Сталину, думаю, была предопределена Лениным. К тому времени Ленин уже стал благостной легендой, и оппозиционеры, пытавшиеся защититься от Сталина при помощи Ленина, слегка подзабыли его тексты. Но, обратившись к реальным текстам Ленина, они должны были с ужасом отпрянуть: Сталин не ловится! Сталин эти тексты только слегка упростил, доведя их до уровня понимания своих костоломов. Но вместе с тем он снял с них и оттенок холодной революционной колючести, придавая технике убийства партийно-семейную ритуальность.
Но ведь Ленин победил? Да, но это не было победой разума, это была победа над разумом. В мире побеждает то страсть, то разум. Так было всегда. Страсть — вторая логика. Вера в чудо порождает реальное чудо: чудо напора. У Ленина хватило страсти победить разум, но не хватило ума понять это.
Предмет его постоянной, глобальной ненависти — три кита мирового духа: религия, мораль, культура. Но это и есть разум человечества. Ленинский хищный, пристальный рационализм не должен вызывать сомнения в том, что он борется именно с разумом.
Знаменитое: и кухарка будет управлять государством! — это не ложный гимн народовластию, а злорадное выражение возмездия разуму. Изгнание философов из России — это тоже по-своему честное стремление провести эксперимент в чистом виде: отныне Россия обойдется без разума. И, словно доводя идею борьбы с разумом до абсолюта, он сам лишается его вследствие апоплексического удара. И теперь победившая революция пьет, закусывая собственными мозгами.
Но теоретически говоря, здесь ничего нового нет. Все попытки изобрести гармоническое общество всегда сводились к борьбе с реальным разумом. Логика революционера проста: в мире испокон есть ложь и есть разум. Если разум не изгнал ложь, значит, он ее обслуживает, прикрывает. Рационалист не понимает мистическую взаимосвязь разума и лжи. Он не понимает, что никогда разум не победит ложь до конца. Он ее может только ограничивать. Разум, как и ложь, есть порождение самой жизни. До конца уничтожить ложь означало бы уничтожить самую жизнь.
Отсюда печальная осторожность разума. В борьбе с ложью разум интуитивно склонен недобрать, чем перебрать и уничтожить равновесие жизни.
И точно так же по внутренней своей сущности ложь, будучи выражением зла и безумия, стремится к полному уничтожению разума, не понимая, что это означало бы уничтожение самой жизни, а следовательно и лжи.
И в этом трагизм разума. Но если идет вечная борьба добра со злом или разума с ложью на столь неравных условиях, и зло до сих пор никак не может одержать решительной победы над добром, как не поверить в таинственное преимущество добра, его божественную предопределенность?
И это заставляет подумать вот о чем. Видимо, психологическая установка по отношению к жизни верующего и неверующего человека имеет принципиальное отличие.
Верующий человек, как бы он ни был одарен, гораздо менее, чем неверующий, склонен самоутверждаться среди других людей. Его честолюбие направлено по вертикали и всегда ограничено любящим признанием невозможности сравняться с Учителем. Он вечно тянется вверх, заранее зная, что нельзя дотянуться. И самим настроем своей натуры он не может стремиться к коренным, внезапным изменениям в жизни человеческого рода, поскольку не может и не хочет заменять собой Учителя.
Наоборот, неверующий и честолюбивый человек, не имея этого высокого ориентира над собой, чаще сравнивает себя с живущими рядом людьми и, замечая свое превосходство, постоянно укрепляется в нем.
Достаточно многие реальные примеры превосходства над людьми вырабатывают в нем привычку быть первым. После того как такая привычка закрепилась в его честолюбивой душе, он, уже встречая людей, которые превосходят его, не хочет уступать, полубессознательно выпячивает недостатки соперника, иногда искренне переставая замечать его достоинства.
Так, Ленин сначала был влюбленным учеником Плеханова, а потом решил во что бы то ни стало доказать, что он превосходит Плеханова. Что тут сыграло роль? Боюсь, что ироническая улыбка Плеханова на теоретические выкладки молодого Ленина. Боюсь, что он и отделился от него и создал собственную партию, только бы не видеть эту невыносимую улыбку. Ох, не надо бы Плеханову так улыбаться! Все-таки позади Россия. Волгари, они шутить не любят. Вообще тема нашей диссертации, которую мы пишем под одобряющие кивки доктора Фрейда, — «Ленинская теория диктатуры пролетариата — метафизический бык, покрывающий и вытесняющий ироническую улыбку Плеханова».
Плеханов явно превосходил Ленина в чисто интеллектуальной сфере. Но он также уступал Ленину в революционной боевитости. По-видимому, Ленин в мучительных раздумьях о своих отношениях с Плехановым еще сильнее подхлестнул свою чудовищную боевитость и в конце концов уверил себя и многих других (но не Плеханова), что такого рода боевитость есть кратчайшая линия к революционной цели и, следовательно, она же есть выражение истины и высшего интеллекта.
Великий садовник революции как учил? Надо начинать трясти ту капиталистическую яблоню, на которой созрели яблоки. Ленин, не отрицая теории великого садовника, развил ее: яблоню можно трясти и до того, как созреют яблоки, если яблоня поддается тряске. Некогда! Яблоки и на печке дозреют. С этой теорией он и пошел на штурм России.
Эх, яблочко, куда ты катишься?
Последняя насмешка Плеханова настигла Ленина после «Апрельских тезисов». Он высмеял их в своей статье. И была в ней невыносимая снисходительность. Как бы не особенно удивляясь, как бы даже слегка подустав удивляться, он обвиняет его в очередном теоретическом жульничестве.
Этого прощать нельзя. Надо, надо брать Зимний дворец! Первая тряска! Посыпались не очень съедобные министры Временного правительства.
Разгон Учредительного собрания! Вторая тряска! Опять посыпались, уже непонятно черте-кто! И на Ленина, говорят, нашел долгий истерический хохот. Никак не могли остановить! Оказывается, все получается по теории, если рядом с теорией выставить маузер. Вот тебе и улыбка Плеханова! А может, он хохотал над Керенским? Что за пародия, создатель?
Один из Симбирска и другой из Симбирска. Один из учительской семьи и другой из учительской семьи. Один окончил гимназию с золотой медалью и другой окончил гимназию с золотой медалью. Один по образованию юрист и другой юрист. Но тут сходство кончается, вернее, начинается с обратным знаком. Один, сделав закон своим культом, потерял власть. Другой, сделав презрение к закону своим культом, эту власть забрал.
Юный поэт Леонид Каннегиссер, с необыкновенной легкостью, словно хлопнул пробкой шампанского, убивший грозного начальника петербургского ЧК Урицкого, в предчувствии собственной ранней смерти писал:
Тогда у блаженного входа, В предсмертном и радостном сне, Я вспомню — Россия, свобода, Керенский на белом коне.Можно сказать, Керенский ораторствует верхом на коне. Ленин ораторствует верхом на броневике. Если для наглядности происходящего прикрыть обоих ораторов, получится — конь против броневика. Исход — очевиден.
Если в одной руке теория, а в другой маузер, оказывается, все получается по теории. Впоследствии кто-то из большевиков, возможно, из гуманных соображений, чтобы не пускать в ход маузер, отбросив теорию, дабы освободившейся рукой дать подзатыльник, а не нажимать спусковой крючок, сделал невероятное открытие. Оказывается, если в одной руке маузер, и без теории все получается, как по теории.
Впоследствии так и пошло. Сама исправность работы маузера стала универсальным доказательством правильности теории.
Сегодня, когда и в мировом масштабе, как я думаю, дело Ленина проиграно, хочется понять: что им двигало?
Гибель любимого брата? В отличие от своих чегемцев, я в это плохо верю. Он как-то нигде не проговаривается. Может, из какого-то высшего целомудрия затаил? Но так, но настолько затаить — невозможно.
Пусть наивное в юности, но страстное романтическое желание счастья России и всему человечеству? Нету, не видел соответствующего текста, где бы неожиданно прорвалось личностное, лирическое чувство. Революционной риторики много, но она сердцу ничего не говорит. Но, может быть, он как марксист отдельно возлюбил рабочий класс? И этого нет. Даже если пишет о расстреле рабочих, он нетерпеливо спешит использовать несчастье на благо революции. Словно гонит призадумавшихся над могилой рабочих: «Чего стали, товарищи? Все на митинг протеста!»
Остается честолюбие. Революционное честолюбие. Карьера навыворот, но все-таки карьера. В те времена авторитет революционера, заступника народа, был невероятно высок. Так сложилось общественное мнение. Революционеров прятали даже генерал-губернаторы. Попробуй не спрячь, знакомые руки не подадут.
Запад в результате революций и реформ утвердил в Европе равенство сословий. В России реформы запаздывали. Именно потому, что они запаздывали, наиболее совестливая часть общества не только говорила о своей вине перед народом, но и всячески утверждала мысль, что народ выше интеллигенции. Недоданное социально возмещалось поэтически.
Когда этим занимаются такие люди, как Тургенев, Толстой, Достоевский, — общественное мнение становится делом национальным. Гений выдает за коренное свойство народа такие черты, которые ему менее всего присущи, но более всего необходимы.
Разумеется, эти черты он не выдумывает, он их берет из жизни народа, но с огромной ностальгической силой преувеличивает. Тут такой закон: самое редкое, самое поэтическое. Но поэт потому и поэт, что стремится к самому поэтическому. Самую далекую правду он изображает как самую близкую. Глубина и тонкость русской литературы была реакцией на грубость и отсталость российской жизни. Кстати, великая немецкая музыка и философия не есть ли такой же ответ на приземленность бюргерской Германии?
Гораздо позже этот культ народа среди многих причин облегчил победу Октября. Люмпен, потрошитель интеллигенции, в известной мере был ею же подготовлен. От нее он узнал, что он всегда прав.
Но так или иначе, случилось грандиозное событие — революция. Верх ушел вниз, а низы стали подниматься наверх. Прошлое кончилось, и поэтому все смотрели в будущее, как в единственную оставшуюся и потому правильную сторону.
Маяковский, засучив рукава, начинает создавать миф о революции и революционном государстве. Одновременно это и курс лечения от трагического сознания. Гете, чтобы избавиться от высотобоязни, заставлял себя почаще подниматься на высокие башни. Маяковский, чтобы избавиться от патологической брезгливости, упорно роется в мусорной яме новой жизни. Правда, только в стихах.
Родина заброшена в будущее. Все плывут. В этом будущем с государством не спорят. Поэты вместе с вождями закаляют душу солдат для мировой революции. Скоро, скоро начнется всемирный заплыв. Где ты, Мао, где ты, Янцзы? О чем спорить?
Все равны. Все взаимозаменимы. Вождь в свободное от революции время таскает бревна (показать снимок или рисунок? крупным планом), поэт учит сограждан плевать в плевательницы, крестьяне то попашут землю, то попишут стихи, начальник над всеми продуктами Цюрупа падает в голодном обмороке, из чего совершенно явно следует, что он не крадет продукты. А ведь мог.
Но ведь была же какая-то сверхзадача у Маяковского, когда он создавал этот миф? Я думаю, была. Он мечтал, чтобы люди, потрясенные красотой мифа, начали жить в согласии с ним, и тогда окажется, что никакого мифа не было, все окажется правдой.
Поразительна поэтическая честность, с которой он служил идеологии. Во всем его громадном послереволюционном творчестве не было ни единого стихотворения, которое сознательно в чем-либо отступало от нее. Уже не говоря о споре.
Он был более предан идеологии, чем сами творцы ее. Поистине трагическая преданность. Он любил Ленина, но любовь эта так и осталась без взаимности. В сущности, он раздражал Ленина: кричит, выдумывает слова. Кость, брошенную по поводу «Прозаседавшихся», трудно назвать признанием: мол, политически правильно, а поэтически — не знаю.
Кстати, отзыв Ленина об этом стихотворении очень напоминает отзыв Николая Первого о «Ревизоре». И там и тут хозяин доволен работником. Хозяева разные, но расстояние до работника одинаковое.
В последующие годы лучший певец идеологии на подозрении у идеологических вождей: попутчик. Что это означает на языке тех лет? Не наш, но пока пусть шкандыбает.
Избыток его преданности раздражал. Он был и физически слишком большой, его было слишком много. Его избыточная преданность как бы взывала к ответной преданности и грозила скандалом. Он как бы умолял партийцев, уже привыкших к сытой жизни, во имя революции время от времени брякаться в голодном обмороке Цюрупы, а они, естественно, этого не хотели.
И скандал разразился. Он покончил с собой в год великого перелома. Видимо, понял, что дальше творить миф о революции нельзя. Игра проиграна. Платить нечем. Так в старой России уходили из жизни, проиграв то, чего проигрывать нельзя. Уходили из жизни, но спасали честь. Он, сравнивавший себя с одиноким влюбленным пароходом, остался один на тонущем корабле революции, когда команда вполне благополучно с женами, детьми, любовницами сошла на завоеванный берег.
Невероятно, что, задумав умереть, он еще пишет поэму «Во весь голос». Вещь бетховенской силы, как бы написанную уже оттуда. И она, завершая миф, вливает в него свежую кровь самоубийцы.
В едином дыхании поэмы только в одном месте как бы наспех заткнутая пробоина:
…И мне бы строчить романсы на вас — Доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь На горло собственной песне.Каждый непредубежденный человек, если не совсем бегло читает эти строки, не может не обратить внимание на противоречие между первыми двумя строчками и последними. Неужели тяга к романсам была так сильна, что поэт вынужден был идти на этот страшный, преступный подвиг? И неужели он, великий лирик, тягу в свой родимый дом не мог обозначить более достойными словами?
Здесь что-то не так. Скорее всего две последние строчки — это задушенный крик ужаса при виде черной, бессмысленной жестокости революции. При этом песня, которую он душит, так сильна, что сил рук не хватает и он вынужден наступить ей на горло, как победивший дикарь. Первые две строчки скорее всего — бессознательное сокрытие истинной причины убийства песни и последующего самоубийства. Задушенная песня пришла за душой поэта.
Грех матери, убившей своего ребенка. Грех поэта, задушившего свою песню Песня-плач, песня-несогласие для него было изменой революции, которая, как он думал, спасет его и спасет мир. И он душит ее, как Отелло Дездемону. И как Отелло, он мог бы сказать: «А разлюблю, тогда наступит хаос». То есть, если он разлюбит революцию, мир развалится на куски. Значит, надо не видеть ее жестокости, и — что еще страшней — ее пошлости. Терпеть и воспевать. Но сколько можно? И задушенная песня приходит за душой поэта. И так, и так — крышка. Где же выход? Не играй в чужие игры, даже если они сулят спасение тебе и миру.
Кажется, он смутно догадывается об этом в отрывках другого вступления в поэму. Здесь Маяковский по ту сторону мифа о революции, хотя стоит рядом. Можно заподозрить, что эти отрывки (подкаламбурим в духе Маяковского) были подлинней и потому подлинней, но мы ничего не знаем по этому поводу. В сохранившемся отрывке сумрачное, грозное погромыхивание в сторону новых хозяев России. Этого раньше никогда не бывало.
Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба Шагать четверкою своих дубовых ножек. Бывает, выбросят. Не напечатав, не издав. Но слово мчится, подтянув подпруги. Звенят века. И подползают поезда Лизать поэзии мозолистые руки.Похоже, что здесь он хочет жить традиционной судьбой российского опального поэта. Разве революционный Маяковский не жаждал аплодисментов лож? Еще как жаждал. И, случалось, ложи аплодировали ему.
«Бывает, выбросят. Не напечатав, не издав» — о ком идет речь? Мы не знаем ни одного ненапечатанного стихотворения послереволюционного Маяковского. Он как будто примеривается к классической судьбе российского поэта от Пушкина до своих современников, которых уже достаточно успешно не печатали в наши хваленые двадцатые годы. Но сил у Маяковского уже, видимо, не было начинать новую судьбу.
Так закончилась попытка великого поэта придать поэзии мощь государственной воли, а государственной воле видимость поэтической свободы.
У поэта и государства совершенно разные задачи, и решать их они должны, держась подальше друг от друга. Поэт может только мечтать, чтобы совершенство строки порождало жажду совершенства мира.
Стиль художника — ответ на все вопросы, которые ставит перед ним жизнь. Никакого другого ответа у художника нет, даже если он сам по человеческой слабости к этому стремится. Стиль художника — окончательная и бесповоротная победа разума над хаосом действительности.
Я думаю, что стиль «Мертвых душ» Гоголя уже заключал в себе идею второй части «Мертвых душ», то есть победу над глупостью. И никакой необходимости во второй части не было. Пафос служения добру превзошел возможности стиля, и Гоголь от этого погиб. Пушкин это знал, даже не задумываясь. Уверен, если бы он был жив, он одной улыбкой пригасил бы пафос Гоголя и спас его. Но Пушкина уже не было.
Стиль — дело крестьянское. То есть идея окультуренного, огороженного цветения. Стиль — дальше нельзя. Хочешь дальше? Освой, обработай кусок целины — и настолько же иди дальше. Толстой пахал, чтобы соответствовать своему стилю, уточняя глубиной пахоты нажим пера.
Стиль — лучше лежать в своей могиле, чем кувыркаться в мировом пространстве. Стиль — укорененность. Поэтому стиль — враг всякой революции.
Достоевский — самый неукорененный из русских писателей. По логике он, вероятно, должен был стать самым революционным нашим писателем. Так он и начинал. И вдруг — арест петрашевцев. Эшафот. Ожидание казни, которую в последний момент карнавально отменил Николай. Не отсюда ли карнавальный стиль великих романов Достоевского?
Почему Николай I устроил этот мрачный спектакль? То ли казненные декабристы мучали его совесть, и он как бы играл вариант милосердия, чтобы избавиться от назойливых теней непоправимого варианта? Мол, могло быть и так. Кто виноват?
Сами виноваты. То ли опыт долгого сурового правления государством убедил его, что смертный страх работает лучше смерти, если ее эффектно отменить в последний миг? Не знаю.
О чем думал Достоевский в ожидании казни? Все гениальные мысли просты. Там, на эшафоте, за какие-то минуты до смерти его, вероятно, поразила мысль о бессмыслице эшафота. Неудачная революция, хотя в данном случае ее не было, приводит людей к эшафоту. Но удачная революция приводит к эшафоту тех, кого свергает она. И человек всей потрясенной душой перед смертью вдруг почувствовал несоизмерность цели и платы для обеих сторон. Эшафот — тупик. Значит, и революционный путь — тупик.
Где же выход? Так мы простоим на одном месте и тысячи лет. Ну и простоим. Слава Богу, солнце светит, ветер шумит в листве, дети смеются. Жизнь продолжается. Раз человеку дана жизнь, ответ должен быть в самой жизни. Иначе она не была бы дана.
Нетерпение в отношении к жизни в ожидании ответа есть форма неуважения к самой жизни. Но если ты самую жизнь не уважаешь, как ты ради этой жизни идешь на эшафот или тем более отправляешь другого?
Жизнь не может сама себя приводить к эшафоту. Значит, это путь в сторону от жизни. Если взрослый человек за свои грехи может быть казнен, значит, и ребенок может быть казнен. Казнь ребенка за грехи? Чудовищная бессмыслица.
Вы скажете, что у ребенка нет таких грехов, чтобы его казнили? Но это арифметика. Извольте. У ребенка маленькие грехи, так его и лишают маленькой еще жизни. Степень оправданности топора не может определиться степенью нежности шеи. Нежность шеи должна отрезвлять наше опьяненное возмездием сознание и привести к неизбежной мысли, что всякая шея слишком нежна для топора.
Революция — праведная ярость слепого. Что может быть страшнее ярости слепого с топором в руке? Кто первым подсунет топор, тот первым и отскочит. Хотя и не всегда удачно. Могу сказать, что приход революции от нас не зависит. Но от нас зависит мощь и полнота ее неприятия. И никто не измерил, насколько зависит сама возможность революции от мощи и полноты нашего неприятия ее.
Мне кажется, там, на эшафоте, как на последней странице задачника жизни, Достоевский увидел страшную ошибку любого революционного ответа. И если даже больше никогда в жизни он силой вдохновения не подымался до этой высоты, зарубка осталась. Он по памяти восстанавливал эту высоту.
В сущности, все его великие романы — это романы покаяния от соблазна революции. Можно представить, что без потрясения эшафотом они были бы с обратным знаком. Например, вместо «Преступления и наказания» — «Мнимое преступление Раскольникова». Вместо «Бесов» — «Кровавые Ангелы».
Революция требует не только достаточного количества неукорененных людей, и они в России уже были: революционная интеллигенция, дезертиры, городской и сельский люмпен. Она требует и полусочувствия ей со стороны значительной части народа, которая про себя рассуждала примерно так: менять все, вероятно, надо, но менять, вероятно, должны другие люди… Но за отсутствием других меняют те, кто хочет менять.
Революция может быть удачной и неудачной. Это случайность. Но в обоих случаях неслучайна критическая масса риска. И при удачной революции критическая масса риска может быть сравнительно небольшой. Но она бывает достаточной и чувствует себя достаточной, когда среди остального населения нет критической массы людей, готовых решительно защищаться. Думаю, поэтому революция в России победила.
После революции, как ни осложнялись судьбы поэтов, спор с царями продолжается. Ахматова, Цветаева, Булгаков, Есенин, Мандельштам, Платонов — каждый по-своему взрывается несогласием. Чтобы легализовать это несогласие, часто меняются имена и страны. Мандельштам пишет:
В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея.Вспомним строчку его же стихов о Сталине:
Его толстые пальца, как черви, жирны.Сравниваем рисунки и убеждаемся, что эти толстые пальцы принадлежат рукам вышеуказанного брадобрея. И с полным основанием возвращаем его из Европы на его историческую родину.
Страшной силы образ:
Власть отвратительна, как руки брадобрея.В одной руке бритва, другой лапает тебя за лицо. Дело не только в том, что может полоснуть. Дело в какой-то неприличной неопределенности положения клиента власти и клиента брадобрея. И та и другой как бы в силу профессии имеют право вторгаться в твое существование и лапать, безусловно, твою вещь — твое лицо. И непонятно, на какой стадии лапанья уже можно, но еще безопасно протестовать. Или раз уж ты в кресле — поздно протестовать?
К тому же вспоминаешь, что это жест уголовника. Так, взяв человека за лицо, уголовник обозначает над ним свою презрительную власть. Выходит, власть (сталинская, разумеется) — это помесь парикмахера с уголовником. Время обрабатывает наше лицо дирижерской палочкой бритвы. Сверкающая палочка так и летает.
Как невероятно за сто лет изменился образ власти и ее жертвы! Пушкинский Евгений бежит по ночному Петербургу от Медного всадника. Хотя и обречен, но все-таки действует. Картина страшна, но не лишена величия.
А тут жертва молча сидит в парикмахерском кресле. И веет жутью от ее безмолвного согласия. А для наблюдателя, не понимающего, что происходит, — это интересный социальный эксперимент. Обе стороны добровольно на него согласились. И это, пожалуй, страшнее всего.
Вокруг знаменитого стихотворения Мандельштама о Сталине уже много говорено. Таинственный звонок Пастернаку с целью выведать его истинное отношение не столько к Мандельштаму вообще, как думают исследователи, сколько именно к этому стихотворению. Но прямо сказать об этом стихотворении Сталин не хочет. Сказать прямо означало бы признать хоть какую-то зависимость от стихотворения или общественного мнения.
Возможно, он ждет, что Пастернак, как небожитель, проговорится и даст ему оценку. Но Пастернак неожиданно для Сталина осторожничает, не говорит об этом стихотворении. Сталин даже поощряет его смелость, но Пастернак уклоняется. Разговор идет вокруг да около.
Положение Бориса Пастернака сложней, чем принято думать. Во-первых, он не знает, знает ли Сталин о том, что он знает эти стихи. И что правильней, если Сталин спросит о них: признаваться или нет? Не только в плане личной судьбы, но и в плане судьбы Мандельштама. Ведь на решение Сталина может повлиять и степень распространенности стихотворения.
В этом телефонном разговоре Пастернак вынужден играть на чужом поле. Да еще со Сталиным! Он мучительно ищет способа перевести игру на свое поле, и тогда он гораздо больше сможет сделать, может быть, для понимания правительством искусства и тем самым и для Мандельштама. Наконец, он как будто вырывается. Он говорит Сталину, мол, хочется встретиться, поговорить.
— О чем? — спрашивает Сталин.
— О жизни и смерти, — наконец четко отвечает Пастернак, чувствуя под ногами родной берег: догреб. Сталин это тоже почувствовал и молча бросает трубку. Ему этого не надо.
Сравнительно легкое наказание Мандельштама за стихи о Сталине — ссылка в Чердынь, на мой взгляд, объясняется прежде всего и главным образом тем, что стихи эти Сталину понравились.
Такое мнение только кажется парадоксальным. Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения: Сталин — неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую очередь.
Наши речи за десять шагов не слышны.Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло — никто не услышит.
А слова, как тяжелые гири, верны.Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого: гири верны.
Он играет услугами полулюдей.Так это он играет, а не им играют Троцкий или Бухарин. Так должен был воспринимать Сталин. И, наконец, последние две строчки:
Что ни казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина.Последняя строчка кажется слишком неожиданной, даже по-детски неумелой. При чем тут осетин? Но это только на первый взгляд. На самом деле двоякое содержание стихотворения — ужас и неодолимая сила — окончательно выплеснулось в последней строке;
Широкая грудь — это неодолимая, победная сила, уже заслонившая горизонт. Осетина! — как бы выкрикивается, поэт как бы чувствует, что на этом слове в него выстрелят. Нация, конечно, тут ни при чем. Срывается маска самозванства. В этом разоблачительная энергия последнего слова… отчаянье и какая-то детскость, конечно. Словно Красная Шапочка уже из пасти волка кричит:
«Ты не бабушка!»
Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться. А кем его будут считать, осетином или грузином, его вообще не очень волновало, я думаю. Тогда. Стихотворение выражало ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается и это приятно, но…
Публиковать его, конечно, нельзя. Оставить без внимания тоже. В НКВД о нем знают. Ягода возмущался. Но читал наизусть. Много на себя берет. Оставить стихи без внимания — кое-кто поймет как слабость Сталина. Нельзя. Вот если Мандельштам в будущем напишет стихотворение о Сталине, внушающее ужас перед неодолимой силой Сталина, но написанное нашим, приличным, революционным языком… Посмотрим.
Отсюда, я думаю, резолюция: изолировать, но сохранить. Сравнительно мирная первая ссылка. Думаю, позже он о нем вообще забыл, тем более что цель была достигнута полностью. Страна после тридцать седьмого года оцепенела даже с избытком. Чтобы слегка растормошить ее, пришлось некоторое количество осужденных выпустить и, наоборот, расстрелять Ежова. Тоже много на себя брал.
Дальнейшие годы Мандельштама до гибели в лагере: судороги страха, неуклюжие попытки сдаться на милость, взрывы гордыни, нежность, проклятья, безумье. Вот из воронежской тетради:
И в яму, в бородавчатую темь Скольжу к обледенелой водокачке, И, задыхаясь, мертвый воздух ем, И разлетаются грачи в горячке.Куда слетаются грачи? Почему разлетаются? Потому что упавший шевельнулся? В стихах что-то от безумных пейзажей Ван Гога. Но безумие Ван Гога — это личная драма. Безумие Мандельштама — дело рук, тех самых рук брадобрея.
Протест Ахматовой, можно сказать, добрался до филологических корней. Если стиль ее рассматривать вне контекста эпохи, вне ее духовного пафоса, может показаться недостаточно гибкой ее ложноклассическая окаменелость. Так оно и есть в самом деле. Но ее леденящая, даже вне политических стихов, стилистическая застылость молча кричит: «Вас нет! Я продолжаю пушкинскую эпоху».
И опять Европа в помощь России. Там были все варианты нашей истории, но не так густо и в разбросе по разным странам. Стихотворение «Данте». Воспевая его крутой, его непреклонный средневековый затылок, не бросает ли она горестный упрек сломленным сынам России? Учитесь! Таким должен быть мужчина!
Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся. Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятье. За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог ее забыть, — Но босой, в рубахе покаянной. Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной. Вероломной, низкой, долгожданной…В стихах «Поэты» Александр Блок выразил вечное, классическое отношение поэта к действительности:
Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцей. А вот у поэта — всемирный запой, И мало ему конституций!Блок здесь, конечно, смеется над обывателем, но гений его ухватил нечто гораздо более важное и глубокое. Первые две строчки — программа государства. Вторые две строчки — программа поэта.
Государство должно стремиться к тому, чтобы среди его граждан было как можно больше людей, довольных собой, и женой, и своей конституцией, даже пусть куцей. А поэт должен стремиться к всемирному запою, то есть к беспределу этических требований к миру.
Только в параллельности этих двух задач, в их жизненной неслиянности — залог нормальной жизни народа. Только не сливаясь в жизни, задача государства и задача поэта сливаются в духе.
Чем больше в народе людей, довольных собой и женой, тем вольней поэту выражать свое несогласие с этим, и в высшем смысле его предназначение в удерживании общества от самодовольства.
После революции в России все перевернулось. Поэты, ужаснувшись окружающему хаосу, стали призывать к государственной трезвости.
Молодой Мандельштам:
Но жертвы не хотят слепые небеса: Вернее труд и постоянство.А вчерашние подпольщики, замиравшие при виде полицейского, вдруг стали хозяевами всей страны. И они опьянели от власти, и стали безумными поэтами власти. Психологически их можно понять: если получилось это, то есть захват власти, то почему же не получится все остальное?
В сущности, с определенной точки зрения все призывы нашего государства к народу — это попытка превратить всех людей в поэтов. И угрозы и поощрения сводились к этому. Если б это было возможно, если бы народ, презрев хлеб насущный, мог бы жить, как настоящий поэт, энтузиазмом и вдохновением, вероятно, можно было бы и коммунизм построить.
Но такого народа никогда не было и не будет. У народа своя великая генетическая задача — улучшать условия своего самосохранения. Этот инстинкт в нашем народе серьезно поврежден, но я уверен, что выздоровление еще возможно. Тихому буддийскому самоубийству народа на просторах России приходит конец. Даже его излишняя раздраженность — признак того, что он жив и хочет жить.
Но какой же поэтический, он же графоманский, размах в мечтаньях государства: мировая революция, сплошная коллективизация, электрификация, чекизация и уже в наши дни — пьяная мечта одним махом покончить с пьянством. Бешенство мечты.
Легко заподозрить, что такое воспаление мечты вызвано подсознательным страхом бессилия перед реальностью. Строитель, не умеющий построить курятник, объявляет, что он будет строить сказочный дворец, где будет место и курятнику. Таким образом, ответственность за конечный результат отодвигается в бесконечность.
В этих условиях лучшие наши писатели взяли на себя непосильное бремя отрезвления власти: от иронии над безмерным пафосом будущего до жалости к человеку, задавленному государственной мечтой.
Власти на этот отрезвляющий голос отвечали в лучшем случае презрительным упреком в обывательской ограниченности (они же поэты), а в худшем известно как. Поющая диктатура обладала необыкновенным авторским самолюбием и была изрядно вспыльчива, особенно в молодости.
Сегодня обрушилась крыша над нашей головой, и некоторые удивляются, как она так легко обрушилась. Хотя достойно гораздо большего удивления, что она так долго могла продержаться.
Никто не знает, что будет завтра. И оттого сегодня в народе неуверенность, злоба, раздражение, трясучка. Воздушные поцелуи публицистов в сторону демократии слишком затянулись. Ситуация почти семейная. Сын хочет жениться на демократии, а мама-партия против: «Она плохая. Она торгует».
Сыну ничего не остается, как решить вопрос в явочном порядке и сказать родительнице: «Мама, она беременна. Я как порядочный человек и сын порядочных родителей…»
Небольшое лукавство не помешает. Короче, Россия должна забеременеть демократией. И когда народ поймет, что это уже случилось, он успокоится. Одни успокоятся в ожидании лучших дней, другие в злорадном ожидании недоноска. Но и те, и другие успокоятся.
Демократия есть разделение властей. Власть над духом должна быть возвращена искусству. Псевдопоэтическая размашистость наших правителей всегда оборачивалась уходом от живой жизни, дезертирством в будущее.
Но представим и мы далекое будущее. Помечтаем, как учил Ленин. На проселочной дороге (в будущем это возможно) вдруг встречаются поэт и правитель. Их знакомят.
— А разве людьми еще правят? — удивляется поэт не то в шутку, не то всерьез.
— А разве стихи еще пишут? — удивляется правитель, скорее всерьез, чем в шутку.
И они, улыбнувшись друг другу, расходятся. И поэта вдруг охватывает грусть. Он вспоминает родину ленинских и сталинских времен. И душу его обволакивает ностальгическая тоска. Конечно, было страшно. Но какая жизнь! Какие страсти! Как интересно писать стихи, рискуя жизнью! Какие письма получали поэты! В мире не может быть лучшего доказательства подлинности вдохновения, если его не останавливает даже страх смерти! За стихи убивали. Значит, тираны признавали поэтов своими соперниками? Ах, да! Тогда даже еще не было такого закона. Боже, Боже, как измельчала жизнь! Как я ограблен!
Оставим поэта будущего. Пусть погрустит. Это его профессия. У нас впервые появился шанс, когда каждый в стране будет заниматься своим делом. И поэт наконец покинет государственный департамент оппозиции. Там он подписывал коллективные письма в защиту Акакия Акакиевича. Там он собирал в складчину деньги на новую шинель, ибо старая в очередной раз сорвана с податливых плеч Акакия Акакиевича. Господа, сколько можно? А что, если не защищать его, а помочь ему полюбить жизнь, и тогда он сам защитит свою шинель?
Прощай, диктатура! Пусть каждый займется своим делом. Пусть поэт постарается продолжить поэзию с того места, где она остановилась. А где она остановилась? Как где?!
Мороз и солнце — день чудесный!Моцарт и Сальери
Пушкин — Гольфстрим русской культуры, и это навсегда. Благо, его влияние на нее и вливание в нее огромны, но не поддаются исчерпывающей оценке.
И те наши художники, которые сознательно отталкивались от Пушкина, пытаясь создать другой, свой художественный мир, бессознательно оглядывались на него: насколько далеко можно оттолкнуться? Он и для них оставался ориентиром.
В наш катастрофический атомный век Пушкин стал нам особенно близок. Мысленно возвращаясь к Пушкину, мы как бы говорим себе: неужели мы так хорошо начинали, чтобы так плохо кончить? Не может быть!
Пушкин в своем творчестве исследовал едва ли не все главнейшие человеческие страсти. В «Моцарте и Сальери» он раскрывает нам истоки одной из самых зловещих человеческих страстей — зависти.
Хочется поделиться некоторыми соображениями, которые возникли у меня, когда я перечитывал эту вещь.
Итак, Сальери завидует славе Моцарта. Обычно завидующий не говорит о себе: мне хочется иметь то, что по праву должен иметь я. Страшная, смутная таинственность этого ощущения: он украл мою судьбу.
Так чувствует Сальери. Когда речь заходит о том, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт произносит знаменитые слова:
Он же гений. Как ты да я. А гений и злодейство — Две вещи несовместные.Почему же несовместные? Гений, по Моцарту (и Пушкину), — человек, наиболее приспособленный природой творить добро. Как же наиболее приспособленный творить добро может стать злодеем?
Но гений не только нравственно, но, можно сказать, и физически не может быть злодеем. Сейчас мы попробуем это доказать.
Всякое талантливое произведение предполагает некую полноту самоотдачи художника. Мы не всегда это осознаем, но всегда чувствуем.
Образно говоря, художник начинается тогда, когда он дает больше, чем у него просили. Идея щедрости лежит в основе искусства. В искусстве вес вещества, полученного после реакции, всегда больше веса вещества, взятого до реакции. Искусство нарушает естественнонаучные законы, но именно потому искусство — чудо. Божий дар. Можно сказать, что искусство нарушает естественнонаучные законы ради еще более естественных и еще более научных.
Щедрость есть высшее выражение искренности. Поэтому идея щедрости лежит в основе искусства.
Если наш знакомый держит в руках кулек с яблоками и мы просим у него одно яблоко, и он его нам дает, — это еще не означает, что он это делает доброжелательно. Возможно, он это делает из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он дает нам сразу два или три — искренность его желания угостить нас яблоками практически несомненна.
Итак, искусство — дело щедрых. Стремление к полноте самоотдачи лежит в основе искусства. Чем талантливее человек, тем полнее самоотдача. Самый талантливый, то есть гений, осуществляет абсолютную полноту самоотдачи. Беспредельная щедрость подготавливается беспредельной концентрацией сил. При одержимости искусством вступает в силу некий закон, который можно назвать законом экономии энергии, или силовой зацикленностью. Таким образом, гений не может быть злодеем еще и потому, что у него никогда нет свободных энергетических ресурсов на это.
В «Моцарте и Сальери» просматривается и вопрос о влиянии мировоззрения художника на его творчество. Есть ли вообще такое влияние? С теми и иными отклонениями, безусловно, есть.
Как должен относиться к своему делу Сальери? В полном согласии со своим мировоззрением здесь должен царить культ мастерства. Сальери всего мира этот культ проповедуют до сих пор.
«Ремесло поставил я подножием искусству».
Так говорит Сальери.
«Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп», — говорит он дальше. Так и видится постная, мрачная физиономия Сальери, роющегося во внутренностях музыкального трупа и время от времени многозначительно поглядывающего на зрителей, давая им понять, что мастерство ему дорого досталось и нечего жалеть деньги, потраченные на концерт.
Как средневековый алхимик, Сальери надеется при помощи мастерства добывать золото из железа. В усердии ему не откажешь. И терпение, и труд, и любовь к музыке, и даже на всякий случай моление — лишь бы достичь высоких результатов, которые его сравняют с Моцартом или даже поставят над ним.
Почему же Моцарт ничего не говорит о своем мастерстве? А вместе с ним и Пушкин? Да потому, что того мастерства, о котором мечтает Сальери, для Моцарта не существует.
Ремесленная часть искусства, безусловно, есть, но она для настоящего художника слишком элементарна, чтобы о ней говорить.
Что же такое истинное мастерство? Существует ли оно?
По-моему, существует, но заключается совсем в другом. Я бы дал такое определение мастерству Мастерство художника — это умение заставить работать разум на уровне интуиции. Мастерство есть воспоминание о вдохновении и потому отчасти благородная имитация его.
В работе над большой вещью, а иногда и не над большой, вдохновение может быть прерывисто, и в таком случае мастерство есть заполнение пауз. Мастерство — это развитие духовного зрения художника, вспоминающего ночью пейзаж леса, который он уже видел при свете вдохновения, и по этому воспоминанию находящего дорогу в лесу.
Поэтому в серьезном смысле слова и говорить об этом нечего. Кто знал вдохновение, тот так или иначе найдет путь к истинному мастерству. А кто его не знает или знает в недостаточной степени, тому все равно не поможет «разъятие» музыки…
Вдохновение — радость по поводу приоткрывшейся тебе истины. Состояние это очень напоминает состояние счастливой влюбленности. Вдохновение и есть форма влюбленности, только влюбленности в приоткрывшуюся истину.
Пишущий в самые высокие минуты вдохновения чувствует, как будто кто-то ему диктует рукопись. Меняется само физическое состояние человека, он может работать по двенадцать часов в сутки и не чувствовать никакой усталости.
Вдохновение, можно сказать, есть признак благосклонности Музы к человеку, испытывающему вдохновение. Но конечно, эту благосклонность надо заслужить. Наиболее наглядной формой заслуги является то, что вдохновение чаще всего приходит по поводу вещей, которые художнику казались важными, тревожили, мучили, но он долго не мог найти формы для их воплощения.
Уныние, упадок сил есть вневдохновение, внеистинное состояние.
Но такое состояние бывает у каждого человека. Как быть? Я думаю, винить прежде всего самого себя и продолжать жить с мужественной верой, что, если вдохновение у меня бывало, значит, оно должно прийти снова. Но и наше уныние, с точки зрения высшей мудрости, вещь необходимая: надо нас проверить и через уныние тоже. Каковы мы в упадке? Это тоже важно для определения нашего истинного облика.
Художник всегда творит в двух направлениях. Он творец своих произведений и своей жизни одновременно. Художник интуитивно и беспрерывно оплодотворяет свою жизнь, превращая ее в обогащенную руду, в бесконечный черновик, который он потом будет переплавлять в своем творческом воображении, придавая ему ту или иную форму.
Сравнительно мелкие падения в своей жизни художник может преодолеть творческим покаянием. Разумеется, субъективно он свое падение не будет воспринимать как мелкое. Он его искренно воспринимает как полный, позорный провал.
Но настоящее, серьезное падение в жизни никто еще не мог творчески преодолеть. Муза брезглива, она отворачивается от испакощенной жизни. Причину таинственного, хронического бесплодия некогда ярких талантов ищите в их жизни, и вы найдете то место, где Муза отвернулась от них.
Беспрерывное жизненное сопротивление всем видам подлости, трение от этого противоборства аккумулируют в душе художника творческую энергию. Поэтому можно сказать, что талант — это награда за честность. Каждый талантлив в меру своей честности, понимая ее в самом широком, многослойном смысле. Самый глубокий след — жажда истины.
Теперь вернемся к Моцарту и Сальери? Зададимся таким вопросом: почему, собственно, они дружат?!
То, что Сальери тянет к Моцарту, понять как будто легко. Во-первых, дружба с Моцартом льстит. Сальери при Моцарте — как мещанин во дворянстве. Сальери — мещанин, разумеется, в этическом смысле, то есть человек, для которого земные блага всегда выше духовных. Хотя и духовные блага Сальери, конечно, доступны. То есть он талантлив. Сальери талантлив в музыке, но в подлости он еще более талантлив. Земное отоваривание своего призвания для него всегда важнее самого призвания. Суть каждого человека в направленности его пафоса. Направленность пафоса Сальери в том, чтобы как можно больше благ иметь от музыки.
Быть рядом с Моцартом, более признанным музыкантом, — это получать дополнительное благо от музыки, облагородить свой облик духом моцартианства.
Для меня Моцарт не столько идеал солнечного таланта, сколько идеал солнечного бескорыстия. Если личность художника — это талант, разделенный на его корысть, то, вероятно, нищий музыкант, которого Моцарт привел в трактир, окажется ему ближе, чем Сальери.
Сальерианство возможно на достаточно высоких уровнях таланта, лишь бы при этом знаменатель, то есть корысть, был бы соответственно большим.
Однако названная причина, по которой Сальери тянется к Моцарту, не единственная. Я думаю, даже не главная. Сальери тянет к Моцарту, он липнет к нему, чтобы поймать его на неправильности его образа жизни и тем самым оправдать свой образ жизни как правильный.
В нем все-таки живет грызущая его душу змея, в нем живет догадка, что художник не так должен жить, как живет он. Он ведь все-таки был талантлив, хотя и предал свой талант. Человеку немыслимо думать, что его образ жизни неправильный, фальшивый. Неправильно живущий — это как бы неживущий. Надо во что бы то ни стало найти доказательства невозможности, глупости, пагубности такого отношения к искусству, какое исповедует Моцарт, даже если и не говорит об этом. Но Моцарт не дает таких доказательств и тем самым обрекает себя на смерть. Не давая повода к своему духовному уничтожению, Моцарт обрекает себя на физическое уничтожение.
Своим благородством и бескорыстием Моцарт толкает Сальери на убийство. Зависть Сальери выставляет перед его мысленным взором список преступлений Моцарта с неизбежным обвинительным заключением — смерть. И так как все преступления Моцарта против Сальери неосознанны, а значит, как бы тайные, это «как бы» дает Сальери право его так же тайно отравить.
Чем же Моцарт смертельно обидел Сальери? С одной стороны, Моцарт громогласно объявляет, что он и Сальери равны. Моцарт как бы подразумевает: раз мы оба честно служим гармонии, мы равны. Какая разница в том, что мне отпущено больше таланта?
Но Сальери это молчаливое объяснение Моцарта своего понимания служения искусству не может и не хочет принять. Он усвоил только одно, что Моцарт общается с ним как с равным и сам же громко говорит, что они оба гении. Но законы понимания равенства у Сальери совсем другие. Равны — так пусть платят по труду. Моцарт, с одной стороны, признает, что Сальери равен ему, а с другой стороны, не может обеспечить ему равную славу.
Не можешь обеспечить равной славы, так и не говори, черт подери, что мы равны! А если мы равны, но у тебя гораздо больше славы, значит, ты ее украл у меня.
Конечно, восстанавливая это мысленное рассуждение Сальери, мы догадываемся, что он жульничает и все равно он искренен. Так устроен Сальери, так устроены многие люди, они способны искренне жульничать.
Раздражение Сальери усугубляется догадкой, что, будь он Моцартом, он бы никогда не сказал Сальери, что они равны, он бы постоянно извлекал удовольствие из сознания своей большей одаренности. Ведь Сальери знает, что он сам, общаясь с менее одаренными музыкантами, постоянно извлекает это удовольствие. Значит, Моцарт как бы молчаливо указывает ему на подлость такого наслаждения.
Можно предположить, что, общаясь с Моцартом, Сальери надеялся выведать кое-какие тайны ремесла у Моцарта. Но он не смог этого сделать по самой глупой причине — по причине отсутствия этих тайн у Моцарта. И тем самым Моцарт сделал смехотворными маленькие тайны ремесла Сальери. А ведь Сальери, гордясь своими тайнами, так их оберегал от чуждых глаз!
Мало всего этого, Моцарт еще приводит какого-то нищего скрипача и просит Сальери послушать его! Господи, неужели Сальери так глуп, чтобы не догадаться, что за этим стоит! Нет, Сальери вовсе не глуп, он понимает, что Моцарт отнимает у него последнее.
Ведь одно все-таки оставалось: Моцарт включил его в круг избранных, свой особый круг, куда допускаются только мастера высокого класса. И вдруг тащит туда какого-то нищего музыканта! И тем самым доказывает, что никогда не делал принципиальной разницы между Сальери и любым случайным нищим музыкантом.
Разом вдребезги разбивается столь любимая Сальери система знаков, шлагбаумов, перегородок, пропусков, чтобы сразу видно было: кто к какому месту прикреплен.
Человек не может жить, совершенно ни на что не ориентируясь. Но, отринув самый прекрасный, самый высокий жизненный ориентир и его земное продолжение — нравственный авторитет, человек всегда создает себе культ социальной и профессиональной иерархии. Он всегда холуй и хам одновременно.
Легко ли было Сальери попасть в круг Моцарта, и вдруг он тащит туда какого-то нищего музыканта. Нет, такого человека терпеть нельзя. Убийство есть идеальное завершение жизненной философии Сальери. И он приходит к неизбежному для себя выводу.
Теперь зададимся таким вопросом: почему Моцарт терпит возле себя Сальери? Причин много. Моцарт беспредельно доверчив. Тут опять же сказывается закон экономии энергии. Душа, отдающаяся творчеству со всей полнотой, не может выставлять сторожевые «посты» самозащиты. Сторожевые «посты» будут не оплодотворенными творчеством участками души. Не получается полноты самоотдачи.
Но это не единственная причина. Мы говорим, что великий талант — это великая душа. Великая душа — это беспредельное расширение личной ответственности за общее состояние. Если Сальери такой, значит, все человечество и сам Моцарт несут какую-то часть ответственности за это. Надо раздуть в душе Сальери полупогасшую совесть.
Таким образом, Моцарт хочет при помощи своего искусства и своей жизни, которая в идеале не может и не должна иметь ни малейшего противоречия с его искусством, возвратить Сальери к его истинной человеческой сущности. Искусство — чудо возвращения человека к его истинной человеческой сущности. И если ты действительно Моцарт, осуществляй это чудо, сделай из большого Сальери хотя бы маленького Моцарта! И в этом главная мистическая причина связи Моцарта с Сальери. Сальери возбуждает в Моцарте великую творческую сверхзадачу, то, что Толстой называл энергией заблуждения.
Графоман берется за перо, чтобы бороться со злом, которое он видит в окружающей жизни.
Талант, понимая относительность возможностей человека, несколько воспаряет над жизнью и не ставит перед собой столь коренных задач.
Гений, воспарив на еще более головокружительную высоту, оттуда неизбежно возвращается к замыслу графомана. Гений кончает тем, с чего начинает графоман.
Пушкинский текст дает основание предполагать, что Моцарт знает о замысле Сальери, он даже угадывает, каким образом тот его убьет: отравит. Тут нет никакого противоречия между безоглядной доверчивостью Моцарта и его неожиданным проницанием в злодейские замыслы Сальери. Как только он понял, что Сальери потерял свою человеческую сущность и его надо возродить, он вовлекает его жизнь в сферу своей творческой задачи. Теперь его могучий дух обращен на Сальери, а раз так — он все видит.
За минуту до того, как Сальери всыплет ему в стакан яд, Моцарт напоминает, что, по слухам, Бомарше кого-то отравил. Слишком близко напоминание. Он дает Сальери последний шанс одуматься и отказаться от злодейского замысла. Он ему говорит:
Он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?В этом «Не правда ль?» звучит грустная насмешка. Но все-таки он все еще пытается спасти Сальери, хотя только укрепляет того в его замысле.
Ведь Сальери уже готов к убийству, в душе он его уже совершил. А если гений и злодейство — две вещи несовместные, значит, он не гений, не художник высшего типа, каким он себя хочет считать и отчасти считает. В таком случае надо доказать самому себе и Моцарту, что гений способен на злодейство.
Поэтому он с такой злой иронией отвечает на слова Моцарта:
Ты думаешь?И подсыпает яд в стакан Моцарта. По-видимому, Моцарт медлит выпить. Сальери не по себе от этой медлительности Моцарта, и он нервно торопит его:
Ну, пей же.То есть давай кончать эксперимент, который мы с тобой проводим. Следующие слова Моцарта спокойны, как прощание с друзьями выпившего цикуту Сократа:
За твое Здоровье, друг, за искренний союз. Связующий Моцарта и Сальери…Тут нет ни иронии, ни упрека. Тут последняя попытка вернуть Сальери к добру, искренности, бескорыстию.
Именно всему этому учил Моцарт своим великим искусством, а когда искусства не хватило, добавил к системе доказательств собственную жизнь, ибо жизнь, по Моцарту, — продолжение дела искусства. Такова грандиозная цельность и целеустремленность великого художника. Кажется, завершается жизненная задача, Моцарт сделал все, что мог. Он пользуется правом на усталость.
Моцарт пьет яд, и Сальери, вдруг опомнившись, с трагикомическим волнением восклицает:
Постой, постой!.. Ты выпил!., без меня?Тут особенно великолепно это «без меня?»! Только что торопил: «Ну, пей же» — без малейшего намека на желание чокнуться бокалами, а тут оказывается неприятно удивлен торопливостью Моцарта.
Эта последняя многозначительная фраза произносится как бы под возможный тайный магнитофон полиции: не я его отравил! Мол, психологически невозможно так сказать человеку, которому подсыпал яд. Мол, из фразы явствует равнозначность содержимого обоих бокалов.
Сальери, укравший у Моцарта жизнь, выворачивается, выкручивается перед ним, благо формального доказательства у Моцарта нет.
Но он не только выворачивается, он еще и издевается над Моцартом, компенсируя униженность от самой необходимости выворачиваться и зная, что Моцарт из деликатности (по Сальери, особая форма трусости!) не скажет: «Ты убил меня».
И это отчасти успокоит его слабую совесть. Тут Пушкин с болдинской свечой в руке провел нас по катакомбам человеческой подлости, которые позже с некоторой не вполне уместной, почти праздничной щедростью электрифицировал Достоевский.
Постой, постой!.. Ты выпил!., без меня?Фраза эта, по-моему, имеет еще один, может быть, самый главный аспект. В ней угадывается ужас догадки Сальери. Догадки в чем? Что он преступник, убивший великого творца? Нет! Он догадывается, что его убийство — самоубийство! Сейчас Моцарт уйдет из жизни, и Сальери останется один. И отсюда сиротское, почти детское:
…без меня?Можно отрицать Моцарта, пока Моцарт рядом. А что же делать, когда его не будет? Суета, копошение, бессмысленность жизни вне идеала, вне точки отсчета, вне направления.
Постой, постой!.. Ты выпил!., без меня?Похоже, что опять виноват Моцарт; умирая от яда Сальери, он обрекает Сальери на сиротство. Нет чтобы умереть и одновременно как бы жить, чтобы Сальери имел человека, на которого равняться и кого отрицать.
Но круг замкнулся. Корысть Сальери заставила его убить собственную душу, потому что она мешала этой корысти. В маленькой драме Пушкин провел колоссальную кривую от возникновения идеологии бездуховности до ее практического завершения. Отказ от собственной души приводит человека к автономии от совести, автономия от совести превращает человека в автомат, автоматизированный человек выполняет заложенную в него программу, а заложенная в него программа всегда преступна.
Почему всегда? Потому что преступная корысть убивала душу человека для самоосуществления, а не для какой-нибудь другой цели. Непреступная цель не нуждалась бы в убийстве души.
Через сто лет победа сальеризма обернется пусть временной, но кровавой победой фашизма. И уже поэт нашего века Осип Мандельштам продолжит тему:
Он сказал: довольно полнозвучья, Ты напрасно Моцарта любил: Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил.Но вернемся к пушкинской драме, как бы к началу всего, что случилось потом, и в последний раз прокрутим слова Сальери:
Постой, постой!.. Ты выпил!., без меня?Наконец, кажется, Моцарту все это надоело. Он срывает с горла салфетку и восклицает:
Довольно, сыт яЯснее не скажешь: сыт ложью и лицемерием. Моцарт встает, чтобы разоблачить Сальери? Нет! Моцарт остается Моцартом, творчество продолжается, и, следовательно, продолжается закон экономии энергии, силовой зацикленности.
Интересно с этой точки зрения перечитать «Гамлета». Не потому ли он не может отомстить на протяжении всей пьесы, что он здесь тоже Моцарт, Моцарт мысли, анализа. Но Гамлет не прирожденный Моцарт мысли, он просто умный, думающий человек, потрясенный неслыханным коварством и вероломством людей, зацикленный случившимся и превращенный в Моцарта мысли страстным желанием понять происходящее. Поняв, он перестает быть Моцартом и осуществляет возхмездие по законам своего времени.
Итак, Моцарт встает, чтобы сделать еще один героический, немыслимый шаг в осуществлении своей жизненной задачи.
Своим великим искусством он не смог оживить омертвевшую душу Сальери. Готовностью пожертвовать своей жизнью, которая, как мы теперь уяснили, тоже является продолжением дела искусства, он не смог оживить мертвую душу Сальери, и самой пожертвованной жизнью, уже выпив яд, не смог.
И тогда он делает последнее, невероятное. Он действует на Сальери своей пожертвованной жизнью и искусством одновременно. Он ему играет свой реквием. Он играет своему убийце свой реквием перед собственными похоронами.
И Сальери не выдерживает. Косматая душа злодея содрогается. Он плачет. Так — впервые в жизни.
Моцарт уходит домой — уходит умирать. Моцарт победил, хотя бы потому, что до конца остался Моцартом, остался верен своей жизненной задаче.
Но сумел ли он оживить омертвевшую душу Сальери? На мгновение да. Пушкин, верный психологической правде, не дает более определенного ответа. Сальери остается в тревожном сомнении: а вдруг Моцарт прав — гений и злодейство — две вещи несовместные? Нет! Великий Буонарроти тоже убил человека. А вдруг это клевета?
А Бонаротти? или это сказка Тупой, бессмысленной толпы — и не был Убийцею создатель Ватикана?В голосе Сальери звучит отчаяние, страстная мольба разуверить в надвигающейся страшной догадке. Это крик во вселенную. Он хочет, чтобы вселенная ответила ему: был, был…
Но кто же ему ответит, если его низкий разум сам опустошил вселенную. И вселенная на его крик враждебно безмолвствует, потому что пустота всегда враждебна человеку.
И мы догадываемся, что теперь наконец к Сальери приходит возмездие, на которое Моцарт был неспособен. К Сальери приходит самое страшное для художника возмездие — он обречен на вечную тоску от вечного бесплодия. Ведь он, Сальери, когда-то был талантлив.
Воспоминание о романе
В тринадцать лет я впервые прочел «Анну Каренину». Война подкатила к самому Туапсе. Сухуми несколько раз небрежно бомбили, и мы с мамой и сестрой переехали в деревню Атары, где жила мамина сестра. Мы наняли комнату у одной соломенной вдовушки, нам выделили землю под огород, где мы выращивали тыквы, дыни, помидоры и другие не менее изумительные по тем временам овощи.
В этом доме я случайно обнаружил книгу Толстого и прочел ее, сидя под лавровишней в зеленом дворике. Разумеется, навряд ли я тогда понимал многие особенности этого романа, но главное понял. Это видно из того, что я был потрясен так, как никогда не бывал ни до, ни после чтения этой книги.
Дня три я ходил как пьяный и мычал какой-то дикарский реквием по поводу смерти героини. И без того не склонный усердствовать лопатой и мотыгой, в эти дни я даже не откликался, когда мама и сестра звали меня на огород.
Опалывать глупые тыквы, когда мир вместе с Анной Карениной раздавлен под колесами паровоза?! Я шагал по селу, и траурный шлейф реквиема развевался за моей спиной. К сожалению, этот шедевр погиб навсегда по причине моей музыкальной безграмотности, а также отсутствия музыкальной памяти. Впрочем, возможно, я его вспомню, когда начну впадать в детство, из которого никак не могу до сих пор выпасть.
Чувствую, что начинаю сворачивать на знакомую колею. Каждый раз, когда мне предлагают всерьез говорить о литературе, меня начинает разбирать смех. Литература настолько серьезное дело, что говорить о ней серьезно — опасно. Кстати, абсолютная серьезность фанатиков всякого дела — не прямое ли следствие иллюзорного сознания, что они полностью овладели истиной?
Вспоминаю впечатления, которые я вынес от того первого знакомства с «Анной Карениной». Было жаркое лето, и я скучал по морю. Мелкие деревенские ручьи, где невозможно было всплыть, не утоляли мою тоску. И вот, может быть, поэтому во время чтения я испытывал приятное чувство, как будто плыву по морю. Впервые я читал книгу, под которой не мог нащупать дна. Каким-то образом возникло ощущение моря.
Незнакомые сцены усадебной жизни воспринимались как родные. Хотелось к ним. Хотелось посмотреть, как аппетитно косит Левин, побывать с ним на охоте, поиграть с его умной собакой, посидеть с женщинами, которые варят варенье, и дождаться своей доли пенок. Это был роман-дом, где хочется жить, но я еще этого не понимал.
И еще одно незнакомое ощущение — физическое обилие, необычайная телесность книги. Такого тоже я не замечал, читая другие книги. Телесность выламывалась из страниц, как перегруженная плодами ветка. Я как будто бы чувствовал, что это для чего-то автору нужно, а для чего — не мог понять.
Сейчас я думаю, что вот этим обилием телесности Толстой уравновешивал свою психическую перегруженность, оздоровлял, заземлял себя.
Слишком большое количество французского текста в «Войне и мире» всегда раздражало. Указание Толстого, мол, наши деды не только говорили по-французски, но и думали на нем, ничего не объясняет. Достаточно было в конце длинного монолога, написанного по-русски, добавить, что это было сказано по-французски, и это было бы ясно. Чем же это объяснить? Избыток сил, молодечество — другой причины я не нахожу. Толстой так хорошо знал французский язык, что на уровне Золя, вероятно, мог бы написать роман и по-французски.
Читаешь «Войну и мир», и мгновениями кажется, что автор стыдится непомерности своих сил, то и дело сдерживает себя, роман развивается в могучем, спокойном ритме движения земного шара. Полный лад с собственной совестью, семьей, народом. И это счастье передается читателю. И что нам каторжные черновики!
Тургенев в одном письме раздраженно полемизирует с методом Толстого. Он говорит: Толстой описывает, как блестели сапоги Наполеона, и читателю кажется, что Толстой все знает о Наполеоне. На самом деле он ни черта о нем не знает.
Наполеон — мировоззренческий враг Толстого. По Толстому, обновить человечество можно, только если человек, сам себя воспитывая, освободит себя изнутри. Именно этим Толстой и занимался всю жизнь. По Толстому, только так можно было и нужно было завоевывать человечество.
Наполеон, мечом завоевавший человечество, как бы заранее пародировал Толстого. Псевдограндиозность великого завоевателя дискредитировала всякую грандиозную задачу. Крайне неприятно для человека, поставившего перед собой именно такую задачу. И Толстой, как новый Кутузов, изгоняет Наполеона из области духа. Поэтому, по Толстому, Наполеон — это огромный солдафон и судить о нем незачем выше сапога.
Пускать в ход собственный могучий психологический аппарат даже для отрицательной характеристики Наполеона Толстой не намерен. Он боится этим самым его перетончить. По Толстому, сложность зла есть надуманная сложность. В Наполеоне Толстого никакого обаяния. Словно предчувствуя трагические события двадцатого века, он пытается удержать человека от увлечения сильной личностью, от еще более кровавых триумфаторов.
Свежеиспеченным студентом Литинститута в переделкинском общежитии я впервые читал «Бесов» Достоевского, хохоча как сумасшедший над стихами капитана Лебядкина. Я уже знал, что Достоевский никогда стихов не писал. Тогда откуда такое пародийное мастерство? Я решил, что это плод фантазии тогдашнего графомана и Достоевский извлек его из тогдашней редакционной почты. Притом именно одного графомана. Единство почерка не оставляло никакого сомнения.
Через множество лет один знаток творчества Достоевского сказал мне, что это его собственные стихи. Все объяснялось просто. Достоевский так глубоко проникся сущностью своего героя, что во время работы над образом капитана Лебядкина сам превратился в него, и потому стихи получились подлинными в своем идиотизме.
Но зачем в сатирическом романе о левых экстремистах, выражаясь современным языком, этот псевдопоэт? Вольно или невольно Достоевский, обращаясь к своим героям, говорит: вот вы, а вот ваше искусство. Таким оно будет, если вы победите. У большого писателя ничего не бывает случайным.
Но это я понял позже. А в тот вечер, несколько приустав от чтения, я пошел в конторку, где наши студенты вместе с местной молодежью устраивали танцульки. И сразу же из скандальной атмосферы романа попал в скандальную атмосферу слободских страстей. Местные ребята не без основания приревновали своих крепконогих красавиц к нашим студентам.
Как бы изощренный многочасовым чтением Достоевского, я понял, что скандал грядет, и внимательно вглядывался в шевелящуюся, стиснутую узким помещением толпу, как бы самой своей долгой стиснутостью порождающей желание размахнуться. Именно этого мгновения я старался не пропустить, и именно поэтому я его пропустил: неожиданно сам получил по морде. Парень, танцевавший возле меня, брякнулся и почему-то решил, что это я ему подставил ногу. Не успев осмыслить происходящее, я ударил его в ответ, и он опять упал. Видимо, склонность к падению заключалась в нем самом. Так он подготовился к вечеринке. Я пробрался к выходу, явно предпочитая скандал на страницах романа скандалу в жизни.
За ночь я дочитал роман, а утром в состоянии наркотической бодрости (разумеется, от чтения) вышел на улицу и увидел такую картину. Наша конторка начисто сгорела. Последние головешки устало дымились. Возле пепелища стоял наш студент и, эпическим жестом приподняв головешку, прикуривал. Оказывается, после моего ухода все передрались, а конторка сгорела.
Я почувствовал, что содержание прочитанного романа имеет таинственное сходство с тем, что случилось с конторкой, но тогда до конца осознать суть этого сходства не мог.
Всякого большого писателя можно сравнить и сравнивают с могучими явлениями природы: море, река, горный хребет, дуб, гроза. Единственный великий писатель, которого невозможно сравнить ни с одним явлением природы, — это Достоевский. Не получается.
Достоевский первый заметил, что изменился химический состав человека. Поэтому его противоестественные герои столь естественны в своей противоестественности. Главное его открытие — человек. Его романы — экологическое предупреждение человечеству: «Внимание, на тебя идет человек подполья!»
В сырости подполья человека греет лихорадка болезненной мечты. Исчезает самоирония, и ничто не мешает человеку подполья считать себя Наполеоном, которого заела среда. Количество унижений переходит в чудовищное качество самолюбия. Дай ему только вырваться, и он так отомстит за все свои унижения, как еще никто не мстил. Энергия самоутверждения распадающейся души, цепная реакция скандалов, предвестье атомной энергии. На этой энергии и держатся романы Достоевского. Никогда не возникало желания открыть роман Достоевского и прочесть какой-то отрывок. Не тянет. Только включившись в роман целиком (условия возникновения цепной реакции), мы проникнемся силой его адской энергии.
Однажды, когда я в течение многих дней не мог ни писать, ни читать, все книги казались невыносимо пресными, я автоматически открыл один из томов Толстого и стал читать случайно попавшийся мне кавказский рассказ.
И вдруг что-то сдвинулось внутри меня, словно заработал мотор души. Я с необычайным наслаждением прочел рассказ и почувствовал, что он встряхнул меня, привел в хорошее состояние. Я стал размышлять, в чем тайна этого рассказа. Казалось, в холодный, промозглый день после долгого плутания по улицам я вошел в теплый дом, полный дружественных, милых людей.
Да, Лев Толстой в каждом своем произведении создает дом, даже если внутри этого дома сомневаются, спорят: честно ли иметь дом? Даже если в конце «Анны Карениной» этот дом (для нее) разрушается со страшным трагедийным скрежетом, даже если сам он не вынес свой собственный дом и покинул его. (Чтоб уйти из своего дома, надо было придавать ему очень большое значение.)
Но все его творчество — это добрый, разумный дом и самый уютный дом — «Война и мир», где, можно сказать, вся Россия покинула свой дом, чтобы защитить дом — Россию, и в силу диалектики творчества — невероятная домашность этого огромного эпоса.
И тут я вспомнил то давнее смутное впечатление сходства утреннего пожарища с ночным чтением Достоевского. Так вот в чем дело! Принципиальная бездомность, открытость всем ветрам в художестве Достоевского.
Два типа творчества в русской литературе — дом и бездомье. Между ними кибитка Гоголя — не то движущийся дом, не то движущееся бездомье. Перед какой бы российской усадьбой ни останавливался ее великий путешественник, каждый раз он прощается с горьким смехом — Голодаловка Плюшкина, Объедаловка Собакевича, Нахаловка Ноздрева… И только один раз прощается с нежностью и любовью — «Старосветские помещики». С ними ему явно хотелось бы пожить.
Дом-Пушкин и почти сразу же бездомье-Лермонтов. Вот первые же строчки Лермонтова, которые приходят на ум: «…люблю отчизну я, но странною любовью…», «Выхожу один я на дорогу…», «Насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом…»
Какой тут может быть дом, если дом промотался. Все связано таинственной, но существующей связью. Непредставимо, чтобы Пушкин сказал: «Люблю отчизну я, но странною любовью». Но и нет у него стихотворения о Родине, равного гениальному «Бородино». Почему? Потому что мучительная раздвоенность Лермонтова в этом стихотворении счастливо преодолевается правотой великого дела защиты Родины и возможностью любить ее без всяких странностей. Поэтому его тоскующая душа с такой легкостью поднимает громадину «Бородино».
Боевитость Пушкина при всем внешнем блеске сомнительна. В знаменитом «Делибаше» он любуется лихостью делибаша и казака. Но сам над схваткой. И любуется, и посмеивается:
Мчатся, сшиблись в общем крике… Посмотрите! Каковы?.. Делибаш уже на пике, А казак без головы.Мы улыбаемся, а казак без головы, да и делибаш на пике. Одно дело — личная храбрость в жизни, другое дело — личная мудрость в творчестве. Гете признавался, что талант его лишен боевитости. Очень характерно.
Пушкин стремится увидеть войну как еще одно проявление сгустка жизни. Лермонтов еще юношей догадался:
А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой.Это не сарказм, а психоаналитическая догадка. Только внешняя буря может уравновесить внутреннюю и дать покой.
Лермонтовский Печорин, сам того не желая, невольно разрушает дом контрабандиста, дом Бэлы, и даже маловероятный дом Грушницкого. И сам, бездомный, погибает где-то в Персии.
Пушкинский Евгений в «Медном всаднике», защищая свое право на дом, восстал против Петра, за что поплатился безумием и в безумии переходит в естественное теперь для него состояние бездомности.
Конечно, как всякий образ, дом и бездомье относительны. Но я лично, читая Пушкина, Толстого, Тургенева, Гончарова, Чехова (поэтика дома), чувствую уют огороженности, одомашненности, окультуренности воспеваемого пространства жизни. Отсюда обилие и красота жизнеутверждающих деталей — очей очарованье. В «Дорожных жалобах» Пушкин пишет:
Долго ль мне в тоске голодной Пост невольный соблюдать и телятиной холодной Трюфли Яра поминать? То ли дело быть на месте, По Мясницкой разъезжать. О деревне, о невесте На досуге помышлять! То ли дело рюмка рома. Ночью сон, поутру чай; То ли дело, братцы, дома!.. Ну, пошел же, погоняй!Очарование дома мы находим и в Белогорской крепости, и в семье Лариных, и даже в гениальном «Выстреле», где, кажется, рассматривается совсем другой вопрос — философия мужества. По-моему, в этой вещи Пушкин разделил свою душу и отдал ее двум своим героям. Пушкин-Сильвио, как бы живущий строками:
И мщенья бурная мечта Ожесточенного страданья.Пушкин, враг Сильвио, бесстрашный офицер, поедающий черешни во время дуэли и выплевывающий косточки почти к ногам своего противника. Это прямой эпизод из жизни самого Пушкина. Таким он был во время одной из молдавских дуэлей. Сильвио, видя, что его противник нисколько не страшится выстрела, оставляет его за собой: посмотрим, будешь ли ты таким, когда будет что терять, кроме собственной жизни. И действительно, в следующую встречу противник его дрогнул, боясь не за себя, конечно, а за любимую и любящую жену. Дом. Тема ответственности. И Сильвио-Пушкин, дважды имея право на выстрел, не решается разрушить дом. Уходит.
Обаяние Пушкина, обаяние домашнего тепла. Он словно предвидел: придет многое другое, но этого будет не хватать. У Пушкина и снег теплый. Мы до сих пор греемся возле его веселого очага. Пушкин одомашнил всемирное, подобно тому, как Достоевский позже овсемирнил домашнее. Этим, я думаю, объясняется отсутствие у Пушкина космических мотивов. Космос невозможно утеплить, и Пушкин оставляет его Лермонтову и Тютчеву.
Возвращаясь к истокам, повторим: Пушкин — уют, упорядоченность, мудрость. Литература — дом. Если и трагедия — дома стены помогают. Обаяние Лермонтова — сила ума, красота дикости, бесстрашие анализа.
Итак, литература дома и бездомья. Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии, как бы гармония настроенности перед вратами гармонии.
Под этим углом зрения можно рассматривать и всю мировую литературу. Пруст — дом. Хемингуэй — бездомье, но при этом настолько безнадежное и одновременно стоическое, что черты дома тщательно вносятся в бездомный быт: дружеская рыбалка, кафе, ресторан. Официант — ближайший родственник. Он лучшим образом накормит и напоит, справится о твоих делах, попросит не забывать и почаще заходить на огонек.
Отстоять свой дом пытается только Гарри Морган. Читая двухтомник Хемингуэя, изданный у нас после большого перерыва, я дошел до романа «Иметь и не иметь» и вспомнил, что я его читал в детстве. По-видимому, я его читал в журнале «Интернациональная литература». Это было совсем раннее детство, и воспоминание было сновиденческим. Отчетливо запомнилось: болезненное, колющее, неприятное восприятие однорукости героя.
Уже взрослым, читая роман, я понял, что детское впечатление было верным, но суть его я тогда, конечно, не понимал. Только сейчас я понял, какая это гениальная деталь. Сильный, ловкий, мужественный человек потерял руку, но надо жить, надо кормить семью, надо добывать деньги. Положиться не на кого: думай своей головой, рискуй своей головой. Одинокий раненый волк, но и со своими твердыми понятиями о чести и справедливости.
Писатель множество раз подчеркивает затрудненность физических действий однорукого человека и мужественную пластичность, с которой герой все-таки преодолевает свою инвалидность, но до конца преодолеть не может, потому что это образ его внутреннего состояния. Однорукий, одномукий, одинокий. Несмотря на то, что в романе много движения, мы все время чувствуем какую-то заторможенность героя: он думает, думает, думает.
Как невозможно одной рукой поднять арбуз, так одинокому невозможно поднять социальную истину. И только уже погибая, в бреду, он понял то, чего не мог понять всю жизнь: человек не может один. Только вместе с жизнью исчерпав шанс одиночки, он понял, что этого шанса не было. Какая трагическая честность мышления. Это прекрасный социальный роман, думаю, еще недооцененный.
В начале двадцатого века в русской литературе утечка пушкинского тепла становится катастрофической. Философствующие босяки, плотоядные маги, спившиеся купцы, наглые репортеры, наркоманы, динамитчики, богоискатели. Нет дома, но есть кабак, нет свободы, но есть своеволие, нет бодрости духа, но есть алкоголь или идеи, возбуждающие, как алкоголь.
Кажется, о потерянном доме тоскует только Бунин, как бы насильственно выдворенный из девятнадцатого века в двадцатый, как бы заранее уверенный, что из двадцатого века ничего путного не получится.
В революционных мотивах творчества Горького и Маяковского намечается совершенно новая тема: дом-будущее.
Идея дома и поэтика литературы дома с огромной силой выплеснулись в «Тихом Доне». Тихий Дон — тихий дом. Горькая ирония. Это во многом загадочный роман. Я не знаю в мировой литературе произведения, где было бы описано столько смертей. Каждая смерть выстрадана автором, независимо от социального происхождения убитого. Каждый убитый лежит в своей неповторимой позе, потому что автор пристально вглядывается в каждого. Что это — песнь гибели казачества как особой нации внутри русской нации? Не знаю. Может быть.
Отказ от традиционного психологизма русского романа. Психологическая жизнь передается только через жест, через сказанное слово, через движение-поступок. При этом бесконечная поэтизация дома, казацкого быта, где каждая вещь ощупывается, рисуется, оплакивается с прощальной любовью.
Григорий Мелехов мечется между красными и белыми, он мучительно всматривается и вслушивается в их речи и каждый раз убеждается, что дом его обречен на гибель. Осознать гибель собственного дома как начало нового, будущего дома он не может и не хочет.
Дом-будущее, борьба за этот дом, ностальгия по этому дому — вот главная тема советской литературы, утвержденная творчеством Маяковского.
Пафос жертвенности, походного братства, романтического порыва, от целомудренной просторы в лучших произведениях советской литературы до симуляции индустриальных радостей (дом-домна), с оттенком мании преследования прошлым (кулаки, вредители) — в худших.
В какой-то момент наша литературная армия оторвалась от тылов нравственного снабжения. Тревожные сигналы «Нового мира» Твардовского целенаправленно глушились критикой.
Но тема отчего дома должна была появиться, и она появилась почти одновременно у «деревенщиков» и в городских повестях Юрия Трифонова. В философском плане они гораздо ближе друг другу, чем принято думать. Когда-то почти антигосударственный вопрос (этика похода) стал вопросом государственной важности: «Ты жива еще, моя старушка?»
От горького анализа того, что случилось с обитателями «Дома на набережной» Трифонова, до «Последнего срока» Распутина, от яростной борьбы за «Дом» Федора Абрамова до «Живого» (жив курилка!) Бориса Можаева — все это общей лирики лента.
Наши современные споры о романе нередко отдают схоластикой. Например: должен ли положительный герой иметь недостатки и, если должен, какое приблизительно количество?
Я уверен, что когда художник почувствовал положительного героя и начинает его лепить, он вообще не задумывается о его недостатках. Писатель интуитивно и естественно ставит положительного героя в такие ситуации, когда недостатки его натуры могут вызвать только дружескую улыбку читателя. Так, любимый герой Толстого Пьер Безухов, если бы, скажем, стал командиром партизанского отряда, он бы, конечно, все развалил и вызвал бы наш читательский гнев. Но Толстой не мог и не хотел так испытывать непрактичность своего героя. Он любовался его способностью при всех обстоятельствах жизни полностью отдаваться работе мысли и внушает читателю любить его именно за это.
Представления о равновесии положительного и отрицательного внутри романа — плод той же схоластики. Живое равновесие, гармония внутри романа определяются только верностью внутренней задачи художника. Парад уродов в «Мертвых душах» принимается таким же уродом Чичиковым, и у нас нет потребности иметь для равновесия положительного героя. Высокое нравственное небо самого Гоголя внутри романа считать положительным героем было бы демагогией.
Точно так же бесконечное количество положительных героев в «Войне и мире» не вызывает ни малейшего ощущения, что Толстой намеренно приукрашивает своих героев. Все дело в верности внутренней задачи. Критика, в первую очередь, должна проникнуться ею и указать художнику на ошибки и фальшь в достижении его же собственной задачи.
Чем объяснить серость многих наших романов? Я думаю, главная причина — слабость или отсутствие вдохновения. Иногда большие художники признавались, мол, я не знаю вдохновения, я просто работаю. Верить им — заблуждение. Это говорится для красного словца, или вдохновение для них настолько естественное состояние, что они его и в самом деле не замечают.
Вдохновенное произведение сразу же дает нам ощущение сладостной победы разума. Нас подхватывает движение текста к цели, радостное — как езда в детство. Вдохновение — это состояние одержимости истиной, а истина бодрит.
Правильная идея сама по себе недостаточна. Правильная идея срабатывает только тогда, когда ее освежающая душу правильность открылась в личном опыте самого художника.
Представим себе ручей. До сих пор считалось, что его нельзя перейти, не замочив ноги. И вдруг нам открылась такая комбинация торчащих из воды камней, что, оказывается, можно его перебежать, не замочив ноги. Вдохновение — танец перебежки через этот ручей.
Вдохновение даже тогда, когда оно раскрывает нам трагическую истину, таит в себе некую радость. Истина бодрит. Радость познания истины в природе человека. Иначе не объяснишь, почему нам доставляет горькое удовольствие «Реквием» Моцарта или сцена гибели Хаджи-Мурата.
Трагическое в искусстве можно уподобить прививке от смертельной болезни. Оно умудряет душу и облегчает встречу с трагическим в жизни.
Маятник литературы, не достигающий трагического, откачнувшись в обратную сторону, не достигает и комического. Нашим романам не хватает игры, смеха, шутки, гиперболы. Половина прелести Пушкина в игре. А как смеются Гоголь, Достоевский, Чехов, Маяковский!
Мы серьезны, как страховые агенты. Может, литература не наш дом? Может, нам слышится грозный шепоток: «Барин спит. Не разбудите барина»?
Вдохновение — это еще и чувство хозяина открывшейся истины: это я знаю как никто другой, и я за это несу всю полноту ответственности.
Вдохновению может помешать многое. Собственное тщеславие, жадность: не дал созреть замыслу, поспешил. Талантливому, но по-человечески слабому писателю может помешать воспоминание о копье редакторского карандаша. Опережая движение этого копья, он может сам обойти острые углы, утешая себя мыслью, что и без этого много интересного в его вещи. Но себя не обманешь. Вдохновение требует абсолютной полноты самоотдачи, и, когда нет этой полноты, оно улетучивается.
Пастернак и этика ясности в искусстве
Помнится, школьником, роясь в груде книг, разбросанных на стойке сухумского букиниста, я вытащил книжку стихов с именем Пастернака на обложке. Имя мне ничего не говорило. Я уже собирался положить книгу на место, но тут старый букинист сказал:
— Берите, не пожалеете. Это современный классик.
Я тогда абсолютно не верил, что классик может быть современным. Но то ли для того, чтобы не обижать букиниста, то ли для того, чтобы показать ему, что я и сам разбираюсь в стихах, листанул книгу. Я впервые прочел стихотворение «Ледоход». Впечатление было ошеломляющее и странное. Оно даже не казалось мне поэтическим. Скорее, это было ощущение физического наслаждения, только с огромным избытком. Как будто в жаркий летний день я ловлю ртом лимонадный водопад. И вкусно, и слишком много.
Конечно, я купил эту книгу. Чуть позже, в студенческие времена, я доставал все его книги, которые были изданы к тому послевоенному времени. Я уже знал, что Борис Пастернак — поэт, не слишком угодный властям, что его подолгу не издавали, а еще раньше много ругали. В мое студенческое время его почти не трогали, во всяком случае, не помню статей, написанных против него. Можно подумать, что тогда обе стороны объявили перемирие и набирались сил, готовясь к грандиозному скандалу появления романа «Доктор Живаго». Но тогда до этого было далеко, и никто об этом ничего не знал.
Как-то с одним приятелем, таким же, как и я, а может, еще большим любителем поэзии Пастернака, я заговорил о сюжете поэмы «Спекторский».
— А разве там есть сюжет? — спросил он у меня удивленно.
Я удивился его удивлению, потому что он любил эту поэму и часто цитировал ее. Да и как можно было не захлебнуться такими строчками:
Какая рань! В часы утра такие, Стихиям четырем открывши грудь, Лихие игроки, фехтуя кием. Кричат кому-нибудь: счастливый путь! …Пространство спит, влюбленное в пространство, И город грезит, по уши в воде, И море просьб, забывшихся и страстных. Спросонья плещет неизвестно где.Я объяснил своему приятелю не слишком явный, как лесная тропа, заросшая дикорастущими метафорами, сюжет «Спекторского». Оказывается, можно было любить поэму, десятки раз перечитывать ее, не замечая, что она все-таки имеет некий сюжет.
И тут я вспомнил, что и сам не понимал некоторых стихов Пастернака, хотя и в этих непонятных, как чужой сон, стихах были строчки любимые и понятные. Непонятные стихи не вызывали у меня никакого раздражения и — я бы даже сказал — не вызывали особого желания понять их.
Пространство понятного было настолько обширным и щедрым, что я полностью насыщался им, и сам конфликт между художником и не понимающим его читателем не казался мне актуальным. Нет, я не думал: мол, то, что я понимаю, прекрасно, а то, чего не понимаю, вероятно, еще прекрасней. Моя благодарность понятному была столь насыщенна, что не оставалось ни времени, ни душевных сил заниматься непонятным.
Вероятно, общение с поэзией раннего Пастернака напоминает разговор с очень пьяным и очень интересным человеком. Изумительные откровения прерываются невнятным бормотаньем, и в процессе беседы мы догадываемся, что и не надо пытаться расшифровывать невнятицу, а надо просто слушать и наслаждаться понятным. Я бы даже сказал: дай Бог понять понятное!
Однако репутация малопонятного поэта сразу же установилась за Пастернаком и остается до сих пор, хотя совершенно прозрачные стихи позднего периода его творчества, безусловно, подтверждают его давнее полуобещание-полуугрозу:
…Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту.Вопрос о доступности его поэзии, конечно же, волновал поэта, и он неоднократно к нему возвращался. Однажды он горестно воскликнул:
О, если б я прямей возник!Еще в девятнадцатом году Пастернак написал знаменитое стихотворение «Шекспир». В трактире Шекспира настигает призрак его собственного сонета. Шекспир взят Пастернаком, по-видимому, в качестве идеального художника, которого мучает извечный вопрос: для кого писать? Призрак сонета иронически советует своему создателю:
«Простите, отец мой, за мой скептицизм Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы — в трактире. Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы Пред плещущей чернью? Мне хочется шири! Прочтите вот этому. Сэр, почему ж? Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов — и вы с ним в бильярдной, и там — не пойму, Чем вам не успех популярность в бильярдной?» — Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу, И, нервно играя малаговой веткой. Считает: полпинты, французский рагу — И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.Шекспир разгневан, но у него нет аргумента. Салфетка, брошенная разъяренным Шекспиром в призрак сонета, даже для призрака слишком слабое оружие. Можно сказать, что Шекспир не только уходит от ответа, но даже убегает — в дверь!
Конечно, это стихотворение отчасти и попытка самооправдания Пастернака. Сонет, он же Муза, внушает поэту, что он не должен думать ни о каком читателе. Еще до приведенной цитаты сонет признается, что он «выше по касте, чем люди», и потому искусство вообще неподотчетно людям. А если поэт хочет быть понятым читателем, то где же граница между читателем и невеждой? Тогда пусть и бильярдный шулер аплодирует поэту.
В иронической логике сонета хоть и содержится некоторая доля утешительной правды, однако есть в ней и более глубоко затаенная неправда, скорее всего вызвавшая взрыв гнева. Можно догадываться, что Шекспир не только убегает от невыносимой насмешки сонета, но убегает, чтобы додумать мучительный вопрос: как писать? Чтобы при этом искусство оставалось искусством, этот поэт — этим поэтом и одновременно быть доступным читателю.
Должно было пройти много невероятно трагических лет, чтобы Пастернак, сохранив свой неповторимый голос и мелодическую одаренность, пришел к ясным, прозрачным стихам.
Неясность, или смутно мерцающий смысл, в ранней и не слишком ранней поэзии Пастернака, мне кажется, объясняется двумя по крайней мере причинами. Пастернак, безусловно, разделял культ крайнего художественного субъективизма, который во времена его молодости господствовал в России и в Европе. Этот культ позже высмеял Ходасевич в гениальных стихах «Жив Бог! Умен, а не заумен…»
Кроме того, я думаю, его высокая, чисто музыкальная одаренность сыграла свою роль.
Как известно, в юности Пастернак готовил себя в профессиональные музыканты, и его первые опыты были одобрены самим Скрябиным. Но он бросил музыку из-за какой-то мистической сверхчестности.
У него не было абсолютного слуха, в чем он и признался Скрябину. Утешение Скрябина, что и у Чайковского, и у Вагнера тоже не было абсолютного слуха, не остановило его. Безумно любя музыку Скрябина, он ждал, что Скрябин назовет себя. У Скрябина тоже не было абсолютного слуха. По-видимому, абсолютный слух только у Бога и у настройщиков роялей.
Одним словом, юный Пастернак бросил музыку, но, я думаю, музыка его не бросила. Я думаю, вдохновение поэта часто бывало музыкально-поэтического происхождения с преимуществом в отдельных стихах в ту или иную сторону. Я думаю, самые невнятные его стихи — преимущественно музыкального происхождения, и слова тут играют роль мелодических обрывков, а сам смысл соединяющихся слов достаточно второстепенен, если он есть вообще.
Я думаю, стремление к ясности естественно присуще искусству слова. Эта ясность устанавливается бессознательно, она есть заочное продолжение очной культуры общения. Подобно тому, как мы соразмеряем свой голос с расстоянием, на котором от нас находится собеседник, подобно тому, как мы, указывая собеседнику на какой-то далекий предмет, исходим из того, что сила его зрения позволит ему разглядеть этот предмет, подобно тому, как мать, отпуская ребенка, делающего первые шаги, интуитивно определяет, на сколько шагов его можно отпустить, чтобы успеть подхватить его, когда он будет падать, — так и в искусстве чувство читателя, чувство собеседника определяет нормальную речь художника, заставляя его избегать неуважительных длиннот и столь же неуважительной конспективности.
Зрелое творчество предполагает, даже если писатель об этом и не задумывается в минуты творческого озарения, любовь и уважение к далекому собеседнику.
Талант художественного произведения в конечном счете есть способность контактировать с читателем. Силу таланта определяет количество контактных точек на единицу художественной площади.
Если художник хочет уйти от людей, если он славит полное одиночество, то это только означает, что он угадал такое же желание своего читателя. И «блаженное, бессмысленное слово» имеет право на существование только в том смысле, что отражает желание читателя (вполне человеческое) погрузиться хотя бы на миг в блаженную бессмысленность, психически отдохнуть.
Дуновение духа выстраивает слова в художественном порядке, а не слова порождают дуновение духа, как это иногда кажется писателю. Наличие паруса никак не порождает ветер, но наличие ветра породило мысль о создании паруса. Мы не знаем, кто создал Слово. Но, кто бы его ни создал, он знал, что дух уже есть.
Мне кажется, знаменитое изречение Евангелия от Иоанна многими писателями толкуется произвольно. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово было Бог — только метафора, означающая, что Слово — наиважнейшее творение Бога. Так, мать, покидая дом, полный детей, говорит старшей дочке: ты здесь будешь за меня, пока меня нет. А что, если мать слишком долго не возвращается?..
Там, где истинный Бог убит, Слово превращается в бога-самозванца. Так происходит в материалистическом обществе. И потому пропаганде, то есть Слову, там придается огромное значение. И пропаганда сначала имеет большие успехи, пока люди, оглянувшись на свои дела, не догадываются, что Слово было мертво, что правил ими не Бог, а самозванец.
Художник пишет, чтобы понять себя, но правильно ли он понял себя — в конечном счете определяет дружеский или радостный кивок читателя, как бы говорящий:
— Да, да, это именно так, а не иначе.
Главное удовольствие от искусства, которое мы испытываем, — это радость узнавания. Писатель, который прочел в глазах у читателя радость узнавания своего искусства, сам превращается в благодарного читателя души своего собеседника. В этом великий объединяющий смысл искусства, и если бы даже это объединение ограничивалось только взаимным утешением, этого было бы достаточно. Ничто живое так не нуждается в утешении, как человек.
Поэт может увидеть во сне копну сена и испытать ужас бессмысленности существования. Но читатель его поймет только в том случае, если он через образ, которого не было во сне, намекнет ему на причину своего ужаса. Чтобы стихотворение на эту тему дошло до читателя, поэт должен наяву пересмотреть свой сон и уже вставить, скажем, женскую гребенку в головообразную копну сена. Поэт, увидевший этот сон и желающий быть точным в передаче сна, может возразить:
— Мой сон означал не потерю любимой, а потерю смысла жизни.
Но тут, если не мы, то божественный цензор должен сказать:
— Потеря любимой — это тоже потеря смысла жизни. Или ты принимаешь этот вариант, или выбрасываешь свое стихотворение. Мы не можем превращать искусство в разговор глухонемых.
Разумеется, этот голос должен услышать сам поэт, и сам он должен добровольно ему последовать, что, к сожалению, далеко не всегда случается. Не напряжение ума, а волна этического напряжения выносит читателя к замыслу автора. Конечно, в это время разум не спит, а включается в работу души. Само собой разумеется, что и читатель должен быть подготовлен к этому акту.
Мы говорим — в искусстве должна быть тайна. На это тайна соприкосновения с вечностью, а не секрет изощренного мастера. Чем яснее искусство, тем ощутимей соприкосновение с этой тайной.
Случается, что мы с первого чтения не улавливаем мысль поэта. Так что перед нами: шарада или неожиданный для нас новый, глубокий взгляд на жизнь?
Если перед нами действительно настоящая поэзия, то перечитывание стихотворения не только не снижает нашего эмоционального отношения к нему, а, наоборот, усиливает. Но если мы еще не поняли смысла стихотворения, как мы определяем, что это все-таки искусство, а не шарада? Опыт и чутье подсказывают нам доверие к правдивости его интонации. Увлеченные музыкальной правдивостью интонации, мы наконец открываем смысл трудного для восприятия стихотворения. Но такое бывает сравнительно редко.
Странно устроен человек. Почти каждый ведает, что понятие «честный человек» гораздо содержательней и богаче, гораздо сущностной, чем понятие «умный человек». То есть, грубо говоря, быть честным умней, чем быть умным. Однако на практике человек весьма активно старается казаться умным и гораздо более умеренно старается казаться честным.
Комбинацию умственных сил, приводящую к выгоде, мы склонны именовать умным поступком. Комбинацию умственных сил, иногда более дальновидную и тонкую, приводящую к справедливому решению, мы склонны именовать только проявлением честности, хотя в этом решении было гораздо больше ума, чем в первом случае. Дело дошло до того, что в честном человеке иногда подразумевается некоторая умственная отсталость.
Короче, что бы мы ни говорили, цивилизация двадцатого века, дробя и специализируя человека, атомизируя его существование, во многом распотрошила цельное представление о ценности человека как гармоническом сочетании умственных и этических способностей. Общая динамика жизни привела к тому, что веку стало некогда возиться с душой человека и он выработал формулу: «Мне не важно, кто ты такой. Важно — что ты умеешь».
Умение стало простейшей формой проявления и признания ума. И это коснулось искусства. Безудержный культ формы, культ самовитого слова, стремление во что бы то ни стало быть ни на кого не похожим охватило многих художников. Непонятность стала признаком оригинальности, ничем не доказанная оригинальность — признаком доказанного ума и таланта.
Стремление к тотальному обновлению искусства перед революцией сотрясало русскую литературу. Оно частично деформировало и такие большие таланты, как Маяковский и Пастернак. Правда, в отличие от Маяковского Пастернак никогда не отрицал традиции, но многие его ранние стихи подпорчены манерностью, хотя и там истинный талант прорывался сквозь баррикады художественной революционности.
Долгий путь послереволюционного развития таланта Пастернака действительно привел его к неслыханной простоте. Немыслимые страдания Родины, которые всегда были и его собственными страданиями, в конце концов укротили в христианском смысле буйство и неоглядчивую субъективность его творческой фантазии. Кровавый хаос окружающей жизни делал бестактным хаос буйствующих метафор. Хотя я несколько упрощаю, но думаю, что движение стиля шло именно в этом направлении. Словесная живопись молодого Пастернака, близкая импрессионистам, совершенно изменилась.
Лбы молящихся, ризы И старух шушуны Свечек пламенем снизу Слабо озарены.Это скорее напоминает Рембрандта, как сказал поэт Межиров. Романтические водопады музыки ранних стихов сменились тихим журчанием подмосковных ручьев или глубоким однообразием церковной музыки.
Есть любители стихов, которым ранний Пастернак кажется интересней. И в этом — доля истины. Развитие стиля и творческая победа не бывают без потерь. В поздних стихах поэта мы не встретим ураганных ритмов, головокружительных образов, захлебывающихся импровизаций.
На это можно сказать, что мудрость позднего Пастернака, как и всякая мудрость, не нуждается в напряжении голосовых связок.
Поэт прорубился к своему большому читателю. Благородство силы в чувстве равенства со слабым. И это единственное условие, при котором слабый может полюбить и, распрямляясь, дотягиваться до уровня духовной силы.
Слово о Пушкине
Пушкин! С самим именем Пушкина у нас невольно связывается вздох облегчения, улыбка. Какое легкое имя взошло над тяжелой и неуклюжей Российской империей!
Для читающей России Пушкин своими солнечными стихами, можно сказать, утеплил ее климат. У веселого пушкинского очага мы греемся и сегодня, потому что ничего теплее Пушкина не было в русской культуре, не говоря о ее истории.
И мы уже мистически знаем, что ничего теплее пушкинского очага у нас и через тысячи лет не будет. Почему? Потому что после Пушкина у нас были величайшие гении — Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей гениальности никто из них не достигал никогда пушкинской гармоничности и теплоты.
Два ярких, счастливых впечатления детства у меня связаны с именем Пушкина. Напомню конспективно, потому что я о них уже писал.
Александра Ивановна, наша старая зрительница первых классов, читает нам «Капитанскую дочку». Как уютно было ее слушать, с какой невероятной радостью я ожидал появления Савельича, как хохотал над его вечно бунтующей преданностью. Преданность Савельича бунтовала за право быть еще преданней. Его преданность доходила до того, что с невероятной комичностью оттесняла сам объект преданности, и барин Петруша ничего с этим не мог поделать, потому что это был бунт любви, бунт наоборот. «Капитанская дочка» — это два бунта: бунт ненависти и бунт любви, чего еще, кажется, не заметила критика. И все главные герои осуществляют эти два бунта.
Цветаева, делясь своими детскими дореволюционными воспоминаниями о чтении «Капитанской дочки», говорила, что у нее дух захватывало от восторга каждый раз, когда появлялся Пугачев. Только ли дело в том, что она сама была замечательным романтическим поэтом? Не было ли заложено в крови россиян ожидание великого разбойника, который каким-то своим таинственным путем установит таинственную справедливость? И дождались.
Но я-то читал этот роман, когда малые и большие Пугачевы правили страной, и хотя сознательно, конечно, этого не понимал, но бессознательно, поэтически был равнодушен к Пугачеву и любил Савельича.
Другое впечатление связано с моим детским, случайным чтением на обложке тетради «Песни о Вещем Олеге».
Мне повезло, в комнате никого не было, и мне не стыдно было плакать сладостными слезами над судьбой Вещего Олега. Мне было безумно жаль его, и я плакал, но отчего же слезы были сладостны? Видимо, от музыки стихов, от правильности правды случившегося, оттого, что сам конь, живой конь все-таки не виноват в гибели Олега. Опять преданность оказалась незапятнанной. И еще, видимо, — от впервые понятого детским сознанием, что от судьбы не уйдешь. Тогда я в первый раз столкнулся с веществом поэзии в чистом виде и на всю жизнь был потрясен этим.
Пушкин не только навсегда остался лучшим поэтом России, но он и создатель первых лучших образцов русской прозы. Он также предугадал многие великие мысли грядущих эпох.
Знаменитое изречение Достоевского относительно слезинки ребенка и всемирного счастья разве не восходит к «Медному всаднику», к несчастной судьбе обезумевшего Евгения? Пушкин молча выставил труп бедного Евгения на пути цивилизации и молча сказал:
— Перешагните, если можете. Я не могу.
Лев Толстой, не раз примеривавшийся к прозе Пушкина, иногда ворчал: мол, слишком просто, слишком голо, но кончил как художник — «Хаджи-Муратом», вещью пушкинской прозрачности и простоты.
Сознательно или бессознательно настоящий художник создает вторую действительность, помогающую нам выжить в первой. Я думаю, более всего это удавалось Пушкину. По-моему, «Мороз и солнце — день чудесный…» — не только прекрасные стихи, но и средство от простуды, и, что еще важней, средство от депрессии. Все творчество Пушкина — средство от депрессии.
И хотя сам Пушкин в поздних стихах писал, что «на свете счастья нет», мы имеем право добавить: но есть стихи Пушкина, и это не будет преувеличением. Точнее, большим преувеличением. И тем прочнее это счастье, что к нему всегда можно прикоснуться, сняв томик Пушкина с полки. Думаю, при прочих равных условиях чтение Пушкина способствует долголетию, как альпийский воздух. У меня такое впечатление, что пушкинисты долго живут. Надо проверить. Но сделать это надо тактично.
Знаменитая пушкинская отзывчивость. Можно сказать: ничего себе отзывчивость — брал у всех! Что делать, для гения все плохо лежит. Он берет чужое, чтобы придать интересным замыслам большую устойчивость. Интересно, но плохо лежит. Так и мы бокал, стоящий у краешка стола, бессознательно передвигаем к середине. При этом отпив из него, если он не пустой.
Да, брал у всех, но всегда делал лучше, чем те, у кого брал. Так что смело можно посоветовать современным поэтам: и вы берите у Пушкина! Например, сюжет «Медного всадника». Остается самая малость — написать лучше.
Щедрость художника — источник его обаяния. Человек, который на просьбу дать яблоко сует нам полдюжины яблок, делается приятен как бы независимо от яблок. Обаятельный человек, большой оригинал.
Необычайная особенность пушкинской поэтической щедрости состоит в том, что он своей безумной щедрости придавал видимость трезвой нормы. Некоторые послепушкинские поэты замечали эту видимость трезвой нормы, но стоящую за ней безумную щедрость не воспринимали. Бедняги, никак не могли понять, чем они хуже Пушкина.
Пушкин гениален не только в том, что он написал, но даже в том, чего не написал. Он гениален в том, что сюжет «Ревизора» и «Мертвых душ» отдал именно Гоголю. Скажем прямо — так Пушкин об этом не мог бы написать, здесь Гоголь был сильнее. И Пушкин это понял. Но какая интуиция, какая общенациональная литературная стратегия! И сам Гоголь ничего лучшего не написал, чем эти вещи. Такое впечатление, что Гоголь, обожествлявший Пушкина, сделал все, чтобы доказать Пушкину, что он был достоин его доверия.
Мне думается, трагедия Гоголя со второй частью «Мертвых душ» связана с тем, что Пушкина уже не было. Только великий авторитет Пушкина мог спасти Гоголя. Пушкин мог бы ему сказать:
— Я тебе не давал замысел на второй том «Мертвых душ». Ты все прекрасно написал, и больше этого не надо касаться. Иначе можно сойти с ума.
Но, увы, Пушкина уже не было, а Гоголь сам не догадался, что замысел исчерпан. Его занесло на птице-тройке и уже чуть-чуть в первой части заносило.
Еще при жизни Пушкина Гоголь писал, что Пушкин — это русский человек в полном развитии, каким он явится на свет через двести лет. Ждать осталось недолго. Как раз к новым выборам нового президента. Надо бы этого русского человека в полном развитии и выбрать в президенты по рекомендации Гоголя. Но что-то его не видно. Или погорячился Гоголь, или со свойственной ему чертовщинкой подсунет нам нового Чичикова, который окончательно приватизирует новые мертвые души. Но шутки в сторону.
При всем том, что Пушкин не явился на голом месте, величайший скачок поэзии с появлением Пушкина есть необъяснимое чудо. При необыкновенном богатстве русской поэзии это чудо больше не повторилось. И нет ли в творениях Пушкина высшего знака для нас?
Есть. Но есть и загадочность Пушкина как великого национального поэта. Тяжелая глыба империи — легкий, подвижный Пушкин. Темная, запутанная история России — ясный, четкий Пушкин. Тупость огромного бюрократического аппарата — ненатужная мудрость Пушкина. Бедность умственной жизни — Пушкин-гейзер, брызжущий оригинальными мыслями. Народ все почесывается да почесывается, а Пушкин действует и действует. Холодный, пасмурный климат и Пушкин — очаровательная средиземноморская теплота даже в описаниях суровой зимы.
Не правда ли, странный национальный гений? Но так и должно быть. Национальный гений, я думаю, бессознательно лечит нацию и культивирует в ней свойства, которые ей необходимы, но находятся в зачаточном состоянии. Однако, читая Пушкина, мы невольно восклицаем вместе с ним:
Здесь русский дух!Это прежде всего его изумительный русский язык. Такое впечатление, что он пропустил его через грандиозный самогонный аппарат, возле которого дежурила Арина Родионовна, уже слегка принявшая и от этого преувеличенно бдительная. И хотя Пушкин создал русский литературный язык для всех будущих поколений писателей, но первач, уж извините, выпил он сам. Так, незаметно, за сказками Арины Родионовны. И оставшегося хватило на великую литературу, но первач неповторим.
Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, его обузданная вольность, даже плодоносная грусть — не вооружают ли они нас мужеством и надеждой, что в печальную историю нашей страны в конце концов прольется пушкинская гармония? Можно ли поверить, что явление Пушкина — случайная игра генов, некий коктейль природы из горячей Африки и холодной России?
Такое скопление великих талантов в одном человеке не может быть случайным, а может быть только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность человека вообще и разумность Пушкина в особенности.
Государство и совесть
Главная ошибка нашего нового, демократического государства, из которой вытекают все его остальные ошибки, по-моему, состоит в том, что власти, сами того не заметив, повторяют ошибку марксизма: экономика — базис, а все остальное надстройка. Государство, которое живет по этому закону, обречено на гибель, личинку смерти оно уже несет в себе. Советское государство именно поэтому погибло. Это могло случиться несколько раньше или несколько позже, но должно было случиться.
Нам повезло в том смысле, что гибель Советского государства обошлась без кровопролития гражданской войны. Можно сказать, что это было естественной смертью. Хотя можно сказать, что агония его все еще продолжается. Это смотря с какой стороны взглянуть на то, что делается у нас.
То, что экономика не является базисом человеческого общества, сравнительно легко доказать. Во-первых, человечество тысячелетия жило, когда никакой экономической науки вообще не было и никому в голову не приходило экономическую сторону жизни объявлять базисом. Во-вторых, все великие религии утверждают, и наш личный опыт подтверждает это, главное в человеке — совесть. То, что главное в человеке, то является главным и для человеческого общества, и для государства.
Парадокс состоит в том, что государство, в котором экономика — базис, прежде всего обречено погибнуть экономически. В таком государстве экономикой управляют не профессиональные экономисты, а идеологи от экономики. И это совершенно другие люди, которые могут ничего не понимать в экономике.
Так, в идеологическом государстве агронома в колхозе выбирали не по признаку его добросовестности и знания дела, а по признаку его идеологической болтовни, где экономика — базис. Так, ничего не понимая в литературе, Жданов пытался управлять литературным процессом. И так годами, десятилетиями в государстве проходит отрицательная селекция, когда тысячи и тысячи людей, слабых умственно и нравственно, оказываются на командных местах. Такое государство обречено было погибнуть. Вот к чему привело изначально неправильное понимание природы человека: экономика — базис.
Базисом человека и человеческого общества является совесть, а экономика — одна из важнейших надстроек. При этом экономика может хорошо работать при более или менее здоровом состоянии базиса — совести человека. Экономика без базиса — совести — это зверинец с открытыми клетками, что мы видим сегодня у нас.
Один культурный экономист сказал мне: экономика — полунаука-полуискусство. Мне кажется это определение верным. Экономические законы, видимо, срабатывают при благоприятных условиях соприкосновения с человеком.
Нам много говорят об экономическом чуде возрождения послевоенной Германии. Действительно чудо! Тысячи городов лежали в руинах, миллионы убитых, миллионы раненых, миллионы голодных и беспризорных детей!
Но экономическое чудо расцвета Германии вторично. Главное, разбуженная совесть нации стала могучим фундаментом экономического и духовного возрождения. При виде чудовищного краха нацистских идей, при наглядности всеобщей разрухи у немца очистилась душа от злобной пропаганды, которой он раньше верил. И он сказал себе: «Так это мы собирались создать в Европе и во всем мире новый порядок? Безумцы! Нам надо восстановить страну и мирно жить в семье народов».
И Германия расцвела, но порыв совести был первичным.
Наша катастрофа имела гораздо менее наглядный, гораздо более размазанный характер. Верить в коммунизм те, кто верил, перестали задолго до его падения. Однако все, хотя и вяло, делали вид, что верят. В этих условиях после падения коммунизма всенародного покаяния не было и не могло быть. Совесть за семьдесят лет советской власти не только планомерно истреблялась сверху, но и сам наш человек, чтобы выжить, истреблял ее в себе.
Чаще всего это делалось неосознанно. Под страшным давлением диктатуры молекулы страха в человеческой душе преображались в формулу любви. Человек просыпался утром и говорил самому себе: «Я еще жив! Спасибо великому Сталину!»
Сейчас мы ждем великого экономиста, как в свое время народ ждал доброго царя. Экономическая наука на наших глазах превращается в некую мистику, которая якобы спасет страну. Все спасает и все никак не может спасти. Разумеется, нам нужны культурные, талантливые экономисты. Но такие люди нужны и в любых областях нашей жизни.
Однако нас ждут трагические неудачи, пока мы не осознаем, что базисом, фундаментом человеческой жизни и целого государства является совесть.
Разбуженная совесть — самый грандиозный источник человеческой энергии. Но как ее разбудить?
Как говорил знаменитый физик, надо поставить перед собой достаточно безумную задачу, чтобы она оказалась достаточно реалистической. На вопрос, что мы строим, мы должны иметь мужество ответить: мы строим совестливое государство, мы строим государство совести. А демократия и рыночная экономика только рычаги этого неслыханного в мире государства. Совестливое государство сегодня звучит несколько смешно, как слон, плачущий при звуках музыки Моцарта. Но завтра это может стать естественным и радостным началом новой жизни, и слон заплачет.
Самые людоедские государства, душившие совесть, никогда ее теоретически не отрицали, а просто искажали в свою пользу. Даже они мистически боялись прямо и громко ее отрицать.
Интересный диалог в этом отношении был у нашего знаменитого священника-хирурга Войно-Ясеневского со Сталиным. Передаю суть.
— Что это вы говорите — душа, душа. Ее нет. Ее никто не видел, — сказал ему Сталин.
— Совесть тоже никто не видел, — отпарировал знаменитый священник-хирург, — но ведь вы не станете отрицать, что она есть.
И Сталин промолчал. Не осмелился сказать, что и совести нет. В этом великая, непобедимая тайна совести.
Как это, воскликнут скептики, строить государство совести в стране, где одних трясет золотая лихорадка, других трясет лихорадка недоедания, где каждый второй — вор?! Утопия!
Но именно потому, что мы дошли до самого дна и окончательно убедились, что нет и не может быть другой опоры, чтобы подняться, совесть нас подымет.
Такие чудеса в России уже бывали. За семьдесят лет, с 1820 года — начало зрелости Пушкина, до 1890 года — зрелость Чехова, наши предки создали поистине великую литературу, на создание которой европейские народы потратили не менее пятисот лет. И наша классическая литература признана всем миром как самая совестливая. «Война и мир» Толстого или «Братья Карамазовы» Достоевского — это не только грандиозные художественные образы, это суть тысячелетней христианской цивилизации!
Кроме всего этого, два Государства Совести внутри одного, достаточно бессовестного государства, как, впрочем, и все государства мира.
Сегодня Россия оказалась в центре кризиса мировой совести. Весь двадцатый век — это кризис мировой совести, вызванный утопией прогресса. Но это отдельная тема. Мы первые начнем, и за нами последуют так называемые благополучные государства, благополучие которых достаточно относительно.
Чтобы выжить в двадцать первом веке, человечество должно сменить классическую политику хитрости на политику совестливости, то есть политику отсутствия политики. Все государства должны усвоить одну черту истинного гения — простодушие. В этом смысле я бы посоветовал нашему президенту выступить перед мировым сообществом с предложением запрета шпионажа, одновременно, конечно, если предложение будет принято, тщательно укрепив контрразведку. И лучшие люди мира оглянутся на нашу страну с уважительным удивлением.
Но с чего все это надо начинать? Начинать надо с правительства. Нам нужно правительство алмазной чистоты и прозрачности, и чтобы народ поверил в эту чистоту, и тогда он воспрянет духом. Но что надо сделать, чтобы народ в это поверил? Надо быть такими и никакими другими. Сто абсолютно чистых, толковых людей — и есть правительство. Но где их взять? Они есть кругом и в самом правительстве. Достаточно найти десять таких людей, и эти десять приведут с собой остальных. На это понадобится не более двух-трех месяцев. Кристалл алмазной честности на вершине власти обязательно вызовет постепенную кристаллизацию всей пирамиды. На эту пирамиду снизу будет давить воспрянувший духом народ, а он воспрянет духом, видя, что вершина власти чиста, а сверху будет давить вершина в силу своего нового состояния.
Надо помнить, что конечной причиной падения царского и Временного правительства было накопившееся в народе брезгливое чувство, что они не чисты. Так оно и было на самом деле. И надо помнить, что бешенее всех взрываются терпеливые народы.
Надо немедленно привлекать в правительство высокоталантливых представителей гуманитарной интеллигенции. Они утончат психический слух правительства, а это сейчас самое главное для мирного, некровавого движения в будущее. Таких людей у нас достаточно много, несмотря на катастрофическую утечку мозгов. У нас достаточно сильных умов. Сильный ум — плод страдания человека, не потерявшего надежду. Спросят: кто, где и как искать их будет? Даю точный адрес человека, который укажет на высокообразованных, умных, совестливых людей. Это адрес академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Никто лучше него не может знать об истинной цене тех или иных наших гуманитариев.
…Недавно президент наш Борис Николаевич Ельцин сказал по телевидению, что миллиарды рублей, посланные в Чечню, неизвестно куда делись. Президент не следователь, не прокурор, он может не знать, кто их украл. Но он обязан знать, кто именно в правительстве за это отвечает, и привлечь его к ответственности.
Это признание — психологическая ошибка. У многих честных людей, услышавших такое, руки опускаются, а у жуликов, наоборот, руки начинают чесаться. Если бы за спиной президента стоял настоящий помощник-гуманитарий, он бы посоветовал ему воздержаться от этого печального откровения.
А разве не стыдно нам всем, что такие блестящие умы, как Сергей Аверинцев и Вячеслав Иванов, обучают за границей тамошних университетских недорослей, хотя у нас в наших министерствах, уверен, можно найти достаточно недорослей с высшим образованием, с которыми они могли бы провести семинары по истории человеческой совести, начиная с Вавилона и до наших дней, учитывая, что Вячеслав Иванов знает около ста языков.
И почему у нашего правительства до сих пор нет опубликованной для народа программы своих действий на ближайшие годы? Эта программа должна быть написана ясным, мощным, правдивым русским языком и должна внушить народу несокрушимую надежду на лучшее будущее. Такую программу обработать до степени общенародной съедобности могут только гуманитарии высшего класса! Все, что мы время от времени слышим от высокопоставленных чиновников, вяло и неаппетитно. Слыша эти речи, не только человек, котенок не спрыгнет с табуретки! Силу настоящего слова никто не отменял и отменить не может. Вспоминаются строчки из стихов Николая Гумилева:
И в Евангелье от Иоанна Сказано, что слово — это Бог,Но он же в этом стихотворении, опускаясь от мечты к реальности, добавляет:
И как пчелы в улье опустелом, Дурно пахнут мертвые слова.Вдохновенная воля к добру заставляет слова заново сверкать, этой вдохновенной воли к добру хочется пожелать нашим правителям. И еще раз напомнить им о том, что «дурно пахнут мертвые слова». Критикуя правительство, я ни на минуту не забываю о многом хорошем, что оно делает. Так, оно тщательно оберегает нас от мировой скорби. И прекрасно с этим справляется.
Что сказать об интеллигенции? Настоящий интеллигент — это человек, для которого духовные ценности обладают материальной убедительностью, а материальные ценности достаточно призрачны. Все остальное — образованщина.
Интеллигент — миссионер совести и знаний, которые позволяют человеку жить по совести.
Часть интеллигенции, в особенности, врачи и учителя, в труднейших условиях продолжают свое героическое дело.
Я уже писал в свое время в «Известиях», что, если правительство не в состоянии какой-то части населения выдавать зарплату, пусть оно снизит зарплату всем хотя бы на пять процентов, и деньги эти будут. При этом надо ясно объяснить народу, что жертва временная. Никакого отклика не последовало.
Продолжаю об интеллигенции. Большая часть ее, к сожалению, при виде всего, что творится дома, впала в пессимизм. И это не самое худшее. Я бы сказал так: если при выходе из пессимизма нас ожидает цинизм, то лучше незаметно поворачивать обратно.
Беда стране, где слишком многие люди думают о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания, а так как они при этом страдают, думая о политике, они не чувствуют свою вину перед отсутствием созидания. Получается горький парадокс: страдать проще чем созидать. Вся Россия — пьющий Гамлет. Выход только один. Хочешь вырваться из страданий — созидай! Другого лекарства нет и не будет. Даже сизифов труд освобождает нас от бесполезных рассуждений о бесполезности сизифова труда.
Никто никогда в европейской и русской истории не пробовал сделать совесть главным инструментом управления народом. Я не говорю единственным, я говорю — главным. Если бы мы имели возможность спросить у Бога: «Можно ли управлять людьми при помощи совести?» Он бы ответил: «Я именно это предложил людям через своего сына, но никто из властителей не попытался».
Так давайте попробуем? Если мы достигнем абсолютной чистоты хотя бы на вершине власти, а она видна со всех сторон, это будет первый шаг к нормальной, достаточно гармоничной жизни.
И в один прекрасный день наш человек скажет своему напарнику по выпивке: Вань, погляди, что делается! У государства совесть появилась! Пора браться за ум! Баста! Не пьем до воскресенья!
Когда это скажет простой русский человек, тогда начнется настоящее возрождение России.
Понемногу о многом
Случайные записки
Похмелье — смена страдания, как форма отдыха психики.
Надо ли было выходить из гоголевской шинели, чтобы попасть в сталинскую шинель?
Человек, согрешивший против другого человека, в своем покаянии должен испытать страдания, превосходящие страдания человека, против которого он согрешил. Только в этом случае он имеет шанс быть услышанным.
Предают не только из соображения выгоды или злобы на человека, которого предают. Чаще всего предают, чтобы почувствовать себя значительным в момент предательства, вершителем судеб.
Метафизическую карикатурность цели Наполеона Толстой передает через физическую карикатурность жестов и слов Наполеона. И он прав. Читатель, легко воспринимая физическую карикатурность Наполеона, начинает понимать карикатурность его метафизической цели. Что и требовалось доказать.
Мысль этого человека запуталась и никак не могла выпутаться из паутины его собственного слабоумия.
Щедрый распахивается от избытка собственного тепла. И от этого получает удовольствие.
Скупой запахивается от избытка собственного холода. И от этого получает удовольствие.
Наелся на ночь — и стало грустно. Вот так всегда. Видимо, переполненный желудок давит на душу, а это ей неприятно. Чтобы хорошо себя чувствовать после еды, или не надо иметь душу, или есть так, чтобы желудок не притрагивался к душе. Из всего этого следует, что душа расположена в непосредственной близости к желудку. Недаром праведники подолгу голодают: расширяют пространство души за счет желудка.
В молодости читал книгу Фрейда о сновидениях. Многие сны он остроумно и проницательно объясняет подавленным половым стремлением. Но иные сны он совершенно произвольно и даже смехотворно, с маниакальным упорством объясняет тем же. Я тогда же подумал, что он сам не вполне здоров, зациклен на этой теме.
Недавно случайно прочел, что невеста Фрейда долго не выходила за него замуж. И он страдал от этого. Не тогда ли он зациклился?
Стал бы Фрейд знаменитым Фрейдом, если бы его другой Фрейд тогда вылечил? И не лечил ли он себя тем, что лечил других?
Писатель Георгий Семенов с беззлобным смехом когда-то рассказал об одном писателе, у которого роман начинался эпической фразой: «У оленя болела голова…»
— Наверное, олень был с похмелья, — сказал я.
— Скорее автор, — рассмеялся Георгий.
Иногда Пушкин надоедает тем, что у него полностью отсутствует сопротивление материала. Мощь гармонии уничтожает его. И тогда хочется читать Тютчева, у которого чувствуются мускульные усилия духа, преодолевающего сопротивление материала. Тютчев героичен. Но по стихам Пушкина догадываешься, что рай — это место, где нет сопротивления материала. В русской поэзии немало великих поэтов, но райские звуки только у Пушкина, Лермонтова и отчасти Мандельштама.
В южном городке на узкой улице время от времени мимо меня с оглушительным грохотом проскакивали молодые мотоциклисты. И каждый раз вслед мотоциклисту хотелось крикнуть почему-то только одно слово: «Мерзавец!»
Когда человеку нечем удивить мир, он удивляет его грохотом. Грохот — кузница тоталитаризма. Никто не вычислил, насколько расшатывает души грохот телевизоров в миллионах домов.
В литературе этическая пустота непременно приводит к эстетическим изыскам. И это понятно почти физиологически. Под давлением смысла слово делается тугим, трудным для обработки вне прояснения смысла. Без давления смысла слово делается дряблым, поддается любым изгибам.
Умный и глупый выпивают вместе. На первой стадии выпивки умный делается еще умней, а глупый еще глупей. На последней стадии глупый берет реванш. Умный выглядит глупее глупого. У глупого сказывается больший опыт пребывания в глупости.
Бывало, в молодости входишь в ресторан. Грохочет музыка. «Какой ужас!» — думаешь с отвращением. Но вот подвыпил — и теперь: «А музыка — ничего себе! Неплохая! Жить можно!»
То же самое думают о невыносимой музыке жизни пьющие люди. Выпив, они начинают думать о ней: «Ничего себе! Неплохая! Жить можно!»
Ударил человека по лицу — и откинулась голова человечества!
Устав от вранья, он посвежевшим голосом стал говорить правду. И тут-то все решили, что он начал фантазировать.
— Дедушка, Бог легкий? — неожиданно спросил у меня внучек.
— Очень легкий, — ответил я ему на этот нелегкий вопрос. Вероятно, он имел в виду причину пребывания Бога на небесах.
Пылающий мозг бессонницы.
Шел по нашей улице. Многоэтажный дом наверху перестраивали. Часть тротуара была ограждена веревкой. Оставался узкий проход. Я уже был метрах в трех от веревки, когда сверху раздался истошный крик женщины. Оттуда сорвался железный лист и с тяжким громыханием упал в нескольких метрах от прохожих, но внутри пространства, огороженного веревкой.
Удивительней всего, что ни один прохожий, в том числе и я, не шарахнулся, не испугался. Если бы этот тяжелый железный лист упал на три-четыре метра ближе, он кого-нибудь убил бы.
Никто не остановился и не ускорил шаг. Некоторые на ходу с ленивой неприязнью взглянули наверх, но, убедившись, что матюгнуть эту женщину нерентабельно, слишком высоко она стоит, шли дальше. Во всем этом чувствовалась привычка к хаосу и даже философская честность: неужели с этого сорвавшегося железного листа надо начинать устанавливать порядок?
Прежде чем бороться с общественным злом, изрыгни из себя собственное зло.
Трус — человек, имеющий смелость не скрывать, что его жизнь ему дороже нашей.
После нескольких неудачных покушений на Александра Второго некоторые либеральные деятели обращались к царю с просьбой пощадить неудачливого убийцу, не понимая, что самой возможностью такой просьбы, которая, конечно, становилась известной публике, они воодушевляют убийц повторять попытки. И наконец убили. Как жаль, что царь после первого неудачного покушения и просьб помиловать неудачливых убийц громко, на всю страну не сказал: «Даю шанс палачу промахнуться!»
Иногда юмор может переломить трагическую ситуацию.
Человек в толпе смелее себя — толпа воинственна. Человек в толпе трусливей себя — толпа неожиданно шарахается в панике. Человек в толпе подавляет свой ум — опасно высовываться.
Человек должен быть равен самому себе, и потому ему не место в толпе.
Террорист — искра толпы, даже если он действует один.
Мой воображаемый разговор с вождем племени людоедов.
Я: Скажите, как вы стали людоедами?
Он: Думаю, так: наш далекий прапрадед заметил, что человека догнать и убить легче, чем антилопу. Так и пошло с тех пор.
Я: И вам не жалко людей?
Он: Жалко-то оно жалко, но голод сильней жалости. А вы, так называемые цивилизованные народы, тысячами убиваете людей, и не от голода, а только чтобы обозначить свою власть. Так кто более жестокий — вы или мы?
Мне нечего было ему ответить.
— Я хочу жить назад, — сказал шестилетний внук.
— Почему?
— Хочу посмотреть на первый день своего рождения.
В девятнадцатом веке женщины довольно часто падали в обморок. В наше время — перестали. Что, собственно, им мешает падать в обморок? Неужели только более короткие платья? А может быть, мужчины стали менее надежны и женщинам приходится держать себя в руках?
— Почему ты так мало читаешь?
— Из соображения чистой выгоды, — отвечал он, — мне плодотворней думать самому. Информация, которую вырабатывает моя голова, примерно на десять процентов богаче информации, которую я черпаю из книг.
Страшные рассказы хороши, когда читатель, чувствуя страх, одновременно ощущает уют своей духовной и физической безопасности. Страх усиливает поэтическую сладость уюта. Роман о конце человечества, если это не роман социального и философского предупреждения, аморален. И чем талантливей такой роман, тем аморальней.
Можно страшить ребенка, когда он заранее знает, что это игра. Страшить ребенка, когда он заранее не знает, что это игра, жестоко и подло.
Богу абсолютно все равно — поэт ты или дворник. Он ревниво следит только за тем, насколько человек близок к исполнению его заповедей. Условия этого приближения к его заповедям абсолютно одинаковы и у дворника, и у поэта.
Нельзя не заметить, что Достоевский с особенным вдохновением и даже личным сладострастием описывает человеческую низость. В сущности, он полемизирует со всей мировой гуманистической мыслью: мол, человек сам по себе хорош, но его портят плохие социальные условия. Без Бога, говорит Достоевский, человек плох или ужасен. Он покоряется воле Бога или живет по личному, чаще всего подлому, своеволию.
Достоевский хорошо знал себя, боялся собственного своеволия и всю жизнь посвятил борьбе с человеческим своеволием.
Удивительно, что до сих пор, насколько я знаю, ни один критик и философ не написал книги «Маркс и Достоевский».
По Марксу, человек запрограммирован своим экономическим положением в обществе. По Достоевскому, человек, если он не верит в Бога, — существо, стремящееся к своеволию, совершенно независимо от того, богат он или беден. Конечно, в обоих случаях речь идет о преимущественной, главной тенденции человека.
Уверен, что Достоевский ближе к подлинному человеку. Интересно, что Ленин, всю жизнь боровшийся с теоретиками, хотя бы чуть-чуть отходившими от Маркса, сам ему изменил совершенно своевольно, как герой Достоевского, которого он, кстати, ненавидел.
По Марксу, социалистическая революция может и должна произойти в наиболее развитой капиталистической стране. Что же, Ленин не знал, что Россия очень сильно отстает от таких стран? Хорошо знал. Но соблазн был так велик. Временное правительство было столь слабым, что Ленин решительно пошел на Октябрьский переворот. Сторож спит, можно трясти яблоню! Но, по Марксу, яблоки еще далеки от зрелости. Ничего! На печке дозреют! Никакая любовь к Марксу, никакая верность ему не удержали Ленина от грандиозного своеволия. Любя Маркса, он навсегда разрушил чистоту его эксперимента. Вот что такое своеволие! Конечно, реального человека Достоевский лучше знал, чем Маркс.
Духовные способности никак генетически не передаются. Это факт. Но механическая память, как хорошие зубы, часто передается по наследству. Из этого прямо вытекает, что механическая память никакого отношения не имеет к духу человека. Но эмоциональная память — это уже дух.
Компромисс: совместить вынос тела Ленина из Мавзолея с вносом в Мавзолей тела капитализма.
Самый неутомимый лакей — это лакей собственного эгоизма.
Гениальная свежесть и подчеркнутое здоровье стиля Льва Толстого. А не вырвалось ли все это из урагана побежденного безумия? Остаются чуть заметные швы его, что-то вроде мании логизации.
Хохот — громоотвод безумия.
Состояние похмельной тяжести очень похоже на состояние нечистой совести. Похмелье — расплата за украденное веселье. В обоих случаях тяжесть на душе — сигнал бедствия. Но не всякий к нему прислушивается или понимает его.
Умение ловко слизывать, облизывать, подхватывать языком что-либо, одним словом, ловкость языка всегда признак примитивной натуры, признак приближенности к животному. Я знал идиота, который на моих глазах, неожиданно выбросив язык, поймал комара.
У людей с перегруженной психической жизнью часто плохо скоординированы движения: смешная походка, неловкие жесты. Ритмы психической жизни не совпадают, противоречат физическим ритмам. Зато какая красивая, пластичная походка у негров, особенно бег! Видно, у них реже случается перегрузка психической жизни.
Подправив известное изречение, можно сказать об этом писателе: скромный в литературных боях и буйный в литературных застольях.
Если к книге не возвращается настоящий читатель, значит, это ненастоящая книга.
Если к настоящей книге не возвращается читатель, значит, это не настоящий читатель.
Настоящий читатель и настоящая книга узнают друг друга и возвращаются друг к другу. А иногда не расстаются, как влюбленные.
В советской литературе послесталинского периода дети и внуки репрессированных большей талантливостью полностью победили детей и внуков не репрессированных. Хотя дети и внуки последних ни в чем не виноваты, но им неоткуда было взять этическую энергию первых.
…В состоянии рассеянного хамства.
Несколько лет назад, выходя из ванной, поскользнулся и так больно ударился головой, что на минуту потерял сознание. С тех пор, о чем бы ни думал, вылезаю из ванной с бессознательной осторожностью. По-видимому, опыт, приобретенный через боль, наиболее устойчивый. Говоря шире, ребенок должен бояться болезненного наказания, но он должен знать, что это наказание в строгих рамках любви. Замечательно сказал об этом древнеяпонский поэт: «Наказав ребенка, я привязал его к дереву, но с тенистой стороны».
Я ни разу не наказывал своих детей…
Ждали затмения солнца. «Будет конец света!» — почти радостно говорили все бездельники, отчасти гордясь тем, что они мистически предвидели это и потому бездельничали. Таких оказалось много. В день затмения солнца мы были на даче. Чужая кошка впервые влезла к нам в форточку, возможно, дезориентированная затмением. Других космических событий не было.
Нёбо — небо желудка.
Капитализм — это плохо. Но он дает время и право додуматься до чего-то лучшего. Другие общественные системы не дают такого права.
Вооруженный до вставных зубов.
— Убери сейчас же доброжелательное выражение с лица!
— Почему я его должен убрать?
— Мошенники слетятся! Тебе же будет хуже!
Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех. Но почему он оставлял это свободное место в душе? В ожидании, что счастье влетит в него, как ласточка.
Инспектор-ангел, пролетая над нашей Землей, воскликнул: «Боже, Боже, какая провинциальная планета!».
Из подчеркнутой скромности скромно выпирал горб гордыни.
Залюбовавшись миражом, прозевал оазис.
Еще одна забота для бывшего советского человека: учитывается ли на том свете стаж веры на этом? Отвечаем: учитывается. Для россиян — год за три.
«Кто не грешен, пусть кинет свой стакан в пьяницу!» — сказал он. И никто не кинул.
Мало того, что он сидел с переполненным мочевым пузырем, его еще все время втягивали в разговор о засухе.
Опомнившийся ум — это ум, понявший, что есть нечто умнее ума.
Наша доброжелательность — лучший возбудитель мошенничества против нас.
Писатель, прособаченный литературой.
Двадцатилетний футурист — любопытно. Пятидесятилетний — омерзительно.
Кто-то хорошо сказал: «В молодости нам нравятся люди красивые, талантливые. В зрелом возрасте — хорошо воспитанные».
Общественный деятель — несмирившийся неудачник. Несчастную страну узнаешь по количеству общественных деятелей.
Есть абхазская пословица: посади ребенка на колени, он повиснет у тебя на усах. Тут хороша правдивость поведения ребенка и забавна важность отношения к собственным усам.
Честный атеист говорит: у человека достаточно собственных сил, чтобы нравственно подняться.
Это можно сравнить с прыжком в высоту с места.
Верующий человек, чтобы нравственно подняться, должен каждый раз разгоняться в сторону Бога и прыгать вверх. Прыжок с разгона, конечно, выше прыжка с места, но верующий во время разгона может споткнуться и упасть, что, как известно, нередко случалось.
Когда к гробу умершего человека подходит его друг с криво застегнутыми пуговицами пиджака, дурак шепчет соседу: «Какой невнимательный человек! Даже в такие минуты не мог привести себя в порядок».
Умный думает: горе так его ударило, что ему не до пуговиц пиджака.
То же самое бывает в литературе. У Достоевского пуговицы всегда криво застегнуты.
Чем сильнее похмелье, тем равнодушней человек к тому, за что пьет: за здравие или за упокой. Потому спивающийся народ равнодушен к тому, что делается вокруг.
Африканизация мира происходит быстрей, чем окультуривание Африки. Сомневаюсь, что Бетховен в Африке популярен так же, как джаз в мире.
Высшее очарование женщины — застенчивость. Именно это хотят отнять у нее феминистки.
Люди с опущенными глазами чаще видят небо. Величие скорби.
Ум без нравственности неразумен, но нравственность разумна и без ума.
— Плутарх архиплут! — воскликнул Ленин и, рассмеявшись своим заразительным детским смехом, тут же исправил историю.
Юмор, ничего не обещая в будущем, расплачивается на месте звонкой монетой смеха. Люди любят юмор, потому что он экономически выгоден.
Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить глупость — она неистребима, а для того, чтобы поддержать дух разумных.
Мудрость не нуждается в информации, зато информация нуждается в мудрости, чтобы в самой себе разобраться. Но хорошо информированный человек как раз не обладает именно этой информацией, и именно поэтому он хорошо информированный человек. Хочет взять количеством.
Темнело. Жена сказала: включи свет… А я вдруг начисто забыл, где выключатель, хотя тысячи раз подходил к нему. Мысли мои были слишком далеко от дома. И только выключив их, я включил свет.
Постель — наиболее удаленная от космоса местность. Человек воспроизводит жизнь в постели, дополнительно прикрывшись от космоса одеялом. Воспроизводство жизни связано с абсолютным сужением пространства, то есть уходом от космоса. Это порождает мысль о враждебности космоса человеку. Пушкин, как наиболее производительный поэт во всех смыслах, не любил космоса.
Некоторые женщины, заболев, становятся нежными, лиричными. Через несколько дней вдруг начинают покрикивать с постели. О! Значит, выздоравливают!
В последние годы перед тем, как лечь, делаю много лишних, ненужных вещей — якобы в помощь предстоящему сну, а на самом деле оттягиваю время в страхе перед бессонницей.
Я: Справедливо то, что не допускает крови.
Он: Справедливо то, что справедливо.
Я: Мне плевать на справедливость, которая допускает кровь.
Благостное состояние. В зажигалке кончился бензин. Я сказал: «Спасибо!» — и выкинул ее.
Я точно знал, что этот человек будет в аду. Но я так же точно знал, что он и там сделает карьеру.
Хороший аппетит в молодости — праздник молодости. Хороший аппетит в старости — праздник маразма.
Я был уверен, что этот человек — вор. Но позже выяснилось, что он скупщик краденого. Я ошибался, но согласитесь: была некоторая близость попадания.
Стою в сберкассе в очереди. Вдруг входит худая, бледная женщина в черном. Спрашивает:
— Можно посмертные деньги получить?
Я вздрогнул. Но оказалось, что она имела в виду умершую родственницу.
Пахарь приближает Землю к небу на двадцать — тридцать сантиметров. Надо пахать. Только пахарь спасется.
Одинокий мыслитель — звучит естественно. Одинокий дурак — неестественно. Ясно, кто победит.
Проповедовать обезьяне стать человеком можно двумя способами. Можно влезть на дерево и, устроившись на ветке рядом с обезьяной, начать проповедь, правда рискуя, что она тебя сбросит с дерева.
Можно, повысив голос, проповедовать стоя у подножия дерева, правда рискуя, что обезьяна какнет тебе на голову. Конечно, можно прикрыть голову зонтом, но практика показала, что это снижает пафос проповеди.
Вера в Бога — вершина материализма в том смысле, что это лучший способ обустроить материальную жизнь на земле. Андрей Белый уже при советской власти шутил: победа материализма привела к исчезновению материи, то есть продуктов.
Один находчивый христианин возненавидел самого себя, чтобы любить врага, как самого себя.
Говоря серьезно, любить врага, как самого себя, психологически невозможно. Если бы мы могли любить врага, как самого себя, у нас и не было бы врагов.
Ничего похожего я в жизни никогда не видел. Сам я никогда не мстил врагам, но отвращение или презрение не мог одолеть.
И только у Льва Толстого есть нечто подобное. Сцена из «Анны Карениной». Каренин приезжает к Анне, думая, что она умирает. Так говорят и врачи. Она в бреду. Он застает в комнате Анны Вронского, который отнял ее у него и опозорил на весь Петербург. Но горе Вронского так же велико, как и горе Каренина. И мы явно чувствуем, что Каренин, по крайней мере сейчас, все простил Вронскому. Их сближает неимоверность общего горя. Сцена написана с грандиозным вдохновением. Гибель той, которую они любили гораздо больше себя, соединяет их. Только Вронский может понять горе Каренина, и только Каренин может понять горе Вронского. Но разве это имел в виду Христос? Скорей всего, слова Христа — метафора смягчения нравов.
Редактриса телевидения, провожая меня к выходу из телецентра, вдруг сказала: «Я всю жизнь воспитывалась на ваших рассказах… И вот меня гонят с работы…»
Я смутился и от растерянности ничего ей не ответил… Ну, предположим, наши горестные труды увенчаются успехом и некоторое количество людей станет честными. Но где мы их трудоустроим, вы подумали?
Разврат — месть тела за неспособность любить.
Легко представить, что мировая культура воспитывает какое-то количество людей и делает их достаточно нравственными и законопослушными. Но какое количество? Этого никто не знает. Зато мы догадываемся, что новые поколения (новые дикари) хоть частично окультуриваются, однако большая их часть пополняет ряды неокультуренных людей. И тут математически ясно, что человечество постепенно дичает, но огромные технические достижения маскируют одичание душ. Более того, эти одичавшие люди создают свою дикую масскультуру, которая угодна одичавшим людям и еще больше способствует их одичанию. Гуманистическая культура должна возглавить цивилизацию, а не техническое развитие, как это происходит сейчас, когда само техническое развитие подчинено военным заказам и примитивным требованиям рынка развлечений. Все правительства мира должны найти в себе силу благородства и самоограничения, чтобы привлечь к духовному управлению государством людей с наибольшим нравственным авторитетом своей страны. Вот тогда только гуманистическая культура возглавит человечество и спасет его от неминуемой катастрофы, к которой ее ведет всеобщее одичание. Иначе — великая катастрофа, и, если люди еще останутся, они отрезвеют от религиозного потрясения. Сейчас люди достаточно далеки от религии. Настоящая культура — это религия в пластической форме, более доступная людям. То, что я говорю, похоже на древнеегипетское жречество, но это не должно смущать. Развитие человечества никогда не было прямой линией. В двадцатом веке мы дважды возвращались к людоедству: Сталин, Гитлер. Почему бы не вернуться к власти нравственных авторитетов? На власти старейшин веками держался патриархальный мир.
— Человек — это звучит гордо! Человек — это звучит гордо! Человек — это звучит гордо!
— Человек, ты в самом деле звучишь гордо?
— Не знаю. Хозяин так сказал.
Прохаживаюсь по двору дачи. Внук гоняет на велосипедике. Видимо, удивлен моей долгой бесцельной прогулкой.
Останавливается в двух шагах от меня. Подражая мне, делает мрачную мордочку и, закладывая руки за спину, спрашивает:
— Дедушка, почему ты так гуляешь?
— Я обдумываю что-то.
— Ты Фазиль Абдумович?
Вбегает ко мне в кабинет и, шлепая кулачком в грудь, спрашивает:
— Дедушка, с какой стороны душа?
Входит ко мне в кабинет. Тычет рукой в машинку:
— Это что?
— Машинка. Я на ней пишу.
Тычет рукой в электробритву:
— Это что?
— Это бритва. Я ею бреюсь.
Тычет рукой в электрообогреватель:
— Это что?
— Печка, — говорю я для простоты.
— Нет, — поправляет он меня, — это электрокамин.
Печку он, конечно, никогда не видел.
Уезжаем с дачи в город. Остановились возле бензоколонки. Рядом продавщица сладостей. Внук говорит:
— Дедушка, дай десять люблей, я куплю конфеты.
Именно — люблей. Я тоже в детстве испытывал мистическую любовь к деньгам. В школьные годы азартно играл на деньги. К шестнадцати годам любовь к деньгам незаметно испарилась. Любовь к поэзии все перекрыла. Дремучее, все возрастающее равнодушие ко всему, что не содержит в себе частицу поэзии. А то, что содержит в себе поэзию, за деньги не купишь.
Еще в советские времена я летел в Европу с делегацией писателей. Со мной рядом оказался писатель, который в свое время написал подлую статью против Пастернака.
Когда самолет начал выруливать на взлетную полосу, он, воровато взглянув в сторону начальства, сказал вполголоса: «Господи, помоги!».
Он это сказал с таким расчетом, чтобы начальство его случайно не услышало, но Бог услышал благодаря своему обостренному слуху. Он явно просил у Бога, чтобы самолет не грохнулся, напоминая ему, что в самолете свой человек, то есть он. Я знал, что он подлец. Он знал, что он подлец, более того, он знал, что я знаю, что он подлец. Получалось, один Бог не знает о его подлости, но при этом почему-то зорко следит за его благополучием.
Слово «война» по-русски и на всех европейских языках, отвлекая от сущности войны, смещает наше сознание к ее конечной цели: защищать или отнимать какие-то земли. По-абхазски война обозначается с первобытной откровенностью. Война по-абхазски — «взаимоубийство».
Когда я жил в Абхазии, каждый снятый партийный работник старался сблизиться со мной, проникался ко мне лирическим чувством, смутно давая знать, что мы думаем одинаково и поэтому его сняли.
История выбирает тупых, заставляя этим мыслящих лучше понимать истинное состояние человечества.
«Пострадать бы», — говорил и писал Лев Толстой в старости. Он хотел, чтобы правительство его арестовало или выслало. Читать это как-то неловко. Кажется, Толстой стремится героизировать свою жизнь. Но на самом деле, я думаю. Толстой хотел внешним страданием вытеснить из души гораздо более глубокие внутренние страдания. Ими полны дневники старого Толстого.
Женщина по отношению к внешним приметам жизни гораздо наблюдательней мужчины. Думаю, это идет от древнейшего инстинкта защиты своего ребенка. Надо было зорко озираться, чтобы защитить ребенка от внешних угроз. И зоркость к внешним проявлениям жизни стала привычкой.
Мужчина с самого начала больше сосредоточивался на внутренней жизни. Ему надо было обдумать модель будущей охоты, чтобы прокормить семью. И это стало привычкой. От обдумывания модели будущей охоты он дошел до обдумывания модели мира, в котором мы живем. Разумеется, в живой жизни бывают исключения в обе стороны.
Слишком пристальное внимание к сосуду, из которого пьешь, всегда есть снижение внимания к тому, что пьешь.
Вчера перечитал рассказ Толстого «Дьявол». Впечатление потрясающее. Поразило невероятное портретное сходство героини рассказа Степаниды с Аксиньей из «Тихого Дона». Автор «Тихого Дона» мощно развил этот образ, но поэтическая, портретная и человеческая сущность одна.
Внешний сюжет у Толстого — реальный случай из жизни судебного следователя. У него была связь с крестьянкой. После женитьбы он пытался порвать эту связь, но непреодолимая страсть тянула его к этой крестьянке. Звали ее Степанида. Не в силах преодолеть эту страсть и будучи чистым человеком, он в конце концов в полубезумном состоянии застрелил ее.
Софья Андреевна знала, что у Льва Толстого была до женитьбы связь с крестьянкой Аксиньей, и правильно угадала, что он очень много от нее вложил в Степаниду. История эта была хорошо известна в семье Толстого, и он, чтобы не вызывать безумной ревности Софьи Андреевны, скрывал от нее этот рассказ, но Софья Андреевна каким-то образом докопалась до него, и был большой скандал. Кстати, рассказ был опубликован только после смерти Льва Толстого.
Автор «Тихого Дона», конечно, знал эту историю и восстановил имя Аксиньи. Каждый пишущий знает, как не хочется менять имя прототипа, если это не связано с неприятностями для человека.
Толстой воспользовался реальной Степанидой, чтобы скрыть еще более реальную Аксинью. Гениальный набросок героини Толстого оказался настолько вдохновляющим и типичным, что дал возможность автору «Тихого Дона», не меняя тайного имени прототипа Толстого, сделать ее главной героиней своей эпопеи. И тут ничего нет дурно-подражательного, есть могучее творческое развитие образа. Аксинья «Тихого Дона», как и Степанида, погибает от пули. Но и имя Степаниды не осталось без применения. Муж Аксиньи назван Степаном. Жена Григория Мелихова, как и Софья Андреевна, пыталась покончить жизнь самоубийством: физическая и духовная ревность. В обоих случаях попытка не удалась. Если отбросить гениальность и образованность Толстого, мы заметим, как это ни парадоксально, сходство Григория Мелихова и Льва Толстого. В жизни оба — храбрые люди, а главное, трагические правдоискатели. Одним словом, жизнь в Ясной Поляне маячила перед глазами автора «Тихого Дона». Толстой в «Тихом Доне» чувствуется даже в полном, тотальном отходе от поэтики Толстого. Автор «Тихого Дона» психологию своих героев в отличие от Толстого раскрывает только и только через действия своих героев. Ясно, что Толстой все время был у него в голове.
В воспоминаниях о Толстом несколько раз указывается, что Лев Николаевич вслух читал гостям «Душечку» Чехова. «Душечка» в первый раз попала в Ясную Поляну вместе с журналом, где она была напечатана. Привез журнал один из петербургских гостей Толстого. И на вопрос Толстого: «Ну как рассказ?» — гость ответил: «Ничего особенного», или что-то вроде этого.
Тем не менее Толстой предложил прочесть этот рассказ вслух. Он прекрасно читал его, все больше и больше воодушевляясь. Он нашел рассказ изумительным. Пришли новые гости, и Толстой не поленился снова прочесть им вслух этот рассказ. На этот раз читал еще лучше.
Да, рассказ замечательный. И все-таки странно, почему Толстой неоднократно читал его вслух своим гостям. Бывали же в это время в его руках и более талантливые вещи.
Я думаю, вот в чем разгадка. Дело не в гостях. Гости — только повод замаскировать причину. Он хотел втемяшить в голову Софье Андреевне: вот так настоящая жена должна полностью сливаться с делом мужа!
Софья Андреевна была ему великой помощницей, но она не могла, как Душечка, восторженно и послушно следовать во всем за своим мужем. В конце концов это привело к трагедии ухода Толстого из Ясной Поляны. «Душечка» не помогла!
Трагическая необъяснимость Времени и Пространства побеждается только живым делом. Вот я пишу рассказ, и необъяснимое Время превращается в прозрачное и ясное время написания рассказа. Пространство превращается в наглядное пространство бумаги, на которой написан рассказ. И так в любом деле. Время и Пространство оплодотворяются только делом. Тогда трагическую необъяснимость Времени и Пространства можно истолковать как призыв к творчеству, к созиданию.
Когда споришь с умным человеком — напряжение ума по восходящей. И это в конечном итоге доставляет удовольствие.
Когда споришь с глупым человеком, то, чтобы быть понятным ему, невольно упрощаешь свою мысль. Напряжение ума по нисходящей, и от этого остается неприятный осадок. По-видимому, в этом случае наша природа сопротивляется распаду, энтропии. Пушкин это понимал: «…и не оспоривай глупца».
Когда мысль опирается на палку, почему-то никому не приходит в голову, что это — хромая мысль и она будет мстить за свою хромоту.
Космос омерзителен. Омерзительно все, что не поддается уюту.
Мудрость Пушкина: человек неисправим, но его можно умиротворить. Отсюда его грандиозная гармония.
Героическое пренебрежение мудростью Толстого и Достоевского: человека во что бы то ни стало надо воспитать! Отсюда грандиозная страсть.
По высочайшей аккуратности текста угадывается подлог.
Пьющий опохмеляется дважды. Сначала пьет, чтобы опохмелиться от тяжести жизни, а на следующий день опохмеляется от тяжести выпитого.
Единственное настоящее лекарство от алкоголизма — сделать жизнь такой, чтобы от нее не хотелось опохмеляться.
Жертвенность и есть истинная женственность. Всякое иное понимание женственности соскальзывает в проституцию.
С детства некоторые слова и выражения воспринимаю как живое, зловредное существо. Выражение: «Заморить червячка!» — мучитель моего детства. Сейчас мучитель новое слово — подвижка. Нет движения, но есть подвижка. С одной стороны, сокрытие того, что никакого движения вперед нет, но, с другой стороны, как бы кое-что есть: подвижка. Осторожно, трусливо — мол, все же не сидели сложа руки, есть подвижки. Подвижки, подвижки, подвижки — гроздь гусениц, пытающихся и не могущих расползтись. Ползок — и втянулась обратно: подвижка.
Взятки он давал чиновникам размашисто, как официантам на чай. Знайте, кто хозяин!
В эту минуту женщина так возненавидела меня, что неожиданно для меня — я думаю, даже для себя — заговорила со мной с кавказским акцентом. При этом она чистокровно русский человек, никогда не бывавший на Кавказе. Она как бы исторгала из себя мой дух, хотя я никогда не говорил с кавказским акцентом. Она как бы озвучила то, чего не было, но должно было быть, а я позорно скрывал то, что должно было быть, хотя и не было.
Иногда ярость бывает талантлива.
Истинное богатырство, и умственное и физическое, узнается по тому, что всегда немного стесняется своего избытка сил, боится неосторожным движением сломать что-нибудь или невольно выставить кого-нибудь глупцом. Деликатность силы — вот высшее благородство!
Утро. Солнце. Весна. Искусственные зубы в стакане с водой радостно сияют. Должно быть, пустили корни.
…сказал он и заплакал крупными слезами Сальери.
Нью-Йорк. Стою среди небоскребов. Слежу, как на огромной высоте двое рабочих натягивают с двух сторон канат, чтобы укрепить на нем какую-то рекламу. Все это на немыслимой высоте, и тем более удивительно и неприятно видеть, с какой технической первобытностью они это делают. Действуют они долго, неловко, нудно. Рекламный щит то и дело переворачивается.
Стал накрапывать дождь, и неожиданно как из-под земли на тротуаре появилась дюжина негров, продававших прохожим довольно паршивые зонты.
Эти рабочие, долго укрепляющие рекламу, эти негры, сующие прохожим паршивые зонты, эти грандиозные, безжизненные небоскребы — и я почувствовал себя в центре мировой провинции, принявшей от провинциальной глупости вертикальную форму.
Провинциально все, что мешает думать о смысле жизни. Нью-Йорк не только мешает думать о смысле жизни, он создал грандиозную, халтурную модель законченного мира. Он как бы кричит: «О чем думать? Смотри на меня, я конечный смысл цивилизации!»
Зато маленькие городки Америки производят очаровательное впечатление: чисто, уютно, удобно, никакой суеты.
Злоупотребление умом должно войти, как преступление против человечности, во все уголовные законы мира. Человек, который, более тонко зная проблему, обманул другого человека или государство, должен быть осужден по двум статьям. И по статье самого обмана, и по статье позорного злоупотребления умом, содействующего развращению человечества. И срок осуждения должен быть вдвое больше, чем осуждение за обман. Но кто введет подобную статью? Разве политики дадут отнять у себя такой хлеб!
Благородная похоть — пахать!
Иногда люди улыбаются друг другу, чтобы соразмерить клыки.
Из всех живых существ, по-моему, человечество наиболее многочисленное, если не считать микробов.
Как-то само собой разумеется, что слону труднее выжить, чем мышке. Главное условие выживания — не бросаться в глаза.
Очень мелкий, но психологически утонченный писатель. Прямо Достоевский для лилипутов!
Привезли нас с женой в больницу. У меня несколько месяцев держится субфибрильная температура. Но шофер вместо инфекционного корпуса завез нас в терапевтический. Из приемной женщина позвонила в инфекционный корпус. Там ей сказали, что высылают машину. Ждем и ждем, сидя на диване.
Привезли какого-то старика. Санитарки долго вытаскивали его из машины. Потом долго сажали на каталку, тщательно укладывая каждую руку и ногу. Потом провезли старика мимо нас. Все это время он молчал. Боже, подумал я, осознает ли он окружающий мир? И вдруг раздался его довольно громкий, надтреснутый голос:
— По-моему, там на диване сидит Фазилиус!
Так и сказал. Смешно. Тем более санитарки могли принять его слова за бред.
Дикая жара стоит в Москве. Я в больнице. Добрая, старая нянечка принесла мне завтрак и сказала:
— В Москве такая жара, потому что много мусульман наехало с юга. Они мерзнут и просят своего Бога, чтобы стало жарко. Вот и жара. Нечем дышать!
— А вы молите своего Бога, чтобы было прохладней, — посоветовал я. — Вас же гораздо больше!
— Наш Бог уступчивый, — вздохнув, сказала она.
Святая простота!
Если бы можно было вычислить смысл жизни человечества, то это математически точно означало бы, что Бога нет. Но мы наверняка знаем, что смысл жизни человечества вычислить невозможно. Тогда почему же для нас это математически точно не означает, что Бог есть?
Мудрость — пророчество за счет опыта благодаря повторяемости человеческих ошибок.
Степень погружения в комфорт равна объему вытесненной мысли.
Интересно, при склерозе мы одинаково забываем сделанное нам добро и зло? Или неодинаково? При достаточно массовом и научно корректном опыте можно выяснить, к чему человеческая природа больше склонна — к возмездию или благодарности? Бывает ли склероз злопамятности?
Как звать его? Забыл опять. Остался призвук, а не звук. Старею, и за пядью пядь Сужается заветный круг. Когда же мертвых имена Забуду вдруг — ошпарит стыд. Как будто предстоит страна, Где их окликнуть предстоит.Бестактность в молодости еще можно списать на плохое воспитание. Бестактность зрелого человека — следствие нравственной тупости. Это навсегда.
Глядя на некоторых женщин, легко угадываешь, что у них нет этического веса. После чего легко догадываешься, что из этого следует. То же самое мужчины. Нет этического веса — значит, склонен к бесчестию. Литература. Иной писатель говорит совершенно правильные вещи, имеет высокую технику письма, но не производит никакого впечатления. Нет этического веса. Нет удара. Самый огромный этический вес у Толстого, потому его удары так сотрясают нас.
Аплодисменты граждан тирану иногда приобретают воинственную и даже капризную требовательность к нему: нет, нет, ты недооцениваешь нашу преданность. Недооцениваешь, сукин сын! Покайся, что недооцениваешь нашу преданность! Ах, ты не каешься?! Так вот тебе овация прямо в лицо!
Знаменитая речь Достоевского на открытии памятника Пушкину потрясла всех слушателей. В том числе и тех, кто достаточно враждебно относился к самому Достоевскому. Она заворожила всех. Но через некоторое время, когда все могли вспомнить или прочесть ее, многие были в недоумении: почему она нас потрясла, в ней ничего особенного не сказано о Пушкине?
В самом деле, Достоевский не раскрыл ни одной тайны поэтического дара Пушкина. Он придал Пушкину несвойственную ему идеологичность, в высшей степени свойственную самому Достоевскому. И все-таки речь великая, потому что в ней — пламенная любовь к Пушкину.
Достоевский тосковал по пророческой личности писателя и эту тоску воплотил в свою речь. Но мне кажется, при всей гениальности Пушкина, его дар не был пророческим. Пушкин — неповторимое сочетание исключительного поэтического таланта с необыкновенным человеческим обаянием самой личности поэта, которая растворена в стихах. И в этом неповторимость Пушкина. К тому же дар Пушкина бесконечно улыбчив, а пророки не бывают улыбчивыми. В мрачном Лермонтове в самом деле много пророческого. Пушкин знал, поэтому ему незачем было пророчествовать.
Пророческим даром в высшей степени обладал именно сам Достоевский. Искренно любя Пушкина и, конечно, сам того не осознавая, он, по-моему, невольно произнес речь о самом себе.
Все пророки мрачны, и все пророчества мрачны. Но не мрачность пророков следствие их мрачных пророчеств, а мрачность их — следствие того, что тревожные сигналы будущего уже уловила их душа.
В тяжелые минуты полного разочарования в людях почти каждый человек может найти источник утешения: «Но ведь была моя мама! Это же правда! Правда!»
Жизнь, нет тебе вовек прощенья За молодые обольщенья, За девичьих очей свеченья. За сон, за ласточкину прыть. Когда пора из помещенья. Но почему-то надо жить С гримасой легкой отвращенья. Как в парикмахерской курить.Что хуже — грех уныния или грех, в который мы впадаем, пытаясь преодолеть уныние?
…Пытался занять должность, предполагающую ум.
Когда я себя чувствую сильным, вдохновенным, я не только верю в Бога, я благодарно осознаю, что эта сила идет от Него. Когда я в упадке, а это гораздо чаще, я — ни то ни се. Когда же мне совсем плохо, я совершенно непроизвольно думаю или шепчу: «Господи, помоги!»
Но вера ли это? Или крик ребенка: «Мама!» — в ужасе бегущего к ней? В конце концов, и ребенок, бегущий к маме, тоже форма веры.
Гениальный мудрец древности Сократ тончайшим образом разобрался во многих нравственных вопросах. Но я нигде не читал о том, чтобы Сократ говорил о безнравственности рабства. В тех исторических условиях рабство было естественным явлением.
Сократ принимал участие в сражениях, и если бы его взяли в плен, его самого сделали бы рабом. Считать Сократа духовно близоруким за то, что он не осуждал рабство, неисторично.
Если человечество выживет, люди, безусловно, научатся создавать полноценное искусственное молоко. И тогда ребенок, которому мать будет читать рассказ из наших времен, где женщина доит корову, может воскликнуть: «Люди отнимали молоко у теленка! Какие они были жестокие!»
Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один ученый не может даже заикнуться об искусственной совести.
Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен. Только человеческий мозг может логизировать толчки совести.
Идеальное государство по Платону: философы управляют государством. Ленин, начав строить свое идеальное государство, первым делом выслал всех философов.
Искусство — или метафора религиозной заповеди, или мошенническое шаманство.
Знаменитая сталинская железная логика: Волга впадает в Каспийское море. Корова дает молоко. Зимой холодно, а летом, напротив, жарко. Будущее, как известно, принадлежит пролетариату. Мы уничтожаем врагов пролетариата, следовательно, спасаем будущее человечества.
Люди часто путают дар со способностями. Даже самый маленький дар требует соучастия души. Даже самые большие способности обходятся без соучастия души.
…и работала ведьмой по совместительству.
Если у женщины все в порядке с головой, она, как правило, тоньше мужчины.
При эпидемии гриппа надо бояться заразиться от другого человека. Но как это унизительно и грустно, какой обнаженный эгоизм!
Иногда, вдумываясь в свою достаточно сложную мысль, мы вдруг обнаруживаем, что она в конечном итоге аморальна. Нам становится стыдно, хотя мы, конечно, этой мыслью не собираемся ни с кем делиться. Тогда стыдно перед кем? Значит, есть некто, кто эту нашу мысль узнал, как только она возникла в нашей голове.
Великая тоска по согласию людей порождает согласие с несогласием. И тогда каждое несогласие превращается в частный случай внутри общего согласия.
Сближаться с умственно богатыми и отдалять от себя умственно бедных — это тоже своего рода карьеризм. От умственно бедных надо отдаляться, но с чувством вины.
С точки зрения психоанализа Дарвина так угнетала человеческая глупость, что он пришел к мысли: человек произошел от обезьяны. После чего успокоился и, чтобы длить покой, всю жизнь это доказывал.
…Это предположение пришло мне в голову после звонка одного знакомого. Он долго и нудно просил меня помочь в одном деле, в котором я ему никак не мог помочь, потому что никакого отношения к этому делу не имел и не мог иметь. Он продолжал просить. Я в бешенстве бросил трубку. Тут мне пришла в голову мысль о Дарвине, и она в свою очередь успокоила меня.
Слабые писатели нужны. Большие писатели рождаются на почве, унавоженной графоманами.
Цепенеешь перед хамством? Молодец, значит, еще веришь в человека!
Духовно отсталые люди любят бежать за новыми идеями, потому что это маскирует их духовную отсталость.
Хороший афоризм утоляет тоску по разумности. Жизнь фрагментарна. И человек устает от этого. Разумность афоризма по частному поводу рождает надежду, что существует универсальная разумность.
Борясь с мракобесием, не впадай в светобесие.
В советские времена один мой знакомый писатель был уверен, что его день и ночь подслушивает КГБ. Это была почти мания. Однажды я попытался высказаться на политическую тему, подзабыв о его мании. Дело происходило в его квартире.
Он сделал страшное лицо и показал рукой на потолок.
— Если бы тебя подслушивали, тебя бы давно взяли, — сказал я ему шутливо.
— Почему? — спросил он.
— За подозрительно полное отсутствие политических разговоров в твоем доме, — напомнил я ему.
Он хмуро улыбнулся и снова показал рукой на потолок.
— Я не дурак, я только простодушный, — говорил он. На самом деле он был умен, но, когда его обманывали, он от стыда за обманщика делал вид, что верит всякой чуши.
Дурак догадывается о враждебности ему всякой умной мысли с такой же проницательностью, с какой умный осознает глупую мысль. Дурак мгновенно улавливает не содержание мысли, а ее враждебность ему. Поэтому попытка умного человека сотрудничать с глупым начальником, чтобы, переиграв его, сделать хорошее дело, всегда оканчивается для него крахом.
Был самокритичен. С язвительной беспощадностью критиковал себя за недостаточную любовь к себе.
Ужасно, когда патриотизм — инстанция. Вне войны вслух говорить о патриотизме имеет право только поэт. Его искренность, если он талантлив, согревает нам душу. Точно так же поэт может написать стихи о любви к матери, но нам говорить о любви к матери со всяким встречным-поперечным позорно и даже подозрительно, ибо любовь к матери — это нечто само собой разумеющееся.
Великий борец может быть этически сильным, но не может быть этически тонким. Этическая тонкость и борьба мало совместимы.
Боль за многих делает человека рассеянным к боли за одного. Боль за одного отвлекает от боли за многих. Как же быть? Увы, это в природе человека. Совместить эти два типа людей в одном невозможно, но они сами по себе дополняют друг друга.
В жизни бывают особые люди — прекрасная душа и поврежденный мозг. В литературе они отражены в таких великих произведениях, как «Дон Кихот» Сервантеса, «Идиот» Достоевского (случайно ли рифмуются?), «Матрёнин двор» Солженицына.
В мировой литературе, конечно, немало образов людей нравственных и умных. Но они не производят такого сильного впечатления. Более всего потрясают именно такие люди — с прекрасной душой и поврежденными мозгами, неспособными логизировать личные интересы. Отсюда страшная догадка: не тормозит ли ум, логизируя наши собственные интересы, нравственное развитие души?
Рыба гниет с головы. Разумеется, если у нее есть голова.
Декабризм — небольшая доза революции, как антитифозная инъекция; ее хватило — чтобы Россия не заболела революцией — на весь девятнадцатый век.
Байронизм — подоблачная пошлость.
Страх усиливает чувственность. В молодости: а вдруг родители внезапно нагрянут? Это таинственно вложено в природу человека на случай страшных обстоятельств жизни, чтобы род человеческий не пресекся. Пресыщенный человек может вызывать у себя искусственный страх через стремление к непозволительному.
Розанов, насколько я помню, предлагал новобрачным первую ночь проводить в церкви, якобы для полного освящения брака. На самом деле глупо и цинично.
Я думаю, в действительности его волновала мысль об особой сладостности святотатственной близости.
Первоначальный толчок мысли дает душа — дальше ум логизирует этот толчок. У безумного разрушен орган логизации, но в иных случаях можно предполагать, что душа осталась нормальной. Теоретически говоря, у иных безумцев душа может давать толчки великих мыслей, но они своими поврежденными мозгами не могут их логизировать. Мы слышим только бессвязный бормот. Какая трагедия!
Из деликатности перед Богом он никогда не обращался к Нему за помощью. У входа в рай, где толпились праведники, его первым позвали, к некоторому недоумению праведников и его собственному смущению.
Этот человек омерзительные вещи говорил о знакомых. Но было еще омерзительней убедиться, что он был прав.
Правдивость соотношения вещей лучше всего выражает юмор. Мы можем сказать, думая о соотношении вещей: да, это так! Или: нет, это не так. В обоих случаях возможна ошибка. Но когда в соотношении вещей мы видим смешную сторону, мы с хохотом говорим: да, да, это так!
Тут исключена возможность ошибки.
Наш человек, не имея терпения хорошо делать свое дело, вынужден терпеть все. Вынужденному терпеть все не хватает терпения хорошо делать свое дело.
Лучше подавать подаяние тайно, чем явно. Лучше подавать подаяния явно, чем не подавать совсем.
Всю жизнь он гасил в себе порыв к счастью, боясь, что счастье погасит творческий порыв.
В наше трудное время один родственник из глухой горной деревушки в Абхазии сказал: «Никогда я так хорошо не жил, как сейчас».
Вместе с сыновьями трудится, обрабатывает землю, разводит скот. Нет ни мелких начальников, ни разбойников поблизости. Никто не мешает. Слышать его слова было мгновенным счастьем.
Мысль сорвалась: не по леске рыба.
Естественно представить бандитов с масками на лицах, грабящих дом или банк. Но чудовищно видеть работников правоохранительных органов, которые в масках идут на операцию. Что это может означать? Что криминальные силы стали сильнее защитников граждан и те боятся личной мести? Или что еще хуже: государство запугивает население. Милиция в масках! Где мы живем! Всем — оцепенеть!
— Тише! Не отпугните!
— А что случилось?
— Человек внюхивается в Добро!
— И долго он будет внюхиваться?
— Никто не знает. Но нам нельзя упускать шанс.
Великий политик — это такой политик, который с глубочайшим презрением входит в политику, добиваясь того, чтобы в политике не было политики.
Вот человек с неприятной наружностью. Мы еще ничего не знаем о нем, но он своей наружностью уже настраивает нас против себя. Подлость эстетического восприятия.
Христианский тип человека. Внутренне твердый, но именно поэтому внешне мягкий.
Нравственно неразвитые люди охотно по малейшему поводу создают скандальную ситуацию и лихо врезаются в нее. Прекрасный пример — коммунальная квартира, когда цепная реакция скандала охватывает всех.
Оздоровительное упражнение. Как это ни парадоксально, скандал взбадривает людей, не дает им закисать, делает их после скандала более бодрыми.
Тут есть какая-то физиологическая тайна. Во гневе организм выбрасывает какое-то взбадривающее вещество, которое утоляется скандалом.
И наоборот: нравственно развитый человек, даже возмущенный неправотой другого человека, часто сдерживается, избегает скандала, не хочет унижать другого человека, доказывая глупость его точки зрения. Не отсюда ли нравственно развитый человек часто впадает в депрессию? Сдержанность, может быть, приводит к самоотравлению организма тем же самым веществом, которое выбросил в кровь его организм в минуту возмущения, чтобы поддержать его агрессию. Но агрессия не состоялась, и это вещество, оставшись без прямо назначенного применения, отравляет его самого.
Правдолюбие и человеколюбие часто приходят в противоречие. Мы порой скрываем от человека правду из жалости к нему, из нежелания унизить его. Нехорошо, конечно, но человеколюбие выше правдолюбия. Где выход? Вероятно, вместе с горькой правдой, высказанной ему, надо напомнить о чем-то хорошем, что в нем действительно есть.
Творческий кризис у графомана означает, что он выздоровел.
Национализм — это когда свинья, вместо того чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью.
Правда, рожденная нравственным порывом, всегда выше логики.
Подобно тому, как человек не может устоять на ногах, не опираясь на землю, дух человека не может устоять, не опираясь на небо.
В церкви лица молящихся всегда умней и красивей, чем на улице, в театре или где-нибудь еще. И хотя мы совершенно точно знаем, что многие из них здесь случайны, они тем не менее проникаются значительностью происходящего, и это отражают их лица: что-то есть.
Чем в нашем представлении американец отличается от европейца? Американец более предприимчивый и энергичный человек. Как же это получилось? Ведь американцы — это бывшие европейцы.
В свое время они пересекли океан, чтобы начать новую жизнь. В те далекие времена пересечь океан было почти то же самое, что переселиться на другую планету. Сознание, что ты начинаешь новую жизнь на новой земле, означало собрать все силы для новой жизни в условиях, когда можно было надеяться только на самого себя. Миллионы Робинзонов основали Америку. Энергия и предприимчивость стали национальной традицией. Характерно, что Америка не дала ни одного великого философа. Созерцательность не свойственна энергичным, предприимчивым людям.
Нечто подобное было у нас, только в более слабой форме. Русские, переселившиеся в Сибирь, создали некоторым образом особый русский тип. Сибиряк. Это означает — сильный, уверенный в себе русский человек. Но каток тоталитаризма прошел и по Сибири и почти уравнял сибиряка с обыкновенным русским. Понятие «сибиряк» даже на слуху нашего поколения сильно размыто.
В другом смысле нечто подобное наблюдается и в Америке. Есть признаки национального ожирения. Один серьезный русский ученый, живущий в Америке, сказал мне, что докторские диссертации по точным наукам в Америке сейчас защищаются в основном русскими, японцами, китайцами и корейцами. В науке по крайней мере предприимчивость коренных американцев падает. Но в Америку постоянно вливается свежая кровь, поддерживающая уровень национальной энергии и предприимчивости.
С тех пор как кухарка стала управлять государством, русская мысль переселилась на кухню.
Карманник в толпе деликатно обходит карманы нищих.
Блудный сын пришел к отцу, когда ему стало совсем плохо. Так и человечество придет к Богу.
Чем более мошеннические выборы в государстве, тем точней они передают истинное состояние общества. Мошеннические выборы тоже точные выборы.
Правдивость художественного произведения во время запрета на правду создает иллюзию его талантливости, даже если оно неталантливо. Так во время голода черствый кусок хлеба нам кажется очень вкусным.
Бассейн, пруд, река, море! С каким восторженным визгом узнавания дети кидаются в воду! Кажется, они встречаются со своей родиной, которую потеряли миллионы лет назад. Может, в самом деле мы вышли из океана, и дети это подсознательно помнят? А может, проще: они помнят, как бултыхались у матери в животе?
Фанатики не обладают чувством юмора. Но если бы они обладали чувством юмора, они не стали бы фанатиками. Но если б они не стали фанатиками, мы бы не знали, что фанатики не обладают чувством юмора. Но не зная, что фанатики не обладают чувством юмора, быть может, мы сами, теряя собственное чувство юмора, могли бы стать фанатиками и преследовали бы людей, утверждающих, что фанатики не обладают чувством юмора.
Вокзал. Толпа. Все сиденья заняты. Женщина с двумя детьми водрузила на колени чемодан, готовясь к ужину. Двое детей — по обе стороны от нее. Она стелит на чемодан газетный лист и совершенно волшебным движением ладоней расправляет его, так что он мгновенно превращается в скатерть-самобранку, а нехитрая снедь на ней — в праздничное угощение. Всюду жизнь, где есть такие женские руки.
Самозванство: отсутствие собственного лица порождает тоску по личине.
Лицевер.
У безуютного писателя только один выход — быть гениальным. Достоевский, Блок, Цветаева.
Затосковавшим в раю дают прислушаться к тому, что делается в аду. Сразу тоска проходит.
Отвлечение от правды в длительной перспективе гораздо вредней для народа, чем прямой запрет на правду. Прямой запрет порождает тайную свободу, тайную любовь к правде.
Отвлечение от правды — великая индустрия развлечений, ввиду отсутствия прямого запрета на правду — приводит к тому, что человек теряет вкус к правде.
В России крепкие напитки пьют залпом в отличие от Европы, где обычно их пьют прихлебывая. Марксизм тоже Россия выпила залпом, пока Европа его пригубляла. Через семьдесят лет мы отрезвели — и тут же залпом выпили демократию.
Почему в России пьют залпом? Величайшая загадка.
Одни говорят, что россияне спешат к итоговому состоянию после выпивки. Другие говорят, что наша жизнь столь ненадежна, что человек пьет залпом, боясь, что у него отнимут выпивку, пока он будет прихлебывать.
Вероятно, разрешив эту загадку, мы облегченно вздохнем и начнем пить прихлебывая. А Европа, заметив это, сильно встревожится и станет пить залпом.
Логика судьбы любит пролезать в прорехи нашей логики.
Глубина стыда определяет высоту человеческой личности. Вот почему пастух как личность может быть выше академика.
Охота, рыбалка — поиски удачи в параллельных мирах.
Дурак, засекреченный образованием.
Бунтарь-гомеопат.
Беспорочный политик — это как беспорочное зачатие.
В тесноте, но не вопите!
Россиянин теряется при виде единства многообразия, поэтому у нас или общая диктатура, или общая анархия.
Борьба со старостью его так увлекла, что на жизнь времени не оставалось.
Безусловно, великое хамство давать знать человеку, что он уродлив. Но не менее великое хамство выпячивать, утверждать свое уродство. Так делает Розанов. Розанов — гениальная муха, которая с одинаковым аппетитом садится на сахар и на блевоту.
Говорят: искренность, искренность. Искренность хамства не подлежит ни малейшему сомнению.
Что ни говори, главный стимул к богатству — компенсация глупости. Предположим, афиняне сказали нищему Сократу: «Поймай сто мух, и мы тебе заплатим сто драхм». Разумеется, Сократ высмеял бы такое предложение, и, может быть, мы имели бы еще одну его философскую беседу на тему «Драхмы и мухи». Для того, кто понял, что истинное богатство — это мысль, стремление к богатству — это ловля мух. Вот почему многие лучшие писатели советского времени — Ахматова, Платонов, Цветаева, Мандельштам — были нищими. Они не могли себе позволить ловить вместо мыслей мух, да еще идеологизированных.
Гражданственность — обязательно дойти до урны и вбросить в нее окурок.
Государственность — следить за тем, чтобы путь до урны был не слишком утомительным.
Нельзя сказать, что в их доме не было любви, но на три комнаты ее не хватало. Он вспомнил молодость, когда они жили в однокомнатной квартире, — тогда любви хватало с избытком. Но он не знал, что на три комнаты ее не хватит. А как добивался!
Люди свидетельствуют, что так неоднократно бывало: жертва, замученная палачом, иногда начинает целовать ему руки. Что это? Бессознательный призыв к человечности? Язык не поворачивается сказать: замученный начинает любить врага, как самого себя. Точней всего сказал Маяковский: «Видели, как собака бьющую руку лижет?».
В письме Столыпину Толстой говорит, что земля принадлежит Богу и ее нельзя продавать никому, даже крестьянам. Конечно, Толстой выступает против частнособственнического инстинкта. Этого величайшего человека иногда страшно заносило. Что за абсурд! Если бы Толстой следовал здесь за своей слишком любимой логикой, он должен был сказать, что и плоды земли нельзя продавать. Например, ягоды и грибы.
Столыпин с опозданием, но очень хорошо ему ответил. Смысл его ответа: о какой свободе можно говорить в нищей стране? На своей собственной, принадлежащей ему земле крестьянин во много раз лучше работает, и он в конечном итоге досыта накормит страну, и тогда проще будет решать другие социальные вопросы.
Ужасно, что и сейчас, почти через сто лет, этот вопрос еще не решен. Вероятно, фермер, который успешно работает на собственной земле, исправно платит налоги, страшен государству. Он независим. У него развивается чувство собственного достоинства, он — государство в государстве. Куда легче чиновникам управлять людьми, которые во взвешенном состоянии. Они вечно зависят от государства и вечно подворовывают у него. Зато социально послушны.
За обезумевшей в своем хамстве нашей демократией, застенчиво опустив глаза, маячит диктатура.
Он противен не тем, что так боится за свою шкуру, а тем, что, так боясь за свою шкуру, нельзя не стать предателем.
Глядя на наших богачей, начинаешь понимать праведный гнев Маркса — гнев, а не учение.
Экологически чистое мышление.
Несмотря на правильные прогнозы пессимистов, человечество все еще живо. Несмотря на то что человечество все еще живо, прогнозы пессимистов, увы, остаются правильными.
Красноречие косноязычия.
— Я — патриот! — крикнул он родине и показал руками готовность рвануть рубаху.
— Это не аргумент, — ответила она. — И оставь рубаху в покое.
Кажется, снотворные таблетки делают мои сны слишком расплывчатыми. Хоть очки на ночь надевай.
Дешевеют часы в магазинах, но почему-то грустно — как будто дешевеет время.
Как точнее выразить сущность этого писателя? Первоклассный талант или гениальность второго сорта?
Борхес не человек, а всемирная библиотека.
Банкформирование.
Солги, чтобы человек не согнулся от правды, как получивший пулю в живот!
Жизнь бесцельна? Думай, почему она бесцельна, и у тебя появится цель.
Одни говорят: «Меланхолия». Другие: «Вонь безволия!»
Не так важно, любишь ли ты язык, на котором пишешь, гораздо важней — любит ли он тебя.
Весна. Снег в черных пятнах проталин, как березовая кора.
Он так яростно мочалкой натирал свою грудь, как будто хотел дотереться до души. А не мешало бы.
Один англичанин говорил о моей книге на полузнакомом мне английском языке. Когда хвалил — я все понимал. Помогал энтузиазм. Когда начал критиковать, энтузиазм погас, и я ничего не понял. Очень удобно.
В юности видел сон, как будто я ожесточенно ругаюсь со своим другом. Проснувшись, неприятно удивлялся ожесточению. Через несколько дней мы с ним вдруг разругались, и ругались с таким же ожесточением, как во сне. Классически нормальный сон. Подсознательно накоплявшееся недовольство вылилось в сон, предвещающий разрыв наяву.
Иногда вижу во сне, что я быстро-быстро читаю книгу лежа в постели. И вот что забавно. Во сне я осознаю, что кругом ночь, свет в комнате погашен, и я не перестаю удивляться тому, что в темноте ясно различаю шрифт. Однако не догадываюсь, что это сон.
Вчера видел во сне, как один приятный мне человек куда-то хотел меня увести, но мне не хотелось туда идти, и я сбросил со своего плеча его дружескую руку. Он ушел. И тогда я вспомнил, что он давно умер. И тут я догадался, что это был сон, и обрадовался тому, что с ним не пошел. Хороший знак, подумал я, значит, буду жить. Во сне я думал, что думаю уже проснувшись, хотя я и это думал во сне.
Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся беспредельными.
Ничто так не убивает патриотические чувства, как патриотические речи.
Чем непроницаемей стены государственной власти, тем проницаемей для государства стены наших домов.
Главная черта гения — простодушие. В его голове запечатлен образ правильного, естественного мира. Таким он родился. Поэтому он легко замечает и простодушно удивляется всем уродствам этого мира и проявляет, так сказать, проницательность в изображении этих уродств, к которым обычные люди привыкли и не замечают их. Но простодушие гения становится трагическим, когда он, не понимая силы сопротивления уродства, начинает с простодушной уверенностью бороться с ним.
Заблудший человек, оказавшись во владениях Зла и чувствуя смутную тревогу, заклиная Зло, кричит:
— Я по ту сторону Добра и Зла!
Зло молча усмехается.
Наша приятельница еще в советские времена выезжала в одну из южных республик, чтобы проверить, как там готовятся к курортному сезону. Такая у нее была работа.
Встретилась с местным министром торговли и его заместителем. Заместитель министра немедленно начал хвастаться, что его машина в качестве сигнала поет «Кукарачу».
Министр с некоторой полемичностью прихлопнул его:
— Зато я курю «Чистый фильтр», — сказал он, и заместитель, подавленный, смолк.
Конечно, он знал, что министр курит «Чистый фильтр», но, видимо, не придавал этому должного значения. Когда министр несколько раз повторил про «Чистый фильтр», наша приятельница догадалась, что он имеет в виду сигареты «Честерфильд»… Милые ребята, если забыть, что они управляли страной. По характеру их поведения видно было, что это эпоха Брежнева. При советской власти все начальники бессознательно перенимали приметы вождя. В Абхазии я застал местного Сталина, местного Хрущева и местного Брежнева.
Оригинальный поэт, кроме всего, — это такой поэт, который всегда остается верен своей системе, даже тогда, когда это поэтически невыгодно. Просто он иначе не может. Таков Борис Слуцкий.
…Не читал его лет десять. Случайно взял его книжку с полки и зачитался. Удивился его огромному влиянию на Бродского. Нахлынули воспоминания, хотя мы никогда не были близки.
Я был студентом Литинститута, когда Евтушенко привел меня к нему и познакомил. Сидели, разговаривали, пили вино. Слуцкий, который тогда еще не напечатал ни одного стихотворения, прочел несколько своих вещей. Из лучших. Я был потрясен этими стихами на всю жизнь. Я его всегда нежно любил. Особенно как человека.
Однажды мы встретились в журнале «Юность» и прошли от площади Маяковского до станции «Аэропорт» пешком. Нам было по пути. По дороге мы обсуждали все возможности России, если бы не было сталинского террора. Разумеется, совершенно откровенно. Он был вообще умен, но и невероятно начитан. От фронтового ранения или контузии он страдал хронической бессонницей. Может, это причина его необычайной начитанности. Шли долго. После того, как все обсудили, я вдруг вспомнил, что недавно было очередное закрытое письмо ЦК партийцам. Тогда это входило в моду.
— Боря, о чем говорится в последнем закрытом письме? — спросил я у него.
Он искоса посмотрел на меня и спросил:
— А ты член партии?
— Нет.
— Тогда я тебе не могу рассказать о содержании письма, — сказал он твердо.
Меня это не только не обидело, но я еще больше полюбил его. То, о чем мы говорили как частные люди, тянуло на средний тюремный срок. Но как член партии он послание партии держал в тайне. Он сохранял условия игры, которой никто не придерживался. Такой он был.
Наш абсурд он хорошо видел, но он ему представлялся частной неудачей правильной идеи, в которую никто, кроме него, уже не верил, в том числе и создатели абсурда. Он был враждебен советской власти, но именно ради идеальной советской власти, а не какой-нибудь другой. Умный Дон Кихот. Может, именно поэтому я его особенно любил.
Слуцкий песню изгнал из поэзии. Песню пафосом заменил. Обнажая, как острое лезвие. То, чем пишут ярче чернил.Наш человек обо всем может судить, но ничего толком не знает. Американец ни о чем не может судить, но свое дело знает толково.
Как движется история? Она движется так, как движется вода, если выплеснуть ее на землю из ведра, учитывая при этом, что земля под ней в это время сама бугрится и опадает без всяких видимых причин. Мы не можем быть верны этому движению, потому что мы ничего о нем не знаем. Но тогда тем более мы должны быть верны своему нравственному чувству как чему-то абсолютно точному.
Бесконечно манипулируя своими малыми знаниями, он дошел до состояния такого виртуозного невежества, что за его невежеством невозможно было уследить.
Наказание без вины может через многие годы отозваться необъяснимым преступлением наказанного.
Редкие мгновенья счастья можно рассматривать как тайную рекламу рая. Ад не нуждается в рекламе. Ввиду перенаселенности ада он частично оккупировал нашу Землю.
«Паршивочная мастерская».
— Папа, — сказал мой сын, — что ты ходишь по кабинету и бормочешь: «Боже! Боже!»
Я смутился. Мне казалось, что это я говорил про себя. А думал я о нашей всеобщей — и в том числе его — неустроенности.
Ахматова: «…Я сбежала, перил не касаясь…» Лирическая героиня пытается догнать оскорбленного возлюбленного. Гениально передается именно женская взволнованность, даже некоторая неуклюжесть героини чувствуется — хочет взяться за перила, но боится затормозить свое движение.
Если бы у поэта-мужчины герой в этой же ситуации сказал: «Я сбежал, перил не касаясь», было бы бездарно и глупо. Подумаешь — перил не касаясь!
Кстати, героиня Цветаевой в этих обстоятельствах вообще не заметила бы перил. Бег цветаевской героини был бы почти безумен — ничего не видит. Бег ахматовской героини напряженней — видит перила, но заставляет себя не касаться их.
Странная арифметика. Количество растленных людей, посаженных в тюрьму, всегда меньше количества растленных людей, выпущенных из тюрьмы. А люди те же самые. Так что же дает тюрьма? Нерастленных растлевает, а растленных приучает к большей хитрости.
Главные враги интеллигенции все те, что пытались стать интеллигентными, но не смогли и теперь слегка нервничают на интеллигентских должностях. В основном, конечно, госаппарат. Потому все гонения у нас начинаются с интеллигенции, стыдливо прихватывая кое-кого из остальных.
Никто так не раздражает, как бездарный авантюрист. Продал душу дьяволу, а пользы никакой. Какого черта продавал!
Необходимость частного владения землей. Никакая самая жесточайшая диктатура не могла проследить за колхозником, скажем, когда он пропалывал кукурузу. Во время прополки он должен был сначала выполоть сорняк под кукурузным стеблем, а потом окучить его землей. Но колхозник, зная, что его доход почти не зависит от его труда, очень часто облегчал себе работу. Не выполов сорняк, он заваливал землей подножье кукурузного стебля, так что сорняков становилось не видно. Никакой бригадир не заметит. Из-за невыполотых, заваленных землей сорняков в конечном итоге пала советская власть. А кто ответит за развращение крестьян халтурной работой?
Грандиозный ленинский план электрификации России — может быть, неосознанное желание уравновесить мракобесие революции.
Один русский физик, живущий в Америке, сказал, что наш раскидистый тип мышления неожиданно оказался очень полезным современным требованиям точных наук. Если это так, наша дилетантская всеохватность, источник многих наших бед, стала наконец необходимой в точных науках. На Западе много говорят о высоком уровне русской школы в изучении точных наук. А может быть, дело не в школе, а в нашем типе мышления?
Почему преданность собаки нас потрясает больше, чем преданность человека? Не потому ли, что у них изначально другой уровень сознания — у человека была слишком большая фора? Или мы уверены, что преданность собаки — это навсегда? А преданность человека менее надежна? Либо в преданности собаки мы угадываем конечную задачу человека в чистом виде? Любовь.
Мир, которым движет диктатура, — кровавый мир.
Мир, которым движет конкуренция, — пошлый мир.
Небогатый выбор.
Что такое конкуренция? Неутомимая зависть.
Идеальный капитализм на сегодняшний день — просвещенная пошлость.
Надо одолеть брезгливость, войти в пошлый мир и внутри его бороться с пошлостью. Другого выхода нет.
Вечная присказка российских правителей:
— Нам и так трудно, а тут еще народ путается под ногами.
Я стоял на тротуаре, дожидаясь жену, которая вошла в магазин.
— Разрешите пройти, — услышал я голос за собой.
Я оглянулся. Метрах в трех от меня стоял человек с палочкой; какая-то женщина держала его под руку.
— Пожалуйста, — сказал я и сделал шаг в сторону.
Человек со своей спутницей прошел мимо. И тут я догадался, что он слепой. Но какое чутье! За три метра он почувствовал, что перед ним стоит человек.
Они могли обойти меня, но у слепого право идти прямо.
В быту я сотни раз предавал истину, чтобы не предать человека. Преданная истина почти не обижается. Она же знает — она все равно истина.
А преданный моим несогласием с ним человек очень обидчив. Мне его жалко. А еще точней, мне жалко себя за ту боль, которую я чувствую, понимая, что человеку больно. Можно ли так жалеть человека, чтобы жалость к человеку не причиняла нам боль? Это невозможно.
Выходит, я жалею человека оттого, что он болью своей обиды причиняет мне боль. Интересно: жалея человека и испытывая за него боль, кого мы больше жалеем — себя или его? Неразрешимый вопрос.
Конечно, сознательно отходя от истины ради человека, я тоже испытываю некоторую боль за истину. Но, огорчая человека, когда защищаю истину наперекор ему, я испытываю гораздо большую боль. И я, естественно, стараюсь избавиться от большей боли. Выходит, истина может обойтись без моей защиты, а человек не может.
Но, оставив истину и обернувшись к человеку, тем самым, перестав испытывать за него боль, я начинаю испытывать к нему раздражение: почему ты так болезненно воспринимаешь истину? Из-за этого мне пришлось отвернуться от нее.
Говорят, гора мышь родила. Не имеется ли в виду Бог, создавший человека, прости. Господи! Ну что ж, теперь я могу и поворчать на человека, потому что за моими словами не стоит конкретный человек, ради которого я отвернулся от истины.
Один престарелый абхазец рассказывал мне, как у них в деревне в начале тридцатых годов на сходке выступал председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба. Несмотря на глуховатость, а может, именно благодаря ей, он был прекрасным оратором. Он говорил примерно так:
— На нас идет колхозная чума, но мы должны покориться ей. Даже великий русский народ покорился ей. А мы — маленький народ. Если мы не покоримся, нас сметут с лица земли.
Можно ли представить, чтобы русский партийный работник так выступал в русской деревне? Невозможно. Даже если все это Лакоба говорил намеками, его так поняли. В абхазском случае идеология как бы застревала в фильтре языка. Выцеживалась правда в чистом виде: страшная, безжалостная власть — надо покориться.
В 1936 году Нестор Лакоба, находясь в Тбилиси, сильно повздорил в ЦК Грузии с Лаврентием Берией. В знак примирения Берия заманил его к себе в дом и заставил Лакобу выпить бокал отравленного вина. Лакоба умер.
Взять живым его было невозможно. Он всегда имел при себе пистолет. Видимо, разлад назревал. Родственник Лакобы, живший у него в доме, а потом проведший в лагерях семнадцать лет и чудом выживший, рассказывал мне, что перед поездкой в Тбилиси, перед самым выходом из дому, Лакоба вдруг выхватил пистолет и выстрелил в потолок. Такого никогда не бывало. Похоже, он взбадривал себя перед решительным разговором.
После гибели Лакобы неимоверный террор обрушился на Абхазию. Видно, что Лакоба как-то пытался заслонить Абхазию от этого террора.
Берия был мингрельцем, но родом из Абхазии. Она видела его юность в нищете и в унижении. Этого он ей не мог простить. У Берии неимоверная потребность убивать вызывала неимоверную потребность в женщинах. Можно сказать — ложный инстинкт восстановления жизни.
Осип Мандельштам в 1937 году, находясь в воронежской ссылке, написал смутные и тревожные стихи явно об Абхазии. Он там был, и был знаком с Лакобой. Остался незаконченный очерк об Абхазии. Так вот, в этих стихах есть странные, пронзительные строчки:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха? Здорово ли в крови Колхиды колыханье?Здорово ли вино? Невольно вздрагиваешь. Мог ли одинокий ссыльный поэт в Воронеже знать, что Лакоба отравлен вином? Невероятно. Даже в Абхазии мало кто тогда знал, что это так. Официальная версия — умер от грудной жабы.
Кажется, поэт улавливает импульсы ужаса, идущие из Абхазии, при этом чувствует, что ужас начинается с нездорового, то есть отравленного, вина. Думаю, если бы поэт точно знал, от чего погиб Лакоба, он об этом написал бы иначе. А может быть, и не осмелился бы написать вообще. К этому времени он уже смертельно обжегся на стихах о Сталине.
Пророк — горевестник Бога.
Пророчество — это правда, которая всегда приходит слишком рано, а вспоминают о ней всегда слишком поздно.
Без Бога нельзя объяснить появление нашего мира. И это абсолютно логично. Но с Богом трудно, неимоверно трудно объяснить его терпимость к подлостям нашего мира. Отсюда можно заключить: «Я знаю, откуда взялся Бог, но я не знаю, куда он потом делся».
Бог и дьявол играют в шахматы. Ставка — человек. Длится, длится грандиозная, многотысячелетняя партия. Пешки дьявола лезут в ферзи.
Что такое наши великие земные беды? Временное преимущество дьявола? Зевки Бога, в условиях вечности попавшего в цейтнот? Или его многоходовая комбинация с жертвами фигур? Если бы в это можно было поверить, все стало бы ясно.
Вселенная бесконечна, значит, каждая ее точка может быть центром. Если бы все человечество выбрало одну точку во вселенной и стало считать эту точку Богом, исчисляя всю свою жизнь именно от этой точки, исчисление оказалось бы правильным, независимо от условности этой точки.
Был в Кремле в Оружейной палате. В золоте и драгоценных камнях изысканные орудия убийств. В золоте и драгоценных камнях всевозможная посуда для обжираловки и опиваловки, судя по размерам. Это дары шахов, императоров и князей русским царям. Судя по характеру даров, главное дело человека — прирезать врага, а потом сесть, чтобы спокойно нажраться и напиться. Дары другого применения не предполагают.
Человеку дано восторгаться сверканием ума и сверканием драгоценностей.
Сверкание ума всем доступно (хорошая книга), но далеко не все его понимают.
Сверкание драгоценностей мало кому доступно, но все его понимают. Особенно цыгане.
У абхазцев раньше был такой обычай. Если, не дай Бог, в доме кто-нибудь покончил жизнь самоубийством, домочадцы сжигали дом и переезжали в другое место. Вероятно, верили, что в доме, где произошло самоубийство, остается дурная энергия уничтожения.
Удивительно, что у Ахматовой близкое по смыслу стихотворение:
В Кремле не надо жить, Преображенец прав. Здесь древней ярости Еще кишат микробы: Бориса дикий страх, И всех Иванов злобы…Предсмертные слова великих людей нередко выражают пафос всей их жизни. Вот примеры, о которых я читал.
Лев Толстой: «Не понимаю…»
Безусловно, весь пафос его жизни — понять, что такое жизнь и, особенно, что такое смерть. Самые гениальные описания смерти в мировой литературе. В последних словах его чувствуется, что он частью сознания уже заглянул в смерть и честно вбросил в эту жизнь, что ничего не понял. Но какая вера в разум до последнего мига!
Наш великий физиолог Павлов. Говорят, на какой-то шум в комнате умирающий Павлов так отреагировал: «Павлов занят. Павлов умирает…»
Всю жизнь посвятив научным опытам над животными, он и собственную смерть превратил в опыт над собой.
Гёте. Последние его слова: «Света…» Или: «Больше света…»
Мало того, что вся его поэзия пронизана светом, он еще и автор знаменитой «Теории света», которой он дорожил больше, чем всеми своими стихами. Это известно. Сколько язвительных замечаний он выслушал от ньютонистов по поводу своей теории, но не отрекся от нее. Один крупный физик сказал мне, что современная наука склоняется к тому, что именно Гёте был прав.
Позвонили из редакции и спросили:
— Что вы думаете о субботнике?
Я сказал:
— Абсурд! — и положил трубку.
Субботник — надежда на то, что люди, плохо работающие в плохо оплачиваемое рабочее время, будут хорошо работать в дополнительное, неоплачиваемое время.
Помню, еще в советские времена у меня была депрессия. Я решил самому себе улучшить настроение и в очередной раз перечитать роман «Мастер и Маргарита». Я перечитал роман ни разу не улыбнувшись. Дойдя до знаменитой сцены с котом на люстре, в которого безуспешно палят чекисты, я подумал: теоретически смешно, а так почему-то нет.
Наш человек часто принимает свою талантливость за свой ум. В результате — ум наглеет, а талант хиреет.
По-видимому, нас ждет просвещенная диктатура при дефиците просвещения.
Первый раз за границей. Нам предложили богатый шведский стол, с которым я никогда не имел дела. Я пришел в тихое бешенство и решил, что самая бедная еда, поданная официантом, мне желанней самого богатого шведского стола, где я должен выбирать блюда. Во-первых, я не знал, что выбрать. И в то же время, не зная, что выбрать, боялся, что, уже выбрав, окажусь в дураках. Кошмар. Потом, конечно, привык, но не полюбил этот способ питания, где надо выбирать. А ведь сама писательская работа — это вечный выбор слов, и этим она для меня привлекательна.
В тех областях жизни, которые нам безразличны, мы всегда консерваторы.
В сорок втором году бежали от бомбежек в деревню. Летом тосковал по морю. Деревенские речушки были слишком мелкими, везде ноги доставали до дна. В редких заводях пытался внушить себе, что там глубоко. Но внушить не удавалось.
Случайно попала в руки «Анна Каренина» Толстого. Помню новизну и необычайное удовольствие, которое доставлял роман. Впервые читал книгу, которая была как море — нога не доставали до дна. И это впечатление осталось навсегда. Великое художественное произведение — это когда ноги не достают до дна.
Высокая, стройная женщина, вся в драгоценностях. То ли бокал шампанского, то ли инкрустированный кинжал. Бокал шампанского — притягивает. Кинжал — останавливает.
Писатель, зациклившийся на своей литературной роли, перестает быть художником. К впечатлениям жизни возникает ролевой, то есть тенденциозный, подход.
Вера в Бога — уравнение с одним неизвестным: откуда Бог? Ответ: не нашего ума это дело.
Атеизм — уравнение с тысячами неизвестных. Например, откуда взялась разумная работа желудка, всасывающая все полезное и выбрасывающая все ненужное? Никакая наука не может ответить на этот вопрос. Наука может только исследовать технологию этого процесса, и слава ей за это.
Мне могут сказать, что разумность работы желудка — одно из следствий рациональности эволюционного процесса. А кто этому процессу внушил быть рациональным? Где та первичная рациональность, толкнувшая все живое развиваться рационально? И тут без Бога не обойтись. Атеизм, подразумевая изначальную рациональность природы, просто переселяет Бога в природу. Довольно наивно. Он действует как страус, который прячет голову в песок, чтобы доказать, что нет именно головы, а все остальное есть. А разумность работы выставленной задницы придумана самой задницей.
Старичок паучок от бессилия запутался в собственной паутине и заплакал. «То-то же!» — прожужжала пролетавшая муха. Муха, конечно, права. Но старичок паучок…
Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет.Юношеское стихотворение Есенина. Если б его тогда прочел умный психолог, он мог бы сказать: мальчик, родившийся с такой нежной душой, долго в нашем грубом мире не продержится.
Стихотворение Ахматовой «Данте». 1936 год.
Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся. Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятье. За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог ее забыть, — Но босой, в рубахе покаянной. Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной. Вероломной, низкой, долгожданной…Динамитное спокойствие. Это, конечно, стихи о Данте, о его великой непреклонности, и в то же время тайный укор российским мужчинам за то, что они так безропотно пали перед тираном. И неизвестно, что было первоначальным толчком для написания стихов — поиски опоры в Данте, когда все согнулись, или сама тема Данте породила подсознательную интонацию укора современникам.
Этому я эту песнь пою.Звучит вызывающе. Как будто Данте живой, здесь, среди покорных — один непокорный, среди кающихся — один непокаявшийся. Вспомним, что тогда наступило время всеобщих покаяний, которые, кстати, никого не спасли.
Этому я эту песнь пою.А вам не буду петь никогда. Дважды подчеркнуто. Тут и знаменитая ахматовская царственность. Как будто кругом ждут поклонники, чтобы она им посвятила стихи, а она со сдержанной яростью отвергает их, почти оскорбительно подчеркивая, кому именно она посвящает стихи.
ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ… Почему столько раз меняли название? Может быть, каждый раз брезжило субъективное желание избавиться от страшного имени и впредь быть миролюбивей? Или просто палач деловито менял слишком намокший фартук?
Актер-чтец. Читает и меня. Рассказывает. Был в гостях с пятилетним сыном. Незаметно так напился, что по пути домой упал на тротуар. Сын, как собачонок, подвывая, бегал вокруг него, боясь, что отца обидят прохожие.
Иногда звонят, когда работаю. Мешают. Обычно я не подымаю трубку. Но иной звонит настойчиво и долго. И я наконец подымаю трубку но именно в эту секунду звонивший ее кладет. Я, потеряв терпение, подымаю трубку, может быть, неосознанно угадав, что он, потеряв терпение, в этот миг ее положил.
Сигнал моего высшего раздражения, когда я беру трубку, доходит до него, и он кладет свою трубку или сигнал исчерпанности его терпения доходит до меня и я беру трубку?
Бывает, раз в месяц входишь в привычный ресторан и видишь знакомого, которого здесь встречал месяц тому назад. Первая мысль: этот, конечно, отсюда не вылезает. Вероятно, при виде тебя и у него первая мысль: то-то же я подумал — куда подевался этот завсегдатай? — и он тут как тут.
Глупость сама по себе безвредна. Но культ ума, созданный человечеством, делает глупость аморальной, потому что глупый человек из самолюбия подделывается под ум, хитрит, выворачивается, врет. А главное — глупость старается доказать, что она сильней ума, и, не гнушаясь низкими путями, достигает больших жизненных благ и большей власти, тем самым делая умного зависимым от нее. Глупость динамичней ума, подобно тому как сам ум динамичней мудрости. Парадоксальное положение: именно благодаря культу ума миром, в основном, правят глупцы.
Нравственное достижение интеллигенции состоит в том, что она в оценке человека совершенно не учитывает его физическую слабость, немощь.
В более примитивной среде физическая слабость вызывает презрение, насмешки.
Высшим нравственным достижением интеллигенции было бы полное снисхождение к слабому уму. И тогда слабый ум не страдал бы, не старался бы утвердиться низкими путями. Глупый был бы как ребенок среди взрослых. Ведь ребенок среди взрослых не испытывает свою неполноценность, потому что чувствует доброжелательность взрослых к нему и к его незрелому уму.
Но, кажется, это практически уже невозможно. Правда, всякий не поврежденный честолюбием умный человек понимает, что совесть выше ума. Люди с этим как бы согласны (боясь прослыть бессовестными?), но заменить культ ума культом совести в жизни никогда нигде не удавалось. Это удавалось только в художественной литературе.
Заменив культ ума культом совести, мы дали бы теоретический шанс неумному человеку в самом главном — быть выше умного и не испытывать никакого комплекса неполноценности.
Пьянство — революционное изменение внутри человека: верх и низ меняются местами.
Радостной любовной лирики не бывает. Только два-три стихотворения Пушкина могу вспомнить.
Люди, не имеющие цели существования или потерявшие ее, особенно любят путешествовать. Внешняя динамика создает иллюзию приближения к цели.
В теплоте родимой ограниченности. Ограниченность — форма уюта, с которой человек нелегко расстается.
В холодной комнате жизни ты сам свою постель согрел собственным теплом. Тебе предлагают в той же комнате более обширную и богатую постель. Снова греть ее собственным телом? Нет уж, останусь в старой кровати, в тепле родимой ограниченности.
Был в гостях на даче у нашего замечательного филолога. В доме какая-то дивная тишина. Не перемирие, а райский мир. Он, жена и кошки. Больше никого. Дети взрослые, самостоятельные. На моих глазах одна из кошек бесшумно вспрыгнула хозяйке на плечо. Она, улыбаясь, погладила ее. Он рассказывает:
— Однажды дверь дачи была приоткрыта. Вошла чужая кошка, уверенно влезла на диван и родила там котят. После пришлось котят раздаривать прихожанкам у церкви.
Могло ли это быть случайностью, что неведомая кошка пришла рожать именно в этот дом, где так любят кошек?
Я знал одного человека, которому любимая кошка во время приступов его болезни садилась на грудь. Он говорил, что это облегчало приступы.
Из записных книжек
Идеал невозможен. Но возможны правильные шаги к идеалу. Шаг к идеалу и есть идеал.
Фашизм — бунт невежества.
Поэт всю жизнь работает в тесноте строфы, где трудно повернуться, где мысль все время приноравливается к поэтической технике в узком пространстве, и от этого у него чаще портится характер, чем у прозаика.
У каждого человека свой предел психического слуха, психической восприимчивости. Цель образования и воспитания — довести его до этого предела. Все, что сверх предела, воспринимается в лучшем случае формально. Вот почему мы иногда встречаем образованных идиотов.
Даже самые нравственные люди, играя в карты, в шахматы и другие азартные игры, не замечают, что эти игры предполагают хитрость, коварство, вероломные комбинации. Скажут — это же игра. Но другие могут сказать, что и жизнь — игра.
В юности мужчине нравятся чаще всего задорные девушки, они побеждают его застенчивость. В зрелости мужчине чаще всего нравятся застенчивые женщины, они возбуждают его задор.
Наслаждение от искренности человека мы получаем не за счет особой правдивости, как нам кажется, того, что он говорит, а за счет особой доверительной интонации, таланта на эту интонацию. Таким талантом часто обладают удачливые мошенники, которым верят.
Обычно философ — это сильный ум, которому нечего сказать кроме того, что у него сильный ум, и который, стыдясь этого, всегда делает вид, что говорит о другом, но иногда умно проговаривается.
Многие писатели и сами не понимают, что первый акт творчества — это сама их жизнь как накопление этической энергии для второго акта творчества.
В мысли о самоубийстве всегда есть доля сладострастия.
Слава греет и взбадривает, когда светит издалека. Вблизи она вульгарна, нагло вторгается в личную жизнь.
Россия в анархии. Последняя надежда, что русский язык, в конце концов, победит русскую анархию. Когда мускулистые люди в семнадцатом году овладели Россией, почти никто из них по-настоящему не говорил с народом на русском языке. И сейчас еще не говорят. Я верю, что убедительность правды развивает выразительные возможности языка.
Чтобы никому не завидовать, надо быть личностью. Чувство личности — чувство внутренней полноты, не требующей никаких дополнений.
Потеря аппетита к жизни приводит к усилению аппетита к алкоголю. Надо не с алкоголем бороться, а восстанавливать аппетит к жизни.
Хорошая мысль мелькнула в голове. Пока искал ручку, мысль улетучилась, как сон. Мучительно напрягаю память, чтобы вспомнить, но не могу. От огорчения решил закурить. Взял сигарету и вдруг обнаружил, что куда-то делась зажигалка. Забыв о забытой мысли, стал искать зажигалку. И тут вдруг забытая мысль сама всплыла в голове. Забыв о зажигалке, радуюсь тому, что забытая мысль всплыла в голове. Но стоило забыть о зажигалке, как я вспомнил, куда я ее сунул. Закуриваю и записываю мысль.
Не по той же ли причине дети, за спиной которых стоят грозные учителя или родители, проявляя повышенную тупость, ничего не могут вспомнить.
Ленивый человек может быть хорошим человеком, но ленивая душа преступна.
Истинный талант с детства, сталкиваясь со сложной мыслью, запоминает ее, как мелодию. И уже взрослым он расшифровывает эту мелодию.
Самая честная змея — это гремучка, если она в самом деле гремит.
С мировой глупостью легче бороться, чем с отдельным глупцом.
— Что тебя больше всего гнетет? — спросил я у одного дерева, росшего на голом холме.
— Я тоскую по деревьям, — ответило оно.
— Что тебя больше всего гнетет? — спросил я у дерева в лесу.
— Кругом одни деревья, — ответило оно, — и ночью, и днем кругом деревья, никуда от них не денешься.
Хамство — необработанная искренность.
В спорах людей, в том числе и судебных, при советской власти, как правило, выигрывал тот, кто ближе к партии. Сейчас выигрывает тот, у кого больше денег. Более того, при советской власти, если судья понимал, что дело никак не связано с авторитетом партии, он мог решить его справедливо.
Злоба — вдохновение от дьявола. В злобе мы чувствуем необыкновенный прилив сил, что создает соблазн действовать и стать победителем. Основа гамлетизма — отсутствие злобы, а не захваченность мыслью, как думали многие. Сама захваченность мыслью есть следствие отсутствия злобы.
Комическое сходство Маркса с Ницше. По Марксу, пролетариат — сверхкласс, ему принадлежит будущее, но оно может осуществиться только в условиях интернационала. По Ницше, будущее принадлежит сверхчеловеку. Но появиться сверхчеловек может только в условиях смешения рас, то есть в условиях биологического интернационализма.
Марксизм — мания логизации.
Распавшийся человек может восстать из распада, если в его душе сохранилась хоть одна святыня — мать, любимая женщина, дети. Даже воспоминание о своем собственном, пусть далеком, но благородном и бескорыстном поступке. Конченый человек — полное забвение всех святынь.
И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.Какая мужественная, преодолевающая космический трагизм интонация. Тютчев героичен прежде всего.
Есть два типа людей — одни больше всего на свете боятся испачкать одежду в самом широком смысле, другие больше всего боятся испачкать душу. И никогда не бывает, чтобы человек одновременно боялся испачкать одежду и душу.
У всех животных чуткий сон. Недоверие к миру. Не этим ли объясняется и чуткий сон некоторых людей?
Уют в животе у матери. Может быть, подсознательно воспоминание об этом уюте и тоску по нему человек несет в себе всю жизнь.
Авантюризм есть жульничество, морально оправданное опасностью.
Даже когда немцы стояли под Москвой, наши люди Сталина боялись больше, чем Гитлера. Любой народ после столь сокрушительных побед Гитлера в два-три месяца впал бы в панику и анархию, но наш народ настолько боялся Сталина, что практически не позволил себе анархии, и мы победили. Это не исключает героизма народа, но существенно дополняет его.
Традиция рабства. У нас духовную силу часто понимают как одновременно и полицейскую силу. Возмущаются, что духовная сила не принимает полицейских мер.
У писателя есть шанс стилем победить судьбу. А что делать человеку, если он не писатель, но хочет победить судьбу? Стилем жизни побеждать судьбу. Не допускать со своей стороны сознательной подлости, и ты, как бы ни сложилась твоя жизнь, стилем жизни победишь судьбу.
Святость — абсолютная доверчивость к людям. Разоблачая обман, мы, не подозревая этого, подсознательно служим святости, облегчая ей жизнь. И это не менее правдоподобно, чем то, что мы служим истине.
Принято думать, что люди с годами мудреют. Но добреют ли? Вот что главное.
Только самые свободные и умные люди совершенно безразличны в своих суждениях к тому, выгодны они или невыгодны собственному народу. Главное — истина.
Главная партийная фраза, которую я слышал повсюду, разъезжая по районам, когда работал в газетах:
— Как не хотят? Заставим!
Это уже были сравнительно либеральные времена. Можно было сказать:
— В этой деревне не хотят подписываться на облигации.
— Как не хотят? Заставим!
Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума.
Чтобы понять поэта, надо влюбиться в его творчество. Потом ты можешь охладеть к нему, но то, что ты узнал, влюбившись, навсегда останется с тобой.
Настоящая личность никогда никому не навязывает себя. Навязчивость — признак отсутствия личности.
Люди равны только перед законом. Философия равенства подлая. Представьте, на одной работе — ничтожный и бездарный человек, а рядом, в том же кабинете, талантливый и благородный. В условиях равенства — бездарный с потрохами сожрет талантливого. И так будет всегда и везде. Равенством мы возвышаем ничтожного человека до уровня благородного. Но тем самым ничтожество фактически становится выше благородного человека, продолжая тайно владеть инструментом подлости. Духовный аристократизм необходим. Ничтожество надо достаточно четко отделить от того, кто выше него, хотя бы для того, чтобы его, ничтожество, удержать от соблазна преступления.
Он так панически боялся впасть в фальшь, что постоянно от этого впадал в фальшь. Он, как плохой певец, не доверял своему слуху.
Высшее достижение литературы — смеяться над своим героем и его же любить.
Пространство родины должно быть соразмерно пространству жизнедеятельности человека. Если пространство родины слишком велико, созидательная энергия человека падает, он чувствует, что ему не под силу обуютить пространство родины. Но если он проникнется мыслью, что каждому обязательно нужно обуютить только ближайшее окружение — место работы, семью, дом — и тогда родина обуютится сама, его не будет угнетать слишком большое пространство родины, как нас вообще не беспокоит пространство космоса.
Есть Добро и есть Зло. Соединяющее звено — мошенник.
В Германии в метро вдруг увидел лифт.
— Для чего это? — спросил у своего спутника-немца.
— Для инвалидов, — сказал он.
Вот это и есть настоящее народолюбие, забота о человеке. Российскую власть всегда раздражал ее собственный народ, хотя власть всегда лицемерно клялась в любви к народу. Может, народ раздражал власть именно из-за этого вынужденного лицемерия. Как же она могла стараться облегчить жизнь народа, когда он всегда ее раздражал. Народ раздражал власть, потому что, при всей ее тупости, она понимала, что реальный народ не похож на образ того народа, который она выдумала из идеологических соображений.
Этот поэт разбирается в стихах, как пингвин в Библии.
Ничто так не обнажает истинное состояние ума человека, как попытка определить соотношение далеких друг от друга вещей. Тут-то обнаруживается замаскированный дурак или неожиданный умница.
Вот что было в детстве. У нас во дворе росла молодая шелковица, но она была дикая, неплодоносная. Однажды отец на моих глазах подошел к ней с двумя маленькими веточками плодоносной шелковицы. Он вынул финский нож, расщепил в двух местах стволик шелковицы и сунул в расщепы две веточки.
— Теперь будете есть шелковицу, — сказал он.
Мне это показалось фантастическим. Как же я радовался и удивлялся, когда в этот же год дикая шелковица покрылась обильными ягодами.
А теперь я думаю: а что было бы, если к культурной шелковице привить веточки дикой шелковицы? Перестала бы она плодоносить? Хотя я ничего не понимаю в этом деле, а спросить не у кого, я почему-то твердо уверен, что культурная шелковица не перестала бы плодоносить, то есть она отторгнула бы эту прививку. Если я прав, то все живое несет в себе в зародыше готовность к цветущей сложности. Так, я думаю, устроена природа и даже человек.
Какой величайший источник оптимизма — все живое ждет прививки культурной шелковицы, иначе говоря, прививки Добра. Бесплодие есть дикое состояние, но несущее в себе в зародыше готовность к плодоносной прививке. Значит, при всех сложностях жизни все живое всегда в ожидании плодоносной прививки. Все живое знает об усилиях Добра и с терпеливой нетерпеливостью ждет их.
Начало мудрости, оно же старение — это когда созерцание делается сладостней похоти.
В пустой голове каждая последняя информация становится главной.
Глупые люди любят разносить сплетни. Излагая сплетню, глупый человек проникается уверенностью, что он гораздо информированней своего собеседника и, следовательно, сам умней, чем кажется многим людям.
Противно, когда поэт ковыряется в стихах, стараясь быть умным. Надо быть заранее умным, чтобы думать в стихах только о свободе самоотдачи любимой мысли.
Лакейство — мурлыкающее хамство.
Мудрый сразу видит много глупостей со всех сторон, и от этого у него опускаются руки в борьбе с глупостью. Остается насмешка.
Ограниченный человек видит одну глупость и воинственно вступает в борьбу с ней, думая, что, победив эту глупость, он покончит с мировой глупостью. Отсюда пафос борьбы.
Я, конечно, ничего не понимаю ни в экономике, ни в финансах, но, когда высокопоставленные чиновники об этом говорят по телевидению, я по их интонации чувствую, что они не уверены в том, что говорят.
У него был такой плоский ум, что никто не заметил, что он сошел с ума. Щелчок колеса на стыках рельс, и больше ничего.
Как бы ни объективизировал свое творчество писатель, мы всегда чувствуем личность этого писателя за его героями. И если мы любим этого писателя, мы наполовину любим его творчество, а наполовину его самого, даже не отдавая себе в этом отчета.
Но бывают хорошие писатели, например, Бунин и Набоков, личность которых закрыта, это лишает их какого-то дополнительного обаяния. Особенность русской литературы — почти все писатели душевно распахнуты. От Пушкина до Есенина и Мандельштама. Это делает их особенно привлекательными.
Самая плодотворная доброта — это доброта, которая делается молча. Человек, который, делая нам добро, сопровождает его многими словами, рискует уполовинить нашу благодарность.
Политика настолько цинична, что вызывает нравственное возмущение даже у безнравственных людей. При этом они, вопреки логике, не отказываются от своей безнравственности, а, наоборот, укрепляются в ней. Наша маленькая безнравственность, думают они, пустячок по сравнению со всемирной безнравственностью политики.
Накачивание мускулов сопровождается накачиванием агрессии.
В литературе тихая метафора несвободы всегда долговечней крика о несвободе.
Кометы, астероиды во мгле Срываются, сгорая без остатка. Чтоб люди утешались на Земле: И в небесах нет полного порядка.Пессимизм — лучше уныния. Пессимизм — тоска по полюсу добра, следовательно, признает его существование. Уныние вообще не видит никаких полюсов.
В парикмахерской. Постригся. Спрашиваю:
— Сколько?
— Сто рублей.
Я молча заплатил и уже собирался выходить.
— Вы пенсионер? — вдруг спрашивает парикмахер.
— Да.
Он возвращает мне пятьдесят рублей. Оказывается, есть закон, по которому в парикмахерской пенсионеров должны обслуживать за полцены. Удивляюсь честности парикмахера. Я же ни на что не претендовал. Кстати, больше я его никогда не встречал, хотя неоднократно заходил в эту парикмахерскую. Возможно, не попадал в его смену, а может быть, его уволили.
В детстве было приятно притронуться к дереву, прислониться к нему, обнять его и особенно залезть на него. Удовольствие от карабкания по веткам, как я сейчас вспоминаю, превосходило цель — доползти до плода. Думаю, в детстве наша психическая организация более чуткая. Это бессознательное лечение, гармонизация души.
Знаменитое рассуждение Достоевского, что если Христос и истина не совпадают, то он с Христом, а не с истиной. Полемическое недоразумение, ибо для верующего Христос и есть истина, и никакого раздвоения не может быть, можно просто отпасть от веры.
Ютился под кремлевской стеной, в результате выстроил себе прекрасный особняк. Мораль — знай, под какой стеной ютиться.
— Я не настолько храбр, чтобы быть простодушным, — сказал он.
Простодушие — безотчетное, соприродное приятие Божьего мира. Простодушный может быть храбрым, трусливым, умным или глупым, но приятие мира сильнее этих свойств.
Сидят два друга, разговаривают и пьют. И вдруг один из них страшно обхамил другого. Тот молча встал и ушел. И больше с ним никогда не встречался. Обхамивший закомплексовал. Он стал подсылать к нему знакомых с тем, чтобы тот простил его и они снова подружились. Тот, кого обхамили, уклонялся от возобновления дружбы и встреч. Обхамивший упорствовал в течение трех лет. Он был страшно самолюбив, и в том, что его друг после хамского обращения молча встал и ушел, он почувствовал невыносимое презрение к себе, чего, кстати, не было.
Наконец, бывший друг сдался. Опять сидят в кафе, и пьют вместе, и разговаривают. Обхамивший начинает тихо раздражаться. Да, я его случайно обхамил, думает он, но сколько унижений я вынес, прежде чем он меня простил! А что это мне дало? Ничего! Сидим, пьем. И он выходит из себя и говорит:
— Все-таки ты говно, что простил меня.
— Зачем же ты столько лет пытался со мной встретиться?
— А вот для того, чтобы сказать тебе это.
Цель революции — сравнять качество народа с качеством правительства. В силу страшной войны и многих других обстоятельств качество народа в октябре семнадцатого года было намного ниже качества правительства при всех его слабостях. Октябрьская революция победила, и качество нового правительства сравнялось с качеством народа, снизилось с большим запасом. Во время бархатной революции в Чехословакии качество народа было выше качества правительства, и он заменил правительство на новое, которое стало выше качеством, сравнялось с качеством народа.
Можно сколько угодно проклинать Сталина, но он честно доложил дьяволу:
— С человеком можно сделать все что угодно!
Английский джентльмен — это когда упорядоченный человек дает пример неупорядоченным людям. Русский интеллигент — это когда упорядоченный человек дает пример неупорядоченному государству.
Тот, кто хамит здесь, где-то там холуйствует.
Равнодушный непобедим — вот в чем трагедия.
Он сказал:
— Гуляя по Иерусалиму, встретил хрупкую девушку-солдата с автоматом. Хотелось ее нежно разоружить.
Он настолько презирал людей, что никогда им не лгал.
Терпимость хороша, но вспыльчивость полезней для здоровья.
Многие американцы любят сидеть, задрав ноги на стол. Это, может быть, знак победы динамики над раздумьем, над местом раздумья — столом.
То, что над недостатками страны еще хочется смеяться, означает наличие надежды на ее выздоровление. Если над страной уже не хочется смеяться, значит, это погибшая страна. Над погибшими не смеются.
Этот поэт — актер, играющий Гамлета. Ужас заключается в том, что он сам для себя пишет текст Гамлета.
Бог — тоска по смыслу.
Рабство вполне производительно при строительстве пирамид, но уже при разведении кур оно непроизводительно. Нужно душу вкладывать. Вот почему при советской власти нам удавались грандиозные пирамиды индустрии, а с курятиной было плохо.
Иногда потрясаешься, когда явно глупый человек вдруг осуществляет сложную комбинацию обмана. Видимо, дело вот в чем. Нравственный человек вообще не играет в аморальные игры, тогда как человек бессовестный всегда в них играет. Его слабый в общечеловеческом смысле ум в аморальных комбинациях достигает определенной изощренности.
Все существенное, что сказано о жизни, сказано людьми, которым не хватало ловкости жить.
После болезни, вероятно, вследствие малокровия, стал деликатней с людьми.
Истинный алкоголик, если он трезвый, трогательно стесняется пьяных людей.
Русский человек, рискуя карьерой, не возразит начальнику, но из зависти, рискуя жизнью, подожжет коровник соседа.
Чем более необычайное событие описывается в рассказе, тем более обычными реальностями надо его окружить.
Все починяют телевизоры, но никто не починяет головы, поврежденные телевизором.
Его сильный ум справляется с плохим знанием языка, заставляя его говорить почти афоризмами. Афоризм обходится главными словами.
— Ваше последнее желание перед тем как войти в клетку с тигром?
— Накормите его хорошенько.
Арфистка-аферистка.
И вдруг по какому-то волшебству в России все перестали воровать. Страна оцепенела. Никто не знал, что делать.
Пониженность духовной жизни приводит к активности физиологической жизни. Мой сумасшедший дядюшка всегда отличался невероятным аппетитом.
Боевитость — советская черта, даже если это антисоветская боевитость.
«Евгений Онегин» — кроме всего величайший гимн нормальности. Возможно, Пушкиным двигал подсознательный страх перед безумием. Сама онегинская строфа — законченная красота нормальности. Не раз испытывал, как она меня умиротворяет. В ней почти математическое доказательство приемлемости жизни.
Вдохновение — чудо. Всякий настоящий художник, вдохновенно написавший ту или иную вещь, мог бы сказать; сам бы я с этим не справился.
Чем пахучее роза, тем острее ее шипы.
Страдание догоняет мыслящего человека, чтобы он не переставал мыслить.
В жизни и в книгах мы запоминаем ответы мудрецов только на те вопросы, которые мы сами ставили перед собой.
Ускорению жизни грозит отставание нравственности.
Чем неблагополучнее страна, тем чаще в ней встречаются красивые проститутки. Впервые приехав в Германию, я поразился уродливости их проституток, стоявших на улице. И тут я окончательно поверил, что Германия благополучная страна.
Иногда глупость говорит умный человек, иногда дурак. Глупость умного человека — сбился со счета. Глупость дурака — не умеет считать.
Одна не очень грамотная женщина забавно сказала: Георгий Бедоносец.
Немало людей достойно встречало насильственную смерть. Но трудно представить человека, который достойно встречает смерть в панике горящего театра.
Хорошая память при плохом уме, как хороший аппетит при плохих зубах.
Гениальная музыка так же не поддается логизации, как и посредственная. Именно потому конфликт Моцарта и Сальери ярче выражается в музыке. В точных науках легче быть объективным.
Забавно заметить, что смерть богача, защищающего свое богатство, так же героична, как и смерть философа, защищающего свою мысль. Субъективно каждый из них защищает то, что считает самой высшей ценностью жизни. Но разница в том, что в случае философа субъективное совпадает с объективным. Мысль — для всех, богатство — для себя.
Каким образом травоядные догадались не есть ядовитые растения? Невозможно представить, что они к этому приспособились в результате эволюции. Неправдоподобно. Скорее всего это им изначально дано от природы.
В представлении огромного большинства людей ум гораздо привлекательней доброты. В жизни человечества пропаганда ума оказалась гораздо действенней пропаганды доброты. Мы имеем огромный список выдающихся умов в истории человечества, но списка людей выдающейся доброты нет. Люди легко согласились с тем, что ум выгодней доброты.
Ум может разрушать — мудрость никогда.
У Шекспира типичных образов больше, чем у Толстого, но у Толстого эмоциональный удар сильней.
Глядя на этого человека, я всегда с восхищением думал: каким надо обладать мужеством, чтобы быть таким добрым, зная о всех возможностях зла.
Аплодисменты тирану — восторг ужаса.
Неплохой писатель. Обедненный Толстой для чтения богатых.
Из черновика жизни писатель по капле выдавливает гармонию и создает гармонизированный мир.
Но вот он возвращается в черновик воспетой жизни, и его охватывает тоска и горечь. Как будто он ожидал, что вслед за его гармонизированным миром черновик жизни гармонизируется сам.
Есть выдающиеся люди, у которых чувство сострадания сильней, чем страдание страдающего.
Такие люди вызывают восхищение, но они и опасны, если не обладают религиозной закалкой. Невыносимая сила сострадания может привести их к мысли, что сострадать вредно и бессмысленно. Не это ли случилось с Ницше, Горьким, Маяковским? Ницше сам создал себе теорию вреда сострадания. Маяковский и Горький, смолоду отличавшиеся величайшей силой сострадания, потом примкнули к марксизму, псевдо-пролетарскому ницшеанству. Следует отметить, что все трое отрицали Бога. Правда, Маяковский иногда стихийно проявлял сострадание, когда дело касалось любви или животных, в общем, в тех областях, куда марксизм не дотягивался.
У талантливого поэта Георгия Иванова отчаянье столь долгое и привычное, что незаметно перешло в своеобразный комфорт отчаянья. Великая Цветаева в любом отчаянье огрызалась до конца, как львица. Никакого примирения, никакого комфорта!
Я много раз задавал себе вопрос: как это может быть, что бесчестные люди иногда бывают довольно талантливы, и всегда этот вопрос ставил меня в тупик. Бесчестный человек — значит, гнилая душа. Но разве может творить гнилая душа? В конце концов, я пришел к выводу, что в их гнилой душе осталось место, не тронутое гнилью, и этим местом они пишут. К счастью, великие таланты не бывают бесчестными, великие, потому что творят всей душой. И это видно.
Евразийцы, сидя в европейских шляпах, тянут азиатский кальян.
Стоит вырваться из несвободы в свободу, как мы убеждаемся в банальности свободы, и опускаются руки. Но надо вглядеться в эту свободу, чтобы увидеть в ней новую несвободу и бороться с ней. И так до бесконечности.
Иногда наша храбрость — форма покаяния нечистой совести.
Доход от ленинских идей: Сменил шалаш на мавзолей. Зато Россия в этой драке Дома сменила на бараки.Необходимость ложиться ночью спать почти всегда вызывает тоску и чувство непонятной вины. Нет ощущения правильно прожитого дня.
Пушкин, безусловно, был патриотом. И Бенкендорф, безусловно, был патриотом. Но так же безусловно, что патриотизм у них был разный.
Пристальное внимание к мухам — признак слабоумия.
Когда руководитель страны дает сеанс одновременной игры со многими оппозиционерами, ему трудно удержаться в рамках шахматных правил.
С удовольствием перечитывал свой старый рассказ и неожиданно сладко уснул. К чему бы это?
Когда говоришь о патриотизме, приглядись к окружающим: не подмигивает ли тебе полицейский? Если не подмигивает, можешь продолжать.
Есть писатели, у которых все события романа проходят в сумеречном свете, где трудно что-либо четко разглядеть. Это создает ложный эффект многозначительности. Человек поднял руку, чтобы почесать в ухе, а нам кажется, что он хочет застрелиться.
Муравейник не может сам себя описать. Нужен взгляд сверху.
Чудище встало и чудище сотворило. Абхазская пословица о неловком человеке.
Безумпция невиновности.
В своей писательской жизни довольно часто на удары подлых людей не отвечал ударом, потому что боялся вспугнуть вдохновение. Однако горечь не забывалась. Однажды подлый удар подлого человека даже помог мне в работе, потому что я тогда писал рассказ о том, что чувствует мой герой после подлого удара.
В нашей литературе на одного сомнительного Моцарта приходится десять несомненных Сальери.
— Вот он не даст мне соврать, — неожиданно говорит человек, кивая на тебя, и именно поэтому ты даешь ему соврать.
Одиночество вдвоем зеркально удваивается.
У российского человека готовность быть ограбленным уравновешивается готовностью грабить. На этом основана победа революции и все остальное, связанное с ней. Например, государство грабило колхозы, фактически превращая их в свою собственность. Колхозники воровали в колхозах, фактически признавая, что это не их собственность, а государства.
Писатель, который не может написать сильно о любви и смерти, не может быть сильным писателем. О любви и смерти сильнее всех писал Лев Толстой.
Коммунисты, овладев Россией, все время обрушивали все традиционные формы жизни. Даже уходя с исторической сцены, они и свободу ухитрились обрушить на наши головы.
Старые люди особенно нежны со своими внуками, потому что тут потребность в нежности не выглядит в глазах окружающих смешной.
Кто перед едой вяло моет руки, тот после еды вяло приступает к работе.
В России исчезли классы. Нет ни рабочих, ни крестьян. Они есть, но они уже не классы, с которыми считается правительство. Появились новые классы — чиновничество и связанная с ним разбойничья буржуазия, у которой воровство, одобренное чиновниками, — сверхприбыль.
Хам передал эстафету эстету.
С одной стороны, развитие цивилизации, опережая развитие культуры, способствует одичанию народов. Вместо пафоса понимания добра и зла цивилизация создает пафос информации вообще. С другой стороны, новое оружие цивилизации осваивается отсталыми народами быстрее, чем сама цивилизация. Скорость цивилизации отстает от скорости вооружения отсталых народов. И тут трагическая картина всеобщего одичания. Цивилизация, оторвавшись от культуры, ушла вперед и уже не слышит тревожных окриков культуры.
Если балалайка и скрипка играют вместе — балалайка всегда заглушает скрипку.
Когда раб пытается быть мужественным, всегда получается нахальство. Когда раб пытается быть дружественным, всегда получается лакейство.
Интрига — шахматы негодяя.
Этот человек завидовал всем, он даже завидовал своему другу за то, что тот никому не завидовал.
Он сказал: слухи о том, что я живу со своей тещей, близки к истине, я живу с ее дочкой.
Надо выпадать из жизни, чтобы впадать в мысль.
Розанов говорит: двое русских посмотрят друг на друга острым глазком, и все становится ясно без слов. Но это глупо. Вот, мол, наша русская особенность. Двое иностранцев рядом с русским посмотрят друг на друга острым глазком, и им все становится ясно, а русский ничего не поймет. Более того, двое русских крестьян посмотрят друг на друга острым глазком, и им все становится ясно, а стоящий рядом русский интеллигент ничего не поймет. Такое понимание друг друга без слов свойственно жизненно близким друг другу людям. Жена пристально посмотрит на мужа, и он все поймет, а гость не поймет, что ему пора уходить.
Застенчивость — высшая форма чувственности.
Я знал идиота, который замечательно по сжатости и выпуклости выражал свои идиотские мысли. Видимо, есть талант идиотизма.
Заметив, что старости чужда суета жизни, молодость думает, что старости ничего не нужно. Но это горькая ошибка. Старости нужно все — и любовь, и нежность, и шутка, только все это в более плавной форме.
Думал о природе хитрости, пришел к выводу, что хитрость — задворки ума. После этого случайно раскрыл Ключевского — мистика! — первое же, что попалось на глаза, — рассуждение о природе хитрости. Он пишет: хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума. Чудо совпадения. Но если вдуматься, никакого чуда нет. Я тысячи раз раскрывал книги, и никогда то, о чем я думал, не совпадало с первой фразой книги. Один раз случайно совпало. Но и предмет раздумья — хитрость — достаточно крупный, чтобы совпадение могло произойти. Вот если бы я думал о том, почему у меня все утро чешется ухо, и, раскрыв книгу, прочел бы, что у героя романа чешется ухо, это было бы действительно чудо, потому что слишком мелок объект внимания.
Пока палач готовил свой топор, стоящий рядом певец пел песенку, чтобы утешить жертву перед казнью. Но жертве эта песенка перед казнью казалась мерзее, чем топор палача.
Церковь — народная библиотека.
Для универсального пессимизма Шопенгауэра какая разница между советской властью и демократией.
Томас Манн иногда тайно раздражает тайной благостностью достигнутого им в искусстве. У Толстого и Достоевского этого никогда не бывает. Но у Томаса Манна не бывает и вздорности чересчур смелых идей, что наши великие, увы, допускают.
Изощренность и виртуозность — внешне похожие понятия, но внутренне противоположные. В искусстве изощренность — ложка, усердно скребущая по дну котелка. Виртуозность — играющая сила. Северянин — изощрен. Пушкин — виртуозен.
Человек, которого я привык презирать, неожиданно и неведомо для меня сделал мне доброе дело. Чувствую смущение и одновременно некоторую ограбленность.
Умение писателя молчать, когда не пишется, есть продолжение таланта, плодотворное ограждение уже написанного.
Он мне сказал:
— Я недавно женился. Моя жена на тридцать лет моложе меня.
— А сколько вам лет?
— Девяносто два! — гордо ответил он.
— Ваш брак почти на небесах! — невольно воскликнул я.
— Почему почти? — удивился он.
Иной чихнет, и сразу видно, сколько в нем было скрытого нахальства.
Человек, задающий бессовестные вопросы, видимо, думает, что он преодолевает трусость.
Что толку широко раскидывать сети, если в озере нет рыбы.
Видимо, в мире предстоит большая война между подтирающимися бумажкой и подмывающимися водой. О, глупость человечества!
Мой покойный друг Миша Левин, друживший с академиком Сахаровым еще со времен, когда они оба были студентами, вспоминал: Сахаров мог говорить только о Пушкине или о физике. С детских лет он пламенно был влюблен в творчество Пушкина.
Сахаров шел от гармонии Пушкина к гармонии науки, от гармонии науки к попытке гармонизировать Россию, и тут его сердце не выдержало, и он умер.
Поэт без дыхания. Бездыханный поэт. У Цветаевой было дыхание, как у арабского скакуна, описанного ею.
Перед соблазном сладостной подлости надо почувствовать себя подлецом, чтобы не поддаться соблазну подлости.
По-моему, Набокову при всех его талантах не хватало мировоззренческого таланта.
Чтобы выработать уверенность в себе, он кулаком разбивал яйца.
Если вселенная родилась в результате Большого Взрыва, как учит современная наука, то кто был вселенский террорист, организовавший первый взрыв?
Если бы наука доказала, что Бог есть, это означало бы конец науки и конец Бога.
У женщины скандал есть форма оздоровительной гимнастики. Не потому ли что-то бабье есть в мужчинах-скандалистах?
Демократия более или менее хорошо работает там, где у народа выработана привычка к добровольному самоограничению. Там, где деспотия сверху давила и вынуждала человека к самоограничению, нельзя сразу переходить к демократии. Это все равно что долго голодавшего сразу посадить за пиршественный стол.
Лимонад веселит только детей.
— Не будем драматизировать, — сказал палач, заметив, что жертва при виде топора побледнела.
В человеке живет подлое чувство — любопытство к убийству. На этом основан успех детективной литературы.
Во сне с такой силой ударил одного мерзавца, что во сне же почувствовал, как болят костяшки кулака. Я ударил во сне того, кого двадцать лет назад должен был ударить наяву. Я думал, что простил ему как христианин, но оказалось, что не простил. Подсознание доказало в виде этого сна. Интересно, доходит ли вообще христианство до подсознания?
Буйвол. Может, от буйный вол? Как буй-тур.
Праздник праздности для равновесия кончается скандалом.
Вероятно, Наполеон на Святой Елене думал: почему я пошел на Россию, как мог допустить такую ошибку? Вероятно, он так и не догадался, что всю жизнь был игроком, жертвуя миллионами людей ради победы в своей игре. А в Европе уже не с кем было играть, и он пошел на Россию.
Хлябкие стихи.
Огромная волевая сосредоточенность исключает все лишнее, в том числе и доброту.
Блат — интимное мошенничество.
Когда смотришь на недостатки правителей России, иногда приходит горькая мысль: они и не могут быть другими, их грехи — следствие грехов предыдущих правителей, а грехи предыдущих правителей — следствие грехов тех, что правили до них. И так до бесконечности. И невозможно найти историческую точку, где именно произошла роковая ошибка, которая повлекла все остальные.
— Кто первый поэт Франции? — спросили у одного француза.
Он остроумно ответил:
— К сожалению, Гюго.
Кажется, кто-то рассказывал.
Надо с уважением относиться к правде каждого своего литературного героя, как бы она ни противоречила правде твоих любимых героев. Но над всем этим должна стоять гуманистическая мысль.
Предав, повесился Иуда. Не забывай о том, зануда. Запомни, как солдат устав. Чтоб не повеситься, предав.Мистицизм — мутная попытка преодолеть мутность.
Революция — народная истерика. Не надо доводить народ до истерики.
Комфорт — разбогатевший родственник уюта, не узнающий его.
Самые омерзительные люди — это те, которые свое посещение церкви всерьез считают платой за грех и этим удваивают свой грех.
Когда не понимаешь политика, сделай самое глупое предположение и попадешь в точку.
Память, как и зрение, бывает дальнозоркой и близорукой.
Веселье — неопасный беспорядок.
С утверждением заики охотно соглашаешься, по-видимому, чтобы не слышать дополнительных аргументов.
Цинизм, оправдывающий себя отсутствием лукавства, есть циничное лукавство.
Космический холод мира преодолевается лаской. В этом чудо учения Христа.
По оттенку злой мести мы догадываемся, что глупый человек насмехается над ошибкой более умного человека. Наконец, поймал!
Совесть — практика Бога, которую люди не очень спешат подхватить.
Все замечают униженность раба, но никто не замечает более страшной вещи — у раба нет святыни.
Когда мне не спится, чтобы успокоить себя, я читаю про себя стихи любимых поэтов. Не похоже ли это на молитву?
Цивилизация усиливает мировой шум, чтобы заглушить ум. К сожалению, небезуспешно.
Ты не любишь людей, и, хотя слишком многие из них не достойны любви, ты своей нелюбовью к людям прибавляешь другим аргумент нелюбви к людям.
Верь в разум в разумных пределах!
Либеральные реформы в России надо было проводить под консервативным контролем.
Ум красавицы, как правило, парикмахер ее красоты.
Злой язык — оружие бессилия.
Иногда злоба, как бы переливаясь через край, выражается в смешной, нелогичной форме. Но если эта смешная злоба направлена против нас, нам не смешно, а горестно. Чувствуя, что она переливается через край, мы убеждаемся, что ее много.
Но бывает, что и любовь переливается через край в смешной и нелогичной форме. И если эта любовь направлена на нас, и она так же смешна и нелогична, мы особенно радуемся, мы особенно благодарны, она переливается через край, потому что ее много.
Бог на шестой день создал человека. Интересно, кто ему мешал подольше подумать? Что ни говори — торопливое решение.
«Трезвись и бодрствуй!»
При Сталине и позже несколько раз видел правительственные машины на улице. Они мчались с бешеной скоростью, казалось, стараясь вырваться из окружения народа.
Разумный человек должен быть одновременно либералом и антилибералом, консерватором и антиконсерватором, почвенником и антипочвенником, и так далее. Огромная, меняющаяся действительность требует каждый раз конкретного решения, соответствующего повороту действительности. При этом при всех обстоятельствах должен оставаться неизменным гуманистический пафос. Он и диктует человеку необходимость этой подвижности. Всякая партийность мешает разглядеть эту естественную жизненную диалектику.
Героизм старости — опрятность мысли.
Самый грандиозный миф создан Марксом, миф о спасении человечества при помощи рабочего класса. Разумеется, сам Маркс верил, как поверили в него и многие люди. Вероятно, мифы, создававшиеся тысячелетия тому назад, казались людям не менее правдоподобными. Их вера в потусторонние силы, вероятно, была похожа на нашу веру в науку.
Кажется, как сравнительно немногочисленным большевикам удалось остановить разбой и послереволюционный хаос?
В своем роде они действовали психологически точно. Во-первых, они громко и всенародно оправдали разбой: грабь награбленное! Разбойники поняли, что их за разбой наказывать не будут, как не наказывали, а, наоборот, поощряли дезертирство из регулярной армии.
Не останавливая разбоя, большевики возглавили его, направили в нужную сторону и уже в качестве признанной власти, простившей разбой, остановили хаос.
Выезжаю из Абхазии. Сотни абхазских старух с тачками, наполненными мандаринами, день и ночь стоят в очереди, чтобы их пропустили в Краснодарский край. Почему, кроме старух, с мандаринами никого не пропускают? Те, что прошли, тут же по самой дешевой цене продают мандарины многочисленным перекупщикам. Разумеется, каждая старуха платит взятку за то, что ее пропустили.
Двое русских солдат — видимо, они не имеют отношения к пограничникам — стоят на тротуаре на русской стороне границы. Один из них просит сигареты, другой деньги. Безумно жалко их, этих мальчиков. Защитники Родины просят подаяния у Родины. Истинная причина нескончаемой возни в Чечне становится ясной.
Фазиль Великолепный
1
Фазиль Искандер — драгоценный талант, украшающий наше не слишком прекрасное время. В Абхазии Искандера не всегда светит солнце или сияет луна, не всегда ласково волнуется море и всей грудью дышат зеленые горы. Абхазия Искандера — это не только рай, там, бывает, появляются и демоны. И все-таки это дивная, утопическая страна — страна Искандера и его героев.
Искандер прошел свой путь и идет далее удивительно достойно — внутри современной литературы, которую искушали то власть, то рынок. Он настоящий, живой классик. Он скептичен и всегда сохраняет дистанцию, при любой «погоде». На самом деле его ограждает от разного рода неприятностей главное — глубокая (и разделенная им) любовь читателей.
Фазиль Искандер родился в Сухуми в 1929 году. Рано потерял отца, депортированного за пределы СССР. Уехал в Москву, учился в Библиотечном, закончил Литературный институт. Работал корреспондентом газеты, уехав в центральную Россию. Начал печататься. Вернулся в Москву — и остался здесь навсегда.
Сказать, что сразу, — так нет; но его быстро заметили (неординарен, необычен во всем!) и полюбили.
Он пережил властителей: Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова; при нем Ельцин сменил Горбачева, а Путин — Ельцина.
И — оставался собой. Всегда.
«Массовая, пластмассовая, одноразовая литература никого не должна смущать, — сказал он при вручении одной из литературных премий, которых у него целая коллекция — от международных до скромно-журнальных. — Даже те, кто ее употребляет, знают ей цену: прочел и в корзину. Всегдашний и безошибочный признак истинного художественного произведения — это наше желание вернуться к нему».
К Искандеру, к перечитыванию его книг, обаятельных, грустных и веселых, читатель возвращается обязательно.
2
О замысле повести «Созвездие Козлотура», опубликованной в журнале «Новый мир» в августовском номере 1966 года и сделавшей автора знаменитым, Фазиль Искандер рассказывает так: «До этого были скитания по газетам со статьей против кукурузной кампанейщины. Я сам вырос на кукурузе, но я видел, что она не хочет расти в Курской области, где я тогда работал в газете. И я попытался своей статьей остановить кукурузную кампанию. Статью, правда, не напечатали, но писатель должен ставить перед собой безумные задачи!» С кукурузной кампанией Искандеру справиться не удалось. Но социальный темперамент молодого автора был неудержим: Искандер вскрыл и обнародовал механизм любой кампании, противоречащей здравому смыслу, ибо, как он дальновидно понимал, кукурузой деятельность активных пропагандистов по нововведениям ограничиться не может. В «Созвездии Козлотура» Искандер живописал такую кампанию в подробном развитии: от радужных перспектив (поддержанных одним чрезвычайно высокопоставленным лицом — «интересное начинание, между прочим!») до бурного провала.
Следуя эстетике уходящего времени, в финале драматического по накалу страстей произведения должен был бы забрезжить рассвет, герой — обретать свежие силы, а автор — усиленно намекать читателю на его грядущие победы.
В финале повести Искандера брезжит новая кампания.
О вещах печальных и более того — социально постыдных — автор повествовал в манере крайне жизнерадостной. Парадоксальный этический закон этой прозы — постараться из неудачи извлечь как можно больше творческой энергии. По принципу: «для мест, подлежащих уничтожению», делать единственное, что можно — «стараться их писать как можно лучше».
После появления «Созвездия Козлотура» прозаик был обвинен в «плачевном отсутствии сынолюбия по отношению к отчему краю».
Через двадцать лет он скажет в беседе: «Сатира — это оскорбленная любовь: к людям ли, к родине; может быть, к человечеству в целом».
Но сатира молодого автора производила странное впечатление.
Смех автора был не только и не столько уничтожающим, но и жизнеутверждающим. Смех словно говорил, смотрите, до чего могут дойти люди, бездумно следующие начальственным указаниям. И сколь, напротив, замечательно и удивительно жизнестойка природа, в том числе человеческая, этим указаниям сопротивляющаяся!
В «Созвездии Козлотура» неожиданно звучит и лирическая интонация, окрашенная ностальгией воспоминаний о днях детства, о родовом доме в горном селе. Автор переносится воображением в мир, где царствует подлинная жизнь, торжествует здравый смысл, где слову отвечает дело. «Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг». Сказано с грустью. Вера молодого писателя уже поколеблена. Козлотуризация противоречит здравому смыслу, но идет полным ходом.
Многое объединяло Искандера с авторами «иронической» молодежной прозы начала шестидесятых. Отрицали они одно и то же. Противник был общий. Герои-шестидесятники, как правило, пытались вырваться из своей среды, уйти, улететь, уехать из опостылевшего гнезда, гневно рассориться с омещанившимися родственниками. Молодой герой-бунтарь того времени гневно сокрушал полированную мебель в родительском доме. Мысль Искандера о крове совсем иная. «Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы».
Время в рассказах Искандера тоже было другим, чем в «молодежной» прозе, где оно как бы совпадало с процессом чтения, действие происходило сейчас, в настоящем, «герой-бунтарь» был близок по возрасту и читателю, и автору Возраст героев рассказов Искандера иной, и время действия — другое: предвоенные годы, война, после войны. Мир был увиден двойным зрением: глазами ребенка и глазами взрослого, вспоминающего из «сегодня» свое детство.
Переезд Искандера в Москву сыграл в выборе такой оптики решающую роль. Нет, ничего «разоблачающего» городские нравы Искандер не пишет. Интонация рассказов о Москве остается веселоспокойной. Сам облик города, климат, напряженный трафик, вечное беспокойство и суета, определяющие во многом и характер горожан, описаны чрезвычайно корректно, но с явным чувством ностальгии по теплу и солнцу родной Абхазии, шуршанию волны по гальке, духу братства и добрососедства, духу двориков и кофеен. «И уже нет мамы, нет ничего, — так заканчивается «Большой день большого дома», рассказ о семье матери, чувстве рода, расцветающей красоте девичьей жизни. — Есть серое московское небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит возле строящегося дома неугомонный движок. И машина моя, как безумный дятел, долбит дерево отечественной словесности…» В мире «серого неба», в атмосфере бесконечной тревоги москвичей по поводу завтрашней погоды (рассказ «Начало») — тревоги, закономерно ставившей абхазца в тупик, ибо не в поле же им завтра выходить, — естественным было внутреннее движение к самому ценному, самому святому времени, к оставленному там, к «раю», то есть к миру детства. Глаза, душа ребенка позволили писателю и сказать горькую правду о времени, и не утратить ощущение красоты жизни. Искандер вернулся в мир детства — «непомерного запаса доверия к миру», отрицая тем самым явное недоверие «неправильного» мира к человеку. Искандер не только «разоблачал» неправильность реальных обстоятельств, а противопоставил им устойчивый мир, утверждая тем самым свое миропонимание.
3
Его «сквозной» герой Чик живет не просто в городе, доме, квартире. Жизнь вынесена во двор, где готовят пищу, пьют кофе, ведут беседы и философские дискуссии, спорят, ссорятся и мирятся, отдыхают. Здесь квохчут куры, сюда залетает ястреб, заезжают лошади, приходят коровы. Своеобразный Ноев ковчег. И побережье, и город Мухус, в названии которого легко прочитывается перевернутый Сухум, — лишь продолжение того же двора. Здесь перемешаны языки — это «котел» языков, малый «вавилончик»: рядом живут абхазцы, русские, грузины, греки, персы, турки. Даже сумасшедший дядя Коля говорит на «затейливом языке из смеси трех языков».
Действие повестей и рассказов о Чике живет и пульсирует в одной точке. «У меня такое впечатление («Долги и страсти»), что все мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени, — моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста». Это волшебное время детства: один длинный-длинный, непрекращающийся день с короткой южной ночью («Ночь и день Чика»), лишь подчеркивающей по контрасту радость ожидания грядущего дня. Этот день чрезвычайно подробен, богат происшествиями, приключениями, событиями, открытиями. Это — своего рода утопия.
Мухусский двор — неформальная община, неофициальное государство в государстве, вырабатывающее свои законы, свою конституцию. Здесь жизнь собрала изгоев, «бывших», отверженных, отброшенных, не принятых властью или ущемленных ею. Пата Патарая репрессирован. Богатый Портной, день-деньской работающий, вынужден скрывать стук своей швейной машинки Бедная Портниха еле сводит концы с концами. Алихан, чья история более подробно рассказана в романе «Сандро из Чегема», — бывший коммерсант, потом нэпман, окончательно разоренный. Даша — в прошлом жена офицера, «бывшая» красавица, сумасшедший дядюшка Коля… «Отброшенные» создают маленькую республику, в которой правит справедливость. Здесь никто не обладает полнотой власти, не стремится к диктаторству, все равны. Жизнь во дворе в отличие от жизни за его пределами не приемлет унижения слабого, осмеяния убогого. Сумасшедший дядюшка Чика живет здесь не только в безопасности, но в атмосфере любви и приязни Даже добродушные шлепки, которые отпускает ему портниха Фаина, в которую он безнадежно влюблен, свидетельствуют более о чуткости, нежели о равнодушии.
Жизнь семьи существует вне замкнутого пространства комнаты, вне четырех стен: она как бы вынесена — через балкончики, распахнутые окна, веранды и галереи — на воздух, на площадку двора. Она открыта всякому взору, не отчуждена, не занавешена. Жизнь дворика в Мухусе — народная жизнь, а фиговое дерево, растущее в саду, перевитое виноградом, дерево, на котором, как обнаружил Чик, так славно и удобно сидеть, — становится священным древом жизни, как бы перевитым судьбами людей, здесь обитающих.
Чик — истинное дитя народа Он жизнелюбив и стоек, справедлив и совестлив, не приемлет предательства в самых разных и утонченных его проявлениях. Нравственное чувство Чика развито необычайно. Он, например, ощущает неловкость, если драка несправедлива, не может серьезно драться с мальчишкой, если тот слабее его. Чик готов поделиться всем, что у него есть. Он «никогда не будет чувствовать себя счастливым, пока собаколов в городе». Он остро реагирует не только на несправедливость, но и на глупость, фальшь. Перипетии жизни Чика и его друзей, разговоры и горячие споры взрослых о пустяках изложены автором подробно. Автор входит в положение каждого, стремится к полноте изображения любой ситуации, как бы комична она ни была Вот Чик и его дядя «пойманы с поличным»: пасли корову в границах города, а это «не положено».
«— Шпионы ходят по стране, — сказал милиционер.
— Знаю, — согласился Чик.
— В том числе и под видом сумасшедших, — сказал милиционер.
— Знаю, — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. — Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.
— Этот номер не пройдет, — сказал милиционер, — я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят… Корова не бодается?
— Нет, — сказал Чик, — она мирная.
— Вот и хорошо, — сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. — Я ее поведу.
…Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть…»
Смех Искандера естествен, как реакция самой жизни на неестественную формальность официоза. Смех вскрывает и убивает фальшь, глупость и самодовольство тех, кто мнил себя наделенным властью над детьми, блаженными и коровами. Но этот смех лишен назидательности, нравоучительства. Если хотите — плутовской смех, веселый обман лжи, надувательство лицемерия. Он уничтожает, утверждая. Этот смех целителен и спасителен, ибо трагические обстоятельства времени столь сильны, что человека без ободряющего присутствия смеха охватили бы отчаяние и безнадежность. Смех побеждает ложь, предательство, даже смерть Смех священен и потому побеждает все застывшее, мертвое, догматическое. В смеховом мире Искандера ощущается животворное влияние народного комизма, связанного с изображением тела и всех его забот: приготовления пищи, ее поглощения, удовольствия, отдыха, купания, обнажения. Героев Искандера словно преследует безмерный аппетит и неутолимая жажда: во дворе бесконечно что-то жарится или варится; тетушка Чика прекращает свое вечное чаепитие, только если оно переходит в кофепитие; в почти райском саду Чика вечно зреют какие-то фрукты (Чика радует сам круговорот поспевающих ягод и фруктов: земляника, вишня, черника, абрикосы, персик, груша, айва, орехи, хурма, каштаны). Это поедающий, плодящийся, растящий детей, радующийся жизни мир, одушевленный бесстрашным и ясным смехом. Это смех, звучащий почти на краю бездны.
Смех против страха.
На оплакивании покойной подруги тетушки Чика сидящую с ним за столом конопатую девочку так и разбирает смех («Чик идет на оплакивание»). За поминальным столом начинается игра и веселье. И взрослые, пришедшие попрощаться с покойной, тоже втягиваются в совершенно не приличествующую событиям атмосферу застольных баек. Развязываются языки, старики вспоминают любовные приключения покойницы — смех у гроба, сама смеющаяся смерть, забывшая о своих прямых обязанностях… Вспоминают они и небезопасные легенды… Начинается праздник. И вместе с ним торжествует освобождающаяся от страха смерти (да и от страха перед жизнью тридцатых годов) стихия раскрепощенной вольности и народного веселья.
4
Мудрость народа состоит не только в том, чтобы победить врага, это не всегда возможно, но — осмеять его. Бригадир Кязым из одноименного рассказа, неграмотный крестьянин (лукавый повествователь замечает, однако, что неграмотный Кязым свободно говорил на пяти языках) дознается-таки, кто украл из колхозной кассы сто тысяч рублей. Кязым остроумно загоняет вора в ловушку, но рассказ был бы не вполне «искандеровским», если бы в финале жена вора не побежала — под общий хохот чегемцев — за милиционером, дабы он вернул полотенце, в которое были завернуты злополучные деньги…
Горное село Чегем — это тот «большой дом», родовое гнездо, из которого вышли и знаменитый дядя Сандро, и Чик, приходящийся ему племянником. Родом отсюда и мать (в лирическом рассказе «Большой день Большого дома»).
Повествование о Чегеме — своего рода национальные мистерии. Это мир вечно становящийся, праздничный, полный жизненных соков. Комическим эпосом исторической народной жизни стал роман «Сандро из Чегема».
Оговорюсь сразу. Искандер при всей любви к своему народу лишен гнетущего и сковывающего пиетета по отношению к национальному характеру. Писатель не только не боится комизма в изображении своего героя или истории народа — он опирается на него. Смешное и трагическое, веселое и драматическое существуют слитно В дяде Сандро уживаются и герой, и плут, и защитник чести, и обманщик, и бездельник, и праздничный «Великий Тамада», и труженик, и по-восточному горделивый глупец (выглядит так, словно держит на привязи не обычную корову, а зубробизона), и хитрец («Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался»), и истинный сын своего народа (первый пришел к высокому должностному лицу с предложением вернуть древние абхазские названия рекам и горам). Прозаик словно спаял в нем противоречивые черты национального характера — он и бесстрашный рыцарь, получающий пулю за прекрасную княгиню (которая, кстати, отлично справляется с дойкой коров); и крестьянин, в поте лица своего обрабатывающий землю; и танцор, выступающий в знаменитом ансамбле Паты Патарая; и мудрец, стремящийся спасти свой народ от братоубийственной войны. Дядя Сандро стар (ему «почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком») и вечно молод.
Авторская интонация по отношению к дяде Сандро богата оттенками: от осмеяния до восхищения, любования «его величественной и несколько оперной фигурой, как бы иронически осознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни». Роман Искандера строится как система новелл, объединенных героем (хотя и не во всех новеллах он является главным действующим лицом — иногда словно отходит в тень, на периферию повествования).
Трагикомически транспонируется в романе история. «В те далекие времена, — эпически повествуется в романе, — носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю». Народ не только смеясь расстается со своим прошлым — смеясь, он воссоздает свою историю. Так комически-серьезно рассказано о принце Ольденбургском, «просветителе» абхазского народа, благодаря которому «цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда и натыкалась на неожиданные препятствия».
Искандер гротескно рисует портрет отменной глупости, застывшей в своем высокомерии («Дикарь, а как свободно держится», — думает принц снисходительно о дяде Сандро), не подозревающей — в силу глупости — о точной оценке, которая естественно складывается в народе. В отличие от лукавого хитреца Сандро, готового при случае вместе со всеми посмеяться над самим собой, принц Ольденбургский надут и титанически серьезен по отношению к самому себе, а потому и окончательно смешон: «Принц Ольденбургский, задумавшись, стоял над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря». Явная пародия. Но глубоко пародиен и весь роман, только пародия присутствует здесь не как разрушение, отрицание жанра, нет — как возрождение его через воскрешающую смеховую стихию.
На глазах дяди Сандро, гостившего у своего друга в селе Анхара в первые майские дни 1918 года, «история сдвинулась с места и не вполне уверенно покатилась по черноморскому шоссе». «История сдвинулась с места» — общий языковой штамп, в силу своей стертости не задевающий нашего сознания. Но история, которая, сдвинувшись, «покатилась» именно «по черноморскому шоссе», да еще и «не совсем уверенно» — это уже осмеяние штампа и переосмысление слова. На «атомарном» уровне языка действует принцип, характерный для смеха Искандера вообще — завоевывать, осмеивая. Ведь история-таки выросла в Историю — несмотря на то что вначале «покатилась по черноморскому шоссе».
«Битва на Кодоре» (так называется эта глава) кончается трагически — гибнет сын несчастного Кунты, не чуявшего, чем закончится «история». То, что казалось забавным, почти потешным, оборачивается кровью. Думалось, что обойдет, минует — «в тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и когда до вечера оставалось два-три часа, жители Анхары решились выпустить на выгон проголодавшийся скот», но нет, не минуло, не обошло. Остаться сторонним наблюдателем «истории» (Сандро рассматривает все происходящее в подаренный принцем Ольденбургским цейсовский бинокль), не присоединяться, не участвовать? Сандро ведь не разбирается ни в политике, ни тем более в ее оттенках… Так и не стал он «героем» битвы на Кодоре, хотя и ездил ночью к большевикам, чтобы объяснить им, откуда лучше стрелять. Положение крестьянина — дяди Сандро — поистине драматично: он думает о скоте (напоен ли, накормлен), об урожае, о земле — но история втягивает его в свой водоворот и лишь от случая зависит, пойдет он с меньшевиками или большевиками.
Так, оказавшись в доме богатого армянина, Сандро сначала пытается защитить его от налета меньшевиков — но потому лишь, что он, Сандро, гость и должен — по кодексу чести — защищать хозяина. Более того: он отрицательно относится к меньшевизму, ибо считает, что «все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевиков, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске». Но когда дядя Сандро убеждается, что сопротивление вряд ли увенчается успехом, он усаживается за стол хозяина вместе с меньшевиками, и все сообща пьют вино и доедают барана, поднимая тосты «за счастливую старость хозяина, за будущее его детей», что не мешает меньшевикам, уходя, забрать трех хозяйских быков, а Сандро вслед за ними — и последнего — не оставлять же его в одиночестве…
Роман о Сандро из Чегема, как и цикл рассказов о Чике, из которого выросла повесть «Старый дом под кипарисом», принципиально не замкнут, открыт, готов к росту, к саморазвитию. В сущности, повествование о Сандро можно продолжать бесконечно — и герой, и композиция романа практически неисчерпаемы. Жизнеутверждающая авторская идея заключена в свободе, с какой движется сюжет. Да и сюжет ли это? Повествование о Сандро не имеет ни завязки, ни развязки — оно может двигаться снова с любой точки, обозначенной в жизни героя. Поэтому дядя Сандро еще и в этом смысле герой народный, ибо он бессмертен. Тем более, если мы уже побывали на его «псевдопоминках» — на пире в честь его неожиданного выздоровления…
5
«Чтобы овладеть хорошим юмором, — заметил писатель в рассказе «Начало», — надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором». То, что Искандер называет «хорошим юмором», не просто подтрунивание над героем или обнаружение смешных и нелепых черт в той или иной ситуации, не «приправа», добавленная к сюжету. Автор не только смеется над героем, но и бесконечно любит его, любуется им. В самом деле, ну разве не хорош дядя Сандро — и как Великий Тамада, без которого не может состояться ни одно застолье, и как замечательный рыцарь и любовник, без которого не может жить прекрасная княгиня-сванка, и как настоящий друг, перелетающий верхом на лошади через стол, где проигрывается в пух и прах известных табачник Костя Зархиди? Вместе с тем все эти подвиги и деяния являются лжеподвигамн и лжедеяниями; ибо уехавший князь доверил дяде Сандро честь сванки, а проявлять мужество в прыжках над карточным столом — занятие ли это для подлинного героя? При этом надо учесть происхождение комических историй — ведь все они, как утверждает повествователь, рассказаны самим дядей Сандро. Поэтому и героизм, и комизм вступают в сложное соединение, которое можно назвать комической героикой.
Не только сам дядя Сандро, но и его родные и близкие наделены богатырской мощью. Дочери тети Маши, соседки Сандро по Чегему, «юные великанши», лежа на козьих шкурах, образуют «огнедышащий заслон»: «Если присмотреться к любой из них, то можно было заметить легкое марево, струящееся над ними и особенно заметное в тени». Для того, чтобы окончательно подтвердить реальность юных великанш, повествователь отмечает, что «собака их, зимой спавшая под домом, выбирала место для сна прямо под комнатой, где спали девушки. По мнению чегемцев, они настолько прогревали пол, что собака под домом чувствовала тепло, излучаемое могучим кровообращением девиц». Торжествуют цветение, роскошь телесного — будь то могучие юные великанши или волоокая, по-южному томная, великолепная красавица Даша, чья рука, лениво свешивается с балкона, как цветущая гроздь, или сам дядя Сандро с его подчеркнутой физической красотой, или прекрасная княгиня-сванка. Если любимая дочь дяди Сандро, красавица и лучшая на свете низальщица листьев табака Тали рожает, так обязательно двойню. Для Искандера не существует отдельно «духовности» и отдельно «телесности» — радость здорового чувства, как тяга, возникающая между Багратом и Тали, естественна и потому законна по высшим законам природы, и они не могут ей не подчиниться, несмотря на негодование и запрет родни. А кедр, под которым они провели свою первую ночь, считается теперь в Чегеме священным, способствующим деторождению, плодоносности.
«В шутливой форме, — замечает автор, — чегемцы умели обходить все табу языческого домостроя. Я даже думаю, что бог (или другое не менее ответственное лицо), вводя в жизнь чегемцев суровые языческие обычаи, в сущности применял педагогическую хитрость для развития у своих любимцев (чегемцы в этом не сомневаются) чувства юмора». В этом мире нет места унынию, пессимизму, меланхолии. Мир Чегема — мир деятельный, и смех здесь так же сопровождает труд, как труд сопровождает смех.
Смеховое начало в этой прозе органически соединено с лирическим. Это лирическое начало выражено прямо, через лирического героя-повествователя, от лица которого были написаны многие рассказы о детстве. Искандер всегда сопротивлялся роли юмориста-развлекателя, от которого публика вечно требует чего-нибудь веселенького. Легче всего было бы закрепиться в этой роли в сознании читателя, поддаться «социальному заказу» на эдакий среднекавказский анекдот — с набором обязательных хохм, приключений, ситуаций и благополучно ехать на таком коньке до окончания дней своих.
Что может быть, скажем, забавнее, чем анекдотический рассказ про сумасшедшего, но вполне безобидного дядюшку, которого вечно поддразнивает юный племянник? Про дядюшку, любимым лакомством которого является лимонад с двойным сиропом?
Распевающего свои песенки без слов, называющего и кошек, и собак одним словом «собака», и радостно кричащим им — «брысь»? Дядюшку, безнадежно влюбленного в самую некрасивую женщину двора? Дядюшку, который восторженно принимал фотографию всем известного лица в газете или памятник ему же в сквере за изображение самого себя? Дядюшку, которого племянник-пионер, отравленный книгами о майоре Пронине, какое-то время считал диверсантом? «Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения».
В этот только на самый поверхностный взгляд могущий показаться юмористическим рассказ, при чтении, которого, однако, вы не можете удержаться и от смеха, и от размышлений о времени конца 30-х годов, Искандер вложил всю силу лирического чувства. От самых смешных и нелепых ситуаций он резко переходит к судьбе и оценке своего нелепого героя, который оставался человеком, — а это, по шкале Искандера, самое ценное и великое.
Смех Искандера не направлен «сверху вниз», от автора или лирического повествования — к герою. Он «работает» на всех уровнях: направлен даже на само авторское «я». Дядя Сандро посмеивается над богатым армянином, который дрожит над своим добром. Но и армянин, несмотря на все свои потери, смеется над важничающим дядей Сандро. Молодой повествователь, познакомившийся с дядей Сандро, прячет в углах губ усмешку по поводу того, что старик требует новые галоши, дабы не ударить в грязь лицом перед газетчиком. Но ведь и дядя Сандро не скрывает своей насмешливости по отношению к повествователю, владеющему лишь чернилами в собственной ручке. Читатель смеется и над дядей Сандро, и над рассказчиком, но ведь и они смеются над читателем, принимающим эти приключения за чистую монету.
Большинство глав романа либо повествуют о пире, либо рассказаны на празднике, на пиру, либо завершаются праздником. Богатый армянин вынужден устроить застолье, перерастающее в пир, на котором грабители соревнуются в тостах с защитником Сандро. Дядя Сандро, устраивая ужин для рассказчика, сам собирается на свадьбу («Дядя Сандро у себя дома»). Помощник лесника устраивает походный пир прямо на крышке радиатора («Хранитель гор»). Когда смертельно больной дядя Сандро чувствует себя чуть получше, устраивается большой пир, а постель больного перетаскивается к пирующим («Дядя Сандро и его любимец»). Наконец, во время соревнования-праздника за честь лучшей низальщицы листьев табака «умыкают» Тали («Тали — чудо Чегема»). Новеллы, составляющие роман, по характеру и тону близки веселой народной дьяблерии — недаром и красавицу Дашу называют «дьволос», да и смеющаяся Тали с гитарой, сидящая на яблоне, уподоблена колдунье, завораживающей путников. Веселая праздничность жизни смеется над смертью, над болезнью, побеждая и укрощая их, недаром веселье у постели больного укрепляет его дух и поднимает в конце концов на ноги. А сны, которые видит тетя Катя, «свежие, как только что разрытая могила»? «Нигде не услышишь столько веселых или даже пряных рассказов о всякой всячине», как на поминках, утверждает автор, «вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит». Непринужденной атмосферой поминального праздника, оказывается, «довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается».
Один из самых блестящих рассказов Искандера, написанных в лучших традициях народной смеховой культуры, — «Колчерукий». История о том, как Колчерукому еще при жизни выкопали могилу, за которой он любовно присматривал, пересекается историей из его молодости — Шаабан Ларба стал Колчеруким, получив пулю от князя за острый язык, опять-таки за насмешку над его козлиными любовными «подвигами».
Колчерукий обманул свою смерть. После звонка из больницы о мнимой кончине за его телом прислали из колхоза машину, а родственники по обычаю привели всякую живность для поминальной тризны. Колчерукий же с комфортом вернулся на собственные похороны, а гостинцы пришлись по вкусу «покойничку», устроившему по случаю своего воскрешения угощение. Он пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в «полной готовности», и сажает около нее персиковые деревья, и даже успевает — до своей истинной смерти — собрать урожай. Смерть соотнесена с рождением, могила — с плодородием жизни. Не отдает Колчерукий родственнику и телку, приведенную на несостоявшиеся поминки, «Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка, чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин». Колчерукий переживает и наскоки грустного родственника, и анонимный донос, пришедший в связи с тем, что он посадил на своей могиле тунговое деревце (это растение насаждалось тогда в Абхазии, навязывалось колхозам, несмотря на то, что плоды его были ядовитыми, — вечная тяга к козлотуризации). Однако приходит все-таки смерть и к Колчерукому, но и тогда он разыгрывает последнюю, уже загробную, шутку, заставляя все село на похоронах громко смеяться над лошадником Мустафой.
Бессмертен герой, способный посмеяться из-за гробовой доски, побеждающий смерть жизнью своего духа; бессмертен и народ, рождающий такого героя и весело смеющийся на его похоронах: «Когда умирает старый человек, в наших краях поминки и проходят оживленно Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой».
6
Установка на слово произнесенное принципиальна для Искандера. И рассказы о Чике, и новеллы о дяде Сандро сохраняют свежесть устного слова, ориентированного на доброжелательного слушателя «Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных». На равных с читателем, то бишь со слушателем. Позиция собеседника, рассказчика, не подавляющего своими знаниями, а спокойно делящегося своими наблюдениями и историями.
За очарованием ранних рассказов серьезной мысли вроде бы не ощущалось. Как правило, это был рассказ-шутка, рассказ с забавным сюжетом. В «Письме» речь шла о том, как еще в школе повествователь получил от девочки письмо с признанием в любви, о его внезапно вспыхнувшем чувстве, о ее «коварстве» и в конечном счете равнодушии к бывшему предмету своего увлечения. В рассказе «Моя милиция меня бережет» поведана комическая история об обмене одинаковыми чемоданами — один из «вечных», банальных сюжетов юмористики. «Лов форели в верховьях Кодора» — рассказ о приключениях студента в походе, о рыбной ловле. «Англичанин с женой и ребенком» — о том, как забавен восторженный иностранец, не понимающий особенностей нашего образа жизни, и как комичны в своей серьезности ребята, окружившие его своей заботой.
За внешней забавностью и искандеровскими «шуточками» таилась глубокая, трагическая мысль И даже тогда интонация Искандера сохраняется. Так, в рассказе «Летним днем» действие происходит в одном из приморских кафе, и повествователь, беседующий с немцем из ФРГ, «боковым» слухом слышит умопомрачительно смешную беседу местного пенсионера («чесучового») с курортницей о литературе — беседу, достойную саму по себе отдельной новеллы.
Немец рассказывает историю о том, как его вербовали в гестапо. Речь немца (рассказ в рассказе, излюбленная искандеровская композиция) постоянно перебивается ручейком диалога пенсионера с курортницей, и рассказ — по контрасту — обретает неожиданную объемность. «В наших условиях, — говорит рассказчик, — условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно». Человеческая порядочность — единственное, что помогает выстоять и в конце концов даже победить в условиях тоталитарного режима, в окружении «ловцов душ».
В этом рассказе разговор о нравственности человека, о том, предоставлен ли ему выбор и каков этот выбор, о моральной стойкости и внутренней независимости ведется открыто. Но этот рассказ высвечивает собою и другое, казавшееся по первому чтению столь непритязательно-забавным, — в каждом из них Искандер отстаивает опорные ценности человеческого поведения, порядочность, мужество, стойкость, способность к милосердию и состраданию, стремление прийти на помощь к ближнему своему. За «болтовней», за «поговорим просто так», за игрой ума (скажем, за историей о поступлении молодого повествователя-медалиста в библиотечный институт) скрывается, например, и полная боли мысль об оскорблении личности «разнарядкой».
Рассказы, повести, роман Искандера образуют несомненное единство. Повествование от первого лица сменяется объективным повествованием, однако и топография, и детали, и герои детства остаются теми же самыми: мухусский дворик, чегемский дом. Маленькая «вселенная» Искандера практически неисчерпаема, ибо история каждого и каждой семьи уходит в глубь времени, и там у каждого есть своя драма; с другой стороны, подрастают дети, а детские взаимоотношения, их открытия тоже бесконечны. Искандер продолжает разрабатывать свой мир, над которым, как мы помним, еще в начале его пути засверкало неведомое ранее созвездие козлотура.
Да, мир Искандера растет и ширится, и каждый второстепенный герой в конце концов обретает свою судьбу, свою историю. И в этой особенности прозы Искандера, казалось бы, чисто формальной, заложен высокий смысл — право личности на свою судьбу. Жизнь — и ее создатель, демиург, роль которого в данном случае исполняет Искандер — дает личности высокое право на самоопределение, а там уж посмотрим, кто как этим правом распорядится… Собаколов выбрал свой путь — ловить собак, а, скажем, независимый и свободолюбивый, острый на язык Колчерукий — свой. Герои наделены равными возможностями человеческого осуществления — или неосуществления Так светло, как прожил свою жизнь несчастный сумасшедший дядюшка Чика, Богатый Портной, озабоченный прежде всего материальными проблемами, прожить не сможет.
Что «хорошо», а что «плохо» в поведении человека, что нравственно, а что нет, определяет торжествующая в рассказах народная этика. Герой рассказа «Запретный плод» доносит родителям на родную сестру, которая, оказывается, в нарушение мусульманского запрета съела кусочек свиного сала. Ошеломленный тем, что его героический порыв не понят, юный доносчик потрясен выражением брезгливой ненависти, появившейся на лице отца. Но урок не прошел даром. «Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась».
Возникает вопрос: не повторяется ли Искандер в своих рассказах? «Опять про Чика» — я сама не раз слышала такие раздраженные постоянством привязанности автора к своему герою мнения «профессионалов». Должна сразу признаться, что не разделяю этих опасений и этого раздражения. Хотя не однажды, а несколько раз писатель осуществлял попытку вырваться за пределы своего опыта, своей манеры. В повести «Морской скорпион», написанной в традициях сюжетной беллетристики, например.
Рассказы Искандера «Чегемская Кармен», «Бармен Адгур» показали новый поворот его творчества. Герои этих рассказов — тоже бывшие чегемцы, молодые обитатели Мухуса Однако сколь изменились и сами мухусцы, и жизнь в городе! Прежняя родовая сплоченность, взаимопомощь сменились порочной спайкой уголовного мира с местной властью Патриархальность вытеснена пропитавшей общество мафиозностью, в которой легко ориентируются головокружительно «свободные» (а на самом деле — повязанные по рукам и ногам) герои.
Это и Зейнаб, чегемская Кармен, лихо меняющая возлюбленных. Красавица-абхазка не прочь и шампанское распить с незнакомым мужчиной, и наркотиками побаловаться. Особый романтический шик придает ей — в ее же глазах — связь с «честным» бандитом, живущим по лозунгу «грабь награбленное». И отец, не выдержавший ее приключений, убивает дочь — прямо перед родовым домом в Чегеме…
Это и бармен Адгур, не расстающийся с парабеллумом, как должное воспринимающий не только ежедневные перестрелки, бандитизм, поднадоевшие ограбления, но и то, что подкуплена милиция, адвокатура, врачи в больнице, которые делают или не делают операцию в зависимости от указаний главаря.
«Неофициальная» жизнь Мухуса, запечатленная Искандером, совсем иная, чем неофициальная жизнь послевоенного дворика. Знаменитый искандеровский смех резко меняется. Юмор окрашивается в мрачные тона, сменяется черным сарказмом; теплая улыбка, свойственная ранее интонации рассказчика, постепенно застывает от горечи правды, о которой поведано столь откровенно и с такой болью. Мы не обнаружим здесь прямых выплесков авторского гнева. Не найдем открытой публицистичности и бичевания пороков, низко павших нравов, а также откровенных картин торжества «бриллиантовой» жизни. Искандер остается Искандером — прежде всего художником. Но гротеск его меняется — становится трагическим. Свой мир превратился в чужой мир. Кругом та же красота Черноморского побережья, цветущие олеандры, уютные кофейни, но все это теперь представляется лишь декорацией.
Теперь торжествует геройство совсем иного рода — не ради спасения, защиты человека, не ради утверждения великих ценностей, справедливости, совести, — нет, ради защиты своих денежных интересов. Прежние богатыри вытеснены в уважительном сознании массы «богатыми богатырями».
«Наш род», «наша семья», «клянусь мамой», «клянусь своими детьми» — это лишь обесцвеченные и обесцененные знаки, скелеты тех великих смыслов, которые когда-то эти слова обозначали. Все обесценено и обесчещено: и жизнь, и смерть, и продолжение рода, и семейные связи. Содержание умерло, остался ритуал, а его исполнение выглядит фальшиво-напыщенным («Сейчас какое настроение пить, когда в Чегеме бабушка лежит мертвая…»). Да если уж совсем по правде, то и ритуала не осталось; чегемская Зейнаб способна сегодня позволить своему ухажеру размозжить голову родной бабушке, случайно заставшей на любовном свидании пятнадцатилетнюю внучку.
7
Распад человечности, забвение веками складывавшейся народной этики, гибель и разрушение рода, равнодушие людей к будущему народа — вот о чем жестко и нелицеприятно пишет Искандер.
Но его социальность отнюдь не в ущерб художественности. Вот, скажем, он исследует корни подчинения, холопской, рабской зависимости «кроликов» от гипнотизирующих их «удавов» («Кролики и удавы»). Если в этой конформистской среде неожиданно появляется свободолюбивый кролик, чьей смелости хватает на то, чтобы, уже будучи проглоченным, упереться в животе — то об этом «бешеном кролике» пятьдесят лет потрясенные удавы будут рассказывать легенды…
Однако на самом-то деле и кролики, и удавы стоят друг друга. Их странный симбиоз, главным законом которого является закон беспрекословного проглатывания, основан на воровстве, пропитан ложью, социальной демагогией, пустым фразерством, постоянно подновляемыми лозунгами (вроде главного лозунга о будущей Цветной Капусте, которая когда-нибудь украсит стол каждого кролика!). Это — сообщество скрепленных взаимным рабством покорных холопов и развращенных хозяев. Хозяева ведь тоже скованы страхом — попробуй, скажем, удав не приподнять — в знак верности головы во время исполнения боевого гимна… Немедленно лишат жизни как изменника!
В «Кроликах и удавах» смех Искандера приобретает грустную, если не мрачную, окраску. Заканчивая эту столь удивительную и вместе с тем столь поучительную историю, автор замечает: «…я предпочитаю слушателя, несколько помрачневшего. Мне кажется, что для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь». Искандер смотрит на реальность трезво, без иллюзий, открыто говоря о том, что, пока кролики раздираемы внутренними противоречиями (а удавам только этого и надо), они будут покорно идти на убой.
И в то же время философская эта сказка удивительно смешна в каждой своей детали. Например, вдруг — из нутра удава — стал дерзить Великому Питону проглоченный кролик. И Великий Питон обобщает: «Удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен…» Искандер головокружительно свободно пародирует социальную демагогию. Освобождением от ее догм и оков и звучит раскрепощающий смех автора.
Но на что же надеяться в этом мире, если он состоит из удавов, кроликов и обворованных тупых туземцев, если судить по искандеровской сказке? «Очеловечивание человека» — так определяет сам писатель задачу литературы. Он не оставляет у читателя ощущения безнадежности и пессимизма Вспомним «Утраты» — рассказ, повествующий о смерти сестры писателя-сатирика Зенона. Узнав о ее внезапной кончине, Зенон летит из Москвы на родину — и как много хорошего узнает он о людях, которые бескорыстно помогали обреченной больной. Что объединяло всех этих людей — разных национальностей, разных профессий — в этом порыве милосердия? «Цель человечества — хороший человек, — формулирует Искандер, — и никакой другой цели нет и быть не может».
В последние годы Искандер предоставляет нам и «выжимки» из своих наблюдений — афоризмы, в которых ирония и сарказм сплавлены с грустью наблюдаемого вокруг. Например, такой афоризм, заставляющий задуматься: «Ум без нравственности неразумен, но нравственность разумна и без ума». Искандер печалится о природе человека, позволяющей ему не только подниматься, но и деградировать. Он не принимает и не понимает жизни без ответственности, в том числе — и в литературе. Слово, по Искандеру, несет послание человеку — иначе оно перестает быть необходимым, и человек, то есть читатель, вправе разорвать свой договор со словесностью — договор о взаимности. И перестать читать.
Стремительное исчезновение с карты мира «1/6 суши земного шара», как называли СССР, геополитический разрыв с ближним кругом по швам так называемых советских республик были равны по своим болезненным последствиям не то чтобы катастрофе «Титаника», а исчезновению целой Атлантиды.
Исчезла и искандеровская Йокнапатофа, исчезли его Мухус и Чегем, исчезли насильственно насаждаемые «кумхозы», но умерли, превратились в совсем других людей и его герои. Исчезла набережная, исчез ресторан «Амра», неспешные разговоры за чашечкой турецкого кофе — вместе со всем ненавистным исчезло то, что можно назвать образом жизни. Шок исторический, который пережил и переживает его народ, не мог не стать шоком для писателя, раем которого была его земля. Исчез реальный мир — теперь он существует только как мир искандеровский, художественный, мир, созданный писателем.
Но Искандер не замолчал, хотя и это молчание было бы воспринято читателями с пониманием тяжелейшего исторического момента, переживаемого писателем вместе с крушением его мира. Крушением противоречивым, ибо одновременно уничтожалось и зловещее, и прекрасное в этом мире.
Искандер не замолчал, а продолжал работать. И тут, в этот исторический период, уложившийся в несколько непростых лет, мы все стали свидетелями рождения еще одной грани его дарования. Голос открытый, голос, не отягощенный необходимостью «эзопова языка», прямой голос автора комментировал ситуацию с новой силой. Более того, и чисто художественные тексты подтверждали, что мощь его таланта способна преодолевать законы тяготения, что его фантастический «прыжок» парит и в пространстве без опоры. Не скрою, иные из бывших поклонников блестящего дара морщились — зачем ему эта прямая речь, зачем политика, зачем, все это унижает художника, искусство должно быть вне… Вот и художество становится — от влияния политических инъекций — аморфнее и скучнее…
Искандер поспешает не торопясь. Он умеет выдерживать паузу, не затягивая ее. Его мир (а сделанного им, казалось бы, уже достаточно — его мир, в отличие от реального, неистребим) обрастает новыми мирами, где эстетически прекрасное соседствует с этически безусловным. «Добро первично, и потому роза красивая», — сказал искандеровский поэт. И еще он сказал: «Главный признак провинциализма в литературе — стремление быть модным».
Искандер не может быть модным или немодным автором. Не может он и создать моду, потому что неподражаем. Его нельзя приблизить к власти — он сам по себе власть. И поэтому же критика власти неотделима у Искандера от критики человека.
Что же касается власти (властей и их представителей), то не они могут включить Искандера в свой мир (или исключить его из этого мира), а он, именно он дарит им свое искандеровское бессмертие. Они становятся его персонажами: и Большеусый, и Тот, который хотел хорошего, но не успел; и тот, кто останется навсегда в памяти кукурузно-козлотурским афоризмом «Интересное начинание, между прочим». В повести «Поэт», в самом конце, появляется и Ельцин — Искандер не смог пройти мимо столь колоритного персонажа, запечатленного теперь искандеровской фразой «На ловца и зверь бежит». Все они включены в искандеровское многоголосие, где живые разговаривают с мертвыми, а реальные фигуры спорят с вымышленными героями. Хотя на самом-то деле, думаю, Сандро из Чегема будет и впредь живее тех, кто полагает себя реальными действующими лицами.
Свобода по отношению к обществу и власти гарантирует у Искандера свободу по отношению к человеку. Поэтому мир Искандера объемен и стереоскопичен. Казалось бы, все так просто! Но очень трудно и больно: «Настоящий поэт — это человек, который выхватывает из костра горящий уголек и пишет им ясным почерком».
Только так.
Искандер своей литературой компенсировал нам унылость проживания жизни. Он как бы говорил и говорит всем нам: не впадайте в тоску, жизнь удивительно богата на краски, на неожиданные, авантюрные повороты! Сейчас я вам покажу, на что она способна! Сам удивляюсь! Еще не вечер, господа, совсем еще не вечер!
Такой взбадривающий, антидепрессивный укол.
И, главное, лекарство, которое выписывает нам Искандер, — продолжительного действия.
Попробуйте сами.
Наталья Иванова
Библиография[1]
1953
Первый арбуз («Над степью висит раскаленное солнце…»). — В кн.: Молодая гвардия: Альманах. — М, 1953 — Вып. 8. — С. 242–243.
1954
Мне право дано: («…Что б я ни делал…») // Брян. комсомолец. — 1954. — 16 сент.
Старый танк («Я видел танк в лесу. Разбитой головой…»); Первый арбуз («Над степью висит раскаленное солнце…») // Край родной. — Брянск. — 1954. — Кн. 3. — С. 168–169.
1955
Закавказская осень: У огня («Дай бог такой вам осени, друзья!..»); Сыр («В полдень пришли пастухи в шалаш…»); Старик («Устало сбросив мотыгу с плеча…»); Пограничная ночь («Как распахивают жаркую рубашку…»); Утро («Я шел рассветом вдоль межи…») // Мол. гвардия. — 1955. — 2. — С. 145–149.
Медведь («В пяти верстах от сельсовета…») / Рис. П. Караченцова. // Пионер. — 1955. — №9–10. — С. 59.
1956
Кавказская осень («Всегда такой вам осени, друзья!..»); Пастух («Вот человек сидит на камне…»); Буйволы («Буйволы по берегу крутому…»); Испытание самолета («Почти над самой головой…»); Туристы («Я с теми согласен, не споря…») // Лит. Абхазия. — 1956. -№ 1. — С. 112–117.
Баллада о мальчике, который спас Спартака («Давным-давно уснул весь дом…») / Рис. В. Цельмера // Пионер. — 1956. — № 2. — С. 49–50.
Испытание самолета («Почти над самой головой…»); Буйволы («Буйволы по берегу крутому…») // Сов. Абхазия. — 1956. — 11 марта.
Буйволы («Буйволы по берегу крутому…») / Рис. В. Трофимова // Пионер. — 1956. — № 7. — С. 62.
Первое дело: Рассказ / Рис. Б. Винокурова // Пионер. — 1956. — №11. — С. 41–46.
1957
Горные тропы: Стихи. — Сухуми: Абгиз, 1957. — 124 с.
Сыр («В полдень пришли пастухи в шалаш…»); Дождь («Был душный вечер в Ботаническом…»); Незнакомый полустанок («Белым паром в небо темно-синее…») //Лит. Абхазия. — 1957. — №2. — С. 157–159.
На пляже («Кисть винограда в плотной кисти…») // Сов. Абхазия. — 1957 — 25 авг.
Утро («Я шел рассветом вдоль межи…»); Первый арбуз («Над степью висит раскаленное солнце…») / Рис. А. Петрова // Пионер. — 1957. — №11. — С. 30.
1958
Солнце («Говорят, на солнце пятно где-то…») // Сов. Абхазия. — 1958. — 25 мая.
Весна («Еще пыльцой цветочной не пыля…»); Конец сезона («Конец купального сезона…») // Лит. Абхазия. — 1958. — № 3. — С. 123–125.
Седина («Я знаю, молодость вторую не подаришь…») // Лит. Грузия. — 1958. — № 4. — С. 88.
Пропагандист («Приметы тех далеких дней…») // Новый мир. — 1958. — № 9. — С. 145–146.
1959
Доброта земли: Кн. стихов. — Сухуми: Абгиз, 1959. — 112 с.
Спутник над полевым станом («Готовясь к ужину у будочки рябой…») // Сов. Абхазия. — 1959. — 4 янв.
Баллада о рыбном промысле («Ровно в четыре часа поутру, ровно в четыре часа…») / Рис. Н. Цейтлина // Пионер. — 1959. — № 4. — С. 18–19.
Кукуруза («Предвидела ли, кукуруза…») // Сов. Абхазия. — 1959. — 14 июня.
Цыганок («На случай, на пожар, на драку…») // Сов Абхазия. — 1959. — 13 сент.
Баллада о рыбном промысле («Ровно в четыре часа поутру, ровно в четыре часа…») // Лит. газ. — 1959. — 10 окт. — С. 3.
Соль («Я знаю соль… Я понял соли цену…»); Родник («Родник в орешнике дремучем…»); «Хочу я в горы…» / [С предисл. Г. Гулиа «Стихи Фазиля Искандера»] //Лит. газ. — 1959. — 12 дек. — С. 3, портр.
1960
Зеленый дождь: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1960. — 98 с.
Ежевика («С урочищем зеленым споря…») // Сов. Абхазия. — 1960. — 19 июня.
Гимн детям («Эй, барабанщики-банщики!.»); Космическая баллада («Когда я увидел в газете…») // Лит. газ. — 1960. — 10 дек. — С. 2.
1961
Дети Черноморья: [Стихи и поэмы] — Сухуми, 1961. — 146 с. Два стихотворения В Сванетии («Никогда не позабуду…»), Хашная («В рассветный час люблю хашную…») // Новый мир — 1961 — №1. — С. 155–157.
Октябрь («Смеясь от злости и от стужи…») //Лит. газ. — 1961. — 22 апр. — С. 1,
1962
Гранат («Гранат — некоронованный король…») // Лит. Грузия. — 1962. — № 12. —С. 65.
Два рассказа: 1. Рассказ о море; 2. Петух [С крат, биогр. заметкой] / Ил.: М. Стриженов // Юность. — 1962. — № 10. — С. 69–75, портр.
1963
Кувшины («Сквозь листья по струе луча…») // Лит. газ. — 1963. — 9 февр. — С. 3.
Мода («Скажите, что такое мода?.»); Германия 1933 года («Орало радио на площадях…»); В давильне («В давильне давят виноград…»); Гранат («Гранат — некоронованной король…») // Юность. — 1963. — № 4. — С. 93–94, портр.
Ожидание («Возвращается судно…»); Орлиный язык («Глубокий вздох на перевале…»); Баллада о старом посохе («Век мчит на крыльях и колесах…») // Мол. гвардия. — 1963. — № 4. — С. 186–190, портр. худож. «Д. П.».
Да здравствует любовь! («Весна. Ангарск. Капель…») // Лит. газ. — 1963. — 1 мая. — С. 3.
Звездная сестра («Мир, новой вестью потрясенный…») [О В. Терешковой] // Юность. — 1963. — № 7. — С. 3.
Баллада о зависти («Ложится к ногам пепелищем и дружба и дружеский кров…») // Юность. — 1963. — № 9, портр.
Баллада об отречении Джордано («Отрекаюсь, господи Исусе…») // Наука и религия. — 1963. — № 9. — С. 55.
Зеленые штаны («Штаны собака разодрала…»); Фламинго («В зоопарке, узнал я, не в школе…») / Рис. Ю. Кискачи // Пионер. — 1963. - № 9. — С. 46–47.
Детский сад: [Рассказ] / Рис. В. Чижикова // Неделя. — 1963. — 1–7 сент. — С. 20–21. — (На конкурс «Известий»).
Запретный плод: Рассказ / Рис. В. Чижикова // Неделя. — 1963. — 10–16 ноября. — С. 8, 9.
Вечерняя дорога: Рассказ / Рис. Л. Коростышевского // Костер. — 1963. — №12. — С. 24–32.
1964
Молодость моря: [Стихи / Худож. В. Савостьянов]. — М.: Мол. гвардия, 1964. — 111 с.
Огонь, вода и медные трубы («Огонь, вода и медные трубы…») // В кн.: День поэзии. 1964. — М., 1964. — С. 53.
Рассказы: Петух; Рассказ о море; Детский сад; Первое дело; Тринадцатый подвиг Геракла; Запретный плод; Должники; Вечерняя дорога // В кн.: Библиотека произведений советских писателей: В 5 т. — М., 1964. — (Прил. к журн. «Сельская молодежь»). — Т. 4. — С. 226–327.
Лошади («За диким пляжем, у сетей…»); Старики («Не умирайте, старики…»); Художники («На морду льва похожая айва…») // Лит. газ. — 1964. — 16 янв. — С. 3.
Весна («За город рвется электричка…»); Утро в Дубне («Шуршанье мокрое гудрона…»); Баллада о «Девочке из саркофага» («Почему из векового мрака…»); Альпийский холод («Альпийский космический холод…»); Зимние игры («Сухого ветра жжение…») // Юность. — 1964. — № 5. — С. 4–5, портр.
Баллада об отречении Джордано Бруно («Отрекаюсь, господи Исусе…») // Знамя юности. — Минск. — 1964. — 31 июля.
Дорога жизни («Не след, отдавленный колесами…»); Человек: Алексею Квициния («Человек на крест поставил крест…») // Сов, Абхазия. — 1964. — 20 сент.
Должники: Рассказ / Рис. В. Витальева // Неделя. — 1964. — 8–14 марта. — С. 4, 5, 22, 23.
Тринадцатый подвиг Геракла: Рассказ / Рис. Г. Новожилова // Сел. молодежь. — 1964. — № 4. — С. 16–19.
Смеется тот, кто смеется: Гл. 8-ая [коллективного романа] // Неделя. — 1964. — 14–20 июня. — С. 11, 16, 17, портр.
Мой дядя самых честных правил…: Рассказ / Ил.: И. Бендель // Неделя. — 1964. — 30 авг. — 5 сент. — С. 22, 23.
Двое в море: Рассказ / Рис В. Юдина // Сел. молодежь — № 11. — С. 9–11.
Урок игры в шахматы: Рассказ / Рис. В Карасева // Неделя — 1964. — 15–21 нояб. — С 7,8.
Рассказ о море / Ил. В. Трушечкин // Моск. комсомолец — 1964. — 25 нояб.
1965
В давильне («В давильне давят виноград…»); «Мне нужен собрат по перу…»; На лежбище котиков («Я видел мир в его первичной сути…»); Германия 1933 года («Орало радио на площадях…») // В кн Юность: Избранное X: 1955–1965 — М, 1965. — С. 651–654.
Дрозд («Над развалиной беседки…»); Впечатление («Послушайте, не говорите: «Бред!..») // В кн: День поэзии, 1965. — М., 1965 — С. 98.
Петух: Рассказ // В кн.: Юность: Избранное. X: 1955–1965 — М., 1965. — С. 200–207.
Рассказ о море / Рис. Дм. Громана и Ан Финогенова // В кн. Вендетта. — [М.], 1965. — С. 5–12.
Черт и пастух: (Абхаз, сказка) («С чертом встретился Джамхух…»); «Мне нужен собрат по перу…: Льву Смирнову»; Баллада об украденном козле («Пока не напьются мои быки…»); Летний лес («Здравствуй, крона вековая до небес!..»); На лежбище котиков («Я видел мир в его первичной сути…») // Юность. — 1965. — № 1. — С. 22–25, портр.
«Эй, барабанщики-банщики…» // Вожатый. — 1965. — № 5. — С. 39. — (Затейник-5).
Hoчной лов рыбы у берегов Камчатки («Семеро в шлюпке — один на руле…»); Змеи («Дымился клей в консервной банке»); На старом базаре («Среди жующих и курящих…»), Ночные курильщики («Мужчины курят по ночам»); Камчатские грязевые ванны («Солнца азиатский диск…») // Юность. — 1965. — № 8. — С. 28–29, портр.
Баллада об охоте и зимнем винограде: Памяти Роуфа («Как ты рванулся, брат мой…») // Новый мир. — 1965. — № 10. — С. 72–73.
Святое озеро. Рассказ / Рис. В. Чижикова // Неделя. — 1965. — 4–10 апр. — С. 8, 9.
Посрамление фальшивомонетчиков: Рассказ / Ил.: В. Чижиков // Неделя. — 1965 — 4–10 июля. — С. 6, 7, 18.
Слово: Рассказ / Рис. Т. Новожилова // Смена. — 1965. — № 15. — С. 8–9.
Мальчик-рыболов: Рассказ / Рис. И. Фрида и В. Вострикова // Сел. молодежь. — 1965. — №10. — С. 20–21.
Урок игры в шахматы: [Рассказ из сб. «Тринадцатый подвиг Геракла», подгот. к печати в изд-ве «Сов. Россия» / Вступ. заметка А Чернова] // Моск. комсомолец. — 1965. — 17 окт.
Под небом Колхиды. Рассказ / Рис. В. Чижикова // Неделя. — 1965 — 5–11 дек — С. 10, 11.
1966
Зори земли. Стихи / [Предисл «Что покажу» А. Туркова; Оформ В. Носкова]. — М: Дет. лит, 1966. — 64 с.
Запретный плод. Рассказы / [Худож. Д. Шимилис]. — М.: Мол. гвардия, 1966. — 256 с., портр — (Молодые писатели).
Тринадцатый подвиг Геракла Рассказы / [Худож К И Невлер]. — М: Сов Россия, 1966. — 137 с, портр.
Баллада о блаженном цветении («То было позднею весной, а, может, ранним летом.») // В кн День поэзии. 1966. — М, 1966. — С. 121–122.
Детство («Какая это благодать…»), Ода апельсину («О апельсин, моя отрада»)//Новый мир — 1966 — № 4 — С 122–123.
Упряжка («Что за выдумка, однако?..»). Хранитель ночного огня («Ночь висит чернеющим взгорьем»), Телефоны («Какую тему ни затрону…») // Юность. — 1966. — №9. — С. 13–14, портр.
Признание друга («Я хочу, чтоб утро утром было»), Командорское письмо («Кто стать не хочет лилипутом…»); «Однажды девочка одна…»; В Ясной Поляне («От тесноты квартир, от пресноты…»); Раньше («Нам говорят: Бывало, раньше…»). [Из новых стихов] / Ил. Г Новожилов // Смена. — 1966 — №11. — С. 26, портр.
Доверие («Одной любовью мерю…»), Молитва за Гретхен («Двадцатилетней, господи, прости…»), Воспоминание о школьном уроке («Я спросил у учителя робко…»); Свидание («Сквозь сутолоку улицы московской…») // Лит газ — 1966 — 4 окт — С. 3. — (Из лирических тетрадей).
Баллада о мальчике («Давным-давно уснул весь дом») // Сел жизнь. — 1966. — 13 нояб.
Баллада о блаженном цветении («То было позднею весной, а, может, ранним летом…») // Неделя — 1966. — 11–17 дек. — С. 6.
Два стихотворения, Завоеватели («Крепость древняя у мыса…»), Сон в горах («В ту ночь мне снился без конца неузнанный мертвец…») // Новый мир — 1966. — №12 — С. 71–73.
Сандро из Чегема; Рассказ / Рис А. Викулина // Неделя. — 1966 — 6–12 февр — С. 22, 23.
Три рассказа. Лошадь дяди Кязыма; Время счастливых находок; Дом в переулке / Ил.: Г Калиновский, В. Юдин // Юность. — 1966 — № 3. — С. 46–63, портр. работы худ. В. Красновского.
Созвездие козлотура: Повесть // Новый мир. — 1966. — № 8. — С. 3–75.
1967
Баллада о блаженном цветении («То было позднею весной, а, может, ранним летом…») //В кн.: Песнь любви: Лирика рус. поэтов. — М., 1967. — С. 558–559.
Моя милиция меня бережет: Рассказ / Рис. Э. Урманче // Неделя. — 1967. — 15–21 янв. — С. 14, 15.
Колчерукий: Рассказ // Новый мир. — 1967. — № 4. — С 101–119.
Сказка о рыбаке и рыбке: Рассказ / Рис.: Л. Ламма // Неделя. — 1967. — 9–15апр. —С. 6, 7.
Англичанин с женой и ребенком: Рассказ / Ил.: Г. Новожилов // Смена. — 1967. — № 6. — С. 26–29.
Как мы путешествовали: Рассказ // Лит. газ. — 1967. — 28 июня. — С. 7.
1968
Дом моего деда («Да пребудут прибыток и сила…»); Разлука («Когда летит на черноморские долины…»); «Сирень и молнии и пригород Москвы…» // В кн.: День поэзии. 1968. — М., 1968. — С. 49–50.
Два стихотворения: Высота («В необозримой красоте…»); Древняя легенда («Христос предвидел, что предаст Иуда…») // Новый мир. — 1968. — №11. — С. 116–118.
Не все так просто…: Рассказ / [С вступит, библиогр. заметкой; Ил.: Г. Новожилов] // Смена. — 1968. — № 6. — С. 24–27.
Дедушка: Рассказ // Новый мир. — 1968. — № 7. — С. 62–79.
1969
Летний лес: [Стихи / Худож.: А. И. Гольдман, В. В. Локшин]. — М.: Сов. писатель, 1969. — 102 с.
Стыковка («Сквозь полосы и пятна водяные…») // Лит. газ. — 1969. — 22 янв. — С. 2.
Три рассказа: Лов форели в верховьях Кодора; Письмо; Летним днем // Новый мир. — 1969. — № 5. — С. 3–48.
Дядя Сандро у себя дома: Рассказ / Рис. А. Брусиловского // Сел. молодежь. — 1969. — № 6. — С. 28–30.
Портной и фининспектор: (Из цикла «Были и небылицы нашего города») // Труд. — 1969. — 31 авг.
Под сенью эвкалиптов: [Отрывок из нового рассказа] // Смена. — Ленинград. — 1969. — 11 сент.
Встреча в поезде: Рассказ / Рис. В. Бланкмана // Сел. молодежь. — 1969. - №10. — С. 26–30.
Под сенью эвкалиптов: Рассказ / Рис. Г. Новожилова // Смена. — 1969. - № 19. — С. 12–15.
1970
Дерево детства: Рассказы и повесть / [Ил.: Л. Б. Збарский]. — М.: Сов. писатель, 1970. — 368 с.: ил., портр.
Посрамление фальшивомонетчиков: [Рассказ] // В кн.: Одиннадцать рассказов. — М., 1970. — С. 114–137.
Богатый портной и другие: Рассказ (Из цикла «Последнее лето») // Новый мир. — 1970. — № 6. — С. 8–27.
Игроки: [Юморист, рассказ] / Рис. Н. Михайлова // Сел. молодежь. — 1970. — № 10. — С. 22–26.
Случай на дороге: Из цикла «Рассказы давних лет» // Труд. — 1970. — 15 нояб. — (На конкурс «Труда»).
1971
Баллада о блаженном цветении («То было позднею весной, а, может, ранним летом…»); Двое («Потрескивали по ночам цикады…») // В кн.: Песнь любви: Лирика рус. поэтов XIX и XX вв. — 2-е изд. — М., 1971.-Т. 1. — С. 666–668.
«Пора, мой друг!..» // В кн.: День поэзии. 1971. — М., 1971. — С. 126.
Ловля форели в верховьях Кодора: [Рассказ] // В кн.: Рыболов-спортсмен: Альманах. — М., 1971. — [Кн.] 31. — С. 4–21.
Кофейня («Нет, не ради славословий…»); «Идолы убожеств…»; «Глухонемая девочка соседа…» // Юность. — 1971. — № 7. — С. 63, портр.
Дядя Сандро и черный лебедь: Рассказ / Рис. Г. Новожилова // Неделя. — 1971. — 19–25 июля. — С. 8, 9.
День Чика: Повесть / Ил.: К. Соколов // Юность. — 1971. — № 10. — С. 18–48, портр.
Путь из варяг в греки: Юморист, рассказ / Рис. В. Бланкмана // Сел. молодежь. — 1971. — №10. — С. 50–53.
Чудо Чегема: Рассказ // Труд. — 1971. — 29 окт. — (На конкурс «Труда»).
Девочка Тали: [Отрывок из повести «Жизнь Сандро Чегемского»] / Ил. В. Красновского] // Лит газ. — 1971 — 8 дек. — С. 7.
1972
Первое дело: Рассказы и повесть / [Рис. В. Юдина]. — М: Дет. лит, 1972. — 192 с. — ил.
Лошадь дяди Кязыма: [Рассказ] // В кн: В семье великой: Рассказы советских писателей: В 2 т — М., 1972. — Т. 2 — С 303–313.
Последний хиромант. Из цикла автобиограф. повестей и рассказов «Богатый портной и другие» // Простор — 1972. — 1 — С. 69–81.
Тали — чудо Чегема: [Отрывок из повести] / Рис. А. Соколова и В. Севера // Неделя — 1972. — 27 дек. [1971 г] — 2 янв — № 1 — С. 4, 5, 8, 9.
Время по часам: Рассказ / Рис. В Чижикова // Неделя. — 1972. — 24–30 апр. — С. 5, 16,17.
Мученики сцены: Рассказ // Лит. газ. — 1972. — 1 мая. — С. 7.
Ночные тайны: Рассказ [Заключ. глава из повести «День Чика»] / Ил.: И. Харкевич // Аврора. — 1972. — № 6 — С. 22–32.
Свидание в папоротниках. Рассказ / Рис. В Фекляева // Смена. — 1972. — №21. — С. 8–10.
Труды и дни дяди Сандро: [Глава из романа «Жизнь Сандро Чегемского»] // Крокодил — 1972. — №32. — С. 6–8.
1973
Время счастливых находок: Рассказы и повести / [Худож М. Алексеев, Н. Строганова]. — М.: Мол. гвардия, 1973. — 432 с.: ил.
Тринадцатый подвиг Геракла: [Рассказ] / Рис. В. Каневского // В кн.: Рассказ о говорящей собаке и другие веселые истории. — М., 1973. — С. 34–48.
Первый раз в первый класс: Рассказ // Труд. — 1973. — 9 янв — (На конкурс «Труда»).
Реванш: [Отрывок из повести «Школьный вальс, или энергия стыда»] // Семья и школа. — 1973. — № 1. — С. 30–33.
Тяжкий путь познания: Рассказ / Рис. В. Юдина // Сел. молодежь. — 1973. — № 1. — С. 20–25.
Дядя Сандро и его друзья: [Отрывок из романа «Жизнь Сандро из Чегема»; с крат. авт. заметкой] / Ил.: В. Красновский // Лит. газ. — 1973. — 30 мая. — С. 7, портр.
Сандро из Чегема: Роман // Новый мир. — 1973. — № 8. — С. 152–188; №9. — С. 70–104; №10. — С. 100–132; №11. — С. 71–125.
Дядя Сандро и зубной врач: Рассказ [Из цикла новелл о приключениях дяди Сандро из Чегема] // Труд. — 1973. — 28 сент. — (На конкурс «Труда»).
1974
Дерево детства: Рассказы и повесть / [Худож. Б.А. Маркевич]. — М. Сов. писатель, 1974. — 368 с.: ил., портр.
Модерн («Невыносима эта фальшь…»); «Вот и определилось…» // В кн: День поэзии. 1974. — М., 1974. — С. 147.
Тринадцатый подвиг Геракла: [Рассказ] / Ил.: Г. Акулов // В кн.: Школьные годы: Повести. — М., 1974. — С. 36–53.
Ошибка («Горячий полдень, южный пляж, песок…»); Модерн («Невыносима эта фальшь…»); Вечер («Серебристый женский голос…»); Размолвка («Серою мучною крысой…»); «Вот и определилось…» // Юность. — 1974. — № 7 — С. 27–28, портр.
Кино: Рассказ / Рис.: В. Фекляев // Сел. молодежь. — 1974. — №9. — С 26–31.
Ремзик: Повесть / Ил.: Е. Шукаев // Юность. — 1974. — №9 — С 21–39, портр.
Под эвкалиптом: [Рассказ] / Рис. Е. Шукаева // Неделя. — 1974. — 2–8 дек. — С. 6, 7.
1975
Лошадь дяди Кязыма: Рассказ // В кн.: Советский рассказ. — М., 1975. — Т. 2 — С. 417–427. — (Б-ка всемирной лит. Сер. 3 Т. 55).
На море: [Рассказ] / Ил.: М. Лисогорский // Лит. Россия. — 1975. — 21 марта — С. 12, 13.
Дядя Сандро и пастух Хунта: [Рассказ] // Труд. — 1975. — 12 апр. — (На конкурс «Труда»).
Преображение: Рассказ / Рис. И. Урманче // Неделя. — 1975. — 26 мая — 1 июня. — С. 10, 11.
Чаепитие и любовь к морю: Рассказ / Ил.: Сбросов // Юность. — 1975. — №6. — С. 24–35.
Чегемские сплетни: Рассказ [С примеч. Е. Клепиковой] / Ил. Л. Каминский // Аврора. — 1975. — №7. — С. 28–35.
Прикосновение: Рассказ / Рис. В. Фекляева // Сел. молодежь — 1975. — №8. — С. 22–26.
1976
«Здравствуй, крона вековая до небес!..» // В кн.: Очей очарованье: Стихи рус. поэтов о природе. — Хабаровск, 1976. — С. 511.
Ночные курильщики («Мужчины курят по ночам…»); Ошибка («Горячий полдень, южный пляж, песок…»); Модерн («Невыносима эта фальшь…») // В кн.: Юность: Избранное. XX: 1955–1975. — М., 1976. — Т. I. — С. 354–356.
Колчерукий: [Рассказ] / Рис. А. Голицына // В кн.: Рассказы советских писателей. — М., 1976 — С. 218–251.
Письмо: [Рассказ] / Худож. К. Сошинская // В кн.: Первая любовь: Повести и рассказы. — М., 1976. — С. 257–278.
Чаепитие и любовь к морю: [Рассказ] // В кн.: Юность: Избранное. XX: 1955–1976. — М., 1976. — Т. 1. — С. 192–225.
Боль и нежность: Рассказ / Рис. В. Чумакова // Неделя. — 1976. — №11. — 15–21 марта. — С. 4–5.
Морской скорпион: Повесть // Наш современник. — 1976. — № 7. — С. 3–56; №8. — С. 71–131.
Заира: Рассказ //Труд. — 1976. — 26 нояб. — С. 4.
1977
Сандро из Чегема: Рассказы, роман / [Худож. М. П. Клячко]. — М.: Сов. писатель, 1977. — 479 с.: ил., портр.
Упряжка («Что за выдумка, однако?..» // В кн.: Пять тысяч любимых строк. — 2-е изд. — М., 1977. — С. 69–70.
Начало: Рассказ //В кн.: Московский рассказ: [Сборник]. — М., 1977. — С. 72–86.
Письмо: [Рассказ] / Худож. К. Сошинская // В кн.: Первая любовь: Повести и рассказы. — 2-е изд. — М., 1977. — С. 257–278.
Дерево детства: Повесть // Наш современник. — 1977. — № 1. — С. 27–55.
Из рассказов о Чпке / Рис. В. Скрылева // Юность. — 1977. — №5. — С. 31–39.
Возмездие: Рассказ // Дружба народов. — 1977. — №7. — С. 170–181.
Заира: Рассказ // Наш современник. — 1977. — №8 — С. 20–46.
Похищение: Рассказ / Ил… В Костицын // Сел. молодежь — 1977. — №9. — С. 16–21.
1978
Начало: Рассказы / [Худож. Г. Т. Корсантия]. — Сухуми Алашара, 1978. — 172 с.: ил.
Первое дело: Рассказы и повесть / [Для старш. возраста, Рис. B. Юдина]. — 2-е изд., доп. — М.: Дет. лит., 1978. — 207 с.: ил.
Защита Чика: Рассказ // В кн.: Дом под Чинарами: Сб. 1978. — Тбилиси, 1978. — С. 238–256.
Рукопожатие: Вместо рассказа / Рис. И. Урманче // Неделя. — 1978. — 16–22 янв. — С. 6. 7.
Защита Чика: Рассказ / Рис. Ю. Григоряна // Юность. — 1978. — №4. — С. 42–52.
Харлампо и Деспина: Отрывок из романа-эпопеи / [Вступит, слово авт.]; Рис. Е. Шукаева // Неделя. — 1978. — 18–24 сент. — C. 6, 7, 8, 9.
1979
Под сенью грецкого ореха: Повести / [Худож. М. П. Клячко]. — М.: Сов. писатель, 1979. — 392 с.: ил., портр.
Умыкание: Рассказ // Дружба народов. — 1979. — №1. — С. 134–150.
1980
Лошадь дяди Кязыма; Начало: [Рассказы] // В кн.: Абхазские рассказы. — Сухуми, 1980. — С. 117–138.
1981
Новые главы Сандро из Чегема. — Ann Arbor (Mich): Ардис, Сор. 1981. — 235, [2] с.: портр.
Сердце: Рассказ // В кн.: Ерцаху: Лит. сб. — Сухуми, 1981. — С. 63–71.
Сердце: Рассказ / Рис. В. Скрылева // Лит. газ. — 1981. — 7 янв. — С. 7.
Бригадир Кязым: Рассказ // Новый мир. — 1981. — № 4. — С. 67–98.
На нашей улице: [Рассказ] / Рис. Г. Светозарова // Аврора — 1981. — №9. — С. 58–68.
1982
Кролики и удавы. — Анн Арбор: Ардис, 1982.
Модерн («Невыносима эта фальшь…»); «Вот и определилось…» [Из Дня поэзии. 1974] // В кн.: День поэзии. 1956–1981. — М., 1982. — С. 81.
Воспоминания об отце, работавшем на фруктовом складе («Это было так давно…»); Любитель книг («Любитель книги…»); «Бывает: боль твоя наружу…», «Ушедшей женщины тиранство…» // Юность. — 1982. — №10. — С. 36, портр.
Джамхух — Сын Оленя: Народная легенда / Рис. И. Урманче // Юность. — 1982. —№3. — С. 36–51; №4. — С. 41–57.
Два рассказа: Утраты; Большой день большого дома // Октябрь. — 1982. — №7. — С. 136–164.
1983
Защита Чика: Рассказы и повести / [Худож. М. Клячко]. — М.: Сов. писатель, 1983. — 448 с.: ил.
Эпиграммы и экспромты // Лит. газ. — 1983. — № 3. — 19 янв. — С. 16.
Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист: Рассказ / Рис. Ю. Чигирева // Аврора. — 1983. — № 8. — С. 44–62.
1984
Широколобый: Рассказ // Юность. — 1984. — № 1. — С. 42–53.
Дороги: [Юмор, рассказ] // Аврора. — 1984. — № 3. — С. 146–152.
Грядущей жизни праздник долгий…: [Стихи] // Дружба народов. — 1984. — № 4. — С. 179–180.
Правота Пушкина: Стихи // Лит. газ. — 1984. — № 9. — 29 февр. — С. 16.
«Мне снились любящие руки…»; «Ах, как бывало в детских играх…»; Моцарт и Сальери; Цветы; Сыну; «Внезапно шлепнулся — и в рев…»; «Вгляделся, голову склоня…»: [Стихи] // Лит. газ. — 1984. — № 21. — 23 мая. — С. 7.
Рассказы мула // Пионер. — 1984. — № 6. — С 52–56.
Прокол: Рассказ // Аврора. — 1984. — № 7. — С. 123–131
1985
Джамхух — Сын Оленя // Совр. повесть: Сб. / Сост. А. В. Скалой. — М: Сов. писатель, 1985. — С. 464–543.
Широколобый: Рассказ // Рассказ-84: Сб. / Сост. А. Карлин — М.: Современник, 1985. — С. 99–131.
Дружеская встреча: Стихотворение // Крокодил. — 1985. — № 2. — С. 5.
Маяковский; «Прекрасное лицо миледи…»; Сон; «Мозг, утверждает медицина…»; «Когда в толпе с умершим другом…»; Ребенок: [Стихи] // Юность. — 1985. — №3. — С. 75.
Чик на охоте: [Фрагменты из повести] // Учит. газ. — 1985. — 1, 3, 5 янв. — С. 4.
Над чашею весов; В кофейне. Совесть; Суеверия; Неясный звук: [Стихи] // Лит. Россия. — 1985. — №4. — 25 янв. — С. 15.
Чик на охоте: Рассказ / Рис. А. Остаева // Юность. — 1985. — №1. — С.53–69.
Чик знал, где зарыта собака. Рассказ // Дружба народов. — 1985. — №12. — С. 10–26.
Сходство; Элегия, Поэту; «Бывает, от дома вдали…»; Опасность вина; Тютчев; В горах Армении; Ястреб-перепелятник: [Стихи] // Лит. газ. — 1985. — №52. — 25 дек. — С. 7.
1986
Большой день большого дома: Рассказы. — Сухуми: Алашара, 1986. — 320 с.
Праздник ожидания праздника: Рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1986 — 480 с.
[Стихи] // Лит. газ. — 1986. — №42. — 15 окт. — С. 6.
Табу: Рассказ // Новый мир. — 1986. — №1. — С. 132–145.
Соседка // Сов. женщина. — 1986. — №3. — С. 19.
Чик идет на оплакивание: Рассказ // Знамя. — 1986. — № 6. — С. 119–137.
Трое в синих макинтошах: Рассказ // Смена. — 1986. — №8. — С. 8–11.
Чегемская Кармен; Бармен Адгур // Знамя. — 1986. — № 12. — С. 10–60.
Подвиг Чика: Рассказ // Огонек. — 1986. — №46. — С. 7–10.
Чик и Пушкин: Фрагмент из рассказа // Учит. газ. — 1986. — 6 мая.
О движении к добру и о технологии глупости: Записки, заметки // Лит. газ. — 1986. — № 31. — 30 июля. — С. 11.
Дитя; Возвращение; Слепой; Орлы в зоопарке; Память: [Стихи] // Лит. газ. — 1986. — 15 окт. — С. 6.
Эпиграммы и экспромты: Моему Зоилу; Источник звука; Зануда // Лит. газ. — 1986. —№50. — 10 дек. — С. 16.
1987
Подвиг Чика. — М.: Правда, 1987. — 46, [2] с. — (Б-ка «Огонек», № 19).
Путь: [Стихи] / Худож. А. Дзидзария. — М.: Сов. писатель, 1987. — 269, [1] с.: ил.
Моцарт и Сальери // Знамя. — 1987. — № 1. — С. 125–131.
В чем тайна?: Эссе // Лит. газ. — 1987. — №10. — 4 март. — С. 3.
Два рассказа: Чик и Пушкин; Дудка старого Хасана // Октябрь. — 1987. — № 4. — С. 49–88.
Старый дом под кипарисом: Повесть // Знамя. — 1987. — № 7. — С. 3–85.
Король кафе «Националь»; Душа и ум // Лит. обозрение. — 1987. — №8. — С. 32–34.
Кролики и удавы: Филос. сказка / Рис. С. Тюнина // Юность. — 1987. — № 9. — С. 21–62.
Чик и лунатик: Рассказ // Огонек. — 1987. — №31. — С. 26–29.
[Стихи] // Лит. газ. — 1987. — № 48. — 28 нояб. — С. 6.
1988
Избранное: Рассказы. Повесть / [Вступ. ст. А. Лебедева; Худож. Д. Шимилис]. — М.: Сов. писатель, 1988. — 574, [2] с., 1 л. портр.
Кролики и удавы: Проза последних лет / [Вступ. ст. Н. Ивановой]. — М.: Кн. палата, 1988. — 285, [2] с.: ил. — (Попул. б-ка).
Кролики и удавы // В кн.: Сказки сов. писателей: Сб. — М.: Худож. лит., 1991. — С. 155–299.
Три рассказа // Юность. — 1988. — №2. — С. 2–42.
О Марат!: Рассказ // Огонек. — 1988. — №21. — С. 20–23.
Кофейня в море: Пьеса // Театр. — 1988. — №6. — С. 132–165.
Пьяные на дороге: Рассказ // Смена. — 1988. — №7. — С. 8–11.
Сандро из Чегема: Главы из романа // Знамя. — 1988. — №9. — С. 13–75; №10. — С. 59–122.
Кофейня в море: Пьеса // Неделя. — 1988. — №19. — С. 23.
1989
Сандро из Чегема: Роман / [Худож. Н. Недбайло]. — М.: Моск, рабочий, 1989. Кн. 1. — 477с., [1 л] ил.; Кн. 2. — 478 с.: ил.; Кн. 3. - 461 с.: ил.
Повести, рассказы. — М.: Сов. Россия, 1989. — 415, [1] с.
О, Марат!: Рассказ // В кн/ Последний этаж: Сб. совр. прозы / Сост. С. Е. Каледин, Послесл И А. Дедкова. — М Кн. палата, 1989 — 279 с.
Сандро из Чегема: [Отрывки из новой гл. книги] // Сов Эстония — 1989. — 25 янв.
Девушка Лора и лошадник Чагу: Рассказ // Апрель. — 1989 — Вып. 1. — С. 16–34.
Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист: Рассказ / Рис. B. Скрылева // Юность. — 1989. — № 3. — С. 2–17.
Кутеж трех князей в зеленом дворике: [Повесть] / Рис. О. Яхнина // Нева. — 1989. — № 3. — С. 41–69.
Рассказ моего земляка // Огонек. — 1989. — № 5. — C. 25–27.
Стоянка человека // Знамя. — 1989. — № 7. — С. 8–54; № 8. — С. 6–47; №9. — С. 49–79.
Мой дом от меня уплывает…: [Стихи] // Дружба народов. — 1989. — №10. — С. 3–6.
Чегемские сплетни // Работница. — 1989. — №3. — С. 15–18; №4. — С. 13–17.
Время большого везения: Гл. из повести «Пылающая бездна» // Лит. Армения. — 1989. — № 5. — С. 29–35.
Дядя Сандро и конец козлотура // Лит. газ. — 1989. — №11. — 15 март. — С. 7.
1990
Сандро из Чегема: Роман. — М.: СП «Вся Москва», 1990. — 765, [2] с.
Стоянка человека. Повесть / [Худож. А. Озеревская, А. Яковлев]. — М.: Мол гвардия, 1990 — 285, [1] с. ил.
Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист // Рассказ 89 / Сост Н.И. Суворова. — М.: Современник, 1990 — С. 134–177.
Харлампо и Деспина Море обаяния //В кн. Рассказы и повести последних лет: Сб. — М: Худож. лит, 1990. — С. 338–413.
Рассказ шофера // Ставрополье. — 1990. — № 1. — С. 57–67.
Сумрачной юности свет Повесть // Знамя. — 1990. — №6. — С 6-49.
Свет одинокой юности // Правда. — 1990. — № 84. — 25 март. — С. 4.
Баллада о свободе: [Стихи] // Лит. газ. — 1990. — №20. — 16 мая. — С. 5.
1991
Сандро из Чегема: Роман: В 2 кн. / [Худож. Ю. Багдасаров] — М. Сов. писатель, 1991. Кн. 1. — 683 с, [1] л. портр, Кн. 2. — 636 с.: ил.
Собрание сочинений. В 4 т. / Вступ. ст. И. Виноградова. — М.: Мол. гвардия, 1991 — Т. 1. — 1991 — 525 с., [1] л.; Т. 2. — 1992. — 570 с.
Стоянка человека: Повести и рассказы. — М.: Правда, 1991. — 477, [2] с. — (Библиотека журнала «Знамя»).
Кролики и удавы [и др. произведения] // В сб: Сказки советских писателей / Сост. и авт. предисл, подг. текста Л. Ханбекова. — М. Худож лит, 1991. — 462 с.
Поэты и цари: [Сб]. — М. Журн. «Огонек», 1991. — 62, [2] с. — (Библиотека «Огонек», № 34).
Опоздавшие к пиру. [Стихи] // Аз — 1991. — Вып. 1. — С. 17–19.
Баллада о Западе и Востоке // Дума. — 1991. — № 1. — С. 6–10.
Кофейня: [Стихи] //Лит. Абхазия. — 1991. — №2. — С. 115–116.
Народ и др.: [Стихи] //Лит. газ. — 1991. — № 16. — 24 апр. — С. 12.
Счастливый охотник // Огонек. — 1991. — № 32. — С. 10–13.
День падения Берии: Рассказ // Лит. газ. — 1991. — № 40. — 9 окт. — С. 11–12.
1992
Собрание сочинений: В 4 т. — М.: Мол. гвардия, 1992.
Кролики и удавы: Повести / [Худ. А. Бондаренко]. — М.: Текст, 1992. — 396 с.: ил. — (Альфа-фантастика).
Человек и его окрестности // Знамя. — 1992. — №2. — С. 3–33; № 6. — С. 100–147; №11. — С. 3–17.
1993
Детство Чика: [Для сред, и ст. возраста] / Худож. В. Чижиков. — М.: Дет. лит, 1993. — 429, [2] с.: ил. — (Библиотечная серия).
Стихотворения. — М.: Моск. рабочий, 1993. — 174, [1] с., портр.
Человек и его окрестности: Роман. — М.: Олимп: ППП, 1993. — 317 с. — (Му best: кн. рус. Пен-клуба).
Наследник: [Стихи] // Родина. — 1993. — Х9 1. — С. 166.
Пшада: Повесть // Знамя. — 1993. — Х9 8. — С. 3–36.
Сельский юбиляр и др.: [Стихи] // Лит. газ. — 1993. — 12 мая. — С. 5.
1994
Детство Чика: Рассказы / Худож. А. Волошин, М.: Книжный сад, 1994. — 461, [1] с: ил.
Ласточкино гнездо. Рассказ // Новый мир. — 1994. — № 1. — С. 111–129.
Страшная месть Чика: Рассказ // Знамя. — 1994. — № 2. — С. 10–20.
Чик, играющий судья: Рассказ // Континент. — 1994. — № 79 — С. 13–30.
Звезды и люди: [Рассказ] // Обозреватель. — 1994. — № 2. — С. 70–80.
О, мой покровитель!: Рассказ // Столица. — 1994. — № 28 — С 56–62.
1995
Стоянка человека: Повести и рассказы / [Худож. Ю. Саевич]. — М.: Совмест. рос. — герм. предприятие «Квадрат», 1995. - 765, [2] с.: ил. — (Современная российская проза).
Человек и его окрестности: [Сб.]. — М.: Текст, 1995. — 475, [2] с. — (Коллекция 2).
«Духовный обморок Христа…»; Ум и мудрость: [Стихи] // Юность. — 1995. — № 6. — С. 14.
Софичка Повесть // Знамя. — 1995. — №11. — С. 3–80.
Два ностальгических рассказа // Континент. — 1995. — № 85. — С. 155–169.
1996
Избранное: Сандро из Чегема: Роман. В 2 кн. — М.: Терра, 1996. Кн. 1.-535 с.; Кн. 2.-542 с.
Мимоза на севере: Рассказ // Новый мир. — 1996. — № 3. — С. 52–69.
Два рассказа // Знамя. — 1996. — Х® 4. — С. 125–163.
Авторитет: Рассказы // Новый мир — 1996. — № 11. — С. 3–17.
Искренность покаяния порождает энергию вдохновения // Лит. газ — 1996. — № 6. — 7 февр — С. 3
1997
Собрание сочинений. В 6 т. — Харьков: Фолио, М.: ООО «Изд-во АСТ», 1997.
Софичка. — М.: Вагриус, 1997. — 494 с. — (Черная серия «Вагриуса»).
Три рассказа // Континент. — 1997. — 2. — С. 187–213.
Думающий о России американец: Диалог // Знамя. — 1997. — № 9. — С. 7–34.
1998
Поэт: Повесть // Новый мир. — 1998. — № 4. — С. 3–78.
Государство и совесть // Новая газета. — 1998. — 19–25 янв. — № 2. — С. 5.
1999
Школьный вальс, или энергия стыда: Повести, диалог. — М.: Локид, 1999. — С. 459, [2] с.: ил. — (Палитра).
Ласточкино гнездо. Проза. Поэзия. Публицистика / Междунар ассоц. твор. интеллигенции «Мир культуры», Благотв. фонд В. Потанина. — М.: Фортуна Лимитед, 1999. — 435, [4] с.
Кролики и удавы: [Филос. сказка. Повести]. — М.: ТРИЭН: ЭКСМО-Пресс, 1999. — 701, [2] с.: ил. — (Русская классика. XX век).
Сандро из Чегема: Роман: [В 2 т.]. — М.: ЭКСМО-Пресс: ТРИЭН, 1999. — (Русская классика. XX век). Кн. 1. — 797, [2] с.; Кн. 2. — 765, [2] с.
Рассказы. Повесть. Сказка. Диалог. Эссе. Стихи. — Екатеринбург: У-Фактория, 1999. — 699, [2] с.: портр. — (Зеркало. 20 век).
Сюжет существования. — М.: Подкова, 1999. — 663, [4] с.
Незваный гость: Рассказ // Звезда. — 1999. — № 1. — С. 13–15.
Рассказы: [На даче; Люди и гусеницы; Курортная идиллия; Антип уехал в Казантип] // Знамя. — 1999. — № 1. — С. 99–111.
День писателя: Рассказ // Новый мир. — 1999. — №4. — С. 49–63.
Три стихотворения // Континент. — 1999. — №99. — С. 9–12.
Честь и совесть; Выпивка; Притча; Груша; Соринка зла; Диалектика; Старик и старуха; Красота; Улыбка; Плач по Черному морю; В итальянском музее; Слово; Россия пьющая: [Стихи] // Лит. газ. — 1999. — 3 марта. — №9–10. — С. 12.
2000
Ночной вагон / Предисл. С. Рассадина. — М.: Панорама, 2000. — 493, [1] с., [1] л. портр. — (Русская литература. XX век).
Рассказы: Гигант; Чик и белая курица; Ночной вагон // Знамя. — 2000. — №1. — С. 132–153.
Понемногу о многом: Случайные записки // Новый мир. — 2000. — №10. — С. 116–148.
Фотокор: Рассказ // Апрель. — 2000. — №11. — С. 12–17.
2001
Мое сердце в горах. — Йошкар-Ола, 2001.
Где зарыта собака. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 447, [2] с.: ил. — (Современная проза).
Фазиль Искандер: [Сб.] / [Сост. Э. Мороз]. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 702 с., [16] л. ил. — (Антология сатиры и юмора России XX века; Т. 14).
Козы на подворье. — М.: ACT, 2001. — 157 с. — (Домашний аквариум).
Козы и Шекспир: Рассказ // Знамя. — 2001. — №1. — С. 68–76.
Гнилая интеллигенция и аферизмы: Рассказ // Знамя. — 2001. — №1 — С. 3–10.
2002
Ежевика: Стихи; Поэмы; Переводы; Эпиграммы; Шутки. — М: Фортуна Лимитед, 2002. — 320 с.
Сюжет существования: Повесть. Рассказы. — М: Подкова: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 445, [2] с. — (Современная проза).
Яблоня, шелестящая под ветерком: Автобиографическая проза. — М.: Материк, 2002. — 326, [1] с. — (Россия. XX век. Новости прошлого).
Избранное: Созвездие Козлотура: Повесть; Сандро из Чегема: Главы из романа: Материалы к уроку и сочинению. — М: ACT: Олимп, 2002. — 391, [3] с. — (Школа классики). — (Книга для ученика и учителя).
Сон о Боге и дьяволе: Рассказ // Знамя. — 2002. — №6. — С. 75–88.
2003
Избранное: Созвездие Козлотура: Повесть; Сандро из Чегема: Главы из романа; Материалы к уроку и сочинению. — М: ACT, 2003. — 393 с. — (Школа классики. Книга для ученика и учителя).
Абхазская осень: Стихи, поэмы, переводы, эпиграммы, шутки. — М.: Зебра Е: ЭКСМО, 2003. - 384 с.
Созвездие Козлотура: Повести и рассказы. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2003. — 544 с.: ил. — (Русская классика. XX век).
Протирающая очки: Стихи // Знамя. — 2003. — №21. — С. 3–9. Из записных книжек // Знамя. — 2003. — № 9. — С. 8–30.
2004
За ласточкину прыть: Стихи // Знамя. — 2004. — №2. — С. 92–95.
Из новых стихов // Континент. — 2004. — №119. — С. 34.
Примечания
1
При составлении библиографии использовались следующие материалы: Михайлова 3. Б. Фазиль Искандер. Библиогр. указатель — Ульяновск, 1982. — 160 с, Ф. А. Искандер. Библиография / Сост Л. М. Кулаева// Библиография — 1994 — №6 — С. 57–61
(обратно)
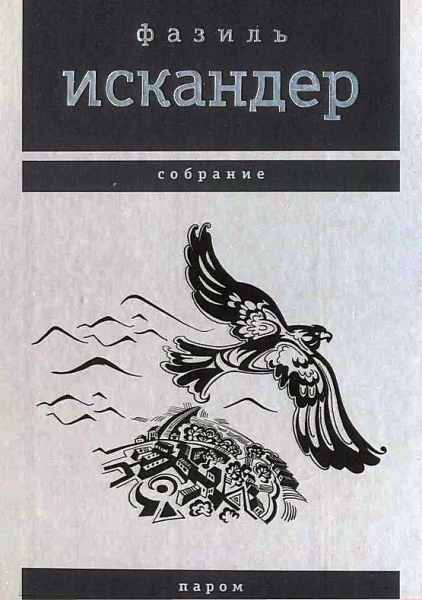


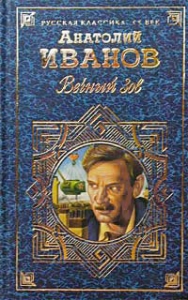

Комментарии к книге «Паром», Фазиль Абдулович Искандер
Всего 0 комментариев