Давид Самойлов Памятные записки (сборник)
© Давид Самойлов, наследники, 2014
© Г. И. Медведева, А. С. Немзер, составление, 2014
© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2014
© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2014
© «Время», 2014
* * *
«Превращаюсь в прозу, Как вода – в лед…»
Проза поэта – особая область сцеплений. И путь к ней (или его отсутствие) всякий раз окрашен индивидуально.
Д. С. в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) так часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, так сетовал на упорное нежелание Бориса Абрамовича продолжать столь удавшийся опыт, что в конце концов выходило: не себя ли уговаривал обратиться к прозе, без боязни изменить привычному, обжитому лику стихотворца.
Где-то во второй половине 60-х годов он начал заново оглядываться на уже миновавший и взятый – и человечески, и творчески – «второй перевал». И думать и говорить о том, что «весь опыт не умещается в стихи». Что это было? Хрестоматийное «лета к суровой прозе клонят»? Да. Но не только.
Кончался «моцартианский» период жизни и творчества, ретроспективно, как воспоминание о самом себе, изображенный в стихотворении «Дуэт для скрипки и альта». Вольная, легкая, непринужденная поступь стиха и поступка еще была и длилась, но уже перестала нравиться. Не другим – себе. Неадекватность томила и предвещала «начало новых перемен». Но поскольку гармонические натуры, к которым принадлежал Д. С., не умеют долго томиться, выход был найден не то чтобы быстро, но естественно, как будто бы он всегда существовал.
Проза начала писаться стихийно, во время пребывания в больнице в 1969 году[1].
Вроде бы от скуки и досуга; на самом деле – из-за невозможности признать ограниченное обстоятельствами пространство передвижения и общения. Называлось оно словом «клетка» и означало и любую иную житейскую формулу прикрепленности, не равную внутреннему состоянию, вынужденную запертость не обязательно по медицинской надобе.
К той поре стали проступать очертания «клетки», уготованной не для одного Д. С. и куда более душной, чем спертый воздух многоместной больничной палаты. За подпись под письмом в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова он попал в проскрипционные списки. Печатные дела, и без того шедшие со скудным скрипом, свелись к нулю: был рассыпан набор «Равноденствия» и отодвинут выход «Дней». Материальное положение было яснее ясного: одни долги, без близкой возможности с ними разделаться. Весь 1968 год после прошедшего в январе судебного процесса над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым литературное начальство в трогательном единстве с ГБ выстраивало «клетку» для неразумных писателей, подставивших свое благополучие под удар. Надо было решать, как жить и действовать.
Решение Д. С. состояло из двух частей: не уходить в сам– и тамиздат, не порывать связи с читателем стихов и ждать своего часа для продолжения разговора с ним с печатных страниц. Здесь не место более подробно развивать эту тему, продлившуюся на два десятилетия вперед. Важно лишь подчеркнуть, что на едва проклюнувшуюся, еще не оперившуюся прозу выпадала двойная нагрузка: становление замысла и стилистики шло об руку с худшающими, «мутными временами» (определение Д. С.), и вся тяжесть размышлений об исторической судьбе России и русской литературы и своего поколения в ней, не могущих с полнотой и безоглядностью прорваться к читателю в поэзии, добровольно и неминуемо уходила в подводную часть айсберга – прозаические штудии.
Уже у истока проза стала способом свободного высказывания, не сдерживаемого ни внешней, ни внутренней цензурой, ни давлением индивидуальной стиховой структуры, долго (вплоть до «Залива») сохранявшей несущие черты герметичности, лишь частично совпадающие с общепринятым «эзоповым языком». Влияние прозы на стихи в последующие периоды – тоже особый ракурс и предмет отдельного исследования. Хочется сказать только одно: закон обратной связи действовал на протяжении более чем двадцати лет, что писалась проза, с той или иной долей регулярности.
К начальному этапу, куда мысленно возвращаюсь, можно – для краткости – применить строки из стихотворения «Болдинская осень»:
Благодаренье богу – ты свободен — В России, в Болдине, в карантине…Пример Пушкина, бывшего во всем наиглавнейшим мерилом, как бы опрокинут на личные условия – задействованную «клетку». Эта догадка, носившаяся в воздухе, подтверждается записью в дневнике от 29.04.1968: «У Пушкина: “Лучше опала, чем презрение”»[2].
С 1969 года идет работа одновременно над «Книгой о рифме», стихами, переводами и прозой – предметом нашего внимания. Снова дневник: «Сейчас – время мемуаров. Наверное, это самое интересное, что пишется сейчас» (запись от 7.11.1971).
Спонтанные прозаические взрывы – публицистического, эссеистского и социально-исследовательского толка – продолжались, пока не обрели и мемуарного наклонения и не сошлись в магнитном поле единого замысла: «Укреплялся в мыслях о книге опыта» (запись от 10.04.1971). 5.11.1971 там же зафиксировано название – «Памятные записки».
Писание и дальше происходило не в последовательном, хронологическом порядке, который был намечен для построения книги (остался ее план). Важно отметить, что сначала была написана война – основополагающее событие, где становление взгляда на себя, художника и человека, шло рядом с близким познанием народа и размышлениями над российским национальным феноменом.
Привыкание к себе как к прозаику давалось трудно (порой – до отчаяния и неверия в собственные возможности). Дело, однако, подвигалось параллельно с генеральным поиском собственной манеры письма и прозаической конструкции: «Я исходил из скуки: как наскучат факты, переходил к мыслям, и наоборот.
У меня нет истинного дара прозаика изображать факты как мысли и мысли как факты. Потому и нет фактуры прозы» (запись от 13.04.1976).
Эта констатация уже частично обретенного результата точно выражает авторское понятие об устройстве собственной прозы, но сделана в один из моментов упадка духа и на конкретном фоне: читалась рукопись «Сандро из Чегема», с постоянным восхищением природным повествовательным даром Фазиля Искандера, которого Д. С. неизменно высоко ценил именно за это богом данное свойство. К себе же был строг, быть может, чересчур, считал, что божьей искрой как прозаик не отмечен и потому – чтобы достичь профессионализма, непременного, на его взгляд, условия появления перед читателем в любом литературном жанре, – должен корпеть над рукописью до седьмого пота. «Для прозы нужно терпение», – повторялось, как заклинание, и не только повторялось, но и выполнялось. При нетерпеливости натуры («Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!..») и отлаженном механизме переключения с одного вида работы на другой (от стиха к переводу, от рецензии к письму), механизме, служившем регулятором настроения, можно только удивляться, как много вышло написанных и неоднократно переписанных глав.
«Памятные записки» вынашивались и осуществлялись для передачи не одного лишь житейского или сугубо литературного опыта. Образы времен – трагических, бурных, суровых, опасных – словом, всяких, выпавших на долю («Мне выпало горе родиться в двадцатом, в проклятом году и в столетье проклятом»), – витали буквально над каждой главой и над каждой страницей. Ранний и прошедший через всю жизнь вкус к истории предопределил и чисто исследовательскую окраску медитативных периодов, от которых сам автор получал несравненно большее удовольствие, нежели от собственно мемуарных пассажей. Вольное воспарение от «фактов» к «мыслям» и их прихотливое чередование похожи на качели, с обязательным возвращением на грешную землю. Ритмическая организация прозы, сложившаяся «на слух», по принципу музыкального произведения, выдает-таки поэта, как ни снижал он «скукой» и отсутствием «истинного дара прозаика» цену своего многолетнего труда. И как ни пытался отделить основное призвание от добровольно взваленной на себя огромной по объему и заданию работы.
Кстати, вся проза располагается между двумя домами: в Опалихе (1966–1974 гг.) и в Пярну (1976–1990 гг.). Видимо, бытовая обстановка, никогда не безразличная для художника, тоже внесла свою лепту в созидание прозаической книги. Жизнь в доме и жизнь в городской квартире – разные вещи, особенно в наше время. Дом располагает к размеренности дня и к неспешным, долговременным планам и замыслам. Дом – ближе к природе, то есть к изначальной основе жизни. Дом – да что там! Дом есть дом. Он заставляет художника посмотреть на себя другими, быть может, толстовскими глазами, не в смысле масштаба, а в смысле устроения писательского труда, такого же извечного, как земля на усадебном участке, и столь же ритмически слаженного, что и погодные и садово-огородные циклы.
Постепенно дом стал восприниматься как убежище – и внешнее, и внутреннее. Что здесь имелось в виду? Всегдашняя далекость от прямого участия в политике (при проживаемости сердцем и умом идейных брожений). Нежелание обслуживать пером сиюминутное состояние общества и участвовать в кампаниях. Неприязнь к поводку, кем бы он ни был навязан – доброжелательными читателями или ревнителями злобы дня. Уверенность в том, что главное дело художника – творить. Потребность в сбережении душевных усилий для этого главного дела.
Интересно, как разделялись функции прозаического и поэтического материала. Те же самые процессы, которые пристально рассматривались и подвергались анализу в прозе, могли быть лишь декларированы в стихах:
В шестидесятые годы я понимал шестидесятые годы и теперь понимаю, что происходит и что произойдет из того, что происходит. И знаю, что будет со мной, когда придет не мое время. И не страшусь.Это, конечно, не единственный пример взаимообращения тем и вариаций, однако характерный для тех лет, когда стихи все же печатались и в них действовала система штриха и намека, не чуждая вообще манера Д. С. говорить с читателем: он не часто, вне зависимости от возможности быть услышанным, стремился выложить все карты на стол и обнажить в результате способ создания стиха. Другое дело проза: здесь автор как бы берет реванш за добровольную сдержанность поэтической строки, за ее глубоко упрятанный, прикрытый многими смысловыми слоями посыл. Здесь рассказ о себе сопрягается с собеседником, втянутым в развертывание сюжета уже тем, что предугадываются его реакции и сами они становятся вехами дальнейшего движения. Здесь нарушается собственный завет: «Не смей, не смей из глуби доставать все то, что там скопилось и окрепло!». И кладовая памяти – золотого запаса любого художника – раскрывается достаточно щедрой, хотя по-прежнему знающей меру рукой. И если опускаются какие-то звенья, то все из-за того же целомудренного отношения к искусству (и собственному в том числе), из-за прочного чувства – убеждения, что последняя (она же и первая) тайна творения должна храниться в душе художника и больше нигде. Но если сознательно ставятся препоны комфортному, как у себя дома, расположению читателя в творческой мастерской, то в подспудном течении, на уровне композиции, индивидуальный процесс складывания образа проявляется полнее, естественнее, невольнее, ибо тут он не подвластен самоконтролю и самоодергиванию. Расхождение и слияние тематических нитей, их обрывы, за которыми угадывается пространство, оставшееся «за кадром» и своим гулом подменяющее несказанное слово, музыкальный звук вечности, аккомпанирующий «бренному» рассказу, и, наконец, публицистический пафос, врывающийся в повествование как знак прорастания миновавших времен в день текущий и длящийся и оттого еще не имеющий формы, – вот, в самом первом приближении, направляющие стрелки для вхождения в атмосферу прозы Д. С.
Книга росла вширь и вглубь так же стихийно, как началась, уже при видимой последовательности ее построения. Наряду с биографическими в ней возникали главы-портреты (писателей и друзей) и главы-очерки того или другого времени, а также эссе на отдельные темы. Образцом, с постоянной поправкой на недосягаемость, служили «Былое и думы»[3].
Теперь я думаю, что «Памятные записки» ощущались и мыслились как бесконечная река жизни с бесконечным же охватом событий, лиц и струящейся, неиссякновенной мыслью. Точку поставила смерть.
Главное он все же успел: сказать о времени и о себе и предначертать направление нашего чтения. И вряд ли стал бы переписывать разбросанные по годам тексты, чтобы показаться смекалистее, проворнее и современнее: ведь процесс постижения, окаймленный реалиями и подробностями, а то и прямо вырастающий из них, – не имеет ли он самостоятельного значения? Иначе зачем бы столь явно, в прямом обращении к читателю, в набросках к предисловию упоминалось не только об отсутствии учения, но и о свободе говорения, о героях мысли и обновления. А в конце главы «Дом» – о необходимости воссоздания собственного «я»: «Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель – воссоздание собственного “я”, исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное “я” и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее – ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно».
Г. МедведеваНаброски к предисловию (О свободе)
I
Приступая к писанию, заранее могу себе признаться в том, что не могу изложить нечто положительное и стройное – политическую концепцию или систему нравственной философии.
Ни того, ни другого я не изобрел, да и рано, видимо, изобретать.
Хотим мы все одного – свободы. Но толком еще не знаем, что такое свобода и как ее к себе и другим прилагать. Потребность свободы у нас есть лишь в воображении, всегдашнем русском воспаряющем воображении, а образцов мы не знаем и ищем их либо глядя назад, либо кося вбок. А по спине у нас все тот же российский холодок – не стоит ли там мужичок с топориком, который тоже по-российски жаждет свободы, но вбок не косит.
Мужичка уже, впрочем, нет. Но холодок все тот же. За спиной стоит некто похуже – молодой, без царя и без бога, длинноволосый, с папироской, хмельной и озлобленный, с гитарой, битник-разбитник, настоенный на «Московской особой», всероссийский жесткоротый дружинник, шаманщик, дом-культурник, танцплощадник, матерщинник, руковерт, футбольщик, хоккейщик, киноплюй, стенописец, будкогадец, на-троишник, на-двоишник, на-одногошник. Стоит не мужик – порождение земли и истории, а наш с вами отпрыск, наше собственное порождение.
Он тоже свободы жаждет. Или власти. Ему все равно.
Какой же свободы мы хотим? И какая нам нужна?
Для России американизм не годится. Мафия вместо партии, и вороватость вместо бизнеса. Еще при нашей бедности. Безнаказанно убивать президента – это еще не достижение.
Когда нет ни политической концепции, ни нравственного уклада, есть одна свобода, необходимая России, – свобода выговориться. Выговориться, отматериться, откричаться, отспориться, отречься.
Только после этого образуется нечто. Привыкшие к молчанию недостойны свободы.
Единственная цель моего писания – выговориться. Свободны говорящие. Ведь речь – это практика мысли.
Учить нам рано. Надо учиться речи.
Выговорилась Россия, пожалуй, дважды. Где-то в 1905-м, вокруг манифеста, и еще в 1917-м, с февраля до октября.
Потом ждала, когда же можно будет высказаться. Право это было как бы завоевано кровью: «Сестры и братья, друзья мои!». И идеалист Пастернак, и циник, продувной, продавшийся барин, прожженный, ни во что не верящий Алексей Толстой поверили: можно будет сказать, высказаться, выразиться, выговориться.
Вот что писал Толстой:
«Народ, вернувшийся с войны, ничего не будет бояться… Китайская стена довоенной России рухнет».
Китайская не рухнула. И русская стоит. Может, пока стоит китайская – стоять и русской.
И не прав был продувной барин. Народ на войне не боялся. А потом опять забоялся.
Стена, конечно, все же рухнула, но недорушилась. Проломы в ней образовались в 1953 году.
И хлынула в эти проломы безудержная речь. Чья? Народа?
Нет. На первых порах выговаривались мы устами веселого, осмелевшего Никиты Сергеевича. Не народ, а он первый осуществил безудержную потребность неконтролируемой речи.
Надо ему отдать справедливость – он первый заговорил.
И вправду, это была первая свобода – свобода выговориться.
Он заговорил. А мы продолжили. Он не разумел. А мы уразумели.
И уже не унять нашей речи.
И не замолкнем, пока не скажем.
Уже такое наболтано, наговорено, насказано, наплетено, наоткровенничано, что так запросто не расхлебать.
II
Так писал я совсем недавно в предисловии к «Памятным запискам». Но иное время быстро настало, и уже иное желание подвигает меня к писанию.
Высказаться и отругаться – уже высказано и отругано. Теперь уже важно, о чем говорится и кто говорит и как.
Уже не объединяемся мы в ругательстве и в отречении, в неприятии предыдущей жизни, а разделяемся в предвидении, в расчислении будущей нашей жизни. Мы не живем уже прошлым, не живем настоящим, а жадно тянемся к будущему, ибо утонуть может Россия в скуке настоящего.
Недавно в том была суть, что мы заговорили. Но заговорил и отговорил незабвенный Никита Сергеевич, мало кровей пустивший диктатор, мир праху его; Пугачев из Центрального Комитета.
Он распрощал нас с пугачевщиной. Пугачевщине уже в России не быть. Не поверим мы уже самозванцам, не поверим власти, пошедшей на власть.
Власти нашей долго еще стоять. И говорению нашему, может быть, придет свой срок. Ну и что же? Раскрылся уже, распустился уже клубочек, спустился уже со стола, и кто захочет его распутать, не запутался бы сам.
Ведь уже не в говорении дело.
Глотку смогут заткнуть нам свинцом, плеткой или голодом. И тогда вновь замолчит Россия.
Одного только не будет. Никто не поверит, что говорящий – враг.
Это и есть самое главное.
У нас всегда – противник власти и несправедливости был враг. У нас всегда жертва власти – был враг.
Врагом нас пугали и в 19-м, и в 20-м, и в 30-м, и в 37-м, и в 48-м, и в 52-м.
Все были – ВРАГ: эсеры, меньшевики, офицеры, дворяне, священники, справные крестьяне, партийцы, коминтерновцы, финны, немцы, татары, балкарцы, космополиты, евреи.
Герои были те, кто боролся с врагом. С любым врагом – с отцом, с братом. Павлик Морозов, отцепродавец, был герой.
Это были герои существующей власти, борцы за нее против власти несуществующей.
Сейчас другое дело. Сейчас не обманешь. Сейчас, глотки заткнув, одного лишь добьются: создадут героев и мучеников.
В молчании этих героев и мучеников больше опасности для власти, чем в любом говорении.
20 миллионов «врагов» не перевернули Россию. Сто тысяч героев и мучеников перевернут.
Их-то и надо бояться власти. Не слова, а молчания из «глубины сибирских руд».
Не хочу сказать, что у нашей власти не было героев. Были.
Были в гражданскую войну, когда эта власть воевала с другой. Были и в эту войну, когда за свою власть воевали с чужой, чуждой и худшей.
Но ведь и они воевали с властью. Нет героев финской войны, польского похода, венгерской резни, чешского преступления. Нет и не будет.
Герои и мученики – против власти, а не за власть. Потому и святы декабристы, что, встав против власти, не умели, да и не хотели взять власть. Так же святы и народовольцы.
Шпионы, тайные агенты и милиционеры-продотрядовцы, каратели и раскулачники никогда не станут героями нации.
Герои мысли и обновления – вот кто нужен России, вот кто и будет ее цветом и гордостью в неблизком, может быть, грядущем.
Часть I
Дом
Я явился на свет в родильном заведении доктора Фези, где-то на одной из Мещанских, 1 июня 1920 года по новому стилю.
– Ну и что? – спросит читатель. И, действительно, из нескольких фактов, отмеченных в первой фразе, какое-то значение имеет лишь тот, что я родился.
Но я издавна мечтал именно так начать эту книгу и, сколько ни думал, ничего лучшего придумать не мог. Хотя сам всегда считал, что важна суть, а не подробности.
Однако, стремясь к сути, мы всегда вынуждены пробиваться сквозь толпу подробностей. И почему-то, минуя подробности, вдруг чувствуем, что суть неуловима и как бы утрачена.
И уж лучше заблудиться в густом лесу деталей, где, аукаясь, услышишь хоть собственное эхо, чем в голой огромной степи, где нет ни единой приметы, ни вехи, где суть одна лишь пустота и огромность.
Если вынести из жизни детали, как мебель из помещения, останется одна кубатура. Ибо какие-то детали всегда имеют отношение к главному. А какие именно – мы не знаем.
Моя мама так часто повторяла, что я родился в заведении доктора Фези, что этот маловажный факт стал для меня чем-то вроде отправной точки самоуважения. Дескать, рожден я не кое-как, не спустя рукава, а под руководством доктора Фези, почтенного пожилого человека, моложавого ввиду всегдашней подтянутости, с маленькими холеными руками и с черной, хорошо подстриженной бородкой, представлявшегося мне почему-то еще в феске и похожим на турка. Может быть, потому, что первым моим детским врачом был доктор Тюрк. И эти две фигуры смешались в моем воображении.
Теперь уже с некоторым облегчением можно написать, что первые беспамятные месяцы я провел на Старой Божедомке (ныне улица Дурова) в квартире Надежды Николаевны Кокушкиной.
О Надежде Николаевне я так часто слышал, в детстве бывал у нее в гостях и потом встречался с ней уже после войны, что хорошо представляю себе быт божедомской квартиры в голодном и холодном 20-м году.
Дочь горничной в дворянско-профессорском доме, Надежда Николаевна, благодаря своей необычайной красоте и замечательным способностям, была взята хозяевами на воспитание, а потом вышла замуж за их сына, впоследствии медицинского профессора Кокушкина. После революции профессор подался в эмиграцию, по неизвестным мне причинам оставив в Москве молодую и очаровательную жену.
Известно только, что Надежда Николаевна нисколько не пала духом. Женщина общительная, живая, с неистощимым даром рассказчицы и жаждой общения, она устроила у себя нечто вроде литературного салона. В большой кухне вокруг буржуйки собирались по вечерам попить морковного чаю писатели и генералы, принятые на службу в Артиллерийское управление Красной Армии. Генералы эти были вскоре расстреляны, кажется, во время Кронштадтского мятежа, то ли за измену, то ли за верность прежним убеждениям, а скорей всего – так, на всякий случай.
Салон Надежды Николаевны, однако, не был разгромлен. Ей даже удалось спасти от неминуемой кары Петра Ширяева, писателя, примыкавшего в ту пору к левым эсерам. Не последнюю роль в этом спасении сыграли энергия, ум и обаяние Надежды Николаевны.
Ширяев стал ее мужем[4].
Близким приятелем Кокушкиной был Новиков-Прибой, его уважительно именовали «Силыч». Приходили Брюсов и Аделина Адалис.
Адалис гляделась в зеркало в передней и удовлетворенно спрашивала:
– Правда, я похожа на лошадь или на старого еврея?
Ей было двадцать лет.
А с Брюсовым связана маленькая легенда, будто он однажды взял меня на руки, а я испортил брюки знаменитого мэтра.
Этот факт послужил причиной тому, что я лет до пятнадцати почитал себя учеником Брюсова, а его чуть ли не моим восприемником.
Стихотворение «Юному поэту» я полагал обращенным именно к себе и наивно отвечал:
Ты мне, учитель, даешь три совета, Первый приму, а с двумя не согласен.В моих отношениях с Брюсовым, правда, односторонних, были все перипетии общения ученика с учителем, включая восхищение, спор и неблагодарность.
Часто бывал у Надежды Николаевны, а порой и живал в нашей квартире поэт Иван Рукавишников. О нем слышал я, что, пьяный, укладываясь спать на полу, всегда просил себе под голову подложить Данте, чтобы снились высокие сны.
Рукавишникова я, конечно, не помню. Едва запомнил Вассу, библиотекаршу, воспитанницу Надежды Николаевны, – скорее всего за безобразную внешность. А уж дочь ее, то ли от Рукавишникова, то ли еще от кого, и вовсе никогда не видел. Но и с ней у меня связано нечто, о чем сейчас расскажу. Ведь все, что завязывается в детстве, неминуемо имеет свое продолжение. И чего бы я ни коснулся, все длится во мне или возвращается ко мне.
Вот эта история. Я узнал ее осенью сорок первого года.
У девушки был жених. Они расписались накануне его ухода в армию. Первую брачную ночь решили провести за городом, на даче. Ночью немецкий бомбовоз, не пробившийся в Москву, сбросил свой взрывчатый груз куда попало. Бомба угодила вблизи беседки, где находились новобрачные. Оба они погибли. Жестокость войны к любви поразила меня в этой простой истории. Долго каким-то томящим грузом лежала она в памяти, пока не стала стихотворением «Солдат и Марта».
На Божедомке прожил я менее года и своим считаю дом на Александровской площади, угол Бахметьевской (теперь – площадь Борьбы, 15/1).
Дом на Александровской площади угловым своим построением напоминал океанский корабль, носом врезавшийся в шумящий деревьями сад Туберкулезного института. Он как бы плыл по зеленым или желтым колеблющимся волнам листвы, по волнообразным кронам старинного сада, возвышаясь над самыми высокими деревьями.
Из окон шестого этажа я с младенчества видел только зелень садов, курчаво уходящих к Екатерининской, к Самотеке. И вдали маяк Сухаревой башни, а слева, если немного высунуться из окна, – две похожие на красные ладьи водонапорные башни у Крестовской заставы.
Туда, к Сухаревой, плыл наш дом в морском гуле листвы. Этот гул, этот шум был постоянным звуком в тишине нашей квартиры, и в осенние ночи я и впрямь представлял себе морское плавание.
А на закате бесчисленные стаи галок поднимались с гнезд в окрестных садах и кружились с криком на фоне багряного неба. От этого кружения бывало грустно и тревожно осенью и почему-то весело весной. А зимой я галок не помню – только их растрепанные гнезда на голых деревьях.
Из кухонного окна тоже виделся сад – запущенный и превращенный в свалку – сад баронессы Корф, бывшей владелицы нашего дома. В том саду – ветхий барский особнячок, полуразрушенный флигель; а дальше – за садом – еще не потерявшие позолоту купола Тихвинской церкви, превращенной потом в москательную лавку, и там – за деревьями и крышами – купола окраинных церквей, прикладбищенских и отдаленных.
Под Пасху отворялись для мытья окна, и из воздуха, из розовато-желтой зари вместе с весенним запахом вступал колокольный звон. Праздничное, необычайное настроение, чувство живого соприкосновения с родным городом приходило тогда – неповторимое ощущение старой, милой, ушедшей Москвы.
Сад баронессы Корф был местом с дурной репутацией, и туда заглядывать было строжайше запрещено. Однако, поборов страх, я изредка пробирался до дальнего забора, до дыры, выходившей на полузастроенную Ново-Сущевскую.
Дом был моим миром, потому что все связи мои и все детские впечатления не выходили за его рамки. Дом был миром, имевшим свои очертания и границы. И как бы противоположностью ему было неосознанное понятие пространства. Пространство было то, что начинается за забором и простирается неизвестно докуда. И дыра – была дырой в пространство и открывалась в никуда. Пробравшись сквозь лопухи, крапиву и битый кирпич, я застывал перед началом беспредельности, опасаясь переступить ее рубеж.
Я только вглядывался в пустыри и в ветхие строения едва видных отсюда кварталов. И вслушивался в долетавшие от Савеловской железной дороги хриплые свистки маневровых паровозов – звуковой знак пространства, до сегодня впечатляющий, манящий и навевающий особую тоску.
Я назвал наш дом кораблем. Он скорее был ковчегом, поспешно населенным в годы потопа сотнями чистых и нечистых пар. Здесь, в величайшей тесноте, перемешивались в виде некой эмульсии все слои и сословия России полустолетней давности – провинция, деревня, Москва, Петроград.
В бывшие буржуазные квартиры набивались со страшной плотностью, утесняя или вытесняя прежних жильцов, буйные ватаги новых постояльцев – демобилизованные красноармейцы, пришлый, перекатный люд, сбежавшая от голода и поборов деревня, няни и санитары Туберкулезного института, бывшие дворники, швейцары и кухарки, милиционеры, чекисты, рабочие, ремесленники и всякий прочий… народ. Все это плодилось, множилось, утрамбовывалось, поселяло родственников, разгораживалось фанерными стенками и занавесками. И выпирало, выпадало из стен дома на улицу, во двор, в сквер. Здесь невозможна была тайная жизнь семьи. Здесь все было на виду. И оттого в возбуждении, в вечном скандале и шуме.
Никто еще не написал историю коммунальных квартир, их трагического влияния на психику и психологию, их социальных контекстов. Коммунальная квартира 20-х годов была необычным полем страстей, часто низменных, ареной трагедий, почвой для развращения и преступления.
Каждое время порождает свои формы быта. И не только время – каждая социальная среда. Эпоха разлома, нестроения и перемешивания породила свою неповторимую форму быта – коммунальную квартиру. В ту пору, когда все ломалось и еще не начало строиться, естественно, приходилось пользоваться подручным материалом, уцелевшим от прежнего времени. Насилие, которое было главным методом революции, сказалось и здесь в насильственном создании коллектива.
В каких только видах не предстает в России пугачевщина! Деревенский и пригородный элемент привнес в новую форму быта нравы деревенской улицы, какого-то странного праздника темной воли. Коммунальная квартира была и праздником крушения сословных перегородок. Она была присуща времени, а не одной социальной среде.
Лишь на следующем этапе, после нэпа, она начала образовываться в среду. И если первый период истории коммунальных квартир можно назвать стихийным, то второй я назвал бы демократическим. Бедность и аскетизм начала 30-х годов отразились в психологии целого поколения, к которому принадлежу и я. В нем есть понятие о неминуемости совместной жизни, о взаимопомощи, о сложности и разнообразии семейного устройства, о независимости от вещей, столь редких в то время, о приспособляемости и контактности, много помогавших нам на войне. Дети коммунальных квартир – одно из названий нашего поколения.
С конца 30-х годов, с выделением среды власти и интеллектуальной элиты, коммунальная квартира как форма быта начинает медленно распадаться. Из нее постепенно выезжают государственные чиновники, писатели, ученые, артисты.
Складывается новое время и с ним новый тип поселения – раздельный.
Но я далеко забежал вперед. И вновь возвращаюсь к своему ковчегу, которому долго еще ждать голубя с веткою оливы.
В нашем доме пятьдесят квартир. Я пытаюсь подсчитать его население. В пятидесятой – двадцать человек в четырех комнатах. В сорок шестой – девятеро. В тридцать шестой – пятнадцать. В восемнадцатой – десять. Средняя цифра, наверное, более десяти, человек двенадцать. Значит – человек шестьсот, а то и все семьсот. Да ведь это целое село! С церковью и с приходским училищем, с лабазами и торговыми заведениями, с трактиром и заезжим двором!
Да и протянулось бы это село в иных привольных местах версты на две, вдоль реки или тракта. А села и вполовину меньшего на всю жизнь хватило бы описывать современному прозаику – и работы, и беды, и свадьбы, и похороны, и вражду, и любовь, и коллективизацию, и войну, и детство, и старость.
Мне бы, может, правда, оттого, что я не современный прозаик, нашего дома и на одну повесть не хватило. И скорей потому, что жизнь его совсем не похожа на бытие деревни. У нас все на виду, а там все на миру. А на виду – не то что на миру. На виду пропадает тайная жизнь души, и человек предстает лишь в его видимости, во внешнем столкновении с другими, в дурных страстях, в раздражении от скученности и неудовлетворенности, от отсутствия традиции жизни, от вечного соблазна большого неутрясенного города. А предмет литературы – жизнь души, то есть жизнь нравственного сознания, утекающего из рук писателя в коммунальной неразберихе. Мир же душу по-своему, пусть порой и жестоко, но строит. Он – недреманное око веками добытой правды и житейского опыта.
Полувековая нравственная неустроенность города – причина того, что наша литература не создала истории городского народа. Были писатели «городские» – Замятин, Булгаков, Олеша. Но они вычленяли своих героев из общей массы. Они рассматривали не процесс, а вычленение из процесса, отстранение, потому что исходили из другого нравственного состояния, «внешнего» по отношению к городскому народу. Высшим образцом литературы того времени была лирика (Ахматова, Пастернак, Ходасевич, Заболоцкий) именно потому, что лирика держится на вычленении из ряда. Процесс может изобразить только проза. Видимо, перед прозой стояла задача, для нее непосильная, нетрадиционная, не имевшая корней в русской классике. И если нравственной устроенности не было, то все же была жизнь души, пусть глубоко искалеченная временем и обстоятельствами, была жажда этой жизни. И один только Платонов почувствовал и отразил эту жажду[5].
В начале 20-х годов в город вступила пугачевщина и отпраздновала свою победу грабежом. Клеймо грабежа лежит на целом поколении. Здесь не место говорить о том, что народ, ограбленный социальной системой, ответил грабежом без системы. Речь идет лишь о моральных последствиях грабежа. Нравственно неустроенный город, приобщенный к «экспроприации экспроприаторов», утерял нормальные моральные понятия и допустил террор 20-х годов, уничтожение церкви и культурных ценностей, собственных национальных традиций, допустил дикие формы коллективизации и 37-й год.
За все это ответственность несет и «духовная элита», принявшая нравственную концепцию «сверху». Она попыталась создать некий нравственный кодекс, основанный на понятии долга внешнего, а не внутреннего, жертвы внутренней цели ради внешней. А такой кодекс не мог быть и не был нравственным законом.
В России стремительно, несколькими волнами, происходила урбанизация.
Стихийное нашествие на город донэповского времени. Исход времен коллективизации. Послевоенная тотальная урбанизация. Каждая из этих волн отдаляла нравственное утрясение города, создание климата, где может произойти литература. Ибо каждая из волн приходила из деревни и провинции с разрушенным традиционным укладом психологии и с еще не сложившимся новым. Тоска по нравственности – один из главных движителей современной «деревенской» прозы, создаваемой людьми городскими, но еще сохранившими воспоминание о существовании нравственного уклада[6]. Черта этой прозы – нравственная ретроспекция. Поэтому, являясь по способу изображения прозой реалистической, это проза романтическая по существу.
Один из немногих писателей, пытающийся исследовать физиологию городского народа, – Трифонов. Его попытки, во многом несовершенные, все же плодотворны и своевременны. Об этом свидетельствует успех Трифонова среди читающей публики. Трифонов своими скромными средствами пытается продолжить линию Платонова, как это ни покажется парадоксально.
Чувствуя и понимая сказанное выше, я, конечно, не берусь внести свой особый вклад в описание истории городского народа.
И намерен лишь изобразить несколько лиц из того небольшого мира, в котором жил в детстве.
Напротив нас, в пятидесятой квартире, в комнате за ванной, живет сапожник Павел. Это красивый, курчавый человек, пропойца тихого нрава. Напившись, стучится к нам, вызывает отца и голосом хрипловатым и надломленным говорит: «Эх, доктор!». Машет рукой и уходит. У Павла маленькая, востроносая, вечно беременная жена Дарья. Жизнь сделала ее вороватой и хитрой. Работать она не любит. Вечно торчит на сквере и пасет последовательно: тихую, в отца, Маньку, мою ровесницу, потом Кольку, будущего вора, Тольку, будущего сапожника и буйного пьяницу, и красивую Лидку, ставшую парикмахершей и предметом домовых сплетен, а потом – с годами – Людку, Володьку и Мишку, а потом еще чрез годы – своих приблудных внуков. Так и просидела на скверу Дарья с полвека и никогда не спешила домой, в пятидесятую квартиру, где запах кухни, грязной постели и чиненого сапога, где пьяный Павел, а по смерти Павла – еще хуже – никого.
Таких жильцов, как Павел и Дарья, много в нашем доме. И сюжеты из их жизни просты и так часто повторяются, что даже кажутся мне в детстве естественными: пьянство, буйство, воровство, болезни и частые смерти.
Из этих семей формировались городские низы 30—40-х годов и росли будущие приблатненные солдаты Великой войны, те ребята, которым черт не брат, которые потом вдоволь натешили душу в Пруссии и Померании, кому-то мстя за голодное и темное детство.
Есть в доме люди, которых все побаиваются, с которыми все здороваются, а «приличные» жители стараются обойти стороной. Это Помидор, бандит. Помидор – молодой, но весь какой-то помятый, неприбранный, краснорожий, опухший. Он нагл, задирист, любит издеваться над слабыми. Когда он сидит в сквере, его всегда окружает толпа малолетних поклонников, которых он потом посылает «на дело», и они попадаются, их судят, посылают в лагеря. А Помидор, посмеиваясь, сидит на сквере, уверенный в своей силе и власти. И в том, что его никто не выдаст. А выдаст – Помидор везде достанет, хоть под землей.
Другой – Володька Станкутин, вор. Володька – аристократ. Он изысканно вежлив и немногословен. Всегда элегантно и чисто одет. В его тонком лице есть оттенок мечтательности. Он нервен, как породистая лошадь. Иногда вдруг лицо его каменеет, зеленоватые глаза становятся узкими и в них двумя лезвиями промелькивает жестокость. Становится страшно и неудобно. Но это на мгновение. В лице его вновь сдержанная доброжелательность аристократа. Он вежливо здоровается с жильцами, которые торопливо и заискивающе с ним раскланиваются и спешат пробежать мимо. На сквере Володька не сидит. Он полдня стоит у подъезда, видимо, забавляясь впечатлением, которое производит на всех.
Со мной он дружествен, и я не смею отказаться от беседы с ним. Он обычно спрашивает, читал ли я такую-то книгу. И советует:
– Прочти.
Однажды он приходит к отцу по медицинскому делу. На самом деле изучает расположение вещей в нашей квартире. И этим же летом по узкому карнизу шестого этажа через открытое окно залезает к нам и уносит одежду и столовое серебро.
Операцию эту замечает старший дворник Федор Абрамыч. Он отбирает украденное, и мать Станкутина, чахоточная сестра Туберкулезного института и сообщница сына, приходит к моему отцу с просьбой не доводить дело до милиции. Происходит соглашение сторон, после чего Станкутин как бы удваивает интерес ко мне. Как-то достает из кармана выпуски «Пещеры Лихтвейса» и говорит:
– Прочти.
Упомянутый Федор Абрамыч, старик малого роста, узкоплечий, с длинным туловищем и несоответственно короткими ногами, всегда, даже, кажется, летом обутыми в огромные валенки. Глаза старшего дворника, слезящиеся, мутновато-голубого цвета, со множеством красных жилок на белках, таят в себе мудрость и спокойствие. Старик никого не боится, а его побаивается и уважает даже самая буйная часть населения нашего дома. По каким таким связям – непонятно. Утром, одетый в дворницкий фартук, Абрамыч, кряхтя и с трудом поворачивая и наклоняя подагрическое тело, подметает тротуар и мостовую и громко ворчит:
– Голытьба!
Уважает он прежних жильцов, сохранившихся небольшими вкраплениями в коммунальном перенаселении дома.
Этих жильцов не так много, но я знаю ближе их и их детей, потому что они общаются с моими родителями.
Ниже нас на этаж живет важный, хорошо откормленный инженер Коган-Шелестян, родом из Румынии. О нем уважительно говорят, что он представитель австрийской фирмы электроприборов «Ратау». Счетчик этой фирмы, висящий в передней, кажется мне представителем Когана-Шелестяна. У инженера – красавица жена Вера Николаевна и двое детей – Саша и Фрида. В начале 20-х годов они уезжают в Румынию. А в квартире ответственным съемщиком остается старуха Анна Прокофьевна, женщина волевая, из простых, которая вскоре поселяет в инженерской квартире кучу деревенской родни. А еще, в порядке уплотнения, въезжают две пожилые сестры из бывшего духовного звания и служащий речного ведомства рыжий Прейс.
Сестры, как потом оказывается, родные тетки замечательного писателя и переводчика Николая Любимова. И сам Николай Михайлович в студенчестве живет у своих теток. Мы с ним приобретаем несколько страниц общих воспоминаний.
С ним вместе вспомнили мы легенду о конце инженера Когана-Шелестяна. Эта и подобные истории развивались на протяжении времени, и теперь я не могу точно вспомнить, что было моим собственным детским впечатлением, а что узнано из разговоров взрослых и измыслено потом. Многие сюжеты начинались, во всяком случае, в самом раннем моем возрасте и заканчивались много лет спустя.
Дело происходило во время войны. Будто бы инженер был очень богат, сына женил, а дочь выдал замуж за состоятельных людей, а в войну, чтобы не конфисковали у него, как у еврея, имущество, все отписал детям. Говорила Анна Прокофьевна, что после этого сын, носивший уже румынскую фамилию Шелестяну, от отца отказался, зять тоже прибрал его деньги, но компрометирующие родственные отношения прервал. И обедневший инженер Коган с протянутой рукой стоял у подъезда оперы в дни великосветских премьер, наблюдая шикарный выезд своих детей.
Было так или не было? Но это один из многочисленных бродячих сюжетов нашего дома.
Напротив важного инженера жили два брата – Шура и Юлик Биргеры. Они тоже отбыли за границу, кажется в Бельгию. Комнаты же их заняли два семейства. Большую – грузчик Мухин, человек огромной физической силы и, непонятно почему, злобный ненавистник советской власти. Жил он с женой, дородной и красивой Валентиной, бывшей кухаркой Биргеров, с пасынком и сыном Толькой.
А в комнату поменьше въехала отвратительно толстая и уродливая, как клубень, гулящая баба с дочерью Манькой, придурковатой проституткой.
После отъезда Когана и Биргеров из старых жильцов в нашем подъезде самой заметной фигурой остался доктор Игорь Игоревич Вокач. Своей таинственной и замкнутой жизнью он вызывал любопытство и почтение. На всех дверях и стенах подъезда обильно были нацарапаны или изображены мелом неприличные слова и рисунки. На двери же Игоря Игоревича неизменно красовалась надпись: «Здесь живет известный врач Игорь Игорич Вокач».
Вокач служить в советских учреждениях отказался. Он имел вывеску и частную практику. Врач он был превосходный. Его вызывали к нам только при самых опасных заболеваниях, потому что, как медик у медика, гонорар брать он отказывался. Впрочем, тогда это правило было повсеместно распространено и, надо сказать, порой затрудняло приглашение хорошего специалиста к больному из врачебной семьи. Какой-нибудь почтенный старец, профессор неукоснительно приезжал по вызову любого своего коллеги и бесплатно лечил его самого, его чад и домочадцев.
Игорь Игоревич казался мне в детстве нелюдимым, сердитым стариком, хотя лет ему было не более пятидесяти. Неразговорчивость же Вокача, возможно, объяснялась тем, что он был наследственный заика. В мужском колене этой фамилии передавалось из поколения в поколение имя Игорь и заикание. В домашнем общении, говорят, Игорь Игоревич был любезен, весел и общителен. У меня не было случая это наблюдать.
Внешность Игоря Игоревича была замечательная, хотя шаркающая походка, палка и некоторая сутуловатость фигуры придавали ему старообразность. Контрастом старческому силуэту были огненные, огромные черные глаза, красивый молодой рот, обрамленный чернейшей без седины бородкой. В нем явствен был южнославянский элемент и скрыт адриатический темперамент.
Несмотря на внешнюю необщительность и недоступность, Вокач, видимо, был человек страстей. И общественное мнение никак не могло сопрячь его респектабельный образ с тем, что Вокач был несколько раз женат и породил от разных женщин детей, законных и полузаконных.
В квартире Вокача жил его старший сын Андрей Игоревич, школьный учитель математики, человек молчаливый, интеллигентный и тоже необщительный, но какой-то иной необщительностью – не принципиальной и как бы социальной, а вялой, отрешенной, идущей от натуры, где угадывалось скрытое страдание и неприятие жизни.
Темперамент деда передался внуку Вокача – огненно-рыжему, веснушчатому и веселому Сашке. Он стал актером, долго играл в провинции, а теперь артист «Современника».
Старый Вокач внушал разноперым и не склонным к благоговению обитателям дома неизменное чувство почтения. Его квартира была наглухо замкнута даже от официальной сексотки Марии Ивановны, державшей в страхе весь наш подъезд. Это была хрупкая пожилая женщина с острыми мышиными глазками, с лицом строгим, всегда недовольным и таинственным. Когда кто-либо поднимался по лестнице, Мария Ивановна приоткрывала дверь, откровенно оглядывала идущего и начинала копаться в почтовом ящике. Она словно жила у себя в передней, постоянно прислушиваясь к звукам подъезда. Знала она все. Заглядывала в квартиры. И никто не смел ее ослушаться, если она встревала в квартирные распри, никто не смел ее выгнать либо захлопнуть перед нею дверь. Во время ссор жильцы часто грозили друг другу:
– Позову Марию Ивановну, – как детям грозят: позову волка.
Никто не знает, какие сломанные судьбы лежат на совести этой женщины, державшей в страхе наш дом несколько десятилетий. Она была символом тайной власти; между тем, сын ее, великовозрастный Шурка, писал на стенах подъезда и в лифте: «Бей жидов, спасай Россию!» и рисовал фашистский знак.
Так вот, даже пресловутая Мария Ивановна не смела постучаться в квартиру Вокача. Он чем-то был сильней ее.
Я впоследствии размышлял о причинах особого положения Игоря Игоревича в нашем доме. Теперь объясняю это так.
В том перелопачивании социальных слоев России, которое происходило в 20-е годы в городах, во всяком случае в Москве, в той перетряске и смешении главным было отпадение от среды. В России остались только «бывшие» или «будущие». Бывшие дворяне, бывшие купцы и заводчики, бывшее духовенство. И рядом – будущие рабочие, будущая образованщина, будущие чиновники позднейших времен. Нэп как бы задержал все процессы кристаллизации, которые ускорились только в 30-е годы.
Власть до времени менее всего затронула средние слои интеллигенции, необходимые для функционирования общества и государства. «Интеллигент» было имя бранное. Но вместе с тем и определявшее некий устойчивый социальный тип, тип наличествующий.
Средняя интеллигенция в политическом смысле была довольно аморфна, и пример Вокача, почти открыто не признававшего власть, был не самым распространенным. Но именно это подспудное ощущение «необходимости», «ценности» интеллигента в сочетании с личным бесстрашием и наличием твердых принципов создавало Вокачу некий ореол и неприкосновенность.
На какой-то момент носителями культуры, продолжателями нравственной и культурной традиции оказались русские средние интеллигенты формирования конца XIX – начала XX века[7].
Этот тип к войне вымер или эволюционировал, или деформировался, о чем я скажу ниже. Но он в своем историческом развитии многое породил в нашем обществе, в том числе – и нравственную позицию нынешней истинной культурной элиты, нравственную преемственность русских поколений – в ее высших, демократических и гуманистических выражениях; породил он и тип интеллигента из «полуэлиты» – тип возвратный, подражательный, в сущности камуфлирующийся под интеллигента 10—20-х годов – тип городского почвенника, тоже пещерного и как бы не принимающего современности, но где-то глубоко зависимого от нее и порождающего в ней явления духовного упадка.
Интеллигентов, как я говорил, было не так много в доме. К ним относились скорей насмешливо, чем почтительно, ибо внешний облик и манеры сильно отличали их от остальных наших обывателей.
Помню я смешную фигуру архитектора Покровского, строителя нашего дома. Долговязый, старомодно одетый, с длинным лицом почти без подбородка, он выходил всегда в сопровождении жены, удивительно внешне на него похожей, и целого выводка уродливых дочерей с одинаковыми сумочками или муфточками. В аристократических их профилях было что-то овечье. Может быть, выражение крайней безобидности. И невольно ожидалось, что семейство Покровских заблеет и выбежит на газон сквера щипать травку.
Жил у нас еще неудачливый и очень глупый инженер Френкель. У него всю жизнь что-нибудь отбирали. Он уверял, что изобрел искусственный шелк, а от изобретения его оттерли. И он вел многолетнюю тяжбу по этому поводу, перипетии которой рассказывал всем желающим, даже детям. Потом у него реквизировали полквартиры, в порядке уплотнения. Потом увели жену, которую он очень любил. Потом он женился снова на матери известной балерины. А та оттяпала у него комнату и тоже ушла.
Особое место в моей детской памяти занимает Алексей Николаевич Дорошенко, отец подруги моего детства. О нем помню из рассказов, что он был талантливый экономист, один из авторов денежной реформы 20-х годов. Это был милейший, в чеховском пенсне, молодой человек, всегда несколько встрепанный, разговорчивый, общительный. Он часто играл с нами, детьми, дразнил плаксу-дочь, напевая песенку:
Тумба-тумба, тумба-тумба, Люська с чертиком гуляет.Алексей Николаевич умер рано, и лицо его, которое, кажется, я помню, скорей всего сопряглось с его фотографией, висевшей над старым письменным столом: чеховское пенсне, слегка встрепанные волосы, выражение доброты и ума.
Болезнь и смерть Алексея Николаевича – одно из сильнейших детских впечатлений.
В каком-то выцветшем коротком халатике Алексей Николаевич ходит по комнате, которая одновременно и столовая, и детская, по комнате, где играем мы с Люсей. Рассеянно отвечает он на наши приставания. Кашляет, сплевывая в баночку. А взгляд его устремлен в окно, на морг Туберкулезного института, у ворот которого похоронные дроги ожидают очередного пассажира.
«А ты все-таки попика, попика пригласи», – говорит он жене. И я думаю, зачем ему попугай, не для нас ли с Люсей, и понимаю, что не для нас.
Алексей Николаевич умирает от болезни, которую теперь чаще всего вылечивают антибиотиками. Но стоило ли лечить его тогда, даже антибиотиками, если ему все равно не уцелеть в тридцать седьмом, а то и раньше, когда прибирали легальных марксистов, эсеров всех мастей и прочих. Алексей Николаевич был из этой породы.
У него я впервые видел глаза умирающего – без пенсне, мутные, отрешенные, потусторонние. Это навсегда запомнилось.
Проклятие смерти лежало на восемнадцатой квартире, где жили Дорошенко. Там, в темной комнате за кухней, отравилась сулемой няня Туберкулезного института. Я видел ее бедный, некрашеный гроб, ее самое с закрытыми глазами, с синеватым, очень худым лицом – потом синий цвет мне чудился цветом яда.
Через несколько лет в шкафу Люсиной комнаты повесилась тихая, некрасивая Броня, родственница Дорошенок, снимавшая у них угол. Оттуда же, из этой комнаты, выбежала, чтобы броситься из окна подъезда, безумная Маша Кнорре, дочь Люси. Оттуда же вынесли убитую этой смертью мать Люси – Эсфирь Михайловну.
Смерти, смерти. Много смертей в нашем доме. И чуть ли не с младенчества в мое сознание входит таинственное понятие смерти.
Умирает сумасшедший нэпман Эпштейн от наследственного сифилиса. Он лежит в гробу, лицо его забинтовано. Он буйствовал в сумасшедшем доме, и его, видно, зверски били. В головах гроба стоят два подростка, сыновья Эпштейна, дебиловатые Мома и Адик. Стоят безучастно, без интереса наблюдая процедуру похорон.
Умирает, оставив двух сирот, сестра из Туберкулезного. У нее совершенно желтое, аскетическое лицо. Девочки – возле гроба, растерянные и одинокие.
Умирает жена рыжего Прейса после тайного аборта. Прейс деловито ее хоронит. Остаются двое сирот.
Смерть в моем раннем сознании – не конец чего-то, а начало, перелом. Дальше продолжаются судьбы мужей, жен, детей.
Смерть – некое событие, являющееся началом других событий. Смерть как конец я начинаю понимать потом, лет в двенадцать. И не сплю ночами, в ознобе страха, вдруг осознав, что и я смертен.
Но это потом. Пока же смерть странным образом размыкает узкий мир нашего дома.
Площадь Борьбы, бывшая Александровская, – треугольник, неровно замощенный булыжником. На моей памяти здесь разбивается сквер. В сквере молоденькие деревца, теперь уже выросшие и тенистые. А тогда тощие и не мешавшие обзору. По одной стороне треугольника, ограничивающего сквер, – наш дом. По другой – забор Туберкулезного института и на углу Новой Божедомки, ныне улицы Достоевского, – морг.
Морг явным образом доказывает, что смертны не только обитатели нашего дома, но и другие жители города. Значит, жизнь переламывается и продолжается и там, возможно, таким же образом, как и в замкнутом мире дома.
Похороны, кроме того, – зрелище, одно из самых увлекательных у нас на скверу, наряду с шарманщиком, ученым медведем, водимым цыганами, с бродячими акробатами и петрушкой.
Похороны – зрелище.
У ворот морга стоит резной катафалк, чаще всего черный, а порой красный – это хоронят партийца.
Пара черных коней, запряженных в одну оглоблю, с черными или красными султанами, как в цирке, покрытых траурным сетчатым покрывалом. Траурный возница в цилиндре с перышком и в длинном, торжественном, хотя и засаленном одеянии.
И духовой оркестр, играющий марш Шопена или «Замучен тяжелой неволей». И всхлипывания, и плач. И медленно трогающийся кортеж, уходящий либо по Бахметьевской – к Лазаревскому кладбищу, там теперь детский парк культуры и отдыха, либо – к Палихе, туда, на Ваганьково.
И уходящий, удаляющийся – и чем дальше, тем чище и грустней звучащий оркестр – тоже размыкает пространство. Но это иная даль, чем свалки, пустыри и паровозы за садом баронессы Корф, – торжественная, обстроенная городом, раскрывающаяся музыкально даль жизни, смыкающаяся с потусторонностью, но далеко, невидимо, даль, в которую уходит похоронный кортеж, символ слома и начала новых судеб.
«Для чего это воспоминание? – вновь настойчиво спрашиваю и себя. – Для чего эта память, так настоятельно требующая излияния чернил на бумагу?»
Только ли болезнь памяти заставляет нас взяться за перо, чтобы изобразить прорастание собственной жизни и того, что произрастает вокруг? То, что произрастает вокруг! Может быть, в этом и весь ответ?
Воспоминания пишут по многим причинам. От одиночества и ощущения гибели, как пишут записку на тонущем корабле и, запечатав ее в бутылке, вверяют волнам бурного моря, авось прибьется к какому-нибудь берегу последний вопль о кончающейся жизни. Пишут свидетельские показания о событиях, чтобы распутать клубок неправды, а то и еще более запутать его. Пишут из любви к повествованию и от скуки. Пишут из тщеславия – объяснительные записки о собственной личности, направленные суду потомков. А на деле получаются саморазоблачения, ибо нет никого наивнее и откровеннее, чем люди, склонные к самолюбованию.
Бывают записки умных людей с дурной памятью. Или записки дураков с хорошей. И потом долго бьются – кто же написал правду. Есть воспоминание – течение. Есть воспоминание – учение, житие, притча. Есть воспоминание – памятник, попытка уберечь себя от забвения.
Многие из названных видов воспоминаний не чужды мне. Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель – воссоздание собственного «я», исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное «я» и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее – ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно.
К тому же я собираюсь иметь дело с собственным «я». А это одно из самых темных наших понятий. Мы скорей чувствуем, чем понимаем, что это такое.
В этом понятии есть одно, кажется, всем присущее свойство. «Я» не изменяется всю жизнь. «Я» – стержневое начало в человеке. Меняется все: характер, убеждения, внешность. «Я» неизменно. Оно – чувство твоего существования в мире и появляется вместе с сознанием (а может быть, и раньше его) и угасает вместе с ним (а может быть, и продолжается – кто знает?).
«Я» неизменно. Во все времена оно чувствует боль и удовольствие и воспоминание о боли и удовольствии как нечто, присущее одному неизменяющемуся субъекту. И в этом осознает себя как продолжающееся «я», независимо от той оболочки, в которую заключили его время, обстоятельства и возраст.
«Я» не изменяется как субъект. Но чем больше мы живем, тем более расходится твое собственное ощущение «я» с тем, что видят другие, да и ты сам своим «не я».
В этом жгучая правда стихотворения Ходасевича:
Я, я, я. Что за дикое слово!«Я» сущее и «я» воспринимаемое пребывают в единстве лишь в детстве. Оттого с такой радостью обращаемся мы к детству, к незамутненному самому себе. Оттуда и должно пойти воссоздание. То есть возвращение к нравственному содержанию, данному нам от природы, возвращение к себе.
Опыт должен быть счищен слой за слоем. И каждый слой исследован отдельно. Странная задача!
Исследовать опыт и оставить нетронутым «я»? Возможно ли это?
Кто знает! За рамками «я» в этой книге остается исследование опыта, может быть, местами скучноватое, как всякое исследование. Но если не будет просвечивать то изначальное, чем даже гордиться я не могу, ибо было мне дано с рождением, если не будет просвечивать «я», в чьих пороках не могу каяться, ибо с ними пришел в мир, если не будет его – я сам, дописав последние строки, скажу себе: книга не удалась.
Квартира
Квартира на Александровской площади досталась нам вот каким образом.
С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображены упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталончиках – мои двоюродные брат и сестра. Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле fin de siècle, досталась нам. Отец как врач при действующей армии получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.
С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы.
Не помню возвращения отца с фронта, хотя, кажется, умел к тому времени говорить. Смутно помню железную буржуйку в большой комнате, сохранившей название столовой. Следы от нее навсегда остались на паркете.
Первое воспоминание. Я лежу в кроватке. А по комнате ходит большой человек в шинели внакидку и что-то жует. У него толстые красные губы. Потом я его узнал – это Эдельштейн, друг отца, военный врач. В Москве он был зимой двадцать первого года. Мне, значит, месяцев восемь. Человек ест. Для детского сознания еда – понятное и важное дело.
Рано пришедшее слово – Пушкин. Я стою на кухонном окне. Мне говорят: «Гляди – Пушкин. Пушкин – козел». Старая интеллигентка из нашего дома держит во дворе коз. Ей нужно козье молоко для поддержания здоровья.
Козы пасутся в саду баронессы Корф, иногда выходят на улицу и едят афиши.
Окно – мое кино. События происходят в кухонном окне. Из столовой – только лиственная поверхность садов, Сухарева башня, отдаленные крыши домов. Улицы не видно с шестого этажа. От нее – только звуки.
Еще до рассвета – шоркает дворницкая метла о тротуар. Федор Абрамыч встает раньше птиц. Потом в тишине цоканье копыт. Извозчики. Одно из первых моих слов в такт копытам: э-э-дет! Просыпаются галки. Огромными стаями они шумно кружат над садом. В окне – заря и галочьи стаи. Едут ломовики, гремя о булыжник железными шинами колес. Иногда долго везут рельсу – огромный камертон.
Потом прокладывают по Бахметьевской трамвайную линию. На ранней заре со звоном стеклянного бубна пролетают трамваи.
Звуки способствуют воображению. Я представляю себе извозчика, трамвай, метлу, может быть, вовсе не такими, каковы они на самом деле.
Звуки заоконного пространства пробуждают чувство одиночества.
Ощущение прочности возвращается, когда постепенно заря высветляет углы комнаты, кофейного цвета тисненые обои. И убранство. Сияет желточного цвета паркет, который пахнет мастикой и воском. На полу французский ковер – по красному фону зеленовато-голубой орнамент. Бахрома аккуратно расправлена – кисть к кисти. Рояль «Бехштейн», по сложному лекалу очерченный у окна, отражает зарю в своем черном озере. Вдоль стен, по обе стороны массивного стола под плюшевой зеленой скатертью – предводители нашей мебели – буфет и сервант. Буфет как орган. Он блещет гранями хрусталя, закруглениями красного дерева, зеркалами, медными ручками и перламутром. У дальней стены – баржой на приколе – тоже красного дерева кровать. И еще множество предметов помельче: тумбочка – узкий дом с мезонином; чайный столик на колесиках, откидывающий по бокам четыре плоскости из толстого стекла; стоячие часы в углу, похожие на человека в чалме, часы с двойным боем, которому предшествует долгое хрипение в глубине организма; и еще золоченые овальные часы на буфете рядом с серебряной вазой; торшер, литой из белого металла, с палевым шелковым абажуром; кушетка с причудливо изогнутой спинкой. А над столом свисает на чугунных цепях огромная лампа с цветными стеклышками и хрустальными шарами и шариками. Шарики иногда выпадали, и я утаскивал их, постепенно разрушая лампу.
Моя кроватка вдоль наглухо закрытой двери в кабинет явно не подходит ко всему мебельному ансамблю. Но у папы частная практика – у подъезда прибита вывеска «Кожные и венерические болезни». На двери – надраенная медная табличка. А в квартире – кабинет.
Кабинет, как я теперь понимаю, обставлен на медные деньги. Письменный стол и кресло, покрашенные белой эмалевой краской, клеенчатая кушетка, плохонький шкаф для инструментов и такой же – книжный, украшенный, впрочем, разрозненными томами «Реальной энциклопедии». Но само слово – кабинет – звучит внушительно. Туда мне удается проникнуть только изредка и только тайком, чтобы полюбоваться на никелированные орудия папиного ремесла да украсть несколько листков гладкой бумаги для рецептов и анамнезов. Иногда удается прихватить круглую печать. Я с восторгом ее ляпаю на все, что попадется под руку.
Вещи у нас в квартире уважаемые. Папа искренно огорчается, когда у нас что-нибудь портится или ломается. И я редко что-нибудь порчу или ломаю. У меня вырабатывается нечто вроде привязанности к вещам. Но не вообще, а к знакомым предметам нашей квартиры.
У меня к ним родственное чувство и род жалости, оставшейся на всю жизнь, дескать, работали вы на меня, служили мне, а я вас недостаточно люблю, недостаточно о вас забочусь. Потому что, по странности, любви к вещам у меня нет, и никогда не было желания иметь вещи, кроме тех, что у нас были. И когда они старели и выбывали из строя, мне тяжело было что-либо выбросить на свалку, а хотелось запихать куда-нибудь на чердак, на пенсию – пусть живет старый стул в свое удовольствие, ничего не делает и покоится на чердаке.
Это чувство жалости к вещам у меня очень раннее. Оно, видимо, идет от раннего ощущения непрочности мира, символом которого были вещи, казалось бы, прочные и надежные навсегда.
Самый старый обитатель нашей квартиры – дед. Он старый с самого начала до самого конца, почти двадцать лет, которые я его знаю.
Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу. Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы. Молитва – его развлечение и удовольствие. Время от времени он прерывается, чтобы переругнуться с теткой. И продолжает с полуслова свой речитатив.
Дед, по моим позднейшим наблюдениям, в бога верует, но не очень. Ему просто удобнее, чтобы он был. А молитвы нравятся ему по содержанию и еще потому, что он знает к ним комментарии и толкования, и потому, что хорошо выучил древнееврейский. И потому, что можно громко попеть, ибо все у деда давно в полном порядке.
Он великолепно знает французский, английский, немецкий, древнееврейский. И еще итальянский, арамейский и немного испанский. И, помолившись, читает грамматики и словари, вероятно, с тем же чувством, с каким молится, – получая удовольствие от знания.
Знания же ему нужны для самоуважения и для того, чтобы передавать их другим и получать за это деньги.
Дед не то чтобы корыстен – он скуп. Ему деньги нужны не для покупки радостей жизни, не для ощущения тайной власти, как у скупого рыцаря.
Деньги для него – овеществление накопленных знаний. Сколько знаю, столько получаю и имею. Он накапливает просто так. И думаю, если бы было возможно, производил бы обратную мену – деньги бы отдавал за знания.
Но это ему было не нужно. Он учился всю жизнь сам. И бесплатно.
Его отец – ювелир – тоже, видать, образцовый скряга, рано пустил деда жить своим умом. И дед, поучившись в Виленском раввинате, оттуда ушел, решив делать светскую карьеру. После чего выучил несколько грамматик и толстых словарей и стал учителем иностранных языков. Был он типичный учитель, какие бывали сто лет назад. О педагогике не думал. Учениками интересовался мало. Но предмет знал.
Мною в раннем детстве дед не интересовался, потому, видимо, что я не знал иностранных языков. А как меня стали учить французскому, решил, что и у меня все в порядке, и даже почувствовал некоторую симпатию.
Порой заходил в комнату, когда я готовил уроки, садился в уголочке, некоторое время наблюдал за мной. Потом спрашивал:
– А как будет по-французски «Я пошел бы гулять, если бы была хорошая погода»?
Я отвечал. И дед уходил, с удовлетворением поглаживая бородку, всегда криво подстриженную, и напевая:
– Бо-бо-бо-бо!
Он только однажды пытался вмешаться в мое воспитание, этим, может быть, обнаружив, что имеет в отношении меня некоторые планы.
Когда мне было лет шесть, очень довольный пришел откуда-то и сказал мне:
– Завтра придет мосье Гарбарский.
Почему «мосье», я до сих пор не знаю, ведь он должен был меня учить древнееврейскому и был бы в этом случае «ребе Гарбарский».
Мосье Гарбарский оказался рыжеватым курчавым молодым человеком с выпученными светлыми глазами. Он принес книжки с рисунками и почему-то листал их сзаду наперед. Человечков я поглядел, а учиться древнееврейскому наотрез отказался.
Встретился я с ним лет через восемь, будучи учеником шестого класса. Как-то завуч сказал нам:
– Завтра к вам придет новый учитель немецкого языка.
Мы узнали друг друга. Но делали вид, что познакомились впервые. Обоим это было выгодно. Я скрыл от класса, что Гарбарский бывший «мосье» или «ребе». А он никогда не вызывал меня к доске.
Лишний пример, что наше невежество зависит не от учителей, а от обстоятельств и нас самих.
Дед учительствовал очень долго – лет до восьмидесяти с лишком. Но в конце концов ослабел слухом и зрением, и новые ученики перестали появляться.
Осталась только дружба с мадам Горфинкель, ученицей сорокалетней давности. Семейство этой дамы дед регулярно посещал. К визиту готовился загодя. Несколько дней сочинял французские стихи в духе старинной оды, где воспевались добродетели мадам Горфинкель, особливо ее щедрость, ибо дед всегда возвращался от ученицы с кульком гостинцев. Воспоминание о прежнем кульке и ожидание нового подстегивали его вдохновение.
В день визита надевалась ветхая манишка и галстук-бабочка древнего происхождения, а поверх – сюртук покроя восьмидесятых годов прошлого века. Из-за сюртука, изрядно засаленного, – дед был неряшлив – вспыхивала громкая ссора с теткой, пытавшейся хоть немного оттереть пятна. Дед на жаргоне никогда не говорил, предпочитая другие языки, но с теткой ругался только на этом наречии. И сюртук чистить не давал, боясь его повреждения.
На голову дед надевал котелок, давно дырявый, после чего, кряхтя, влезал в бобровую шубу, откуда бобер торчал сквозь прорехи. Я любил на досуге дергать подкладку за хвостики и немало их поотрывал.
Дед отправлялся в гости.
Было это часов за пять до назначенного времени, ибо из скупости дед не пользовался не только извозчиком, но и трамваем, утверждая – может быть, не без оснований, – что пешее хождение всего полезней.
Идти ему было до Остоженки. И шел не торопясь. Отдыхал в Екатерининском парке, потом на Цветном бульваре, потом на многих скамейках Бульварного кольца. Везде ведя приятные беседы и заводя знакомства, особенно если попадался собеседник, знающий иностранные языки.
Так однажды он познакомился с негром.
Вернувшись, по обыкновению, от мадам Горфинкель уже к вечеру, дед в тот раз был явно взволнован и потребовал, чтобы тетка на следующий день купила сухарей и сахару, ибо у него завтра гость. Случай покупки угощения был необыкновенный.
Я упустил момент, когда пришел негр. В полдень из комнаты деда послышалось громкое пение. Я приоткрыл дверь. В комнате деда, разевая огромный рот, пел негр.
Но негр пришел только однажды.
Дед же в основном скучал. Читал по привычке через толстую лупу сборники грамматических упражнений. Заходил ко мне, просил отыскать в потрепанном русско-французском словаре Макарова какое-нибудь слово и, испытывая память, шпарил наизусть несколько страниц. Он вообще проверял ход своего дряхления. Бывало, подойдет к окну, долго всматривается и спросит:
– Ты видишь Сухареву башню?
Мне было жалко деда. И я отвечал:
– Нет, сегодня туман.
Его удовлетворял такой ответ, и он уходил, напевая свое «бо-бо-бо».
Еще он раз в неделю ходил в Тихвинские бани, с открытия до закрытия парился и мылся на полный двугривенный. Иногда сиживал на сквере, тщетно подстерегая собеседника. В булочной покупал французскую булку, ожидая, чтобы привезли свежие. И, поднимаясь на шестой этаж без лифта, громко считал ступеньки. Как будет его одиннадцатая – значит, взобрался домой. Истинным его развлечением было чаепитие, которое длилось с небольшими перерывами весь день. Чаем своим он сильно надоедал нашей Марфуше. Та громко ворчала:
– Ходишь, ходишь, а тебе уже помирать пора.
Дед делал вид, что не слышит, вежливо переспрашивал:
– Что вы говорите?
И она, устыдившись, ставила на керосинку очередной чайник.
Чай, по обычаю, пился с молоком. Но отпив полстакана, дед снова доливал его кипятком, жалуясь на то, что остыл. Сахару же и молока больше не добавлял. Оттого, в конце концов, пил мутный несладкий кипяток. Даже пробовал с солью. Из экономии.
Но были у деда и свои звездные часы – весна и конец лета, время очередных и вступительных экзаменов в Институт инженеров транспорта.
Как старый боевой конь, услышавший сигнал, дед в эти дни с самого раннего утра был взволнован. С теткой не переругивался, деловито собирался и торопливо уходил. Он шел в Инженерный сад.
Тут он располагался на скамейке с ликующей уверенностью в удаче. И действительно, долго ждать не приходилось. Кто-нибудь из студентов садился рядом. Дед начинал беседу. И скоро выяснялось, что некий замечательный старец готов консультировать каждого желающего по любому вопросу грамматики на любом языке.
Вокруг деда собирались студенты. Он расцветал, спрягая неправильные глаголы, был неутомим и никогда не отвлекался.
После обеда, до темноты, он тоже сидел в саду. И его уже там знали и вспоминали с прошлого года. И так до конца экзаменов.
Студенты разъезжались. Дед возвращался домой. Ему, наверное, бывало грустно. Но он не был человеком чувства. Получив свое удовольствие от жизни, он ожидал следующего.
Когда я теперь о нем вспоминаю, я думаю, что, в сущности, мало знал деда. Я почти не знаю его жизни до квартиры, и, надо признаться, он никогда не пытался ничего рассказать о себе, о своей предыстории. У него не было потребности в истории, хотя бы в своей собственной, и повествования о себе не было не от скрытности натуры или от присутствия душевной тайны. Дед, напротив, был человек открытый, бесхитростно устроенный. Он не умел говорить о себе, а только о грамматике, не умел гордиться ничем другим, кроме имеющихся сведений, из-за особого своего устройства, счастливого, потому что защищенного от боли проживания жизни, а по существу – бедного и недостаточного для устроения истинной личности.
Из всех людей детства наименьшее влияние на меня оказал дед. У него всю жизнь не было отношений – ни с женой, ни с детьми, ни с друзьями. Не было и со мной. Накопительство было его единственным призванием и удовольствием. Он не был накопителем жестоким, беспринципным, страшным. Нет, все, что имел, зарабатывал собственным горбом. Но жил процентами с горба и ничем иным. При том был простодушен.
Деньги, например, всегда вкладывал в займы – и в царское время, и при Керенском, и при советской власти. Мечтал выиграть. Не выигрывал, а деньги терял. Но не сильно огорчался, а начинал накапливать снова.
Между прочим, деньги его так же бессмысленно пропали, как и накапливались. Когда дед умер, тетка сожгла старые его книги, засаленные и грязные, как ей казалось – никому не нужные. И чуть не последнюю сжигая, обнаружила между страницами переложенные облигации. Мало их осталось.
Да, мало что осталось от моего деда, хоть жил он на земле девяносто три года. И все же что-то досталось от него мне. Мы все состоим из кусков самочувствия, доставшихся нам от предков. Я знаю, что досталось мне от матери, что от отца. Когда я равнодушен, я – дед.
С дедовой стороны семейное предание расплывается в образе прадеда – ювелира, пустившего своего сына самостоятельно странствовать по волнам житейского моря.
Многочисленные лица обступают меня со стороны бабки, обросшей громадным кланом Фердинандов, коих в ее генерации было штук тринадцать с женами, мужьями, десятками детей – двоюродными братьями и сестрами матери – с детьми детей. У Фердинандов – фамильная гордость, семейная солидарность, постоянная связь при распространенности по разным городам. Их разветвления еще на моей памяти живут в Минске, Воронеже, Куйбышеве, Борисоглебске, постоянно мигрируют, женятся, плодятся, растекаются, но долго не утрачивают между собой отношений. Троюродные и четвероюродные еще числятся родственниками и вдруг приезжают в гости или в командировку, ночуют, живут, едят у нас и переносят друг от друга семейные истории и происшествия старых и новых годов. У них еще общие воспоминания, неожиданно обнаруживаемое сходство в привычках или в носах. Огромные фердинандовские носы они носят, как гербы дворянской фамилии.
Общепризнанный глава клана – дядя Натан, огромный, пузатый, с носом баклажанного типа, при этом по-особому элегантный и представительный, как бывший богатый человек. Дядя Натан – мой двоюродный дед, комиссионер рояльной фирмы «Шредер» и меломан – отличается невероятной щедростью, добродушием и веселостью. Всю жизнь он ненавидит скучную и вечно охающую свою жену, которая исправно рожает ему детей и ожидает его из постоянных поездок, где дядя умел сочетать серьезное дело с низменным удовольствием.
Дядю все уважают, радостно ожидают в гости. И он, прибывая, – огромный, толстый, шумный – всегда одаряет каждого из племянников и двоюродных внучат чем-нибудь приятным и не совсем утилитарным – банкой халвы, обломком браслета, бронзовым Мефистофелем, ручкой слоновой кости для чесания спины. Мне, когда я подрос, стал приносить контрамарки в Консерваторию.
– Э-э, как там зовут твоего мальчика, – говорил он матери, – пусть пойдет послушает музыку.
Дядю ослушаться было нельзя. И я ходил. И довольно рано привык к музыке.
Семейная молва приписывала дяде Натану нечто французское. И не без некоторых, как считалось в родне, оснований.
Все известные мне Фердинанды происходили от уездного фельдшера из города Борисова Минской губернии Авраама Фердинанда. Об этом моем прадеде немало я слышал от матери и от тетки. В одной из комнат до войны даже висел его большой дагерротип – старик с приятными чертами задумчивого важного лица, которого, как у всей мужской части его рода, не портил богатырский нос.
Однако непосредственно за прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступая с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного и плодовитого рода.
Не знаю, существовал ли названный маркитант или он – плод досужего воображения моих дядьев, пытавшихся объяснить наличие бродячей крови в семье исконно солидных и положительных казенных раввинов, лекарей, аптекарей, домовладельцев, некоего неуправляемого элемента, некоторых, и довольно многочисленных, отклонений. В этой семье, как о заморских птицах, рассказывали о Фердинандах – картежниках, лошадниках и наркоманах, прожигателях жизни и обожателях женщин. Некоторые из них, овеянные соблазнительной легендой, даже появлялись в нашем доме, например дядя Борис, проигравший на бегах два состояния, жену и всю свою долгую жизнь.
Почему-то все же приятнее думать, что Рафаэль Фердинанд действительно существовал. Будучи наполеоновским солдатом, он скорее носил бы имя Фернан, но, в конечном счете, это небольшая неувязка. Фернан – Фердинанд мог появиться в России в 1812 году еще молодым человеком. И, следовательно, мой прадед, уездный фельдшер, оказывался его сыном, ибо умер старше восьмидесяти лет в начале нашего века. А родиться мог в начале 20-х годов, то есть при Пушкине.
Всего три поколения отделяют нас от пушкинской поры!
Итак, моя генеалогия в ее максимальном протяжении упирается в туман на четвертом колене. И дальше, сколько бы я ни тщился, отыскать что-нибудь достоверное о моих предках невозможно.
Остается только дать волю воображению, на что часто решаются некоторые мои знакомые, люди особого склада.
Одна очень красивая в прошлом женщина утверждает, что происходит от Готфрида Бульонского. А один мой приятель за последние годы с предком своим проделал то же, что и с собой, – постоянно повышаясь в чинах, повышал и предка своего до титулов приметных. Для этого ему пришлось превратить в расстригу скромного священника…атской церкви, сделать его военным, дать особым указом графский титул, а теперь, говорят, бывший поп дослужился до князя и скоро, видать, предъявит претензию на русский престол.
Вообще, видимо, многие люди интересуются предками для обоснования права на историческое существование и вследствие некоторой ущербности сознания своей наличности. Это относится и к целым сословиям. У людей и у сословий есть потребность во что бы то ни стало влиться в историю, то есть жалкая потребность бытия. В пугающем абстрактном потоке времени есть необходимость обнаружить хотя бы крошечный плавучий островок, иногда состоящий просто из всплывшей дряни, – островок, оторвавшийся где-то от неведомого берега. Он плывет откуда-то куда-то, и стигийские волны времени не так страшны на его непрочной спине.
Иногда поиски этого островка – своеобразные поиски духовности (не той и не там!). Может быть, это все же островок духовности.
Хуже, когда островка в сущности нет, когда он плод сословного воображения. Так возникают воображаемые генеалогические линии, мнимые деревья, растущие вверх ногами, – мнимая история народа, нации, интеллигенции или дворянства.
Нет, уж лучше чистое беспамятство, чем эдакая память. Лучше уж разночинческое пренебрежение Мандельштама к предкам. Лучше уж смелый и отчаявшийся пловец, решившийся плыть в одиночку по хладным волнам!..
Предки нужны, чтобы в себе прожить их судьбу и, значит, познать себя в потоке времени. Не больше. Но и не меньше.
Раньше всех в нашей квартире встает тетка. Она полна энергии и жажды общения. Громко шаркает в коридоре, громко спускает воду в уборной, гремит посудой в кухне. Но квартира спит. Тетка обижается и уходит на рынок.
Все у нас кажется мне образцовым. Так же образцово хлопает за ней дубовая входная дверь, гулко откликаясь лестничным эхом. Ни одна дверь в мире не умела так хлопать, как наша. Это и есть стук двери. Все остальное – жалкое подобие.
Тетка посещает рынок, как мне кажется, без особенной цели – так, купить кое-какие мелочи. Но возвращается всегда возбужденная, полная мыслей и рассказов. И, конечно, очень интересно наблюдать, как она вынимает из сумки маленькие пакетики со специями, несколько теплых бубликов к завтраку, хлеб, купленный в «той» булочной, а не в «этой». У тетки своей семьи нет, она ведет общее хозяйство. Чувствует важность своей миссии. И будущий обед разрабатывает с глубиной стратега. На рынок она ходит для ориентации и поднятия тонуса. Вообще же почти всё, как у нас говорится, носят в дом.
Поставщики раскладывают свой товар в передней или проходят в кухню. Там они пьют чай, хвалят товар и торгуются с теткой. Часто в разглядывании продуктов и их критике принимает участие мама.
Приходит Настя, откуда-то с неведомого Болота принося битую дичь. Фруктовщик Николай Иванович, высокий плотный мужчина с мягким севернорусским лицом, носит на голове огромный лоток с овощами и фруктами. В кухне возникает красота пышущего цветом натюрморта.
Стучится булочник (звонок не работает). У него покупают пару плюшек. Через день приходит молочница, принося особый запах молока с холстом. Ей отдают черствый хлеб для коровы.
Сметанница осторожно разворачивает суровое полотно, где завернут белейший творог, и деревянной ложкой наливает из бидончика сметану. Но масло покупают уже у другой женщины, то ли дешевле, то ли лучше.
Раз в неделю является Бедная Еврейка. Ее никто иначе не зовет. Бедная Еврейка тоже чем-то торгует, но больше жалуется на бедность, и ей отдают ненужную одежду, кормят вчерашним обедом и заворачивают пищу с собой.
Еврейка говорит тихим, плачущим голосом. Она всегда умирает. За глаза ее ругают. Говорят, что она бездельница, что целыми днями торчит на базаре, где ругается громким голосом, что у нее здоровый толстый сын, а дочка учится в техникуме. Но помогать помогают: отдают старые вещи и подкармливают.
Бедная Еврейка – не имя. Профессия.
Самый почтенный из поставщиков – Антокольский. Он дальний родственник скульптора и торгует колбасой, жесткой, пупырчатой, пахнущей чесноком. С ним не торгуются. Приглашают к столу. Как-никак – Антокольский. Дядька как-то прочитал:
Антокольский, изваяй Гарантию и субсидию, Идеалам форму дай.Я думал, что гарантия и субсидия – сорта колбас.
Вообще дошкольное детство кажется мне роскошеством пищи, когда в дом что-то приносят, а в кухне что-то варят на керосинках и примусах.
Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит огромные торты и плетеные деревянные коробки с пирожными.
У папы лечится рыбник. Жирные свертки с икрой остаются в передней после его посещений.
Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту.
Я испытываю отвращение к пище.
Это нэп.
Мой дядька – нэпман. В подвале нашего же дома помещается производство, а в бельэтаже, где сейчас сберкасса, – контора фирмы «Меркурий»: ленты для пишущих машинок и чернила.
С детства помню рекламную картинку, печатавшуюся во многих журналах. Там был изображен бегущий человек, а внизу подпись – «мозолей, крыс, мышей». Видимо, рекламировалось средство, уничтожающее одновременно названные отрицательные явления.
Для меня это было стихотворение:
Мозолей, Крыс, мышей.Мозолеем представлялся мне мой дядька, потому что бегущий человек на него несколько смахивал. И еще потому, что дядька не мог ходить, а только бегал. Это свойство – странное последствие сыпного тифа. И дядька тщетно пытался скрыть особенность своей походки.
Выходя из конторы «Меркурия», он долго стоял на углу улицы и, пропустив идущий по Бахметьевской трамвай, пускался за ним следом до остановки, делая вид, что очень спешит.
Дядька – высокий блондин с глазами немного навыкате. Когда он приходит в гнев, глаза наливаются кровью, выпучиваются, и он становится страшен. Но его никто не боится. Ибо дядька добродушен, щедр и отходчив[8].
Кажется, боится его только тощий грек Теофил Андреевич, сифилитик и дядькин компаньон. Дядька – коммерческий директор «Меркурия». Теофил Андреевич – технический руководитель. Целый день он торчит в подвале, вручную крутя какой-то агрегат. В этом помогают ему жена и две взрослые дочери. Фирма не имеет наемной рабочей силы. Скорей всего, она числится кустарным производством. Грек крутит агрегат, откуда ползет бесконечная лента для пишущей машинки, и при этом он поет тонким, почти женским голосом с одесским акцентом. Пение – его страсть.
Не знаю, каковы деловые качества дядьки и зачем он нужен трудолюбивому греку. Но живут они душа в душу.
Элегантно одетый, молодой и красивый дядька едет с утра по делам. Грек же, в черном халате, перепачканном типографской краской, хлопочет у станка.
Может быть, сближает их необузданность фантазии и – оттого – пристрастие к вранью.
Происхождение грека темно: кем он был до фирмы, никому не известно, а взял его в компаньоны дядька скорее всего по доверчивости. И не ошибся.
Сам же дядька – недоучившийся гимназист, крайне небрежный в учении, попавший восемнадцати лет на фронт, где вскоре сдался в плен австриякам. В плену он находился в Северной Италии, где пристроен был санитаром в военный госпиталь, а потом (тоже мне не известно, где и как) освоил секрет приготовления чернил, ваксы и еще нескольких подобных вещей, после чего вообразил себя человеком европейского образования. В многочисленных тогда анкетах на вопрос об образовании писал – «высшее». А на вопрос, где учился, отвечал по-разному, не заботясь о совпадении версий, – то в Геттингене, то в Мюнхене, то в Милане. Это не мешало ему на опасный тогда пункт – был ли за границей – решительно отвечать: нет.
Впрочем, после нэпа и перевоспитания на Беломорско-Балтийском канале дядька о Геттингене уже не писал, а называл себя скромно и таинственно «химик-практик», отдавшись до конца жизни тайному, беспатентному изготовлению ваксы для ботинок. Ваксу эту он при помощи жены сбывал айсорам – чистильщикам сапог. И квартира наша с тридцатых по пятидесятые годы воняла по ночам ацетоном, плавленым воском и бог знает еще какими специями, необходимыми в производстве ваксы, которую дядька именовал кремом.
Он гордился своим кремом. Вставал чуть свет и чистил обувь для всей семьи. А иногда, застав у меня кого-нибудь из товарищей, говорил:
– Позвольте, молодой человек, на несколько минут ваши ботинки.
Он возвращал обувь, доведенную до немыслимого блеска, и гордо объяснял, что секрет крема известен только ему одному. Любовь к своему ремеслу и гордость своими знаниями достались ему от деда.
Было в нем и нечто от художественной натуры. Некоторое время, например, он увлекался скульптурой, лепил Мефистофелей и портрет деда, довольно похожий. А на Беломорско-Балтийском научился отливать из цемента бюсты начальников и оригинальные пепельницы с инкрустацией из разноцветных камней.
Впрочем, все это было намного позже. А пока, не зная о предстоящих бедах и наивно полагая, что нэп – навсегда, дядька лелеял планы о расширении производства, о превращении скромного «Меркурия» в подлинный «Мозолей, крыс, мышей». Осторожный грек, кажется, этому противился. Но в историю нашей квартиры к концу двадцатых годов вступила супруга дядьки, женщина честолюбивая и решительная.
Беготня дядьки за трамваями не довела его до добра. Однажды, вскочив на заднюю площадку, он увидел существо, поразившее даже его тренированное воображение.
Вскоре он женился. Взял он девицу приятной внешности, но бедную и без всякого образования, да еще, добавим, и мерзкого нрава.
Это был мезальянс.
Мезальянс в среде, где я рос, был почти равен адюльтеру. Эти два понятия соответствовали моральной гибели человека, крушению устоев и где-то соприкасались с понятием о смерти. Женщины за вечерним столом у нас с ужасом рассказывали, что дядя Борис ушел от семьи. А дочь почтенного Павла Соломоновича вышла замуж за шофера.
Рассказывалось это при мне. Взрослые полагали, что, выражаясь обиняками, затемняют для меня картины невероятных человеческих крушений и примеры безнравственности мне непонятны.
Я же, с детской хитростью, якобы занятый играми, жадно вслушивался в разговоры взрослых.
Адюльтер и мезальянс грозили теплому гнезду, где я развивался. Они привносили гибельную стихию страстей и порождали страх вторжения гуннов.
С детства я больше всего боялся развода моих родителей.
Приход в дом дядькиной жены был вторжением гуннов. Она пришла, принеся с собой солдатское одеяло, и в тот же день врезала замок в дверь супружеской комнаты. Потом потребовала особого места на кухне. И, утвердившись таким образом, повела дядьку покупать ей шубу, хотя, как помню, пора была еще летняя.
Она не собиралась капитулировать перед чванливыми женщинами нашей квартиры и пристраиваться к клану.
Она пришла разрушить среду, и это ей удалось. Именно ей и принадлежала мысль о расширении фирмы «Меркурий». Дядька связался с какими-то дельцами, уже унюхавшими, что нэпу жить недолго. Теофил Андреевич ушел из дела и стал советским служащим и участником певческой самодеятельности.
А дядька вскоре был арестован, обвиненный в мошенничестве, и сослан на Беломорско-Балтийский канал.
Тетка поступила на работу. Служить во Внешторгбанке стала мама.
Постепенно исчезли поставщики снеди. Перестала стоять на углу моссельпромщица Надя, продававшая твердейшие ириски – сперва по копейке пара, потом по копейке штука, потом по две копейки штука.
Менялся быт. Оканчивался нэп.
Наша квартира превращалась в коммунальную… Только один дед, воплощая в себе прочность времени, навещал мадам Горфинкель, писал поздравительные стихи по-французски и пил чай, не замечая, что сахару стало в обрез, так мало он его употреблял.
Ему уже не надо было проверять, видит ли он Сухареву башню. Башню снесли.
И наш дом в осенние дни несся по волнам Институтского сада не к спасительному маяку, а неведомо куда. В новые времена.
Сны об отце
Мне сны снятся редко. Но среди них постоянно – все один и тот же сон об отце; уразуметь его я не умею.
А сон вот какой.
Столовая в нашей старой квартире. Все прежнее, но словно заброшенное. И мама не дома, а где-то в чужом месте. Это я вижу одновременно – дом и не-дом. Что-то от меня скрывает. Дома никого. Отца нет. Я не первый раз стараюсь его застать. И во мне странное предчувствие. Наконец, где-то на завершении сна, я вижу отца. Но он не радуется мне, отворачивается, говорить не хочет. Он чужой, равнодушный. Я понимаю, что он ушел от нас, что он нас разлюбил. И что у него есть другой сын.
Просыпаюсь с тоской.
Единственное мне ясно, что это сон об уходе. А прежде снилось другое:
Мне снился сон. И в этом трудном сне Отец, босой, стоял передо мною. И плакал он. И говорил ко мне: «Мой милый сын, что сделалось с тобою!»Лицо в этом сне было точно такое, как в гробу. Это был сон о гневе. Это был сон о том, что он не был счастлив.
Я понимаю теперь, что чувствовал это где-то с самого раннего детства. В мою любовь к отцу всегда примешивалась доля жалости. Он вошел в мою жизнь какой-то жгучей лирической нотой, еще неразгаданной до конца. И в стихотворении «Я маленький. Горло в ангине» я плачу не о бренности мира, эго литература. Я плачу об отце.
И позже я плакал о нем. И в нем о себе.
Дождь идет. Осень. Сумерки. Я иду по городу, руки затолкав в карманы. Иду отцовской походкой, усталый. У меня болят ноги[9]. Я думаю о доме и о работе. Я – отец. Но думаю почему-то: «Бедный папа!». И слезы наворачиваются на глаза.
И он – я знаю, – так же бредя по дождливому городу, полный забот и усталый, думает: «Бедный сын!».
Наверное, ни я, ни он не были никогда бедными. Но в этой взаимной мысли была какая-то высшая жалость, связывавшая нас без слов. Может быть, жалость об утраченном общем детстве и тоска об утрате друг друга.
Отец – мое детство. Ни мебели квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Его воздухом был отец.
Он и сам какой-то стороной своего существа всегда принадлежал детству. Он не то чтобы любил детей, он, скорей, любил детство, легко входил в него, как входят в детскую комнату, и там не переставал быть тем, чем был. Так же вошел он и в мою раннюю жизнь. Я ощущал его равным. И это равенство только украшалось его взрослым опытом. Он не играл в дитя и не играл с ребенком. Вообще, играть не было ему присуще. Если все мы немного актеры, это совершенно не было свойственно отцу. Он не был внешне ребячлив, наоборот, почти всегда серьезен, с особым, простодушным юмором, какого-то тоже детского пошиба.
Отец был ясен и чист душой. Вот что более всего соприкасалось с моим ранним сознанием. Вот в чем он не изменялся, а оставался. А я уходил, во мне многое оседало, отпадало, перемешивалось. Он же оставался. Сны об уходе – может быть, о моем уходе от него. И жалость, и горечь, и тоска, и ощущение безвозвратности – эго все о разлучении душ. Мне иногда кажется, что я плохо знаю отца – мы ведь все друг друга плохо знаем. А иногда думаю, что знаю его слишком хорошо, лучше, чем он сам себя знал. Я ведь давно стараюсь отца из моих составных частей особо выделить и к этой части особо присмотреться.
Тут нужна большая работа души. Ведь каждая наша составная часть прилегает к другой и оттого утесняется, изменяется, срастается. А над этими частями лежит и то, что их соединяет, не менее важное – нечто производное, но в этом средостении и есть самое тело моей души. И отца надо из себя вынуть, расправить, связать с тем, что помнится. Вот какая работа нужна – как реставрация старинной картины – та же бережность, та же осторожность. И потом все равно не будешь знать, насколько воспроизведение соответствует оригиналу. И никогда не узнаешь.
Для того, чтобы правду воссоздать, обязательно кусок живого надо выделить. А выдели – и нарушится связь живого с живым, части с целым. И умирает живое, умирает правда. Вот и думай, как достичь, как постичь, как выделить, не вырезывая, как различить, не нарушая.
Вспоминай осторожно!
Я маленький. Горло в ангине. Это у меня бывало часто. А еще скарлатина, дифтерит, корь, свинка, воспаление легких, малярия. Всего не помнит даже мама. Все детство я болею. Но, кажется, только по зимам. И болеть привык. Особая тишина стоит в нашей квартире, когда я болею, какая-то жужжащая, как прялка, тишина. За тюлевыми занавесями только небо. Оттого и не помню – были галки зимой или не было.
Интересное свойство памяти. Когда мы вспоминаем целый период жизни, мы, в сущности, не помним всего протяжения времени, а лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются в один день, который для нас – картина того или иного времени. А нахватаны частности из разных дней. Память художественна. Помним день, а кажется, что помним время[10]. Одаренные люди лучше помнят, потому что ярче подробности их памяти и лучше соединены в картину. Более того, от способа соединения деталей в одно зависит наше ощущение протяженности времени. Нагромождение сюжетов и деталей, не сошедшихся в «один день», рождает чувство быстрого протекания времени. Длинная жизнь поэтому вовсе не та, которая насыщена событиями. Чаще всего, лишенная верного расположения деталей, она кажется быстротекущей и, может быть, бесплодно ушедшей. Длинен «один день».
Мое начальное детство – день болезни, картина, где для меня самого неразличимы разные по времени мазки.
Видимо, ранняя Пасха. Потому что Теофил Андреевич, грек, подарил мне большое с узорами шоколадное яйцо. А в нем – я знаю – другое, поменьше, а в этом – третье – маленькое деревянное крашеное. А дядька-провизор принес шоколадного медведя. Медведь сидит в деревянной коробочке и изображает зоопарк. Другой дядька – владелец «Меркурия» – дал мне несколько тяжелых медных пятаков. Ими я кормлю медведя.
Но все это мне уже прискучило. Я жду отца.
Отец возвращается с работы всегда в одно и то же время. По нему можно проверять часы. А если он чуть запаздывает, фантазия рисует мне страшные картины. Мне чудится, что он попал под трамвай. Меня охватывает озноб. Это уже на всю жизнь – фантазия делает ожидание для меня мучительным.
Я прислушиваюсь к шагам на лестнице. И вот, наконец, слышу его шаги, его стук в дверь. Его звонок.
И мгновенно успокаиваюсь.
Папа входит и сразу ко мне. Он приносит какой-нибудь пустяк – карандашик, блокнотик. Он совершенно не умеет покупать, тратить деньги. Да, по-моему, у него в кармане всегда одна мелочь. Но почему-то этот карандашик, блокнотик дороже мне драгоценного шоколадного яйца. Я чувствую к ним нежность, потому что это бедный подарок. И его надо приласкать и спрятать под подушку, чтобы ему хорошо жилось.
Отец садится обедать. Ест он быстро, безо всякого внимания к пище.
– Как тебе понравилась телятина? – спрашивает мама.
– А разве это была телятина? – удивляется папа.
Мама, кормя отца обедом, тут же выкладывает ему все события и происшествия дня. Это я слушаю с интересом. Папа тоже слушает, поддакивает. Но очень редко выражает мнение, разве что по вопросам, касающимся непосредственно жизни семьи. Он редко высказывает мнение о ситуациях и людях. Мама, та как будто всегда точно знает, что хорошо и что плохо. И всегда темпераментно утверждает точные свои понятия. Папа, я чувствую, знает это для себя гораздо точнее, чем мама. Но ему не нужно оценивать других, чтобы определить правильность своей жизненной линии. Он как будто никогда не избирает, внутренне не колеблется, но всегда неуклонно движется в одном, раз навсегда установленном направлении. Его движет что-то внутреннее, чему он сам никогда не ищет названия: долг, вера, обязанность, убеждение.
Перед отцом как будто не стояли никогда нравственные дилеммы. Он как будто всегда ощущает свое простое назначение в этой жизни. И мучается только тогда, когда ему кажется, что это назначение он не может хорошо осуществлять. Он не стремится оценивать других, потому что полагает, что у других тоже есть свое назначение, о котором не ему судить. Вместе с тем он не пытается воспроизвести чужое назначение, стать на чью-то точку зрения. У него есть своя линия. И то, что не его линия, он отодвигает от себя. Это как бы его не касается.
Он доброжелателен к людям и исходит из презумпции добра. Но он и наивен. Зло, ложь, корысть, воровство совершенно неприемлемы для него. И уже убедившись в том, что данный человек безнравствен, что его, отцовская линия, не может обойти или обогнуть подобное, он говорит кратко и раздраженно:
– Это мерзавец.
И навсегда уходит, отгораживается от такого человека. Он полагает его несуществующим. Это его форма нелюбви. И отнюдь не нейтральная. Папа умеет не любить, не принимать, и «отодвигание» для него не механический, а, скорей, болезненный процесс. Как бы это объяснить! Он не тратит сил на приятие человека. А на неприятие, на равнодушие тратит. Он тратит силы не на сокрушение зла, а на уход от него. Пожалуй, так.
Я жду, когда отец покончит с обедом и займется мной. Он со мной не играет, а только рассказывает. Он пересказывает свое детство, и я снова его проживаю. Я ищу ему аналогий в своем детстве, так непохожем.
У него было мало игрушек. И у меня мало. Я их не люблю. Мой дед с отцовской стороны служил бухгалтером на спичечной фабрике и детям своим приносил спичечные коробки. Они из них склеили большой дом. И я мечтаю о такой игрушке, она мне нравится больше, чем слон из папье-маше с качающейся головой и чем паяц Микель, которого дернешь за веревочку – и он двигает руками и ногами. Микелем его прозвал папа – он утверждает, что паяц похож лицом на Микеля Анджело.
В детстве отца пугали Микитой, может, это был дворник, может, сосед, Микита живет и у нас. Он не очень страшный, зовем мы его Микитка. Но и я его слегка побаиваюсь.
Он представляется мне не человеком, а странным существом, вроде Берлуки.
Берлука мне однажды приснился. Он лежал студенистой, слегка светящейся массой между нянькиной кроватью и тумбочкой, весь переливался и покручивал один длинный тараканий ус. Я проснулся в страхе.
Теперь я понимаю. Нянька пела одну и ту же песню:
Разлука ты, разлука, Чужая сторона.Из Разлуки стал Берлука и соединился с Микитой. Наша с папой домашняя мифология.
Начинается эта мифология с ожидания конца света. В раннем детстве отца появляется комета, вероятно, знаменитая комета Галлея. И в маленьком городке ждут конца света. Старая папина бабка с внучатами забираются с вечера на печь и… ждут. Я переживаю то же потрясение, потому что уже знаю, что такое ожидание.
Я даже забываю, что конца света вовсе и не было.
Он когда-то все же был – для папы и для меня.
Этот рассказ соединяется у меня в сознании с библейскими историями. Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию. Он рассказывает так же, как про комету. У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб. Мне представляется всемирный потоп и так заботливо помещенные в Ноев ковчег семь пар чистых и семь пар нечистых. Как это понятно и практично.
Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья.
А история младенца, пущенного по реке, чтобы избавить от избиения, и выловленного дочерью фараона![11] Есть же еще добрые люди. Я же не знаю, что фараонов давно нет.
И странное ко всему этому причастное существо – бог.
Удивительно, что бог – образ очень ранний – не порождает во мне истинно религиозных представлений. Даже картина сотворения мира не ощущается как могучая аллегория созидания жизни из божественного духа. «Вначале было слово». Так ведь уже было. Значит, было все, названное словом. И сотворение миpa – лишь упорядочение того, что было, вроде приборки и расстановки по местам, вроде работы Федора Абрамовича, шоркающего затемно метлой где-то по невидимому тротуару.
Этот образ бога-работника остается у меня надолго. Лет в восемнадцать я писал:
Весь перепачканный и черный Он шел, со лба откинув прядь, К земле еще не нареченной — Игру материи смирять.Для меня бог был натурфилософской, космогонической метафорой. Не более того. Потребность иного представления пришла вместе с развитием понятия о смерти, то есть о высшей цели бытия. Из двух потребностей – космогонической и нравственной (где-то ощущается, что и они неразделимы) – вторая «ближе к шкуре», необходимей. Бог, рождающийся из нравственного импульса жизни, из необходимости объяснить себе себя, надежней и ощутимей, чем бог-демиург, может быть, еще и потому, что наши представления о материале мира примитивны и ненадежны, несмотря на все успехи современных наук.
Отец внушал мне не взгляды, а представления.
Видимо, начальное представление о боге как нравственной категории идет от него.
Он не был изначально религиозен. Библия для него – реальный атрибут детства. По ней он учился читать. Когда бабушка моя послала учиться грамоте старшего сына, увязался за ним и мой отец, которому от роду было лет около четырех. Учитель взял его в учение за половинную плату. И отец тоже сел за стол, чтобы твердить нараспев библейские строки – в полутемной, убогой, провонявшей селедкой каморке беднейшего из учителей. А когда кто-нибудь приносил плату за учение, учитель радовался и приказывал скандировать всем:
– Хороший мальчик Шмуэл (или Мотл, или еще как).
И мальчик, принесший деньги, радовался. И над темными строками священной книги вставала детская радость. И эти строки постепенно прояснялись и входили в память и непонятным образом вписывались в кривые углы затхлого помещения, в шагаловскую заоконную кривизну местечка. Я, кажется, понимаю, как можно было воспарить над этим, как парить вместе с этим в библию – сказку, библию – мудрость, библию – дух.
Так сплавлялся в душе ребенка высокий и твердый дух с текучей, зыбкой, детской действительностью. Только детская душа может преодолеть подобное противоречие и создать поэзию детской жизни из столь разнородных и несводимых на первый взгляд материалов.
Внушена ли была ему вера в бога? Бог был скорее традицией, а не верой, в той полувольнодумной среде европеизирующегося еврейства, к которой принадлежал отец отца, мой дед Абрам, служащий спичечной фабрики.
Отталкивание от среды было сильно уже в том поколении, не говоря уж о поколении отца, будущих врачей и юристов 20—30-х и далее годов нашего века.
Отец, чуть оперившись, конечно, начал с вольномыслия. Но чем дольше он жил, тем нужней был ему бог.
У нас в доме справлялись праздники – и Пасха, и Судный день. Сперва это была дань традиции. Но чем скромней и приблизительней становился с годами обряд празднования, тем торжественней было самоощущение отца. Ибо в празднестве видел он не праздник еды и обряда, а некий символ, для которого достаточно и намека, и приблизительного исполнения.
Он чем дальше, тем больше укреплялся в боге. Вместе с тем, может быть, и сужая сферу божественного от пределов всеобщего до пределов собственной души. От пределов церкви до пределов веры. От пределов вероисповедания до пределов домашнего духа.
Иногда он молился – нечасто, в самые большие праздники. И не так, как дед, получавший удовольствие от слов и от пения. И не истово, а отрешенно, как бы беседуя с самим собой. Думаю, что фанатический элемент в составе его натуры, тот, о котором говорено будет ниже, толкал его молиться тайно, про себя, на ходу. И не молиться, а молить. И не за себя, а за меня. Как, вероятно, молил он о том, чтобы я остался жить на войне. Может быть, это были самые мощные импульсы его воли и самые, с его точки зрения, результативные в пределах тех целей, которые он перед собой ставил.
Да и кто знает, что такое молитва! Мы, люди трезвого взгляда, склонны более всего считать ее застарелой формой психотерапии. Между тем в молитве частная воля осознает себя как часть всеобщей вселенской воли и, может быть, как таковая, способна до некоторой степени изменять характер всеобщего явления воли, то есть быть результативной. Кто знает!
Отец не был фанатиком, тем более религиозным. Для знавших его он скорее был образцом терпимости. Но в жилах его текла кровь фанатиков.
Суровая фигура – мой прадед. Он стоит одиноко в семье, отделенный почтением и страхом от детей и внуков, от простой, суеверной и благоговеющей жены, весь погруженный в молитву и высокое учение Талмуда. Он живет не в местечковой действительности, а поверх нее, может быть, и не зная белорусского наречия – разговорной речи неученой прабабки. Ему нет нужды общаться с окружающим людом. Все дела, связанные с домовладением, ведет жена. Ни одна пылинка, кроме синагогальной пыли и праха древних книг, не должна коснуться бархатной ермолки и черного сюртука. Ни один волос не должен упасть из благословенных пейсов. Общение с богом – единственное дело внушительного старика.
В восемьдесят лет, почуяв приближение смерти, мой прадед продает свое недвижимое имущество и уезжает умирать в святую землю, в землю Израиля. Он уезжает один, ибо бабка не хочет оставить детей и внуков. Да она и не нужна ему. Уезжает один в тогдашнюю пустую и выжженную землю. Умирать. Это было в конце прошлого века.
Фанатические начала передались в форме особой непреклонности нисходящим коленам отцовской семьи. Фанатизм был глубоко в нем запрятан, смягчен временем, образованием, понятиями.
Но где-то наличествовал и в нем.
Отец уважает веру. Всякую веру. Его собственная вера совсем нетрадиционна. Она многими чертами напоминает толстовство. Он был бы идеальным сектантом. И его меньше всего интересует обряд, вся внешняя сторона религии. Его даже не интересует вероисповедание. Терпимость христианства, может быть, ближе ему, чем карающий и осуждающий бог иудаизма. Но выкрестов он не терпит.
Церковь для него нечто иное, чем вера, нечто интимное, относящееся к традиции национальной и семейной. Да церковь такова и есть по замыслу – она связана с начальным, детским ощущением бога и с таинством, которое – уверен и я – открывается во всем начальном окружении человека, в его раннем сознании. Это потом может забыться, но обязательно где-то выплывает, какой-то особой потребностью вновь приобщиться к изначальному, к своему, родному, где соединено земное и небесное: отсюда – «А ты все-гаки попика, попика пригласи!» – в устах бывшего русского нигилиста Алексея Николаевича Дорошенко.
Церкви не знавшим, ее и не узнать.
Не слишком ли поспешный способ растворения русских евреев в русской нации – принятие православия? Не должна ли произойти сперва та степень внедрения в культурную почву, в мироощущение, как у Пастернака, например, чтобы принятие церковного крещения было только последним знаком причастности, унификации внешнего облика? Нет ли в этой поспешности элементов неуверенности и недостатка собственного достоинства? Ведь это не принять учение, а прийти во храм!
Русскому еврею не вернуться в синагогу. Но и сразу не вступить во храм. И надо ли торопиться? Не сразу и Русь строилась православной. Не сразу образовалась она в нацию православную, когда утопила идолов в Днепре. Не раньше, чем народился деревенский попик, не раньше, чем потемнели иконы, не раньше, чем отъехали византийские иерархи, не раньше, чем языческий бог стал святым Николой.
Так смотрел мой отец на перемену веры. И, наверное, взгляд его на это правильный. А о перемене веры много будет говорено ниже. Но главным, по-моему, в вопросе о выкрестах был момент национальный. Наряду с заданным понятием о боге было в нем задано и понятие о нации.
Сейчас о нации судят космополиты, которые вовсе ее отрицают, либо почвенники, для которых категория эта выше бога и гуманизма – всего выше.
Отец не судил о нации, а просто к ней принадлежал.
Он принадлежал к нации, как к религии и к семье, то есть принимая эту принадлежность как главные постулаты своего существования. Он был не из тех, кто постулаты подвергает сомнению. Он твердо на них строил свое духовное здание. И вера, нация и семья были три главных камня, положенных в его основание.
О его вере я уже сказал. Скажу о его нации.
Евреи как нация явление уникальное. И это не требует доказательств. В России дореволюционной эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство – черту оседлости. И оказалось, что в черте начала загнивать. Черта была не хуже других границ, не хуже, например, наших нынешних твердых границ. Но евреи, лет триста имея границу, ничего существенного не создали – ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего. Где-то внутри этой нации есть потребность перейти границы. И когда это невозможно, она загнивает, обращается в быт и деторождение – в сохранение рода для грядущих времен. Это, может, и неосознанно, но это так. Для грядущего царства духа плодятся еврейские мещане и ремесленники. Их главные опоры – бог и чадолюбие.
Уникальная судьба еврейской нации порождает взгляд на уникальность всех перипетий этой судьбы. Существование и складывание российского еврейства внутри черты оседлости – как раз и конец этой уникальности.
В черте оседлости еврейская нация стала загнивать. Она была не хуже и не лучше других частей образующейся имперской нации – не грязнее поволжских инородцев, не суевернее русских крестьян, не фанатичнее староверов, не корыстнее городских мещан. И была фатальная перспектива загнить или подняться до уровня имперской нации, стать ее органической частью.
Разные нации по-разному ощущали эту необходимость в конце XIX века. Некоторые пассивно, некоторые с внутренним сопротивлением. Евреи ощущали это активно, в чем, может быть, сказывались особенности их полуправного положения, а может быть, энергия, заложенная в национальном характере. Это была эпоха перемешивания сословий, социальных укладов, экономических устройств и национальных элементов.
Русская нация переживала эпоху складывания в имперскую нацию, то есть утрату некоторых своих культурно-этнографических особенностей и приобретение качеств сверхнациональных. В этом явлении, может быть, одна из причин необычайного взлета русской культуры в начале нашего века.
До эпохи складывания России в имперскую нацию русских евреев как таковых не было. Их не было или почти не было в России. Русские евреи начали образовываться, когда отслужившим николаевским солдатам дано было право селиться в российских городах, когда образовательный ценз и принадлежность к гильдейскому купечеству позволили пересечь черту оседлости, когда все права фактически получили выкресты (а они появились тогда, когда на деле к исконному русскому населению стал подмешиваться еврейский элемент).
Процесс был возможен только в это время – пору складывания – ни раньше, ни позже.
И в русской нации в ее новом качестве сразу же проявился еврейский элемент – Рубинштейны, Левитан, Антокольский, а на поколение позже – плеяда критиков, литераторов, издателей, художников, юристов, музыкантов. А еще на поколение – Пастернак, Мандельштам.
Из черты оседлости выпускались лишь интеллигенты или те, кто в перспективе порождал интеллигентов. Так еврейский элемент изначально становился частью имперской интеллигенции.
По-своему – в легкости этого перехода сыграло роль исконно русское воспринятое понятие о народе как о крестьянстве, устаревшее уже понятие. С этой точки зрения еврейского народа не существовало. Тем легче было воспитанникам русской идеи уйти от полународа к народу.
А тоска по народу-крестьянину была. Это я знаю по отцу. Когда-то в николаевскую пору была попытка посадить евреев на землю, попытка неудавшаяся, остатки ее – лишь немногочисленные сельские колонии в Таврии, но именно в ту пору часть евреев приписана была к сельским обществам.
Отец мой по документам – не мещанин, не купец, а крестьянин некоего (позабыл уже, какого) земледельческого общества.
И хоть к земле его родные имели не больше отношения, чем любой из жителей маленького полусельского городка, отец с удовольствием вспоминал свое именно крестьянское сословие. Наибольшее уважение испытывал он именно к крестьянскому труду. Любил домашних животных, особенно тех, с которыми имел дело с детства, – лошадей, коров, собак и домашнюю птицу.
Эта тоска по основе нации – крестьянству, может быть, основа почвенничества Левитана.
Я однажды спросил отца, какой партии он сочувствовал. Со смущенной улыбкой ответил:
– Эсерам.
Конечно, правым.
Процесс образования сверхнации, как и любой серьезный исторический процесс, дело трудное и мучительное. Если взять лишь одну сторону этого процесса – прирастание еврейской ветки к основному стволу формирующейся сверхнации – и то приживание было болезненным, трудным, мучительным для обеих сторон и вместе с тем, с где-то ощутимой целью, с обновлением и освежением и ветки, и ствола.
И все-таки великое историческое преобразование происходило, давало свои результаты. Революция, обнажившая и обострившая все стороны русской жизни, по-своему перекроила и этот важнейший момент в жизни нации, катализировала процесс, революционизировала его, перевела из стадии эволюции в стадию катаклизма.
Показателем того, как далеко зашло формирование сверхнации в предреволюционной России, является та легкость, с какой масса во время революции отказалась от русской традиции и обычая, от церкви и от социального устройства, восприняв как будто и завезенную из Европы идею интернационализма. Идея эта вовсе не была внешней, как теперь полагают многие, она отражала нечто, уже происшедшее в самом фундаменте русского сознания, которое в эпохи исторических катаклизмов всегда отступало в сферу самообороны, самовыделения, ухода в сбережение традиции, веры, уклада. А тут – все наоборот. Как будто чувство самосохранения покинуло русскую нацию.
Безжалостная ломка всего (о безжалостности ее пришлось потом много пожалеть) была русским диким способом первого самоощущения себя сверхнацией.
Тут уже рухнули все эволюционные, все органические формы. В частности, и органическое вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции. Через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, прошедшие только начальную ступень ассимиляции и приобщения к идее сверхнации, непереваренные, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму, со страстным желанием, чтобы название процесса, взятое наспех, соответствовало сути дела.
Это была вторая волна зачинателей русского еврейства, социально гораздо более разноперая, с гораздо большими претензиями, с гораздо меньшими понятиями.
Непереваренный этот элемент стал значительной частью населения русского города, обострив, осложнив сам процесс вживания, не усвоив его великого всемирно-исторического смысла.
Тут были и еврейские интеллигенты или тот материал, из которого вырабатывались интеллигенты, и многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, одуренных властью.
Еврейские интеллигенты шли в Россию с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав, реванша. Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали.
Трудно сейчас народному сознанию отделить тех от других. Тем более, что за полстолетия произошло переваривание, вхождение в организм и этого чуждого начала, рождение от него новых поколений, смешение и прочее. И даже чувство исторической вины, если не у самих «комиссаров» и «чекистов», то у их детей и внуков, решающих искупить грехи отцов поспешным вхождением в церковь, о чем уже немного сказано.
Поколение еврейских интеллигентов, пришедших в Россию из черты оседлости, не имело времени подготовиться к тому, чтобы стать органической частью имперской интеллигенции. Времени на это не было им отпущено. И они обретали это сознание на ходу, в ходе жизни. И навсегда, как и мой отец, остались людьми двойного сознания, как бы некоторым ни хотелось скрыть это от себя или от других.
У отцовского поколения не было чувства обреченности стать частью русской культуры и русской сверхнации. Они были из промежуточного пространства между Россией и Восточной Европой. У них если и была потребность вырваться из затхлости черты оседлости, то не обязательно на простор России, а куда угодно – в Австрию, Америку, Германию, Южную Африку.
Отец начал свое высшее образование в австрийском Кракове. Потом он учился в лифляндском Юрьеве.
Семья его – мать, два брата и две сестры оказались гражданами Польши. Мои родственники жили в послереволюционной Литве, в Германии, во Франции и в Америке.
Лишь революция направила осколки взорвавшейся и распавшейся черты оседлости в сторону России. И именно тогда началось вживание этих осколков в тело имперской нации. И осознание еврейского элемента частью этой нации.
Мой отец, как уже было сказано, был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности. И понимал подспудно, что процесс вживания труден и связан не только в уравнении в правах, но и в ощущении исторического права, которое рождается поколениями, которое результат реального вклада в жизнь нации. Большинство «комиссарской» части пришлого в Россию еврейства начинало с прав. Отец начинал с обязанностей.
Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации.
Дискриминация – черта несложенности, незаконченности процесса. Она черта неокультуренной истории, невозвысившегося сознания.
Органическое ощущение себя внутри исторической эволюции отодвигает всякую обиду на дискриминацию. Попробуй обижаться на исторический процесс! Достаточно его понимать.
Отец наделен был этим чувством справедливости исторического процесса, вероятно, не понимая его сверхзадачи, зато прекрасно ощущая его конкретику.
У него не было обиды на русскую нацию за непринятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался. Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей-министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным. Могло показаться, что он вообще не любит карьеристов. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские. Что это естественно и претендовать на это не стоит.
Он считал своей обязанностью делать дело честно и самоотверженно и в нем соединяться с честной и самоотверженной частью русского общества – с интеллигенцией его призыва.
В его сознании, где было три основных данности, профессия врача была четвертой. Он так же не обречен был стать врачом, как и стать русским евреем. Но, силою обстоятельств повернутый на эту стезю, он принял как данность все нравственные обязательства, связанные с этой профессией.
Утверждение, что Гитлер уничтожил русских евреев, не совсем точно. Он уничтожил черту оседлости, то есть нацию, как Сталин уничтожал или пытался уничтожить крымских татар (а где крымские болгары, караимы и прочие?) или поволжских немцев.
Русских евреев он уничтожил не в большей степени, чем другие сорта русской нации. Статистики нет. Но если русские евреи погибали даже в большей пропорции на фронте, то получается полмиллиона. Пятая часть. А белорусов четвертая.
Об этих бы потерях писать да писать, вспоминать да вспоминать. Но не в этой памяти главная магистраль нашего времени. Когда-нибудь вспомним и об этом. Но не о том сейчас речь.
Важно то, что евреи после войны перестали быть нацией.
Приживание евреев к русской нации – процесс болезненный ввиду антисемитизма власти и оттуда народившегося народного антисемитизма, ибо чувство это было чуждо русской нации, практически не знавшей евреев.
Им бы в Австрию куда-нибудь податься – граница рядом, и прав побольше. Там, в Австрии, и генералы были евреи. А у нас, в России, один из турецкой кампании, и то, кажется, неудачный.
Нет, повалили в русскую гимназию. И, несмотря на пресловутую процентную норму, научились тому, что и есть начало нации, – языку.
Отец мой язык знал отлично. Чуть подкартавливал иногда. Да и я чуть подкартавливаю – вековое устройство гортани.
Русская гимназия – начало еврейского элемента в русской нации.
Так начал инородческий еврейский элемент диффундировать в русскую нацию. Наряду с другими этническими элементами, ее составившими.
Так стал он частью социальной прослойки, заполняя вакуум, созданный террористической властью. Так ведь и такое бывало в истории. Например, англосаксы, а потом норманны в формировании британской нации.
Сперва это социальная прослойка, а потом – часть нации, пойди разберись теперь. И с русскими евреями так же было, может, в другом масштабе, в другом ракурсе, но похожее – в формирование нации вступает новый этнический элемент.
Это было бессознательно, как всегда бессознательно бывает в истории. Но как и в норманнах – свойство плыть, так и в евреях – свойство оседать и присоединяться.
Но и без гимназии поперли в русскую революцию. Эсеры – уж чего больше почвенного – а и там полно евреев, правда, самых безжалостных – террористы.
Хороший или дурной элемент общества – русские евреи? Вопрос праздный. Хороший или дурной элемент нации татары или угро-финны? Это историческая данность. Состав русской нации, ее этническая особенность, для русской нации органическая, – смешение, адаптация, ассимиляция[12].
Русская власть не сможет избавиться от этого элемента польским путем, путем вытеснения. Да и большой кровью не сможет избавиться. Для этого нужно вырезать половину русской интеллектуальной элиты до четвертого колена. А такая кровь не проходит даром. Она остается раной на совести нации и, значит, все равно действующим фактором ее нравственной жизни, как до сих пор – изгнание издавна мавров из Испании. Все равно мавританский и иудейский элементы вошли в состав испанской культуры. Все равно остались раной на совести Испании.
Русские евреи – историческая данность. Это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных ее вариантов. И искренние руситы, и почвенники не могут оскорбить русско-еврейского интеллигента своим неприятием, они тем показывают только низкий уровень своего мышления и неверие в бескорыстие (грубость ума, мещанскую подозрительность). Ибо в том, чтобы быть русским евреем, корысти нет!
А уже сейчас, когда возможен отъезд, и совсем корысти нет.
Отъезжая, возвращается еврейское мещанство. Элита, если уезжает, не возвращается, но чаще всего не уезжает.
Можно ли обижаться на русскую нацию?
Отец не обижался.
Василий Григорьевич
Образ Василия Григорьевича так прочно вошел в мое детство, так много способствовал моему становлению, что иногда невозможно вынуть его из контекста моих ранних лет. Придется говорить и о себе.
Передо мной пожелтевшая фотография – единственное, что осталось вещественного от первого лета знакомства моей семьи с семьей Янчевецких. Когда это было?
В раннем детстве я боялся фотографироваться. Я очень остро чувствовал значение слова «снять», почти как современный чиновник: меня снимут и меня не будет. Конечно, это страшно.
Я не верил тогда, что возможно мое двойное существование – в реальности и на фотографии. Другим это удавалось. А мне – нет.
На упомянутой фотографии я спокойно сижу на первом плане, значит, мне уже лет пять или шесть. Я уже не боюсь сниматься.
Это групповой любительский снимок. Мои родители, тетка, дядька, жена дядьки и Янчевецкие – Мария Алексеевна и Василий Григорьевич. Скорей всего, это лето 1926 года.
Мама сняла тогда на лето дом в деревне Вырубово, ныне растворившейся в сплошном поселении между Баковкой и Переделкино. Янчевецкие, подыскивая дачу, набрели на нас. И, кажется, безо всякого предварительного замысла, мама уступила им комнату.
Так состоялось знакомство с Янчевецкими, вскоре перешедшее в дружбу или, вернее, в отношения, похожие на родственные.
Я задумался, назвать ли эти отношения дружбой, ибо слишком разными были сферы интересов двух семей. Родственные же отношения основываются на участии, привязанности, взаимопомощи и соприкосновении тех сфер, которые могут порой не касаться дружбы.
Василий Григорьевич был чуть ли не на двадцать лет старше моего отца, происходил совсем из другой среды, принадлежал к другой культуре, другой профессии. Его понятия были многочисленнее, касались многих предметов, о которых моим родителям не приходилось задумываться, подвергались множеству жизненных проверок, которых не знал мой отец.
Необходимость приятия круто повернувшейся жизни, слом, который пережил он уже в зрелом возрасте, и многие сломы его литературной судьбы мало повлияли на общий тон, общее строение его личности.
Мало менялся он и внешне. На фотографии, о которой шла речь, он именно такой, каким был до самой войны.
Он был чуть выше среднего роста, умеренной комплекции, с волосами седеющими, но не редеющими, с правильными крупными чертами лица, с глазами внимательными и добрыми, с запоминающейся улыбкой, означавшей долю юмора по отношению ко всему, что происходит с ним и вокруг него.
«Я не помню Василия Григорьевича смеющимся. Улыбался же он охотно. Но не от веселья, а чтобы выразить свое отношение к собеседнику. Помню его спокойным, благожелательным, всегда занятым своей работой и всегда готовым отвлечься от нее для общения с вами. Ему было интересно разговаривать с любым человеком, будь тому человеку хоть 10 лет. Но не вообще говорить, не о будничных твоих заботах, а о том, что было так или иначе связано с творчеством – театром, живописью, путешествиями, историей, литературой»[13].
Первое совместное с Янчевецкими лето я хорошо помню. Главное впечатление – Миша, четырнадцатилетний сын Янчевецких, мальчик, естественно, меня не замечавший, но жизнь которого я внимательно и с завистью наблюдал. У него были такие же взрослые друзья, как он сам. Они мастерили летающие модели самолетов с резиновыми моторчиками и запускали их в небо. Одно это было уже прекрасно.
Теперь мы с Мишей почти сравнялись в возрасте и, кажется, только двое являемся хранителями памяти о событиях и лицах тех дней.
Зимой не прервалось общение с Янчевецкими. Они бывали у нас. Мы бывали у них.
Тогда же познакомились мы с дочерью Василия Григорьевича – Евгенией Васильевной Можаровской, ее сыном Игорем (Гогой), почти моим ровесником, и ее мужем Николаем Ивановичем. Гога был рыжий, веснушчатый, добродушный мальчик. Его привозили ко мне в гости. И мы с мамой часто бывали у Можаровских в маленькой квартире на Малой Бронной в некрасивом доме напротив бывшего тогда там Еврейского театра.
Евгения Васильевна была миловидная молодая женщина, с круглым лицом, невысокого роста. Разговорчивая, эмоциональная, открытая. У нее был живой ум, большие способности и знания, она обладала тонким литературным вкусом, с которым считались все литераторы, ее окружающие. В отрочестве и ранней юности я часто (чаще, чем Василию Григорьевичу) читал ей стихи и всегда следовал ее верным замечаниям. В «Плотниках», с которыми я пришел в ИФЛИ, есть одна ее строчка.
Николай Иванович Можаровский тоже был писатель. Помню его книги «Записки следователя уголовного розыска» и «Смерть Уара», оригинальный, талантливый роман об убиении царевича Димитрия, изданный под псевдонимом Евгений Бурмангов. Николай Иванович был арестован в 1937-м. О судьбе его я ничего не знаю. А сын его Гога погиб на войне.
После знакомства с Янчевецким и Можаровским я, кажется, впервые понял, что книги пишут реальные люди, а не те, что изображены на гравюрах с факсимиле и давно уже умерли.
В раннем детстве трудно понять рождение и смерть. Кажется, что все устроено от века – и люди и вещи. Кажется, именно тогда я начал понимать, что существовал не всегда. И не всегда существовали вещи, например – книги, самые удивительные из вещей. Говорили: «Он пишет книгу» или «Книга печатается». И наконец, книга появлялась у нас дома, и дарил ее человек, сам ее написавший и придумавший.
На следующее лето мама сняла дачу для нас и Янчевецких в тех же местах, где-то на краю Баковки, откуда через поле видно было Одинцово. К большому дому примыкал фруктовый сад, где на хорошо ухоженных грядках росла клубника. От этого лета остался запах сада и вкус свежей клубники с молоком.
Это было солнечное прекрасное лето. И атмосфера его хорошо мне помнится – его размеренный распорядок и возвышенность всего происходящего.
Василий Григорьевич по утрам писал, потом уходил гулять, приносил букеты полевых цветов, а под вечер рисовал акварелью цветы и пейзажи. Он нам с Гогой, нередко гостившим на даче, давал краски, и мы рисовали то же, что Василий Григорьевич.
Помню маленький вечерний пейзаж. Поле, вдали крайний домик Одинцова, где уже зажгли свет. А выше – желто-красный с сиреневым закат. На лугу пасется лошадь. Ее Василий Григорьевич нарисовал темно-лиловой. И это было именно так. Я впервые обратил внимание на то, как сочетаются цвета и переходят один в другой, как коричневая лошадь может казаться лиловой.
Я так и не выучился рисовать, но, кажется, именно тогда что-то важное ощутил в искусстве – жизнь в нем не того цвета, что в окружающей нас реальности.
До сих пор я пытался в детских рисунках воссоздать жизнь на тех же основаниях, которые мне виделись в ней. Нарисовав, к примеру, человечка, я рисовал ему дом, огород, магазин, дорогу, собаку. Я старался сделать так, чтобы человеку было удобно в моем рисунке.
В рисунках Василия Григорьевича я впервые столкнулся с иным подходом к изображаемому миру. В этом подходе была какая-то высшая правота – право выделить предмет из мира и представить его в неком одиночестве, вне повседневных отношений с другими предметами, а лишь в высшей связи, смысл которой нам не всегда дано понять.
Одна из акварелей Василия Григорьевича – букет полевых цветов – сохранилась в нашей семье…
В это лето весь быт нашего дома располагался вокруг Василия Григорьевича. К его делу все относились с величайшим благоговением, и как будто не только присутствовали, но и участвовали в нем. Василий Григорьевич был первым человеком в моей жизни, для которого главным делом была литература. С детства его облик, его способ жизни и во многом его воззрения были для меня образцом того, как должен жить и что собой представлять писатель. Он был образцом мужества, трудолюбия, неискания славы, достоинства, сохранявшихся во всех обстоятельствах его жизни.
Наверное, атмосфера того памятного лета была причиной моего первого тогда написанного стихотворения.
Василию Григорьевичу было около пятидесяти, когда я увидел его впервые. У него за спиной была жизнь, насыщенная событиями, переменами, увлечениями, занятиями, путешествиями, педагогическими опытами, журнальной и издательской работой.
Но в эту пору он как бы начинался сызнова, рождался заново как писатель. Он недавно только возвратился из безвестной азиатской глуши, из Сибири, из забытого богом Урянхайского края, чтобы стать писателем Василием Яном, – возвращался с новыми надеждами, замыслами, увлечениями, обогащенный трудным периодом жизни, удивительно нерастраченный, свежий, готовый воспринять новую действительность, новый быт и новых людей.
В этой свежести, в конструктивности натуры, может быть, и кроется главная тайна его личности, главный ее движитель.
Удивительной, почти чудесной, была черта приятия новой жизни у человека давно сложившегося, прожившего полвека в иной среде, в ином окружении, чудесной казалась эта способность оставить где-то, в прежних годах, громоздкий и замысловатый багаж прошлого и легкой походкой пойти навстречу трудностям и бедам, заботам и потерям последней трети своей жизни.
Он был путешественник, странник по натуре, и хорошо знал, что лучше брести налегке. В нескольких своих повестях он описывал этого странника, мудреца, бредущего по земле с легким грузом мудрости, грузом, который, нарастая, не тяжелеет. Он как бы шел поверх вещественного мира, из него забрав только образы книг.
«Поспеши сказать доброе слово встречному, может быть, больше не придется свидеться» – эта восточная поговорка была эпиграфом к одной из повестей Яна. Она могла бы быть девизом, начертанным на его гербе.
Вскоре после памятного лета Янчевецкие уехали в Самарканд. Оттуда Мария Алексеевна регулярно писала письма моей матери. А когда Янчевецкие возвратились в Москву, возобновилось общение с ними. Не могу точно припомнить, сразу ли они поселились на углу Столового и Большой Никитской, почти напротив церкви, где венчался Пушкин, но хорошо помню их две комнаты в коммунальной квартире. В большей, проходной, стоял стол, за которым принимали гостей. Кажется, другой приметной мебели там не было. Были только книги, которые неизвестно как заводились при скромных средствах семьи.
Книги Василия Григорьевича производили на меня сильное впечатление и оказали большое влияние на мое раннее развитие.
Выход «Финикийского корабля» был важным событием для всех, кто окружал писателя в те годы. У нас в доме появился экземпляр с автографом, которым гордились и показывали знакомым и родственникам.
«Финикийский корабль» был одной из любимых книг моего детства. Среди иллюстраций там была таблица с финикийским алфавитом. Я выучился писать финикийские буквы, сопоставил их с русским алфавитом и, заводя дневник, писал в нем финикийскими буквами, что спасало мои записи от любопытных.
«Финикийский корабль» я начал излагать в стихах. Но столь огромный замысел оказался мне не по силам.
Очень любил я и «Спартака», который кажется мне лучше известной книги Джованьоли. Его я стал перекладывать в стихотворную драму. Прочитал первое действие Василию Григорьевичу. Он меня похвалил. Я же сам своим творением не был доволен и однажды, в припадке творческого отчаяния, стал рвать тетрадку с диалогами в пятистопных ямбах. Потом остыл. Тетрадка, надорванная, так и сохранилась в числе немногих моих детских писаний.
После «Спартака» я отважился написать новую поэму, уже самостоятельную, тоже на историческую тему – «Жакерия».
В моем раннем интересе к истории тоже вижу я влияние Василия Григорьевича.
Подарил мне книжку Овсянико-Куликовского, первый мой учебник стихосложения.
К моим детским попыткам Василий Григорьевич относился со спокойным доброжелательством. Он был опытный педагог и знал, как могут изломать жизнь и характер неоправданные надежды. Многие дети рисуют или пишут стихи. Нельзя относиться к ним как к будущим художникам. Отношение Василия Григорьевича помогло мне расти естественнее, сохраняя стыдливость творчества.
Жизнь Василия Григорьевича в литературе не была легкой. Книги всегда проходили с трудом. Редакторы тогдашних времен копались в текстах с придирчивостью следователей.
Даже после издания нескольких книг Яна не принимали в Союз писателей. Он состоял членом групкома литераторов.
Известность пришла к нему после лауреатской премии за «Чингисхана».
Помню, где-то в середине 30-х годов, одно литературное чтение. Состоялось оно в существовавшем тогда Театре книги им. Халатова на Петровских Линиях.
Родители взяли меня с собой. Мы торжественно отправились в Театр книги, где читать должен был Василий Григорьевич.
Народу собралось мало. Человек пятнадцать. Большая часть публики – знакомые.
Василий Григорьевич не выглядел огорченным. Он спокойно раскрыл рукопись и стал читать. Не помню что – кажется, из «Огней на курганах». Читал он прекрасно. Впечатление от этого выступления осталось у меня навсегда. Но осталась и горечь, как же это – не пришла публика послушать замечательного писателя.
Литературное окружение Василия Григорьевича в те годы, кажется, не было многочисленным.
Я никогда не присутствовал при его встречах с коллегами. От родителей слышал имена: Сандомирский и Кривошапка. Последнего всегда упоминали с прибавлением слова «писатель» – писатель Кривошапка. Мне представляется он вроде Стеньки Разина – в шапке, сдвинутой набекрень.
Рядом с Василием Григорьевичем в моей памяти всегда присутствует его удивительная жена Мария Алексеевна. Она была верным, преданным, умным другом писателя, его хранительницей, вдохновительницей, опорой, первой советчицей. Она твердо верила в писательское призвание Яна, и порой ее скромный заработок работника толстовского музея служил единственным источником существования семьи.
Она не была хороша собой. Но ум, энергия, доброта выражались в ее лице, придавая ему особую привлекательность. Ее вера, любовь, терпеливая воля были необходимыми факторами жизни Янчевецких. Ее качества рядом со свойствами Василия Григорьевича создавали высокий духовный настрой этой семьи, который чувствовали и которым проникались все, соприкасавшиеся с ней.
Мария Алексеевна часто после работы приходила к нам. Она откровенно делилась с мамой заботами о делах Василия Григорьевича, о воспитании Миши, об учебе Гоги, о материальных трудностях. Между нашими семьями существовали отношения взаимного сердечного участия и взаимной помощи.
В ту пору Янчевецкие жили туго, почти бедно. Отчасти поэтому Миша, наделенный многими способностями, рано начал зарабатывать литературной и оформительской работой. Мария Алексеевна гордилась его успехами. Она нежно, глубоко любила Мишу.
Можно себе представить, каким ударом была нелепая случайная гибель Марии Алексеевны для всех, знавших ее, какой внезапной потерей для Миши и Евгении Васильевны, какой трагедией для Василия Григорьевича.
Помню этот длинный и пустой день ранней осени, когда Евгения Васильевна сообщила по телефону о гибели Марии Алексеевны. Мы были ошеломлены, не могли поверить, были обескуражены жестоким ударом судьбы. За что?
Этой весной Мария Алексеевна успела порадоваться выходу «Чингисхана», который был и ее детищем, успела прочитать первые положительные рецензии на книгу. Казалось, начали развеиваться тучи, всегда висевшие над головой Василия Яна.
На наших глазах Василий Григорьевич пережил несколько потерь. Потерял мать Варвару Помпеевну, потерял брата Дмитрия Григорьевича. Еще несколько потерь и тяжкие испытания предстояли ему в близкие годы. Он умел сносить горе со скорбным достоинством, умел собраться, не отчаиваться, не погружать свою беду на других. Он продолжал работать, в работе ища успокоения.
Но такого горя, наверное, не было в его многотрудной жизни. Даже Василий Григорьевич пошатнулся.
В эти последние предвоенные годы я редко видел Яна. Неуместным считал себя около него, погруженного в горе, себя, столь молодого и счастливого. Кажется, Василий Григорьевич работал мало. «Батый» был уже написан и посвящен жене. О других работах ничего не знаю…
В начале войны, попав в эвакуацию в Самарканд, мои родители узнали, что Василий Григорьевич с семьей Миши находится в Ташкенте. Написали ему. Получили ответ. Постоянно обменивались письмами. В начале 1942 года с радостью получили известие о награждении Василия Яна Сталинской премией за «Чингисхана». Книга о нашествии, вышедшая три года назад, оказалась ко времени – актуальной и нужной. Послали Василию Григорьевичу поздравительную телеграмму.
В мае того же года отец мой тяжело заболел сыпняком. Узнав об этом, Василий Григорьевич срочно выслал ему деньги на лечение и питание. Слышал я, что премию свою почти всю он роздал…
Вскоре после возвращения из армии, в начале 1946 года, я навестил Василия Григорьевича. Он жил на Суворовском бульваре в квартире Лидии Владимировны. Война его состарила. Он стал грустнее и медлительнее. Но, как и прежде, был внимателен и добр.
Был ухожен заботами Лидии Владимировны. Жил в старомосковском интерьере. Сидел в старинном кресле, одетый в бархатную блузу с бантом, на голове узбекская тюбетейка.
Я прочитал ему тогдашние невызревшие стихи о войне. Он не стал критиковать их за несовершенство. Интересовался их содержанием. Он понимал, что я полон надежд и энергии, и, видимо, в этом видел какую-то мою перспективу.
Из Германии я привез Василию Григорьевичу небольшой подарок – две книжки стихов Рильке. Знал, что он любит этого поэта и что в молодости общался с ним.
Показывал мне переплетенную тетрадку, куда вписывал сонеты разных авторов. Это было то, что сейчас называют «хобби».
Еще несколько раз после войны навещал я Василия Григорьевича. Грусть, самоуглубленность, какая-то отрешенность были в нем.
Нередко посещала нас Евгения Васильевна. От нее узнавали о жизни отца.
А потом помню не очень многолюдные похороны на старом небольшом московском кладбище…
17 января 1975 года в Малом зале Дома литераторов отмечалось столетие со дня рождения Василия Яна. У меня сохранилась запись: «Я сказал: Ян понимал культуру как гуманизм, а гуманизм как систему поведения. Он писал о том, что тирания слабее культуры».
Шульгино
После отъезда Янов в Самарканд мы каждое лето жили в Шульгине. Это моя деревня. Лет, наверное, восемь, то есть все мое сознательное детство, мы провели в этой чудесной подмосковной местности и тесно сжились с семьей Аксиньи Ивановны Мещаниновой, дом которой стал как бы нашим вторым домом.
В конце 20-х годов от Кунцева была проложена небольшая Усовская ветка железной дороги.
Если сойти с поезда на второй станции – Раздоры – с левой стороны по движению и пройти через сосновый бор по утоптанной дорожке, с опушки откроется поле, а за ним, на невысоком пригорке – первые избы деревни Шульгино. По полю ведет к нему дорога.
В летнюю пору, когда порожняя телега лихо съезжала к лесу, за ней оставалось густое облако пахучей пыли, медленно относимое ветром на соседние хлеба. А после сильного дождя полевая дорога превращалась в грязь, а в низинке долго не высыхала большущая лужа. Ее объезжали и обходили, топча окраины посевов.
В конце 20-х годов в Шульгине дворов было, наверное, меньше ста. Располагались они двумя порядками вдоль единственной улицы с проезжей частью, ничем не отличавшейся от проселка, с затоптанной травкой по обочинам, с двумя дорожками вдоль палисадников.
Многие избы стояли за невысокими заборчиками шагах в пяти от улицы. Перед фасадами росли желтая акация и рябина, порой георгины и мальвы, а изредка яблони с кислыми яблоками, объедаемыми детворой задолго до созревания. Плодовые сады были редкостью.
Избы по большей части – некрашеные пятистенки, крыты дранкой, в пять окон с резными наличниками. Кое-где были пристроены терраски, иногда застекленные, умножавшиеся по мере того, как увеличивалось число дачников. Помню лишь один дом, четвертый с краю, с железной крышей, покрашенный светлою охрой. Там жил крепкий хозяин, через несколько лет раскулаченный и высланный в отдаленные места.
Пятистенные избы, свежие, со смоляными слезами, строили семьи, где хватало взрослых работников, на месте обветшавших строений довоенного времени, семьи, сумевшие поднять хозяйство за время нэпа. Это были середняки – большинство населения деревни.
К пятистенному срубу примыкала обычно холодная горница, сложенная из бревен старого дома, где хранилась одежда, ненужная утварь, летом спали, а под осень сушили орехи. Под единою с домом крышей помещался двор – бревенчатое строение с воротами. Там держали орудия для сенокоса, уборки и пахоты: косы, грабли, серпа, плуги, цепы. Стояла колода с маленькой наковаленкой для отбивки кос. На стене висели хомуты и сбруя. Часть двора, отделенную бревенчатой стенкой, занимали хлев и конюшня – два стойла с кормушками для коровы и лошади. Их держали по одной. Во дворе густо пахло свежим навозом, дегтем, овчиной.
Под крышей двора потолка не было, видны были стропила и дранка. А над помещением для скота был настелен бревенчатый потолок. Над ним на насестах спали куры, утром клохтала несушка и орал петух, красавец с роскошным гребнем, с алой серьгой, весь отливавший синим и черным металлическим блеском.
Когда стали сдавать на лето дачи, в крытый двор выносили тесовый стол, ставили лавки, вдоль стен стелили соломку, клали овчины. Тут обедали и вечеряли при свете керосиновой семилинейки и спали тут же.
В некотором отдалении от крытого двора, за небольшой лужайкой, где летом привязывают телка, – большой сарай для сена и соломы, где после сенокоса на высоком сене предпочитает спать молодежь, чтобы, с гулянки придя после третьих петухов, не будить ворчливых родителей. Перед сараем – ток (гумно) – прямоугольная площадка, с которой перед молотьбой срезают пробившуюся травку. А за сараем – узкая усадьба, с правой стороны деревни упирающаяся в дорогу, идущую вдоль оврага, а слева – в дорогу, идущую вдоль полей. На усадьбе сажают картошку, капусту, морковь, свеклу, горох.
Овраг, промытый талыми водами параллельно деревне, перегорожен двумя земляными плотинами, подпирающими два пруда. Верхний – чистый, оттуда воду берут для хозяйства и качают при пожарах. В другом купают лошадей и купаются деревенские ребятишки.
Шульгинские поля с трех сторон ограничены лесом – с севера и запада сосновым бором с густым орешником, с востока – лиственным лесом и сыроватыми кустарниками. К югу поля граничили с пашнями деревни Подушкино – Верхнего и Нижнего, – скрытой за бугром.
Земледелие было трехпольное. Сеяли рожь, овес, выращивали картошку, на парах сеяли вику и клевер. Поля были разделены на узкие полоски, наделы крестьянских семей.
Пахали однолемешным плугом, бороновали бороной деревянной со стальными зубьями, окучивали картошку культиватором, а то и сохой с железным сошником. Созревшую рожь жали серпами, а иные косили, а потом вязали в снопы. Снопы складывали в крестцы. А потом свозили на гумно. Молотили цепами, отвеивали деревянной лопаткой. Позже появились ручные молотилки и веялки.
Пахотной земли было мало. Не знаю, какие были урожаи. Но ржи хватало на прокормление семьи до нового урожая, на пойло корове, на семена. Могли бы, кажется, хлеб докупать в недалекой Москве, да денег всегда нехватало. Торговать было нечем. Возили в Москву молоко, сметану, творог, от себя отрывая. Когда-то занимались извозом в зимнюю пору, да, видно, стало невыгодно. Так что корова оставалась единственным источником денежных доходов.
Родители мои начали снимать дачу году в 1927-м. Помнится, я еще не ходил в школу. Шульгино еще не стало дачным местом, москвичи только осваивали Усовскую ветку, а прежде в Шульгино приходилось ходить от Немчиновки, примерно семь километров.
Для меня нет места лучше и прекраснее, чем Шульгино. Дом Аксиньи Ивановны – первый у околицы, крайний справа при въезде в деревню. С террасы этого нового бревенчатого дома открывается превосходный пейзаж – поле, в начале лета зеленое, потом золотистое и за краем его темный сосновый лес. Этот пейзаж, дорогой моему сердцу, помню до мельчайших деталей. Какая-то пчелино-жужжащая благостная тишина царит в этой деревне.
Я не знал деревни зимой.
Шульгино – это лето. Детское лето. Нескончаемое лето.
Зима – это Опалиха. Иногда прекрасная. И все же – зима.
В детстве все было лучше, чем сейчас.
Я просыпался на ранней заре от мирных выстрелов кнута и от пастушьего рожка. Мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. Утренний воздух смешивался с запахом теплой скотины.
Это бывало мимолетным пробуждением. И я вновь засыпал.
И вставал уже позже, когда солнце начинало пригревать.
На открытой террасе, выходившей прямо в поле[14], уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло, тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог – синоним белизны, слоистый и тоже душистый[15]. Все это было неповторимого вкуса и запаха.
После завтрака начинались бесконечные игры и беготня. Молодые мои родители давали мне полную волю, и все дни я проводил с шульгинскими ребятишками, занимаясь тем же, чем занимались мои деревенские сверстники. То мы шли гурьбой в Раздорский лес – сосновый с орешниковым подлеском – собирать землянику; то скакали босые по теплой пыльной дороге верхом на палочках. Палочек-коней у каждого было по нескольку. Я до сих пор ощущаю силу воображения, превращавшую ореховую палочку в коня, и свое чувство к каждому из моих коней, помню ногами нежнейшую пыль на дороге, ощущаю ступнями сыроватую прохладу лесной тропы.
И чувствую запахи, ныне утраченные. В нас стареет, отупляется и обоняние. И теперь ощущаешь лишь крепкие запахи – липа, сирень, жасмин, сено, а тогда были тысячи оттенков – нагретый ореховый лист, мох, телега, лошадь, прошедшая по лесной дороге.
Я узнавал в Шульгине названия трав и растений, приметы, порядок сельских работ и названия орудий, повадки домашних животных; словарь Шульгина, его язык – чистейший московский говор – постепенно впитывались моим сознанием и становились его практической частью.
С соседскими ребятишками бегали мы купаться в крохотную речушку Самынку, куда впадал совсем уже крохотный ручей – Соплянка. Это было под лесом, в низине. Соплянка вытекала из осиновой заросли, казавшейся огромной и непроходимой, и присоединялась к Самынке в живописном овраге – там сейчас поворот Подушкинского шоссе. Самынка была глубиной по колено. Дно – чистейший мелкий песок. Небольшие стайки плотвичек и мальков плавали и были бы неприметны, если бы не тени их на дне. Из вилок делали остроги и порой удавалось попасть в плотвичку.
Вода в речушке – ледяная. Мы выкапывали яму в песке и садились по горло. Долго, впрочем, не просидишь.
Чаще купались мы в лошадином пруду, с водой шоколадного цвета и дном, где нога утопала в мягком и холодноватом внизу иле; где полно было головастиков и лягушек и плавали, извиваясь, толстые пиявки.
Пруд пахнул тиной, застоялой водой. Это нас не смущало. Мы плескались часами в мутной, грязной воде.
В этом пруду купали лошадей.
Это было одно из любимых наших занятий.
Хромой Андрей, наш сосед, молодой крепкий мужик, женатый на рябой пожилой Шелатонихе, детей не имел, поэтому мне поручал красно-бурую добрую кобылку Зорьку. На ней удобно было сидеть, такая она была гладкая, маленькая и удобная.
Поняв, что ее ведут купать, она рысцой бежала к пруду. Останавливалась на берегу. Ноздрями шумно выдыхала воздух. Осторожно вступала в пруд. Долго пила. Поднимала голову от воды. Я ей посвистывал. Она снова пила. Потом опять отрывалась от воды. Капли стекали с ее добросовестной морды. И вдруг она решительно шла на глубину и плыла, вытягивая шею и отфыркиваясь. Я подгонял ее к берегу. Мыл – и до сих пор ощущаю ее крепкие кормленые бока, гладкую шкуру, запах гривы, дыханья и конского пота.
Отец мой с военной поры любил лошадей. И мне внушал любовь к ним. Я целый день ожидал встречи с Зорькой, для нее припасая краюшку хлеба с солью или кусок сахару.
Ничего нет лучше, чем мягкие конские губы, осторожно берущие с ладони хлеб или сахар! Зорька глядела на меня кроткими карими глазами с лиловатым отливом, с прямыми простодушными ресницами. И иногда, пошаливая, дотрагивалась губами до моей шеи, щекотно дыша в затылок.
Это славное добродушное существо терпеливо сносило мой неумелый уход. Я без седла ездил на Зорьке к пруду, поил и купал ее, а вечером подъезжал к околице, где верхами собирались шульгинские мальчишки, и мы гнали коней «на елань», так назывался отдаленный луг, где в ночном отдыхали и паслись деревенские кони. Дождавшись темноты, мы разжигали костер близ лесной опушки, пекли картошку. Стреноженные кони хрустели травой и фыркали невдалеке, а потом мы шли ночным лугом, зябким росным вечером домой, в деревню, шаля и крича по дороге.
По воскресеньям приезжал Виктор Маркович Повзнер, инженер и старый холостяк. Он был мужчина с морщинами на лбу и на щеках, с волосами, гладко причесанными на косой пробор, смуглый, высокого роста.
Приезжал он утром с собственным гамаком, привешивал его в лесу и отдыхал до обеда. Читал иностранную книгу, ел бутерброды из алюминиевой банки, пил кофе из термоса и сосал прохладительные конфетки.
Он когда-то учился в Швеции и считал, что быть стоило только шведом.
Утром, отправляясь за земляникой, я набредал на Виктора Марковича и страстно хотел попробовать бутерброды из банки и мятные драже. Но он не угощал меня, даже если я с ним здоровался.
После полудня Виктор Маркович сворачивал свой шведский лагерь и шел к нам обедать. За столом площадку держал Виктор Маркович. Он был анекдотчик.
– Где вы купили ваш саракулевый как?
– В магазине Марл Карсы.
Взрослые подробно смеялись. Виктора Марковича уважали за шведские привычки, но осуждали за то, что скуп.
К обеду приезжали и другие гости: Янчевецкие, Можаровские, двоюродный брат мамы Борис, ипподромный игрок. Долго пили чай с земляничным вареньем, с пирогами, испеченными в кастрюле «чудо».
Я с особенным нетерпением ожидал дядьку, приезжавшего на велосипеде из соседней Барвихи. Он давал мне деньги на мороженое.
В послеобеденную пору приходил мороженщик. Он толкал перед собой ящик на двух колесах, набитый подсоленным льдом. За ящиком оставался мокрый пунктир на пыльной дороге. Мороженщик останавливался у околицы, и его тотчас окружали мальчишки и девчонки. Он степенно открывал ящик, и тогда можно было увидеть два жестяных цилиндра со сливочным мороженым. Круглой ложечкой с длинной рукоятью он ловко вынимал из цилиндров круглые шарики и клал их на блюдечки или же, что особенно ценилось детьми, другой ложечкой вмазывал мороженое в жестяную же штучку, куда предварительно закладывалась вафля. Прикрывал мороженое другой вафлей и выталкивал толстое колесико, как бывает на пишущей машинке, только белое и холодное. На вафлях были написаны имена: Саша, Надя, Вера. Мы сперва их прочитывали, а потом, сжимая постепенно вафли, слизывали выступающее мороженое – желтое, с запахом ванилина, пощипывающее язык. Счастливца обступали те, у кого не было пятака или трех копеек (порции бывали разные), и просили:
– Дай лизнуть!
Им давали, следя, чтобы слизывали не очень помногу и не смели откусывать.
Как ни отдален был мой быт и мои интересы от быта и интересов деревни, я искренне приобщался к ним. Кроме того, высокое уважение к сельскому труду внушал мне отец.
Я помню эпические труды большой крестьянской семьи Аксиньи Ивановны, ужин при свете керосиновой лампы за деревянным столом – еду из одной миски деревянными ложками, благоговейно уважаемую и заслуженную трапезу, не прерываемую излишним словом. Помню еще праздничные хороводы и пение у колодца, отпевание покойников у околицы, свадьбы и пьяную престольную Казанскую с традиционной дракой с соседним Подушкиным.
Мне особенно всегда неприятно читать дачные воспоминания интеллигентов как некое хождение в народ и однократное участие в копке картошки как некое присоединение к крестьянскому труду.
Я был типичный дачник, городской мальчик, жадно впитывавший деревенские впечатления и любивший деревню, как может любить ее горожанин, то есть любовью одержимой, возвышенной и поэтической.
В те годы крестьяне работали еще всей семьей от зари до зари. Труд их был тяжел и неблагодарен. Мне странно читать сейчас о веселой жизни счастливых поселян, о которой почти открыто сожалеют наши новые народолюбцы.
Жизнь русской деревни всегда была тяжела и трагична. Русский писатель не может не думать о русской деревне, особенно о последних сорока годах русской жизни, когда все обостренные процессы в их специально русском, то есть в самом трагическом и мрачном выражении, обильно были питаемы кровью и потом русского крестьянина.
Периоды исторической ломки, переходные периоды всегда трагичны для поколений, через чью жизнь прошел разлом. Но переломы психологические не всегда связаны с гибелью и обнищанием большей части народа. Кроме того, между переломными эпохами были временные стабилизации и упорядочения. В русской истории XX века перелом следовал за переломом, не давая передышки, наползая один на другой, сливаясь в один нескончаемый страшный болезненный перелом, из которого неизвестно еще когда и неизвестно еще с какими кровавыми потерями выйдет русский народ. Да и выйдет ли раньше, чем перелом не переломит хребет тиранической власти в России и народным чаяниям не откликнется, наконец, так мало ценимый и так тяжко натруженный голос свободного мнения.
До колхозов в летние дни вся деревня в поле. Остаются дома одни ребятишки да древние старики со старухами. Тихо. Только шмели гудят да поохивают сонные куры, купаясь в пыли.
Праздник летом один – престольный – Казанская. Тут уж дня три вся деревня гуляет.
Папа с мамой, приодевшись, с утра идут в гости к знакомым мужикам. Везде их сажают за стол, угощают. Пожилые выпивают степенно. Мне хозяйки суют ржаные лепешки с картошкой – теплые, рассыпчатые. Все ребятишки жуют целый день эти лепешки, пряники, а кто просто краюхи ржаного хлеба от пуза.
Молодежь, напившись, отправляется драться с Подушкиным. Дерутся по традиции, видно, без особой охоты.
Помню, только раз Саше Мещанинову разбили голову бутылкой. Папа его перевязывал, а он смотрел героем.
Вообще же Шульгино – деревня мирная, и народ в ней смирный. Не очень пьянствуют. Не часто дерутся.
Помню, только раз – поймали вора, кажется, конокрада. Били страшно. До смерти забили.
Я впервые тогда увидал самосуд.
Самосуд хуже любого суда. Он сплачивает на основе преступления. И это – сплочение зверей.
Сталин понял круговую поруку самосуда и суть его озверения, заменив у нас суд самосудом.
Как проходила коллективизация в Шульгине, я не видел. Приехали летом 30-го года, а там уже колхоз. У Аксиньи Ивановны ни коровы, ни лошади. Молодежь куда-то стала рассасываться, большинство подались на московские заводы. Кто в армию ушел, на землю уже не вернулись. В цене стали городские невесты. И местные девки стали поджидать городских женихов.
Шульгино – деревня небогатая, земли мало. До революции и в нэп занимались извозом. А потом постепенно от этого дела отстали, превратились в середняков.
Раскулачили одних Яхонтовых, а каких, не помню. Вся деревня была Мещаниновы, Цыгановы да Яхонтовы.
Тех, у кого дом был под железной крышей, раскулачили. В доме стало правление колхоза. И шульгинский заштатный поп тоже исчез.
У самого входа в деревню – справа от дороги – глубочайший колодец с двускатным навесом, с колесом в полтора человеческих роста.
На колесе хорошо качаться, хотя это строжайше запрещено. Вода здесь холодная и чистая.
По утрам и вечерам постоянно скрипит колесо, звякает цепь и с плеском ползет деревянная бадья на два ведра.
У колодца этого в праздничные вечера после работы девки в городских крепдешиновых платьях водят хороводы и тихо поют старинные песни.
Здесь же отпевают покойников. На козлы ставят гроб, и старенький священник в облачении помахивает кадилом. Ему прислуживает пропойца-дьячок, которого так и зовут Дьячок, а всех детей его Дьячковы.
От молитвы, от ладанного дыма, смешанного с воздухом полей, становится грустно и торжественно. Хочется, чтобы подольше не кончалось это простое и возвышенное отпевание усопшей души.
Шульгино одним краем выходит в поле. Другим – примыкает к Ромашкинскому лесу. Там влево дорога на большое село Ромашково, а прямо через кустарники – на Немчиново.
Те, кто живет на одном краю, другой называют «тот край», а жителей «техкраевошними».
Мальчишки обоих краев между собой воюют. Но это занятие малышей.
В первые годы шульгинского житья я не рисковал появляться на «том краю», а как подрос, стал ходить в Ромашкинский лес по ягоды и по орехи.
Лет в тринадцать я бегал туда каждый день, чтобы встретить круглолицую Машу Мещанинову. Маша, чуть завидит меня, бывало, спешит убежать из дому, но чаще всего мать окликает и велит заняться делом. А дел у Маши, видно, много было, потому редко удавалось нам видеться.
В радостные часы встречи мы с ней забирались в чащу, собирали ягоды. Она говорила редко, словно речь ей давалась с трудом. Только подставляла сомкнутые губы, когда я ее целовал.
Ребятишки приметили наше общение, Машу стали дразнить мною, и она уже не выходила в лес, когда я проходил мимо ее дома.
История одной семьи – это очень много. Не просто отдельный человек, а именно человек в семейном окружении, то есть в самом малом дроблении среды, и есть истинная плоть истории, овеществление процесса. Не зря мы с таким увлечением читаем семейные романы, которые всегда романы исторические, и слушаем семейные повествования, большая часть которых пропадает и забывается.
Семейные хроники для истинного историка – материал не менее ценный, чем статистические данные, хронологические детали, мемуары политиков и тайные документы. Для исторического же писателя истории семей – главный материал, в котором запечатлена история в ее объемном, то есть художественном виде.
В периоды, когда история умышленно фальсифицируется и подгоняется под схемы, неизбежно растет интерес к мемуаристике. В этом сказывается потребность людей в подлинной истории, в подлинном осмыслении процесса.
Я – человек московский, городской. И если как-то ощущаю историю нашей деревни, то только через несколько семейных историй, к которым близко прикасался в детстве и позже, во время войны. В частности, это история семьи Мещаниновых из подмосковной деревни Шульгино.
Где-то на пороге нашего века Сергей Мещанинов женился на Аксинье Ивановне, лет которой тогда было не более двадцати.
Сергей был бедняк и, видимо, как и все в Шульгине, московский извозчик.
Вскоре пошли дети. Старшему Василию в ту пору, когда мы поселились на даче у Мещаниновых, было лет двадцать шесть. За ним шла Лиза, года на три моложе, потом Саша, за ним красавица Мария и дальше – болезненный Петр, крепкий Алексей, Полина, старше меня года на три, и младшие – лет шести Митька и совсем еще маленькая Лелька.
Такое количество живых детей застали мы в середине 20-х годов, когда переехали впервые из города на дачу в Шульгино.
По всем расчетам Аксинье Ивановне в ту пору не было еще пятидесяти, а скорее лет сорок пять. Но глядела она старухой, а может быть, и считала себя таковой, потому и одевалась по-старушечьи. Особенно портило Аксинью Ивановну отсутствие передних зубов. Она, наверное, и смолоду не отличалась красотой, и дочери Елизавета и Полина пошли в нее, но в лице ее, востроносом и узком, были черты ума и энергии, скрашенные добротой и сентиментальностью.
Именно она, а не Сергей, которого не слышал, чтобы так звали, домашние – тятя или отец, а чужие – Аксиньин, именно она и оказалась стержнем семьи и, впрягшись в трудную крестьянскую работу, сквозь революции и войны выволакивала свое многочисленное потомство из бедняцкой нищеты к середняцкой относительной сытости.
Можно себе представить, что Аксиньины были до революции из самых бедных. Но Аксинья Ивановна подняла старших детей и с ними в нэповскую пору поставила новый дом-пятистенку, новый двор, купила сельскохозяйственные орудия, завела приличный скот и выбилась к среднему хозяйствованию.
Мещаниновым хватало уже своего хлеба и картошки. А деньги получали они от продажи молока в Москве.
Зимой молоко нам два раза в неделю привозила Аксинья Ивановна.
Надо сказать, что относительная сытость стоила Мещаниновым огромного физического труда, в котором участвовали все дети, кроме двух младших.
Теперь уже, конечно, никто так не работает от зари до зари, как работали русские крестьяне еще сорок лет назад.
У меня нет охоты идеализировать старый крестьянский труд. Но это был труд «личный», оттого и содержал элемент поэзии, как всякая «личная» деятельность. Личное-личностное. Единоличник – единство личности и труда.
Наши почвенники, поганые баре, считают это утратой исконных начал. Но, как во всем, их понимание основано на барском и каком-то гнусном, кривом идеализме. В сущности, на официальном идеализме, но повернутом вспять, хотя ничем и не лучшем.
В основе обоих пониманий труда – официального и почвеннического – лежит идея труда-героизма или труда-удовольствия. Идея людей, к черному труду непричастных.
Можно сколько угодно говорить о труде-удовольствии, но тогда почему же вся Россия от этого труда разбежалась?
Говорят – разбежались от колхозов, от великого перелома. Нет!
Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии.
Какой же это идеализм, если на себя работали от зари до зари, а для общества работать не пожелали, а если работали, то из-под палки. И работать снова стали, как только вновь позволено стало «на себя».
Именно в том-то и смысл нашего времени, что поняли – работать на общество, то есть быть идеалистом, никто в деревне не хочет и не станет. Что работников улещать надо, платить им надо, не то Россия с голоду сдохнет[16].
Труд-воспроизводство есть нормальная функция человека и может быть назван героизмом, если таковым считать любую человеческую жизнь и с жизнью связанную муку.
Героизмом все же считать можно нечто из ряда вон выходящее и, пожалуй, не связанное с обыкновенной деятельностью поддержания жизни.
Почему-то труд русского крестьянина до колхозов не принято называть героическим.
Рим продержался бы дольше, если бы придумал соревнование и давал ордена за труд.
Труд должен быть «на себя».
После коллективизации начала распадаться большая работящая семья Мещаниновых.
Наконец-то от тяжких для него уз удалось освободиться старшему Василию. Он ушел примаком к богатой некрасивой невесте. Вскоре переехал в Москву. Основательно подорвав здоровье непосильным трудом в юные годы, он умер перед войной.
Лиза вышла замуж в соседние Раздоры за рабочего подмосковного завода. И, кажется, удачно.
За человека много старше ее в Одинцово вышла тихая красавица Маша. Ее постигла послеродовая горячка. И я видел ее, похудевшую и подурневшую, с остановившимся взглядом, когда они с мужем приезжали навестить Шульгино.
На завод поступил Саша, вскоре женился на деловитой толстенькой Сане и еще до войны произвел многочисленное потомство, заселявшее постепенно пустеющий дом Мещаниновых.
Слабый здоровьем Петр поступил в техникум. Учиться ему было трудно. Занятия проходили вечерами, возвращаться в Шульгино было поздно. И он зимой ночевал у нас в передней. Социальные амбиции моей матери не могли допустить его хотя бы в мою комнату, где был лишний диван.
Алексей был призван в армию.
Поля вышла замуж за шульгинского. К ней заезжал я лет через пятнадцать после войны.
Митька тоже не стал крестьянином. Работает где-то на заводе, женился. Говорят, пьет.
Младшая Леля, красавица, в Марию, принадлежит к неудачливому поколению невест военного времени. Она осталась одинокой. Работает в Москве медсестрой.
Старик Сергей Константинович помер до войны, а Аксинья Ивановна – в 1944 году. Она до кончины сохраняла дружбу с моими родителями, отец доставал ей редкий в ту пору пенициллин, когда она заболела воспалением легких. Но лекарства не помогли. Она скончалась, завещав моим родителям желание, чтобы они присутствовали при ее погребении.
Так разбрелась, развеялась большая крестьянская семья. Из десяти членов уже до войны только двое – отец и мать – не утратили связи с землей.
Да и то работали в колхозе лишь номинально. Старик хворал. Да и у Аксиньи Ивановны не было уже ни сил, ни охоты.
Во всех развитых странах нашего века происходит один и тот же процесс индустриализации города и деревни, а затем НТР – процесс, связанный с колоссальными перемещениями масс из деревни в город, из одного социального слоя в другой.
Эти колоссальные смещения, перемещения, перемешивания неизбежно связаны с ломкой психологической и социальной.
В саморегулирующемся обществе существуют естественные регуляторы процесса – экономические, регуляторы политического устройства – демократизма, традиции, среды и т. д.
Регуляторы не замедляют процесс, но тормозят его на поворотах, смягчают остроту, придают естественность течению.
Большую роль играет здесь такой фактор, как консервативное сознание среды, пересматривающееся медленно и как бы покрывающее процесс. Среда разрушается медленно, сохраняя свое нравственное ядро до тех пор, пока не сформируются новые центры нравственного тяготения.
В России же традиция такова, что социальные и экономические изменения происходят не средствами среды, а средствами политики. На Западе медленнее всего разрушается среда. У нас сперва разрушают среду средствами политики и при разрушенной среде путем реформы «сверху» создают субъективную схему нового, которая так или иначе далека от подлинной, естественной общественной потребности и после этого годами и десятилетиями утрясается – порывисто, с колоссальной затратой и потерей общественных средств и энергии.
Таковы были процессы при Иване Грозном, реформы Петра.
Таков был и 37-й год.
Недаром Сталин, кося глазом на историю, чаще всего примерял клобук Ивана или мундир Петра.
При разрушении среды и крушении сословного сознания единственным сплачивающим общество элементом остается нация и единственной общей идеологией – национализм.
Не Сталин ввел в России национализм. Он естественно заменял рухнувшие – космополитический гуманизм буржуазии и интеллигенции, природную религию крестьянства, вселенскую религию священства, интернационализм партии и рабочего класса.
Процесс этот происходил и происходит во всех странах на протяжении XX века. В разных странах по-разному. А в наиболее социально развитых и с некой поляризацией, с обратным процессом, с противопроцессом, который неминуемо будет усиливаться со складыванием новых социальных слоев.
Национализм XX века – результат социальной неутрясенности, перемешанности, крушения традиционных общественных структур.
Произрастание трав
Первое стихотворение я сочинил лет шести. Было это на даче, на 20-й версте ранним утром. Я проснулся в детской кроватке с никелированными шариками и с веревочной сеткой. Было светло, солнечно, тихо. Вся тесовая крошечная комната, где я спал, была наполнена светом, свежим запахом сада и движущимися тенями, потому что солнце стояло еще далеко от зенита и лучи проникали сквозь деревья, которые не виделись, а угадывались по запаху и движению теней.
Вдруг мне в голову сами собой пришли стихи.
Осенью листья желтеть начинают, С шумом на землю ложатся они. Ветер их снова наверх поднимает И кружит, как вьюгу, в ненастные дни.Стихи были непохожи на то, что меня окружало. Они выразили, видимо, мгновенно пронзившее меня чувство непрочности счастья, преходящести того солнечного радостного мира, который тогда меня окружал. Стихи родились из вдруг почувствованного протекания времени. Мне и сейчас кажется, что стихи – это острое чувство наполненности каждого предмета и явления временем, чувство текучести и непостоянства, насыщающих каждый предмет, чувство порой радостное, но чаще грустное.
Я придумал стихотворение об осени, и сама возможность так кратко и складно выразить то, что я иначе выразить не умел, меня поразила и породила желание сочинять еще. Но как к этому подступиться, я не знал.
Мне казалось тогда и долго еще потом (как и многим кажется), что достаточно описать то, что тебя окружает, и твое отношение к окружающему, что достаточно рассказать о своем состоянии, как получатся стихи. Я не говорю о технической стороне этого дела, но если даже она преодолена, все равно расстояние от такого творения до стихотворения очень велико. Потому что поэзия – не оценка; оценочный момент – ее подпочва, на которой трава не растет; оценочный момент – принадлежность личности автора, он передается и поэзии, однако не порождает ее, потому что нуждается в некой абстракции, в остановке мгновения, в выделении времени как абстрактной категории. Поэзия же в физическом ощущении протекания, движения, заполненности всего времени, в вещественности времени, в восприятии времени как главного структурного элемента всего сущего и, следовательно, стиха.
Смешно было бы требовать от меня в столь юном возрасте понимания того, что сказано выше. Не обладал я и столь сильным талантом, чтобы, интуитивно это почувствовав, уметь воплотить в стихах. И долго во мне после первого поэтического ощущения не было даже подобных проблесков.
Поэтому, наверное, я не помню самых ранних стихов, кроме отдельных строф или строчек.
Потемнело все кругом, Молньи блещут живо, Рассыпаются огнем, Как искры от огнива.Конечно, родители пришли в восхищение от моих ранних стихов и немедленно показали их Василию Григорьевичу Яну. Он отнесся к ним благожелательно и сдержанно, правильно полагая, что не стоит лишними похвалами растравлять мое воображение и порождать надежды, скорей всего несбыточные.
Я благодарен ему за то, что он охлаждал порывы моей матери сделать из меня вундеркинда. Отец никогда не имел к этому склонности, не смея подозревать, что из его сына может действительно получиться поэт. У отца были слишком высокие представления о личности писателя, и он представлял себе редкость такого явления, как талант. Я тоже до поры не осознавал себя поэтом и не готовил себя к литературной карьере, просто сочинял, когда сочинялось.
В доме у нас стихов не читали. Из поэтов был один лишь Жуковский. Его я хорошо знал. Но, пожалуй, не подражал. Были еще Гейне в истрепанном издании Маркса и два тома из собрания сочинений Есенина.
В школе буквари и книги для чтения были наполнены другими стихами, главным образом о праздниках. В этом духе стал сочинять и я.
Любил я перекладывать в стихи некоторые понравившиеся мне рассказы, например рассказ о том, как в Китае изготовляется чай. Излагал и некоторые эпизоды истории. В этом, видимо, сказывался будущий переводчик и автор исторических стихов.
Я рассказываю все это не для того, чтобы создать подробную летопись своего творчества. Мне и самому это неинтересно.
Интересно мне, а может быть, и еще кому-то, как и какие понятия формировала среда, «с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду». Это главная цель первой части моих записок. И вот почему.
У нас существует уже целая литература, утверждающая мнение, что культура и мыслящая часть общества были уничтожены в России в 20—30-е годы, что осталось мертвое поле бездуховности, что рухнули нравственные устои, что Россия четыре десятилетия была страной рабов и тупиц. И лишь нескольким избранным удалось спасти душу и сознание и возговорить к рабам, ко слабым духом. Да и возговорить без особой надежды быть услышанными и понятыми.
Не стану здесь с этим спорить. Скажу только, что возговорившие не могли бы возговорить для мертвого поля. Да и возговорили тогда, когда на поле стала пробиваться трава. И что не все всходы были выполоты, не все забито плевелами. Что надо быть благодарными этим скромным семенам травы, этим малым корням, прораставшим себе в тишине, не мечтавшим расцвести пышным цветом на роскошных нивах искусства или политики.
Нельзя представлять себе, что интеллигенция дореволюционной формации, та средняя интеллигенция, которая продолжала существовать в России, лишенной культурной элиты, была похожа на огромный слой людей с высшим образованием, наскоро изготовленных в последние десятилетия, – врачей, учителей, инженеров, агрономов, была похожа на «средний слой» нынешнего нашего общества.
Разница в том, что интеллигент старой формации был не только суммой знаний и умений, но и неким комплексом понятий, так усердно и утрированно высмеиваемых нашей литературой на протяжении десятилетий.
Интеллигентный слой того времени был óже, компактней, замкнутей, с известными даже сословными амбициями, но и с замечательной традицией честности, порядочности, семейной морали, уважения к делу, сознания своей просветительской миссии, со своим кругом чтения и обязательным демократизмом и народолюбием.
Интеллигенты этого типа – к ним принадлежал и мой отец – не считали себя слугами правительства или партии, а традиционно полагали, что исполняют свой долг перед обществом, просвещая, излечивая или создавая машины или научные концепции для людей, а не для властей.
Отец никогда не внушал мне идеи борьбы с властью. Власть он считал неминуемым злом. Он внушал мне скорее индифферентность к власти как к преходящему явлению общественной жизни. Но рядом внушал и чувство ответственности и понятие о долге по отношению к обществу. В той среде, где я воспитывался, подспудно ощущалось, что власть и общество – не одно и то же. Оттуда я вынес мысль о том, что процессы, происходящие в обществе, в сущности важнее процессов эволюции власти.
Рабочая интеллигенция, в среде которой я рос, не была производителем высоких духовных ценностей и новых понятий. Она была хранителем созданий духовной культуры в нашей стране.
После революции, когда разгромлены или повергнуты в бегство были духовная элита, дворянство, священство, оставались реально два класса, сохранившие культурную преемственность, – рабочая интеллигенция и крестьянство. В этих сословиях сохранялись ценности литературы, философии, живописи, театра, а с другой стороны – и ценности народной культуры, главнейшая из которых – язык.
Сходились эти две среды хранителей русской культурной традиции в понимании нравственности.
Народное трудолюбие и нравственность высоко почитались, например моим отцом.
Крестьянская среда была подвергнута колоссальной перетряске и понесла огромные жертвы в 30-х годах, но не окончательно была уничтожена. Уничтожилась она после войны, причем война была великим катализатором процесса уничтожения и самоуничтожения крестьянства.
Выразителем трагедии уничтожения крестьянства оказался Твардовский, который за это и может называться великим писателем. Он сам выразил и собрал вокруг себя литературу, сумевшую запечатлеть и трагедию, и культурную функцию крестьянства после революции. И я в последнее время круто пересмотрел взгляд на ретроспективность прозы «Нового мира».
Мир духовного созидания отличается от мира физических и химических явлений своей уникальностью, неповторимостью процесса. Человеческая история, так же, как и акт творения, уникальна и неповторима. Уникальность – свидетельство разума или, по меньшей мере, воли, наличествующей во вселенной. Уникальность – лакмусовая бумажка, свидетельствующая о наличии духовного начала.
Физики говорят, что наличие одного атома свидетельствует о бесчисленном множестве атомов. И это верно. То, что способно повторяться, принадлежит бесконечному множеству. Наличие же одной вселенной, сама идея вселенной не предполагает другой вселенной. Уникальность вселенной – косвенное, данное нам лишь в мысли свидетельство ее духовного начала, разума, воли акта творения.
Мы можем воспроизвести все, что происходит в мире бездуховном, материальном, столько раз, сколько нам захочется.
Явления истории невоспроизводимы, они происходят один раз. И лишь материальные условия, в которых происходит духовное бытие человека, в какой-то мере воспроизводимы. Отсюда и идут все теории общественно-производственных формаций. Теории, удобные для моделирования чисто внешних процессов человеческого существования и мало что дающие для истинного понимания истории, человеческой психологии и т. д.
Только недавно ученые занялись вопросами духовной структуры исторической личности, изменчивости и опять-таки уникальности понятий времени и пространства у людей разных эпох. Наши философы и писатели заднего ума рассуждают на тему, что было бы, если бы ничего не было.
А было и будет только то, что должно или должно было быть, со всей уникальностью процесса истории как явления высшего разума или высшей воли. Познание этих высших явлений, скорей всего, малорезультативное, ибо мы не знаем еще, постижимы ли эти явления, – познание этих высших явлений и есть цель исторической нации.
Философы заднего ума рассуждают о том, что большевики сумели захватить власть благодаря ошибкам других партий, что им удалось уничтожить церковь, религию, духовную элиту, нравственные устои крестьянства – основы нации. Они рассуждают о том, что было бы, если бы ничего не было.
У истории нет второго пути. И хлебаем мы и хлебали вовсе не большевистский якобинизм, а старую русскую историю – Иван и Петр. Уничтожение церкви произошло давно. А демократизма у нас и не было. Мы живем русской историей, которая медленно приближается к истории европейской.
Году в 28-м меня отдали в школу. Школа была далеко от дома – на Самотеке, переулок Большой Каретный. Не знаю, почему меня отдали в эту школу.
Тут я хочу возвратиться к тому удивительному времени, когда я был – дитя, и медленно шествовал я от Бахметьевской до Каретного переулка по садам и бульварам, от Екатерининской к Самотеке.
Эта школа была результатом больших сломов и не похожа ни на русскую гимназию, ни на нынешнюю школу.
Помню первые тетради, карандаши, тоненькие ручки, перья 86-й номер, бледные чернила, тесные парты.
Школа! Я ее любил и люблю этот старый дворянский особнячок в Большом Каретном. Я опять возвращаюсь к идее, которая мучит меня и не может не мучить, – к идее нашего назначения.
Эта школа чем-то была хороша. Вот чем. Бедностью, истинным демократизмом, верностью понятию самоуправления, особой свободой.
Рядом со мной в первый день занятий сидел ученик Царьков, маленький хлипкий мальчик, которого, как и меня, привела в школу мама, женщина, по моим тогдашним понятиям, ужасная.
Учительницы не было в классе. И Царьков заорал. Он просто орал от чувства необычности того, что с ним происходит.
Учительница Александра Николаевна, которую я возненавидел на всю жизнь, вдруг вошла в класс.
– Кто кричал? – спросила она.
– Кто кричал? – спросила она меня.
И я ответил:
– Царьков.
И учительница Александра Николаевна, вопреки всем понятиям, внушенным мне дома, – вере в то, что учителю надо говорить правду, вдруг с яростью, вероятно, непедагогичной, схватила меня за плечи и стала трясти, говоря:
– Как ты смел предать товарища!
Я понял только после этот урок.
Учительница Александра Николаевна, видимо, принадлежала к той среде, которая породила нас.
В нашей новой школе, бедной, демократической, шатаемой поспешными педагогическими концепциями, в школе, постоянно устраиваемой, с кучей случайных людей, назначаемых нам в учителя, – в новой школе костяком были старые педагоги, лишь формально принимавшие новые веяния, а на деле исподтишка учившие нас по старинке грамоте и арифметике.
Хорошим, добрым учителем в первых классах был Алексей Юрьевич, по прозвищу Козел. Плохо выбритый, седой, в очках, необычайно тощий, в синем сиротском халатике, он умело обучал нас письму и чтению. Ненавидел он только игру в «расшибец», в «орлянку», которой мы весной и осенью отдавали все большие и малые перемены, прячась в углу школьного сада, за каменной стеной которого размещалось турецкое посольство. Когда мы самозабвенно били дореволюционным пятаком по стопочке мелких монет, сэкономленных от горячего завтрака, Алексей Юрьевич с необычайной легкой прытью выбегал из-за угла. С криком «Козел!» мы разбегались. А он, поймав кого-нибудь, давал шлепка, деньги же забирал. Ходил слух, что на эти деньги он живет.
Математику преподавал Федор Федорович Виноградов, огромный усатый старик, всегда отдувавшийся, близорукий и наивный. Пользуясь его близорукостью, на уроках шалили. Он грозно кричал:
– Староста! Запиши мне этого дезорганизатора!
И записку с дезорганизатором клал в карман и, видимо, там забывал или путал с записками учеников, достойных похвал за поведение и учебу.
Лентяям он неподкупно ставил «неуд». Но можно было на том же уроке исправиться.
– Федор Федорович, вызовите меня, – просил ученик, только что получивший двойку.
– Да ты же уже отвечал, – недоумевал Федор Федорович.
– Что вы! – изумлялся весь класс.
И ученик шел вторично к доске и с помощью виртуозно поставленной подсказки выправлял положение.
Федор Федорович давно вышел на пенсию и потому имел ограниченное число уроков, но в школу приходил ежедневно, охотно заменял заболевших учителей, давал дополнительные уроки и неизменно завтракал с нами – ел крупяные котлетки, политые несладкой клейковиной, и пил жидкое какао, пахнувшее жестяной кружкой.
Тогда в Москве только пустили троллейбус. И Федора Федоровича тотчас прозвали троллейбусом. Я слышал, как он в недоумении рассказывал в учительской:
– Подходят, спрашивают: «Федор Федорович, вы видели троллейбус?». Я говорю: «Нет!». А они: «Тогда поглядите в зеркало». Где же это я в зеркале увижу троллейбус?
Была у нас хорошая учительница литературы Евгения Алексеевна, смешная историчка Елизавета Ивановна, Швабра.
Немало было их, верных, преданных делу, добрых и бедных учителей, на которых стояла тогдашняя неустроенная школа.
Когда я начал учиться, существовал еще бригадный метод. Потом увлекались педологией. Нас водили на профотбор, где задавали различные тесты и по ним устанавливали, кто к чему способен.
Мне в пятом классе сказали, что я более всего склонен к химии. Поверив в это, я купил пробирки, колбы и реактивы, смешивал купорос еще с чем-то, чтобы получилось еще что-то. Года два я был химик.
Стихи я писал, как Бородин музыку, – между прочим. Но авторское честолюбие все же постепенно во мне нарастало. И я наконец решился показать свои стихи в «Пионерскую правду».
Поход мой в «Пионерскую правду» окончился неудачей. Консультант, которого я принял за редактора газеты, по фамилии Меерович, расчехвостил мои стихи, особенно «Песню о Чапаеве», на которую я возлагал большие надежды. Консультант сказал на прощание:
– Поэта из тебя не будет. А грамотным человеком ты можешь стать.
Удивительно, что этот удар я пережил сравнительно легко. Один день я был в отчаянии и даже решил бросить писание. Но назавтра восторжествовали мой природный оптимизм и логика. Мнение Мееровича не показалось мне абсолютно авторитетным. Я не признал за ним права определять мое будущее, хотя критику стихов счел справедливой.
Я чувствовал то, что не мог знать во мне консультант «Пионерской правды».
Работать! Вот какой вывод сделал я из этой встречи.
Я не мог отстать от писания стихов, потому что оно доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Помню, как мурашки пробегали по всему телу, предвещая вдохновение, и перо легко и бездумно летело по бумаге.
Таких школ, как наша 19-я, давно уже нет в Москве. Это был ветхий барский особнячок, двухэтажный, с пилястрами, слегка покосившийся, выкрашенный дурной краской в желтоватый цвет.
Здесь, наверное, просторно было помещаться барину с дворней. А нас было в семи классах с параллельными человек пятьсот, а то и больше. Из маленькой прихожей дверь открывалась в темный коридор, по обе стороны которого располагались тесные классные помещения, уставленные разномастными партами и столами. Из того же коридора лестница вела на второй этаж, где тоже было несколько классов – шестые и седьмые, а также физкультурный зал и учительская.
В подвале устроена была столярная мастерская, там же столовая.
Зимой в перемены толклись в коридорах и маленьком верхнем рекреационном зале, где в углах с азартом «жали масло».
А летом выходили во двор перед домом или в сад за домом, где играли в чехарду (три шага) или в «расшибалку».
Младшие классы были одеты в синие халатики, старшие – в партикулярное платье, довольно нероскошное у большинства из нас.
Чернила были водянисты, поэтому многие носили с собой чернильницы – невыливайки, мел всегда был подмочен и писал плохо.
Школой управляли часто сменявшиеся директора, нечто вроде щедринских градоначальников, из которых я запомнил только одного – он преподавал у нас историю.
Это был довольно молодой неразговорчивый человек. Он велел нам прочитать про устройство Генеральных штатов во Франции. И потом месяца два спрашивал про это устройство. Мы знали его наизусть.
Директора этого вскоре сняли, как нам казалось, за роман со старшей вожатой. А может, и еще за что-нибудь.
Постоянными властями в школе были педагогический совет и учком, часто заседавшие совместно. Председателем учкома два года состоял Шепелев, бессменными членами Острецов, Зигель и я. Я два года выпускал изредка стенгазету, которую писал сам от строчки до строчки.
Класс наш (тогда говорили: группа) был довольно пестрый.
Треть его составляли малюшенцы – знаменитая трубная шпана, во главе которой в нашем классе стоял Кака Комиссаров, худой блондинистый мальчик, на лице которого всегда было написано жестокое спокойствие. Его любимое выражение было «Поц Мерентух!». Что означало это имя и прозвище, мы не знали, да, наверное, и сам Костя не знал. Во всяком случае «Мерентух» был личность недостойная.
Малюшенцы учились без усердия, у них были какие-то таинственные дела, с учителями разговаривали с обезоруживающей дерзостью. Их старались не трогать. Но и они своих не обижали. И в классе не воровали.
Из остатков аристократии учились у нас хрупкий взъерошенный мальчик Алеша Плещеев, внук, а может быть и внучатый племянник, поэта Алексея Николаевича, и дергающийся, нервный и смирный Каулен, наверное, фон Каулен из остзейских дворян, с рыжей, рано пробивающейся щетинкой.
Они как-то незаметно из класса исчезли. Судьба их мне неизвестна.
У нас не было тогда ощущения социальных перегородок. Наоборот, школа приучала нас к равенству. И все же была явная тяга к своим. Ядро класса составляли дети интеллигентов. К ним прибивались и остальные.
Любимым другом моим с первых же классов стал Алеша Червинский (Червик). Это был миловидный, добрый мальчик, белокурый, с большими зеленоватыми глазами, произносивший «л» на польский манер, – дефект речи, присущий, кажется, и его матери, тоже белокурой и доброй, тогда очень еще молодой, но какой-то поблекшей и чем-то измученной. Алеша был внуком архитектора. Отец его, кажется, тоже был архитектор. Жили они в небольшой квартире в двухэтажном деревянном доме на 3-м Самотечном, в доме, каких теперь почти уже не осталось, – с большим двором и садом, где мы часто играли в осенние и весенние дни.
В квартире Червинских, несмотря на обилие старинных вещей, много лет служивших семье, чувствовалось какое-то запустение, неприбранность. Ощущение того, что в какой-то день решили, что давнее их жилье – не постоянное, а временное, потому и не стоит тщательно прибираться или покупать новые вещи.
Эту обставленность старыми вещами и отсутствие интереса к ним я наблюдал во многих семьях того времени. Это был, как мне кажется теперь, какой-то социальный признак, какой-то знак социальной неуверенности.
С Алешей дружба у нас была не «интеллектуальная», не основанная на общем интересе к каким-нибудь наукам и искусствам, – это была истинная душевная привязанность. Нам просто и легко было друг с другом. Мы вместе проживали свое детство и взаимно открывались. Мы и влюблялись одновременно в одну девочку и делились ранними любовными переживаниями, друг к другу не ревнуя. Соперниками своими считали остальных поклонников.
Лет с тринадцати, осенью, мы часто уезжали с Алешей в выходной день в Подмосковье, которое он хорошо знал, ловили рыбу, собирали грибы, готовили себе еду на костре и обычно, сойдя утром на станции одной железной дороги, выходили к вечеру к другой, ближайшей радиальной от Москвы, и по ней возвращались домой.
С Алешей мы проучились – душа в душу – семь лет, а на восьмом, когда пришлось разойтись по разным школам, его постигло страшное несчастье. Случайным выстрелом, чистя охотничье ружье, он убил свою любимую тетку, незамужнюю учительницу, жившую вместе с его семьей.
Надо было знать Алешу, чтобы понять, каким потрясением было для него это случайное убийство. Он сразу порвал с прежними друзьями. Учиться дальше не мог. Попал в армию восемнадцати лет. И погиб в первых же боях 41-го года.
Проходя мимо его дома, уже после войны, я всегда испытывал страшное искушение зайти и узнать, живы ли его родители, расспросить о последних годах Алешиной жизни. Но ни разу не решился.
А теперь, кажется, и дом этот снесли.
Еще моим другом был Володя Рожнов – ныне Владимир Евгеньевич, доктор наук, профессор, верующий в психотерапию. Теперь он лысый и в теле. А тогда был тощим мальчуганом с непокорным хохолочком на затылке, из первых наших учеников и всего класса любимец. Звали его «Вовочка».
Володя был хорошо воспитан, в любом обществе не терялся, по-французски знал в совершенстве (мать его была француженка). Умел он быть порой и заносчив, что меня раздражало, но в общем был доброго нрава.
К Володе я тоже нередко заходил после школы. Он жил в шестиэтажном доме, вроде нашего, напротив цирка. Мать Володи была всегда приветлива и весела, умела с нами общаться и беззаветно обожала сына и восхищалась им. Внешне она чем-то напоминала позднюю Анну Андреевну – скорей всего чертами лица, а не выражением. Впрочем, она была намного моложе.
Не помню, много ли книг было у Рожновых, но книги были особенные, которые я рассматривал каждый раз с памятным и сейчас благоговением. Эта была огромная библия на французском языке с иллюстрациями Гюстава Доре. Художника этого, как и любого другого, не берусь судить по недостатку знания, но кажется он мне из тех, кто создал то, что пересоздать уже невозможно. Его рисунки к «Гаргантюа» или к «Дон-Кихоту» принадлежат не искусству, а сознанию. Они – часть текста. Другие иллюстрации могут нравиться или не нравиться, но они всегда куда-нибудь уводят от чистого зрительного восприятия текста.
Володя интересовался искусством. У него были книги по итальянской живописи, по скульптуре. Он тщательно и долго перерисовывал «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи и в этом достиг большого искусства. Помню и его тщательный рисунок со скульптуры Верроккьо «Давид».
Тогда это все внушало огромное уважение к Володе. Дивило меня и еще одно его качество: он удивительно легко писал. Размашистым просторным почерком он мог исписать несколько тетрадей на любую заданную тему, в то время как я с трудом выжимал из себя несколько страничек куцего сочинения.
Володя Рожнов – один из тех школьных друзей, которые в друзьях остались и по сию пору, несмотря на долгие перерывы в общении. Нас соединяет братское чувство общего детства.
В шестом-седьмом классах мы сидели втроем на предпоследней парте, у окна, – Червик, Володя и я. Перед нами – Шахов, Уединов и Шепелев.
О них тоже хочется рассказать. Борис Шахов лицом был белый негр. Белобрысый, веснушчатый, но курчавый и широконосый. В очках. Потом курчавость его поувяла.
Он – зырянин. В нашем классе, где были русские, евреи, татары, армяне и много разных смесей, он все же был экзотикой. Но интерес он вызывал не своим зырянством (тогда не было того нездорового интереса к национальной принадлежности, какой проявился в послевоенные годы), а тем, что был художник. На уроках он сидел, отгородившись локтями от всего окружающего, и рисовал пером или карандашом, ревниво следя, чтобы никто не заглядывал в рисунок. Если его вызывали учителя, он отрывался от своего занятия и порой отвечал (по истории и по литературе), всегда с юмором, а порой просто молчал. Его оставляли в покое, потому что знали, что он – художник.
Борис был молчалив и стеснителен. Особенно неразговорчив с девочками. Они это заметили и часто к нему приставали. Он помалкивал и краснел. Но из себя не выходил.
Молчаливость его происходила из стеснительности. Когда он стал старше, оказался разговорчив, а под хмелем и болтлив.
Товарищи его любили все. Но дружил он, пожалуй, с Рожновым и со мной. С первым – на почве увлечения живописью. Со мной – из интереса к поэзии.
В общежитии на Цветном, во дворе рядом с киношкой, куда мы сбегали с уроков, Шаховы занимали комнату. Помню мать Бориса – рано постаревшую женщину, обремененную четырьмя детьми, простую женщину, говорившую по-русски с акцентом северного племени. Отец Шахова где-то учился, а потом, кажется, преподавал. Он был еще молодой человек строгого вида, тоже в очках.
Слышал я, что Шахов-старший был один из первых образованных зырян, просветитель своего народа, составитель грамматики и писатель.
Борис об этом рассказывал мало.
В большой неуютной комнате общежития у него был небольшой шкафчик возле железной койки. Шкафчик этот содержался в необычайном порядке. Там стояли книги Бориса, всегда аккуратно подклеенные и обернутые бумагой поверх обложки.
Борис был книголюб.
Сперва он увлекался детективными выпусками – весьма модным в то время чтивом. В пятом классе мы, сэкономив из денег, даваемых на завтрак, убегали с уроков на Лубянку, где у стены Китай-города находились мелкие лавчонки букинистов и книжные развалы. Знатоки там, среди книжной рухляди, собирали ценные библиотеки. Мы же охотились за выпусками. За штуку платили пятак. Выпуски о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, многосерийная «Пещера Лихтвейса» и подобная чепуха были в то время валютой у московских мальчишек.
В шестом классе Шахов начал увлекаться поэзией. У него в шкафчике стали появляться тощие сборнички 10-х и 20-х годов, книжечки современных поэтов. Увлечение Бориса, может быть, возникло под влиянием его тезки Бориса Лебского, начинающего поэта, жившего в том же общежитии на Цветном.
Подражая Шахову, я тоже стал собирать поэтические сборники, а к десятому классу и разбираться в них. Тогда еще легко было купить «алконостовского» Блока, по томам собрать довоенное издание его сочинений, собрать Маяковского, Хлебникова, купить цветаевские «Версты», «Anno Domini», или «Четки» Ахматвой, «Тяжелую лиру» Ходасевича, «Дикую порфиру» Зенкевича, книги Гумилева, Нарбута, Сологуба, Бальмонта, Северянина, Белого.
Многие из этих сборников были у Шахова. Ему единственному я читал «серьезные» свои стихи и поэмы.
В восьмом классе мы с ним разошлись по разным школам. Но все равно потом встречались.
Шахов оказался вдруг в Ташкенте, куда, кажется, перевели работать его отца (не узбеков ли учить зырянскому?). Там произошел с ним случай, весьма характерный для тех лет. Гуляя с девушкой в парке, Борис купил почтовую открытку с портретом Сталина – купил, чтобы написать любовное объяснение. Объяснение, которое он написал, ему не понравилось, и Борис разорвал открытку и бросил в урну. Его тут же взяли и присудили к двум годам отсидки за антисоветскую пропаганду в узком кругу.
Отсидев, Шахов поступил в Московское училище живописи имени 1905 года. Стал художником.
Он не стал хорошим художником, жёсток был его рисунок, жестки краски. Он стал художником хуже, чем мог бы быть, потому что был самородком распространенного типа – способным, но не замечательным.
Самородчество – особая русская тема.
То, что нормальный интеллигентный ребенок впитывает с самыми ранними понятиями своей среды, воспринимает естественно и без труда, самородкам, в силу их позднего стремления к знанию, дается с трудом, в том уже возрасте, когда мозг не обладает способностью естественно воспринимать огромный объем сведений, необходимый современному мыслящему человеку.
Этот труд чаще всего непосилен даже для способного человека и жестоко ломает его психику и порождает характер, искаженный комплексами, главным образом комплексом неполноценности, выражающимся в зависти или неприязни к «природному» интеллигенту, которому без труда даны сведения и понятия, которые с таким трудом осваивает самородок.
Этого комплекса не избегает самородок даже самого мощного таланта, вроде Горького, написавшего энциклопедию самородчества – «Клима Самгина».
Один Чехов по своему уму и беспощадности самооценки сумел скрыть и раздавить в себе самородческий комплекс и подменить его, заменить интеллигентским комплексом вины – комплексом, совершенно не свойственным аристократии, комплексом разночинческим. Об этом еще надо подумать.
Шахов был обыкновенный самородок. Самородок средней руки. Пока он был молод, в нем привлекала жажда знания. А потом раздражать стали посредственные критерии и инстинктивная провинциальная субординация.
После войны Шахов нередко приходил ко мне. Он тяжело болел чахоткой и радовал какой-то удивительной силой и нежеланием умереть и оптимизмом.
– Я стал чувствовать, что Москва гористый город, – сказал он однажды, когда мы шли от Туберкулезного института к Самотеке.
Едва выздоровев, Шахов запил. Потом, не прекращая пить, женился на дочери экономки писателя Тихонова. И тут что-то с ним произошло.
Суждения его о живописи стали скучны. Идеологом своим он считал Иогансона. Начал иллюстрировать детгизовские книжки, самые скверные. Рисунки его ничего не обещали. Он становился злобно ортодоксален.
В конце 40-х годов встречался с Глазковым, заходил к Слуцкому, все реже – ко мне.
Лет двадцать мы не видимся. Говорят – он ослеп.
Вторым перед нами сидел Борис Уединов, по школьному прозвищу Уеда. Уеда – один из самых высоких людей в классе, темный шатен с продолговатым лицом, с крупным носом, всегда заложенным. Он молчалив, может, оттого, что обладает тонким, не по росту, ломающимся голосом, к тому же слегка гундосит и неразборчиво произносит ряд согласных. Он – одна из авторитетных фигур. Жил Уединов на Садово-Кудринской в сером особнячке рядом с Филатовской больницей. Ареал нашей школы был в сотни раз больше нынешних микрорайонов, где на несколько домов-башен одна школа. Ученики нашего класса жили от площади Борьбы (бывшей Александровской) до Трубной и от Сухаревки до Кудринской.
Впрочем, Москва была намного потише. Садовое кольцо еще заложено булыжником. До начала 30-х годов – в садах. Еще существовал круговой маршрут трамвая «Б», по всем Садовым цокали извозчики, тоже постепенно исчезая в 30-е годы; пыхтели старомодные автобусы марки «Leyband». Еще жива была Сухарева башня и гудела Сухаревская толкучка.
К Уединову долго было идти пешком мимо Петровки и Триумфальной. Квартира их была просторная, некоммунальная, если верно помнится – в два этажа.
В кабинете отца – солидные книги. Оттуда впервые – запах солидных, старых, редко доставаемых книг. Мы подолгу рассматривали энциклопедии и почтительно ставили на место.
Все в этом доме было серьезно и основательно, пока не произошла какая-то ломка, о которой Борис никогда не говорил. Отца его – крупного инженера – я никогда не видел. А тут и вовсе прекратился о нем разговор. То ли ушел из дому, то ли еще что-то случилось.
Неблагополучие чувствовалось в лице матери, внезапно постаревшем и обрюзгшем, чувствовалось в том, что меньше стало вещей и книг; в том, как быстро возросло значение старшего брата Игоря.
С середины 30-х годов все чаще замечал я, что в семьях происходят странные изменения. Но как-то пассивно это замечалось, потому что дома было все в порядке; потому что об этом не говорилось; потому что происходило нечто скрытое, тайное, может быть, адюльтер, мезальянс – что-то семейное, скрытое, тайное, непонятное.
Мама работала во Внешторгбанке. Три или четыре из ее сослуживиц имели прикосновенность к высшим партийным кругам.
Дамы эти иногда приходили к нам пить чай с шульгинским земляничным вареньем. Они беседовали о служебных делах, о туалетах и хозяйстве, а порой в их рассказах мелькали детали о некой высшей жизни, о каких-то дипломатических поездках, о Париже и произносились имена и отчества людей такого ранга, которые принадлежали истории и в нашем доме произносились только при чтении газет или иногда пониженным голосом назывались в анекдотах Виктора Марковича.
Дамы эти бывали за таинственной завесой власти и потому сами носили на себе отблеск таинственности и значительности, хотя в остальном были милые, сытые и хорошо одетые женщины. Может быть, кроме некой Веры Львовны, более сдержанной и одетой небрежно. Ее муж был коминтерновец, и в ее облике отражался ригоризм и аскетизм мирового рабочего движения.
Изредка за дамами заезжали их мужья, прямо «оттуда», из высоких ведомств, где решались судьбы мира, а походя и судьбы таких, как мои родители и даже я.
Мужья, после радушных упрашиваний, соглашались выпить чаю с вареньем. И благожелательно ели варенье, разговаривая скупо и как бы нехотя. На них, еще более, чем на женах, лежал отсвет таинственной власти. Они и были сама власть, суровые комиссары гражданской войны, бывшие каторжане, в памяти которых гремели канонады и рокотали пулеметы, – они в крылатых бурках – à la Котовский – вылетали на разгоряченных конях впереди атакующих красных эскадронов.
Правда, я никогда не мог себе представить маленького кругленького Канторовича, брата «того» Канторовича, в роли лихого кавалериста. Но все же, насилуя воображение, соглашался с возможностью такого явления.
Чаще других заходил к нам муж Веры Львовны – работник Коминтерна. Это был рыжий фанатик с белесыми глазами. Он порой отвечал на недоуменные вопросы папы с беспощадной ясностью и стальной решительностью участника баррикадных восстаний. Папа его не любил.
В 37-м разом полетели мужья правительственных дам, в том числе и брат «того» Канторовича.
Рыжий фанатик подзадержался. И еще успел разок побывать у нас, объясняя папе всю правильность, своевременность и благодетельность происходящего.
Вскоре и он был арестован и запропал навсегда, как и остальные. И никогда ему не пришлось больше объяснять своевременность твердых мер и презрительно есть земляничное варенье.
Мамины сослуживицы, сразу похудевшие, заплаканные, стали появляться у нас в доме, собираясь в отъезд, в провинцию.
Им посылали посылки, к нам многие времена спустя приезжали их дети, родственники и знакомые. И всех их принимали мои родители, не думая о том, что опасно общаться с семьями врагов народа, потому что папа всегда считал подлым отрекаться от друзей, попавших в беду.
Может быть, даже рыжего фанатика ему было жалко.
А так было все в порядке – как будто в порядке – и у меня, и у Червика, у Вовочки, у Хемса, и Лившица, у Шени и Шахова – все было в порядке.
За хорошую учебу шефы – 3-й Москвошвей – премировали брюками. Были праздники, выборы, перевыборы, успехи. Были, наконец, зимы и лета. Был каток ЦДКА. И тогдашний московский мороз – розовый, с инеем в парках, какой-то невероятной детской красоты; и непонятно было тогда, только ощущалось – как хороша Новая Божедомка: слева ампиры Туберкулезного института и Мариинской больницы, справа милые особняки и маленький молочный завод… – а дальше просторы, заиндевевшие деревья Екатерининского парка – слева Самотечные переулки, а впереди – Садовая с садами. Садовая с садами…
Третий на парте перед нами – Шура Шепелев – Шеня. Он не только в классе – во всей школе – первый ученик. Председатель учкома. Шура – с высоким лбом, веснушчатый мальчишка, с умным, точным взором. Он – гордость школы и победа педагогическо-социальной концепции. Из бедной многодетной семьи, без отца, мать – уборщица. И действительно, хорош был Шеня, спокойный, собранный, всегда знающий уроки, полный какого-то достоинства и благородства.
По всем социальным признакам и по блестящим способностям ему бы делать большую карьеру. Но на всех служебных лестницах, которые предстают нашему взору, его фигуры не видно. Может, не хватило темперамента, может, замах пропал, может, наоборот – слишком сильно было эмоциональное начало в этой натуре, весьма незаурядной.
Я знаю о нем, что после школы он попал в офицерское училище и в войну не погиб.
Развел нас нелепый конфликт на почве ревности. Шепелев, заревновав, ударил меня по щеке, завязалась короткая драка. Мужчины сочувствовали Шепелеву, женщины – мне.
Произошло это в седьмом классе из-за Наташи Корнфельд, в которую мы все время от времени влюблялись. Но это было как раз то время, когда я был влюблен в другую, а с Наташей, как всегда, сохранял дружеские отношения и исповедовался в своих увлечениях.
С Шеней мы вскоре примирились. Но отношения наши сломались. Учась в разных школах, мы не встречались.
И у меня остались только воспоминания, как в откровенных беседах о любви мы подолгу прохаживались мимо Наташиного дома в Большом Каретном (ныне улица Ермоловой) рядом со школой, выходя к Садово-Самотечной по крутому склону, еще хранившему очертания древнего берега реки, возвращаясь к началу Колобовских переулков и оттуда вновь к Садовой – к Садовой уже без садов.
В те годы обучение было совместное, как и сейчас, и никто из нас не думал, что оно могло быть иным. Но в первых классах мальчики и девочки держались особняком; даже я, воспитанный в девичьем обществе, не позволял себе в классе обращаться к подруге детства Люсе Дорошенко иначе, чем «Эй, ты!».
Классу, наверное, к пятому взаимный интерес пересилил традиционное отчуждение. В нашу компанию, описанную выше, вошли девочки.
Известную роль в этом сближении сыграл дом Наташи Корнфельд.
Это был дом светский, цивилизованный, процветающий – с умной, волевой и красивой хозяйкой, матерью Наташи Екатериной Васильевной, с приятным хозяином, архитектором Яковом Абрамовичем Корнфельдом, с бабушкой-писательницей и двумя прелестными дочерьми – Наташей и Таней; светский – с гостями, с паркетами, с книгами; дом, где умели принять, втянуть в беседу, угадать настроение, присмотреться, тактично отсеять, тактично же и привлечь.
Как среди мальчиков никого нельзя было сравнить с Рожновым, так среди девочек выделялась Наташа.
Она небольшого роста, пухленькая, с полными губами, с чудесными серыми глазами, с ямочками на щеках – маленькая женщина, умная, тактичная, памятливая, ко всем внешне ровно расположенная – результат воспитания, а не добродушия, – очень способная ко всем наукам.
Моим первым товарищем еще до школы был Жоржик Острецов. До знакомства с ним я находился в окружении девочек. Их было четыре, я – пятый в прогулочной группе.
Острецовы занимали две комнаты в шестикомнатной густонаселенной квартире. В большей жили две тетки Жоржика – строгая и степенная Елена Ивановна, врач Туберкулезного института, и добродушная Елизавета Ивановна, учительница. У Елизаветы Ивановны была дочь Маруся, несколькими годами нас помладше, славная девочка с заячьей губой. С ними жила древняя, выжившая из ума бабушка, к тому же еще слепая. И, кажется, жил еще дядя Жоржика Иван Иванович, во всяком случае, постоянно находился в доме.
Семья Жоржика – его отец – бывший командир Красной Армии, по демобилизации ставший школьным завхозом, мать – медицинская сестра того же Туберкулезного и он сам помещались в довольно большой пустынной комнате с тремя дверьми. Одна из дверей выходила в длинный темный коридор, а две другие были заделаны фанерой и заклеены обоями, потому что за ними жили соседи Острецовых, таким образом поделившие бывшую анфиладу на несколько изолированных помещений.
Глубже по коридору находилась комната злой старухи Цеповой, грозы коммунальной квартиры. В старухину дочь, некрасивую, но веселую и живую Марусю, много лет без взаимности был влюблен Иван Иванович. Он был заметно старше Маруси, неудачник и старый холостяк. Желая ублажить свою возлюбленную, он играл на гитаре, иногда на старом фортепиано и пел чувствительные романсы. В конце концов они поженились, но Иван Иванович недолго наслаждался семейной идиллией и вскоре помер, оставив веселую Марусю с малолетней дочерью. Таким образом, еще одна семья Острецовых потеснила старуху Цепову и обосновалась в тридцать шестой квартире.
Родом Острецовы, по говору судя, были из севернорусской провинции, класса разночинческого. В большой комнате над диваном висел большой фотографический портрет конца века – красивый, строгий человек в форменном мундире, невысокого, видимо, ранга.
Это дедушка Жоржика.
Под портретом на старом диване, перед столом, покрытым клеенкой, сидела обычно слепая старуха, жена дедушки, и ела или хотела есть. Бабушку кормили грубой пищей 30-х годов, а над прожорливостью ее добродушно издевались. Подражая взрослым, разыгрывали бабушку и мы, дети.
Говорили при ней о роскошных обедах, которые якобы ели вчера в гостях. А я рассказывал бабушке, что дед мой служит при кавказском наместнике и обещался прислать ей из Тифлиса апельсинов.
Иногда Жоржик, аккомпанируя себе на рояле, пел песенку:
Я толстая свинья, Глядите на меня, Все время ем да ем, Не брезгую ничем.Бабушка не дождалась тифлисских апельсинов, а однажды тихо умерла.
Видать, не все Острецовы жили в квартире 36-й, ибо вскоре после смерти бабушки в большой комнате появился молодой человек Сашка Острецов, племянник и кузен, музыковед по образованию.
С его приездом рояль выдворили из большой комнаты и поселили в расположении Жоржикиных родителей, потому что Сашка имел привычку целыми днями разыгрывать какие-то партитуры, подпевая без голоса, а может быть, и без слуха – «ти-ти-ти-ти-ти-ти».
Мать Жоржика целыми днями была на работе, а то и дежурила по ночам. Отец появлялся совсем редко, кажется, работал где-то на периферии. А Жоржика трудно было вывести из себя. Сашка был поклонник Шостаковича, печатал статьи в журнале «Советская музыка» и долгими часами играл любимого автора. За него он, кажется, и погорел в тридцать седьмом году.
Я только в восемнадцать лет, забыв Сашкино музицирование, понял, что Шостакович замечательный композитор.
Сашке лет было, наверное, под тридцать. Он был тощий, востроносый и весь движущийся. К нам он относился снисходительно, но отношений не заводил. Он пел свое «ти-ти», а мы занимались своими делами. Обычно играли мы у Жоржика, потому что взрослых не было целый день.
У Жоржикиного отца, бывшего командира Красной Армии, было много военных уставов. Мы их усердно читали. И оттого образовались у нас военные игры. Сперва обучали мы по уставам оловянных солдатиков. Но их было мало, и все они могли только изображать стойку «смирно». Вскоре солдатами у нас стали пуговицы. Их было больше, но все они были разномастные и тем противоречили принципу армейского единообразия.
Тогда мы произвели великую реформу и войско образовали из крупной перловки. Крупу мы красили бельевой краской, и каждый цвет изображал род войск: красная перловка – пехоту, зеленая – кавалерию, коричневая – артиллерию.
Крупинки, завернутые в фольгу, означали офицеров, а маленькие раскрашенные горошины – генералов разных рангов.
Главнокомандующим был король – стеклянная граненая пуговка.
Крашеную крупу мы насыпали в спичечные коробки, на которых написаны были названия частей: такой-то полк такой-то дивизии. Полков этих со временем накопилось огромное множество. Из спичек клеили мы маленькие пушки. Из пробок вырезали танки и броневики. А из любой дощечки – военные корабли.
Создали мы и сложнейшие правила игры.
В комнате Жоржика мы могли безнаказанно расчерчивать пол мелом на манер топографической карты, рисуя сушу, море, реки и дороги. Цепочками крупы обозначали передний край, расставляли артиллерию, поднимали в воздух самодельные самолетики.
У каждого из нас была своя армия. Правда, войны мы затевали редко, потому что целый день надо было перетаскивать из квартиры в квартиру десятки и сотни коробков с войсками, корабли, самолеты и прочее. Для этого времени хватало только в дни каникул.
Чаще устраивали мы маневры, смотры, парады и почетные встречи военных делегаций, прибывавших на каком-нибудь крейсере.
А иногда кто-нибудь из гороховых генералов поднимал восстание в углу комнаты и большая часть войск переходила на его сторону. Королю оставался верен только гвардейский корпус, с которым он и выступал на усмирение мятежа.
Конечно, король всегда побеждал. Брал в плен мятежную горошину, которую судили мы строгим судом, а потом казнили, выбрасывая в форточку. То есть переселяли в иной мир.
В крупяную армию играли мы несколько лет. У меня чуть не до восьмого класса сохранялись корабли и коробочки с гвардейским корпусом, где каждая крупинка отдельно была покрашена эмалевой краской.
Уже будучи взрослым человеком, солдатом на Волховском фронте, в долгие ночные часы на посту вспоминал я нашу игру и, ей-богу, готов был поиграть в нее с Жоржиком.
На книжной этажерке Острецовых были не одни только военные уставы, но и другие разрозненные книги, которые мы тоже принялись изучать.
Так прочитали мы с Жоржиком растрепанных Ксенофонта и Полибия. А потом увлеклись философским словарем Ищенко. В промежутках между крупяными войнами мы вытвердили наизусть этот словарь и свободно могли сказать, что такое субстанция, метафизика, ноумен, феномен или другое в этом роде. Было нам лет не более чем по двенадцати.
Тогда же попалась нам книга Баммеля «Теория и практика диалектического материализма», где философские высказывания Маркса, Энгельса и Ленина расположены были в систематическом порядке. Оттуда узнали мы имена Беркли, Юма, Декарта, Спинозы, Гегеля. И уже сознательно стали разыскивать у знакомых книги по философии. Помню несколько введений в философию, которые мы прочитали в ту пору: Челпанова, Вундта, Введенского. Помню какую-то антологию по античной философии. Читал я трактаты Спинозы, «Пролегомены» Канта, все, что попадалось, и, конечно, без всякой системы.
В эту же пору, а может быть, и раньше, философией стал увлекаться и наш школьный друг Феликс Зигель.
Втроем мы и составили нечто вроде кружка любомудров.
Из всех нас троих Жоржик был самый необычный и самый образцовый. Среднего роста, со светлыми волнистыми волосами, прямым носом, высоким лбом, он был лишен расплывчатой детской миловидности, а был тем, что называют человеком приятной наружности. Серые глаза он по близорукости слегка прищуривал, отчего его неулыбчивое лицо казалось строгим. Единственным контрастом собранным чертам его лица был рот – маленький, женственный, лишенный акцента воли.
Жоржик одет был всегда опрятно, но аккуратность его была без педантизма. Очень подходил к его облику отцовский форменный мундирчик черного цвета со стоячим воротником. Эту одежду Жоржик носил все старшие классы, именовалась она «вицмундир» и как нельзя лучше оттеняла внешнюю строгость нашего друга.
В характере его главной чертой я назвал бы сдержанность. Он сам никогда не проявлял сильных эмоций. Не любил нежностей и горячих дружеских признаний, которыми мы часто обменивались в ту пору. Но сдержанность была без резкости. Жоржик всегда держался доброжелательно и ровно. Не было в нем лишней стеснительности, но и никакой показной бойкости. Он не умел быть фамильярным и не терпел фамильярности по отношению к себе.
В семье его уважали, и жил он без лишних наставлений, без настойчивых забот, почти полностью предоставленный самому себе. Однако он никогда во зло не использовал своей свободы. И временем своим распоряжался разумно.
В школе он был первый ученик и для всех полный образец. Учился он без видимых усилий, но усердно и с недетским чувством долга. Уроки были всегда у него приготовлены. И знал он по всем предметам все, что требовалось, и даже, наверное, больше.
Его манера держаться с чувством собственного достоинства, серьезность, справедливость, а также успехи в науках внушали уважение и даже восхищение его соученикам. Почти все школьные годы он был для нас вроде нормы и недосягаемого образца.
Описав внешность и поведение Жоржика, я, знавший его с детства и общавшийся с ним два десятилетия, почти ничего не могу сказать о его внутренней жизни и даже о его мнениях и отношении к окружающему. Может быть, его сдержанность была частью скрытности. Но он как будто ничего не скрывал и на вопросы отвечал ясно и логически. Не было в нем и хитрости, хотя и не было простодушия. А мнения его, видимо, оттого не запомнились, что были слишком разумны и оттого обесцвечены.
Он как будто всегда искал средних решений, не прибегая к крайностям. Это относится и к нашим философским дискуссиям.
Феликс до того, как стал убежденным обновленцем, был берклианец. Он горячо защищал субъективный идеализм, спорил одержимо и нередко переходил на личности. Ниспровергал он, в основном, меня, который был не менее убежденным материалистом. Жоржик придерживался «средней» точки зрения. В скептической философии Юма ему нравилось признание обеих субстанций – духовной и материальной.
Осталось ли это навсегда? Ход его взглядов я утерял, когда в восьмом классе окончились наши дискуссии.
Жоржика не только уважали, но и любили товарищи. Его готовы были ревновать друг к другу. Но он не давал к этому повода, относясь ко всем с ровным дружелюбием.
Он был идеальный хранитель тайны исповеди. И ему исповедовались Феликс, я и другие соученики в своих любовных увлечениях. Он выслушивал нас серьезно, терпеливо и непроницаемо. Было ясно, что сам он не подвержен любовному чувству. Это принималось нами как должное, как лишнее доказательство особенности Жоржика и даже его превосходства над нами.
Девочкам, конечно, он нравился. Они кокетничали с ним. Но он как бы этого не замечал. И в конце концов от него отстали. И если кто был в него влюблен, то тайно и издали.
Перейдя в новую школу после восьмого класса, Жоржик очень скоро завоевал и в новом классе непререкаемый авторитет, стал первым учеником и бессменным на три года старостой. И все это произошло естественно и безо всяких усилий с его стороны. Он был лишен рисовки и не праздновал своих побед.
В общем, все самое лучшее, что можно сказать о человеке, можно было сказать об Острецове.
Но что-то начало происходить с его авторитетом в середине девятого класса.
В третью школу – Первую опытно-показательную имени Горького в Вадковском переулке (ныне 204-я – на углу Тихвинской и Сущевского вала) перетащили меня Феликс Зигель и Жорж Острецов.
Я уже в восьмом классе познакомился с будущими соучениками и стал регулярно посещать «пятые дни» у Лили Маркович, в замужестве Лунгиной.
«Пятые дни» были постоянным сборищем. В небольшой (но отдельной, что было редкостью в те времена) комнате собирались регулярно для чтения стихов и задушевных разговоров люди необычной для меня среды и гораздо более разнообразного душевного опыта.
У Лили бывали Юра Шаховской, большеглазый аристократического вида князек; Люся Толалаева, дочь какого-то начальства; Илья Нусинов, рано умерший кинодраматург, сын известного литературоведа – тогда Илья мечтал о карьере математика; заходили красивая и очень большая Мила Польстер, племянница скульптора Ватагина; Анна Ильзен; заглядывал Лева Безыменский; я привел Бориса Рождественского…
Из дневника восьмого класса
Евгения Васильевна Можаровская не была родной дочерью Василия Яна. Не знаю, вследствие каких обстоятельств дочь кипчакской княжны Бурмантовой попала к Василию Григорьевичу и была им удочерена. Видимо, обстоятельства эти были известны Евгении Васильевне, ибо фамилию ее матери взял псевдонимом ее муж, писатель Николай Иванович Можаровский – Бурмантов, автор любопытной исторической повести «Смерть Уара».
Все это выплыло на свет после нечаянной смерти Марии Алексеевны. Но так как явно относилось к романтическому периоду жизни Яна, у меня не хватало смелости расспрашивать о подробностях этой истории.
В облике Евгении Васильевны явно проявлялось ее восточное происхождение. Она была небольшого роста брюнетка, глаза чуть раскосые и татарские скулы. Все это, впрочем, не лезло в глаза, а понималось лишь потом, потому что в воспитании Евгении Васильевны, в ее хорошей образованности, в манере держаться и речи не было решительно ничего инородского.
Евгения Васильевна была женщина литературно одаренная, живая, легкого характера и склонная к увлечениям. После развода с Николаем Ивановичем эта склонность сильно украшала ей жизнь. Она всегда окружена была поклонниками, которые, как дело доходило до женитьбы, давали задний ход. Но тут же появлялись новые, и Евгения Васильевна, истинная душечка, становилась то любительницей музыки, то поклонницей поэзии, то сторонницей серьезных прозаических жанров. Литературу, однако, она действительно хорошо знала и любила, и, видимо, вследствие этого большинство ее пассий были писатели. За одного из них, Данилу Романенко, она со временем вышла замуж и, как говорят злые языки, написала за него историческую повесть «Ерофей Хабаров», как прежде будто бы сильно способствовала написанию «Смерти Уара».
После периода увлечений Евгения Васильевна занялась историей театра, переводила книги по театру и читала лекции в ГИТИСе, где оставила по себе добрую память.
Я, однако, вернусь в ту пору, когда Евгения Васильевна была молода и служила для нашей семьи одним из окошек в литературный мир.
На сей раз она пришла к нам в гости в сопровождении молодого поэта и критика Ярополка Семенова.
Вот что писал я о нем, будучи в возрасте пятнадцати лет:
«Это молодой человек (лет около тридцати), высокий, красивый, с живыми глазами. Судя по его виду и речам, он кажется человеком искренним. Я, по крайней мере, просто влюблен в него».
Преодолев всегдашнее смущение, я читал ему стихи, и, как сказано в дневнике, «он первый судил меня и указал мне мое место, мое призвание и мой путь».
Была у меня тогда драма в стихах «Спартак», переделка одноименной повести В. Яна. Я прочитал Семенову песни оттуда.
– В этих песнях мне нравится честная работа, – сказал Ярополк. – Они похожи на хороший перевод, кропотливо и честно сделанный. В них не видно еще самостоятельности, но если эта честность останется в тебе и впредь, то ты сможешь многое сделать.
Похвалил Семенов и мою историческую поэму «Жакерия». Я принялся за лирику. Лицо его было сурово:
– Знаешь что, а это хуже. Гораздо хуже. Стихотворение это звучит протестом против всех блестящих формальных достижений. Я согласен, что современная поэзия тенденциозна, но не следует игнорировать хорошее… Ты сбился с пути. Представь себе снежное поле. Ты идешь по нему, и вдруг стало легко идти. Ты смотришь и видишь, что идешь по чужим следам, мысль твоя идет по уже проторенной дорожке. Но не забудь, что дорожка эта всегда ведет куда-то в сторону. Вот, например, твои анапесты ведут прямо к Надсону.
Я пообещал ему сойти с дорожки и протаптывать ее самому. Никто до этого так серьезно не говорил о моих стихах. Я был в восторге от его мыслей. Многие его предсказания сбылись впоследствии.
Вот какие мысли высказал тогда Ярополк Семенов:
– У тебя есть глубокий дар, но если ты хочешь чего-нибудь добиться, ты должен честно и упорно работать. Ты добьешься своего, если люди смогут сказать: «Он был образованнейшим человеком своего времени».
О песне «Чапаев» сказал:
– Песенно, но твой жанр эпический…
…Мне нравится мысль твоего «Сна» (сугубо романтического стихотворения тех времен), хотя и сделан он слабо. «Сон» – это твой будущий путь. Ты будешь обращаться к этой теме много раз, но тебе она будет казаться вечно новой, и ты будешь находить все новые и новые слова для нее…
…Поэт должен быть одинаково самоуверен и недоверчив к себе…
…У тебя, мне кажется, большая воля. Хорошо, что ты веришь в себя…
…У тебя талант не такой, как у Есенина. У того он бил ключом. В тебе он скрыт. Его талант – самородок, твой – золотой песок. Много труда и времени нужно, чтобы извлечь из него золото. Ты не будешь, как Есенин, ты будешь, как Гёте.
Последние слова окончательно сразили меня. И, кажется, еще больше поразили отца, молча и с некоторым недоверием слушавшего Ярополка.
– Ну что? – нерешительно спросил отец, поднимая бокал. – Можно ли пить за будущего поэта?
И Ярополк Семенов твердо ответил:
– Да!
Долго я с восторгом вспоминал Ярополка, но вскоре свидеться с ним не пришлось, ибо, наверное, он недолго оставался в окружении Евгении Васильевны.
Постепенно я забыл его наставления и предсказания и открыл их недавно, когда попался на глаза дневник восьмого класса.
Но с Ярополком Семеновым мне пришлось снова встретиться после войны, в самые трудные и голодноватые мои годы. Он, видно, тоже кое-как перебивался, работая литконсультантом в газете «Московский большевик»: за гроши отвечал на письма графоманов. За письмо платили тогда десятку, деньги ничтожные. Все же Ярополк не справлялся с потоком графоманского творчества, и кто-то порекомендовал ему меня в помощники. Он давал мне пачку писем и потом исправно рассчитывался со мной. Был я как-то у него дома (заносил работу), где застал некрасивую, поблекшую и измученную женщину, его жену. Кажется, были и дети. Сам Ярополк тоже слинял. Был на войне, кажется, офицером. Но литературная карьера не задалась. Мы почему-то не сошлись близко. Помню только, что Ярополк читал мне тогда неизвестные стихи Цветаевой.
Потом до меня дошли слухи, что Ярополк Семенов арестован (кажется, за те же цветаевские стихи). Больше я о его судьбе ничего не слышал.
Встречал людей, знавших его. Но никто не мог мне сказать, при каких обстоятельствах был арестован Семенов и какова его дальнейшая судьба.
Забавен мой дневник восьмого класса, откуда извлек я запись о Ярополке Семенове. В дневнике этом немало словесных красивостей, пустого тщеславия и пустословия. Именно это было причиной чувства стыда за себя, когда я в молодые годы натыкался на свои отроческие записи. Я сам себе сильно не нравился. И по какой-то случайности не уничтожил свою тетрадь. Только в зрелости, когда стал читать написанное чуть не полстолетия тому назад, обнаружил я и некоторые достоинства той личности, которая когда-то была «мной». Я увидел непосредственность и правдивость, умение точно изобразить состояние, живой ум, а иногда и краткую беспощадность суждений.
Вот, например, как описано любовное томление тех лет.
Тело и ум тонули в каком-то приятном томлении. Комок сладкой тоски сжимал сердце. Неотразимое желание порабощало волю, и только одна мысль была в голове: «люблю… люблю!».
Кого? Это было все равно. Далекий смех или песни, тихий шепот в тени пробуждали во мне бурное волнение. И долго не спал я, приходя домой. Слушал сонное бормотание спящих и мечтал. О чем я мечтал? Я даже не знаю о чем. Лишь расплывчатые женские образы мелькали в цветистом хороводе, и из пестроты кружащихся мыслей смотрели на меня голубые глаза.
Ах, голубые глаза! Как часто я влюблялся в них в ту пору.
Весь дневник мой наполнен многочисленными и порой параллельными влюбленностями, еще совершенно лишенными вожделения, но при всей романтической расплывчатости не лишенными известной трезвости ума и понимания перспектив.
«Она умна, он глуп. Это прочно, – пишу я об одном из своих увлечений… – Чувствую нечто вроде ревности, вернее, обиду, что могут кого-то предпочесть мне».
Девочка из нашего класса дарит мне тетрадочку своих стихов с посвящением:
Тому лицу я посвящаю свои труды, Чей образ милый живет давно уж в моей груди.«Если бы тут не было слова “давно”, – комментирую я, – то я принял бы это посвящение на свой счет, но это проклятое слово меня удручает».
Милая девочка Наташа Ч.! Каким благородством, чистотой души и ясностью ума веет от ее записок, приведенных в дневнике, в то время как я выламываюсь и щеголяю напускной мрачностью. С какой простотой признается она мне в ответном чувстве и с какой черствостью я охладеваю к ней, едва добившись этого признания.
Скверный малый! – могу сказать о самом себе с поздним раскаянием. По незрелости души я просто не был достоин тогда ответного чувства, потому что просто не знал, что с ним делать. Для меня плодотворной была любовь без взаимности, где бескорыстно расцветали страсти и я раскрывался с большой искренностью.
– Я не была влюблена в тебя, но очень тебе верила, – сказала мне лет через двадцать одна из безответных моих любовей.
Удовлетворив тщеславие сердцееда, я предавался рефлексии.
Этот период моей жизни, как я сам чувствую, есть главная точка, из которой я буду исходить в дальнейшем. Впервые появилось желание мыслить и чувство мысли. Искания мои разделяются на поиски цели и идеи, на поиски Великого закона, Великой правды и на поиски своей личной этики, того, что «хорошо» и что «плохо».
Цель и идея жизни пока еще не очень ясны мне. В основном они сводятся к созданию общечеловеческого блага. Воображение рисует мне картины борьбы и гибели за идею или триумф поэта – певца общечеловеческой идеи.
Это «или» просто превосходно.
Далее следует, что общественное благо «в общих чертах» сводится к коммунизму Маркса и Энгельса.
Не согласен я только в нескольких мелких пунктах, касающихся внутренней политики, в частности с заимствованием многого из старого. Например, введение в революционную армию чинов считаю недопустимым.
«Великая правда» еще более туманна.
Есть ли правда в нравственном усовершенствовании людей или ее следует искать в божестве, в вере?
Но дальше какое-то доморощенное берклианство и суперменство:
Каждый человек должен стараться совершить великое. Великая подлость лучше, чем мелкая добродетель.
И уж совсем в другие ворота:
Отречение от идеи возможно, ибо признание своей неправоты не возбраняется. Но отречение из выгоды или из страха – подлость.
И очень характерное:
Самая гадкая вещь – ложь. Надо говорить правду или молчать.
Это «или» еще почище предыдущего. Но через сорок лет я написал:
Во имя зла не разжимать уста.А любовь?
Она не похожа на глубокую любовь, о которой пишут в романах, но она непреодолимо влечет и иногда заставляет забывать многое.
Какая уравновешенная натура! Всегда противовесы, всегда «или», всегда две возможности и – «многое», а не «все».
Я читаю не о себе, я даже способен судить этого подростка. Но где-то чувствую, что он поразительно похож на меня и что я сужу самого себя.
Главной чертой наших отношений является непостоянство. Я объясняю это тем, что чувства в нашем возрасте не имеют особого характера целеустремленности.
Позже я объяснял это иначе.
Я склонен к дружбе и легок в ней. У меня много дружеских отношений. Но ближайшими друзьями считаю Феликса Зигеля и Жоржика Острецова. В восьмом классе мы учимся в разных школах, но видимся часто.
Обожаю я этого Зигеля! Он честен, горяч, влюбчив, вспыльчив; фантазер, добряк и идеалист; способен глубоко увлекаться и верить; благороден и открыт. Занимается астрономией и, несмотря на свои пятнадцать лет, занимает почетное место в Астрономическом обществе и даже имеет в своем ведении обсерваторию. В пылу увлечения он думает, что все обязаны интересоваться тем, чем интересуется он. Таскает меня и бедного Жоржа на обсерваторию (особенно достается последнему). Кроме всего, он начитан в философии. Мы часто спорим (он отчаянный идеалист). Мне нравится его искренность. Он верует в бога и, хотя это теперь не принято и может принести неприятности, не отрицает этого.
Совсем другого толка Жоржик. Он рассудителен, замкнут, не поддается никаким юношеским увлечениям, романов боится, весьма умен и принципиален. Всегда держит слово, уступчив в мелочах, но в главном непоколебим. Занимается шахматами, интересуется философией.
Мы составляем трио неразрывной дружбы.
Встретившись, мы обычно шлялись по улицам, сперва делясь душевными тайнами, а потом врезывались в философские споры. Это было месиво из недавно вычитанных мыслей и философских понятий. Мы с Феликсом колебались между марксизмом и берклианством. Жоржик склонялся к юмизму.
Под дождем, снегом часами торчали мы на углах улиц, рассуждая о свойствах вещей или о тождестве личности.
Споры эти были не бесполезны. Постепенно из них вырастало ощущение «своего» и «чужого». Происходила поляризация. Меня все больше тянуло к диалектике, к марксизму с сильным креном в сторону гегельянства. Жорж предпочитал скептицизм.
А Феликс? Феликс, как сказано в дневнике, «докатился».
Еще в прошлом году он начал увлекаться религией. Сперва это носило характер критический. Он заявлял, что у него нет учения, что он все ищет и все критикует. Одно время он даже объявлял себя атеистом и устраивал в школе антирелигиозные лекции. Но все же уклон у него был идеалистический. Читал Челпанова и все больше «совращался с пути».
К весне он объявил себя идеалистом, но христианство отрицал. Он принимал бога в понимании Спинозы, то есть в некотором сродстве с материализмом.
Он обычно спрашивал: «Почему мы чувствуем материальное “я” слабее, чем духовное?». И одно время признавал две субстанции.
Возможно, что тут известную роль сыграло упрямство, но Зигель утвердился в своих взглядах. Он стал посещать церковь.
Часто ходил на проповеди митрополита Введенского, главы «обновленческой» церкви.
Я однажды был на его проповеди.
Говорил он убежденно, спокойно, несколько туманно. В глазах его был фанатический огонь.
Под влиянием этого проповедника Зигель ударился в Евангелие и… «докатился».
Теперь он принимает христианство целиком, не рассуждая и не критикуя. И дошел до выводов чрезвычайно вредных.
1. Вселенная – создание бога. Бог – дух вне пространства и времени. Мы являемся частицей его.
2. Христос – бог, перевоплотившийся в образ человека, чтобы спасти человечество. Своими страданиями он искупает грех.
Примечание. Как может бог страдать? Если он всемогущ, почему он не может освободить человечество от греха?
3. Единственная цель жизни человека – любовь, вера, служение Христу и христианству.
Примечание. Что лучше: неверующая в Христа добродетель или любящий его грешник?
4. Единственная этика – христианская добродетель.
Примечание. Т. е. правила, противоречащие всякому чувству и человеческой природе.
5. Все неверующие – полулюди.
Примечание. Какая гадость!
Дальше идет поток негодования на голову заблудшего Феликса, а также тревога за его судьбу. Но кончается так:
А все же я преклоняюсь перед его верой и честностью.
Я, несмотря на всю нетерпимость времени, был терпим.
А время учило совсем другому. В школе шел спор о том, прав ли Симурден, убивая Говена. И большинство склонялось к тому, что прав.
Честная борьба за идею – выше всего, записывал я в дневнике. Выше Любви, выше ненависти, выше страданий, желаний, стремлений; выше благородства и чести.
Путем убийства, преступления, смерти, презрения, мучений должно достичь ее.
Это написано накануне 37-го года.
Я был воспитан в понятиях умеренных и гуманных. Эти понятия как-то странно уживались с жестокими идеями времени. И все же в результате понятия оказались долговечнее идей.
Я рос в среде аполитичной. Социальный слой, к которому я принадлежал по рождению, – средняя интеллигенция, не пошел в революцию. Но и не встал против нее. Он медленно привыкал к власти. И даже готов был признать некоторые ее достоинства, поскольку политические катаклизмы и истребление сословий лишь краем задевали его.
Духовной миссией этого слоя оказалось сохранение понятий. И если в нашем обществе сохранились нормальные понятия о чести, достоинстве, терпимости, труде, назначении человека, то это результат незаметного труда наших отцов и матерей, «щипаных» интеллигентов 20-х и 30-х годов.
«Нужно быть честным и добрым… Я хочу быть честным и добрым…» – это, пожалуй, главный нравственный мотив дневника восьмого класса.
Часть II
Ифлийская поэзия
В ИФЛИ толком занимался я один семестр и даже висел на доске почета. Потом я бесповоротно стал ифлийским поэтом, что не требовало усердных занятий по скучным предметам вроде истории французского языка. Из ифлийских поэтов хорошо учился один Наровчатов, который какое-то время числился за тремя институтами. Другие, в том числе Павел Коган, кое-как переползали с курса на курс именно благодаря репутации поэта.
В ИФЛИ поэтов уважали и студенты, и преподаватели. У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов. Но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились «свои».
Из преподавателей я помню не старых филологических корифеев, которые составляли гордость отечественной науки, а тех, с которыми непосредственно имел дело. И среди них были люди замечательные.
В первый день занятий первые часы был у нас французский. Перед приходом преподавателя студенты, уже успевшие познакомиться, громко и уверенно переговаривались. Особенно выделялся важный и ученый Юрий Кнабе. В этом обществе я почувствовал себя последним человеком и забрался на дальнее место, рядом со скромным пареньком, который, кажется, тоже готов был прозябать в этом блестящем обществе. Паренек говорил с легким английским акцентом, растягивая слова, на нем были не наши башмаки на толстой подошве. Оказался он Олегом Трояновским. Сейчас он посол и наш представитель в ООН. А тогда был сыном посла. И учился до ИФЛИ где-то в американском колледже.
Нашей преподавательницей французского была Ирина Борисовна Чачхиани, высокая, тонкая, еще довольно молодая женщина. Один ее глаз был прикрыт черной повязкой, отчего и пошли слухи о ее романтической биографии. Человек она была спокойный и доброжелательный. На меня она вскоре махнула рукой, и тройка была мне обеспечена при любых обстоятельствах.
Кроме Ирины Борисовны французский в разных видах преподавали нам еще несколько человек. Из них Розенцвейг, ведавший интерпретацией текстов (был такой сорбоннский предмет и у нас), также махнул на меня рукой. А француз мосье Кацович, занимавшийся словесной практикой, меня люто ненавидел. Я его тоже.
Но вернемся к первому дню занятий.
Главной лекцией этого дня, лекцией для всего курса, была античная литература, которую читал знаменитый Сергей Иванович Радциг. Был он тогда уже, или казался нам, стариком. Он выпевал свои лекции самозабвенно, как тетерев на току. Это производило впечатление.
– А сейчас, друзья мои, я прочту вам прелестное стихотворение Катулла, – говорил Сергей Иванович, скромно добавляя: – В моем переводе.
И затягивал нараспев, вибрирующим голосом:
Ты, кобылка молодая…Необычное его чтение оторвало нас с Олегом, залезших на самую верхотуру полукруглой деревянной 15-й аудитории, от интересного занятия: я учил его играть в морской бой, игре, неизвестной в американских колледжах.
Кобылка молодая почему-то рассмешила меня.
И тут же с предыдущего ряда повернулись к нам две прелестные девушки, неземные создания: Вика Волина и Люся Канторович.
– Мальчики, хотите конфет? – спросила Вика, протягивая нам кулек с роскошными конфетами.
В обеих можно было немедленно влюбиться. Но я этого не сделал именно потому, что их было две. Или не помню, по каким еще причинам.
Так, в лекциях и знакомствах, прошел первый день занятий. Но ощущение затерянности и собственного ничтожества в столь избранной среде не покидало меня и в последующие дни.
Из наших учителей любил я чуть не больше всех Марию Евгеньевну Грабарь-Пассек, латинистку. Бородатая и усатая, с небрежно заколотым седым пучком и всегда, даже, кажется, летом, в потрепанном боа вокруг шеи, она похожа была на веселую волчицу.
Отец ее, из старинного ученого рода Пассеков, был ректором Дерптского университета, уволенным за либерализм в пятые годы. В Дерпте вышла она замуж за Владимира Эммануиловича Грабаря, тогда еще молодого специалиста международного права. В описываемое время Владимир Эммануилович был уже старый человек и не у дел, видимо, потому, что понимал международное право с идеалистических позиций.
Возраст Марии Евгеньевны трудно было определить. Думаю, что ей было все пятьдесят. Но она не без кокетства говаривала:
– В мои сорок лет я катаюсь на коньках.
Знала она чудовищно много – и греческий, и латынь, и немецкий, и все литературы, созданные на этих языках. Несколько лет тому назад наткнулся я на превосходный том александрийской поэзии, где много прекрасных переводов Марии Евгеньевны. Оттуда – мое «Подражание Феокриту».
Несмотря на огромную эрудицию, Мария Евгеньевна не превратилась в синий чулок. Она была общительна, весела, добродушна. Грабари охотно принимали в гости любого студента, нуждающегося в совете или помощи. Мы бывали в их загроможденной книгами квартире где-то в районе Кропоткинской.
На своих занятиях Мария Евгеньевна не любила тишины. Можно было разговаривать, рассказывать разные истории, смеяться и пересаживаться с места на место. Меня любила она за то, что я вносил в эту суету посильную лепту. Например, придумал петь латинские исключения хором. «Пуэр, соцер, веспер, генер», – пели мы на мотив «Барыни». А исключения на «ор» (патиор, мориор) – на манер католического хорала.
Прибегали из других классов. Просили не шуметь.
За мои музыкальные изобретения Мария Евгеньевна по латыни ставила мне пятерки, хотя, честно говоря, я и этого языка толком не освоил.
Не знаешь, как писать воспоминания: по событиям или по лицам. Событие иногда затрагивает несколько или множество лиц. Получается некое смешение. Лица же чаще всего продолжаются во времени. Поэтому приходится постоянно забегать вперед, потом возвращаться к исходной точке рассказа. Это мешает стройности повествования. Я избрал смешанный способ изложения: и по лицам, и по событиям. Иногда лица выделяются в отдельные главы, иногда в основе глав лежат происшествия.
Итак, продолжаю.
Наиболее авторитетными преподавателями в ИФЛИ были вовсе не хрестоматийные корифеи, а молодые (немного за тридцать), связанные между собой узами дружбы и единомыслия.
Это были Владимир Романович Гриб, Верцман и Леонид Ефимович Пинский. Признанным их главой считался Михаил Лифшиц. Вероятно, к ним примыкали искусствоведы Колпинский и Недошивин. А многие сочувствовали или примыкали к ним.
Стиль ИФЛИ определялся, во-первых, академически поставленным обучением языкам и литературе, во-вторых, наличием молодой талантливой плеяды мыслящих педагогов.
Михаил Лифшиц читал нам факультативный курс эстетики, который посещал весь филологический факультет. Он почитался нами как первый философ «теченцев» – так именовались его последователи. Название это произошло от дискуссии, разразившейся в те годы на страницах журнала «Литературный критик».
Спор был как будто академический: осуществлялся ли реализм Бальзака вопреки его реакционному мировоззрению или вытекал из суммы его мировоззрения. Сторонников второго взгляда окрестили «течением». Примыкать к «течению» было модно в ИФЛИ.
Был еще Георг Лукач, тогда прямой союзник «теченцев» и один из их теоретиков. Но его я никогда не видел.
Спор имел множество аспектов: и борьба против вульгарно-социологических схем, и борьба «классического» реализма против революционного, а заодно и реакционного, модернизма. Время поворачивало к классике, к традиции, к почвенной истории. Тенденция эта только что обозначилась и в том первично-обозначенном виде привлекала многие горячие и ищущие умы.
Лифшиц, в сущности, брал за основу гегельянскую схему развития искусства. Об этом страшно было подумать даже его противникам. Да они, наверное, куда слабей были подкованы философски. К тому же Лифшиц гегельянскую схему искусно завернул в марксизм, да и спроси его, в ту пору искренно считал себя марксистом, автором основополагающего сборника «Маркс и Энгельс об искусстве», где ранний Маркс (левогегельянский) разумно сочетался с поздним Энгельсом, сторонником реализма и «типических обстоятельств».
Борьба с модернизмом, к которому примыкала вся основная западная, а во многом и русская литература 20—30-х годов, была первым становлением нынешней «традиционалистской» и даже «почвеннической» эстетики.
Если бы тогдашние «теченцы» могли это предвидеть!
Но тогда был вкус новизны, серьезности, опыта мировой культуры и прочее, что привлекало к учению молодых.
Казалось тогда, что модернизм, отрицающий традиционные нормы искусства, ведет к фашизму, годится ему в эстетику.
Опыт сорока с лишком лет развития идей показал, что теория реализма и традиционализма может привести к тому же.
Видно, не в эстетике дело.
Со всеми «теченцами» я рано или поздно познакомился. Но это происходило уже после того, как я стал ифлийским поэтом.
А случилось это так.
В ИФЛИ существовал литературный кружок. Но собирался он один раз в году, осенью, вскоре после начала занятий. Цель этого собрания – знакомство с новым пополнением поэтов и как бы прием в поэтическое содружество. В ИФЛИ очень многие писали стихи. Но истинными поэтами чувствовали себя только члены этого неоформленного поэтического братства, куда, к моему поступлению, входили Павел Коган, Алексей Леонтьев, Сергей Наровчатов, Костя Лащенко. Даже печатавшийся Лев Озеров туда не входил.
Довольно много народу собралось в тот раз в одной из аудиторий на поэтическое ристалище. Кто-то из аспирантов вел собрание.
Сперва выступили прославленные ифлийцы.
Необычайно красивый Наровчатов нараспев читал свою романтическую «Северную повесть». Потом рубил воздух ладонью и с громадным напором декламировал Павел Коган:
Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал.Небольшого роста, коротко остриженный, Костя Лащенко с украинским акцентом произносил лирические строки о лирике и детстве:
Это лирика и детство, Неминуемость пути.Читались еще какие-то стихи, которых я не запомнил. Выступали ифлийские «середняки». Потом откуда-то выволокли смущающегося Алексея Леонтьева, который понравился, пожалуй, больше всех:
Бродить медведем по лесам, Валить сосновые деревья. В траве барахтаться. Плясать. Явиться лешим из поверья. И ту, что вышла по грибы, Манить на топь гортанным смехом За то, что ты ее любил, Когда еще был человеком.Эти языческие строки совсем не подходили к заурядной внешности Леонтьева, к его москвошвеевскому пиджачку, к смущенной улыбке. Все это вместе заставляло подозревать в нем истинного поэта.
Первокурсники были подавлены. На предложение выступить долго никто не откликался.
Тогда поднялся сухой высокий юноша с ясными голубыми глазами. И весело прочитал:
МАТРИАРХАТ Стоит вигвам. Над ним луна. В зеленом небе звезды кружат. В вигваме пьяная жена Колотит высохшего мужа.Все засмеялись. Юноша сел на место рядом со мной. Мы познакомились. Это был Марк Бершадский, талантливый прозаик. Ниже я расскажу о нем.
После Марка первокурсники немного оправились, и на трибуну вышел Костя Климов, глуховатый, смешной Костя Климов, вскоре погибший на войне.
Первая же строфа Костиного стихотворения вызвала гомерический хохот. Там…
около овина Провожала бабушка Молодого сына.Не запомнил, куда провожала бабушка своего сына, но Костя, переждав смех, мужественно дочитал стихотворение.
Первокурсники проваливались.
И тут присутствовавшие мои бывшие одноклассницы Лиля Маркович и Эся Чериковер стали выкрикивать мое имя. Все стали вертеть головами, но никто меня не знал. Но имя тоже было смешное, и, ожидая очередной забавы, студенты начали скандировать:
– Дезь-ка! Дезь-ка!
Громче всех надрывался мой сосед Марк Бершадский. Я прошептал ему:
– Не надо. Дезька – это я.
– Ну и прекрасно, – воскликнул Марк и вытолкнул меня на середину аудитории.
Делать было нечего, и я поплелся к кафедре читать стихи.
Не помня себя, я прочитал «Плотников». Раздались аплодисменты. Это меня подбодрило, и я прочитал еще несколько стихотворений. У меня их было немного.
На этом закончилось заседание литкружка. Марк Бершадский похлопал меня по плечу. С этого момента мы стали близкими товарищами. Ко мне шел сам Павел Коган. Откуда-то сверху протянул мне узкую крепкую руку.
– Пойдемте вместе домой, – сказал Павел.
Я был несказанно польщен.
Мы вышли на вечереющую улицу. Павел сказал, что надо подождать его жену. В тайном восторге я подумал, что приобретаю взрослого, уже женатого знакомца.
Втроем мы пошли через Сокольники. Говорили о стихах. Лена, будущая Елена Ржевская, молчала, слушая нас.
Так я был принят в ифлийское братство поэтов.
С Павлом вскоре мы подружились, и я стал часто бывать в той довольно густо населенной квартире, где жила семья Лены и она с Павлом. Теперь в квартире этой осталась одна Лена. Братья ее, прославившись, старший как инженер, младший как физик-теоретик, давно переселились. Родители умерли. Умер и Исаак Крамов, второй муж Елены Ржевской.
Павел был стремителен, резок, умен, раздражителен и нарочито отважен. Любил рассказывать о хулиганской компании, в которой провел отрочество, и готов был ввязаться в драку. В нем было еще много мальчишеского, даже во внешности – юношеская худоба, «остроугольность», длинные худые руки.
Но лицо его было резко очерчено. Глаза, чуть близорукие и оттого чуть прищуренные, смотрели проницательно и упрямо, иногда с тайной грустью, которая как будто не соответствовала энергичной натуре Павла. Около рта – скорбная складка. Ему самому не свойствен был юмор. Но иногда он смеялся, громко и сухо выталкивая звуки.
Павел любил друзей. Он любил активно вмешиваться в их жизнь. Многое прощал, но, осудив, бывал резок и порывал дружбу. И к тем, кто обманул его, был беспощаден.
В ту пору, когда мы познакомились, большую часть его общения составляли старые друзья из Поселка. Поселком называлась застройка по левой стороне улицы Правды, состоявшая из небольших коттеджей и двора, примыкавшего к большому дому. Там жили родители Павла. Из друзей доинститутских он любил больше всего Жорика Лепского, художника, музыканта, автора музыки к знаменитой «Бригантине». У Павла я и познакомился с ним. Дружба эта длится до наших дней.
Были еще Женя Яковлев, будущий летчик, Вика Мальт, наша ифлийская соученица, Дуся Каминская, Стефан Кленович, сын польских коммунистов, пострадавших в 37-м. Еще несколько человек.
Павел привык верховодить в этой компании.
Стремление к главенству у него было сильно развито. Павел был как бы нашим вождем. На деле это происходило оттого, что никто другой не претендовал на главенство.
Вскоре после знакомства с ифлийскими поэтами я близко подружился с Сергеем Наровчатовым. В разной степени общения с ним прошло более сорока лет моей жизни. Совсем это общение никогда не прерывалось.
Сергей Наровчатов был эдакий добрый молодец, богатырь Алеша Попович. Двигался он немного враскачку, походкой таежного волка. Светло-русый, синеглазый, улыбающийся, с вечной папироской в углу рта, он был чистой погибелью наших девиц. Впрочем, успехами своими у женского пола не слишком был занят. Характер его отличался некоторым равнодушием к окружающим, и темперамент выявлялся в честолюбии, близком к тщеславию, и в истинной жажде знаний. Мог он пропустить любое свидание, увлекшись разговором о литературе и истории. Читал взахлеб. И знал очень много уже в те времена.
Перед поступлением в институт Сергей с семьей жил в Магадане. В его рассказах и стихах то и дело вспыхивала клондайковская романтика северных краев. Однако ни слова не слышал я от него о колымских лагерях. Мы нередко тогда и потом говорили о 37-м годе. Но об этом никогда. Правда, тема была опасная. Но не думаю, что Сергей настолько был со мной осторожен. Скорей всего, не знал о том, что происходило рядом. Как, впрочем, не знали и мы. Или, отчасти, не хотели знать.
В ИФЛИ, как я говорил, очень многие писали стихи. Но некоторые не писали. Это будущие критики. Из них к поэтической компании близко стояли Михаил Молочко, Исаак Рабинович (Крамов), Лев Коган и несколько других юношей старше меня на курс-два.
Судьба сложилась так, что большинство из них погибло на войне. Миша Молочко – еще на финской. О нем довольно много писали. Упомянут в воспоминаниях Наровчатова Лев Коган. Это был юноша высокий, худой, со смешным тонким голосом. Влюбленный в Наровчатова и его стихи. Из него рос истинный критик поэзии. Он хорошо чувствовал фактуру стиха.
Втайне мы, поэты, предполагали, что рядом с нами растут «наши» критики. Они о себе думали, видимо, иначе.
В общем, плеяды поэтических критиков ИФЛИ не дал. Много есть филологов, литературоведов, историков литературы, преподавателей. Поэтических критиков из нашего института вышло крайне мало, а ярких вовсе нет.
Исаак Крамов занялся прозой.
ИФЛИ, как известно, помещался в Сокольниках, на тогдашней окраине города, в плохо замощенном Ростокинском проезде. Здание его, первоначально предназначавшееся для селекционной станции, сохранилось до сих пор и удивляет своими скромными размерами. Задним фасадом оно выходит к пойме Яузы, за которой в те времена виднелся довольно густой лес. А на противоположной стороне Ростокинского было несколько деревянных зданий и большой, довольно запущенный в этой части Сокольнический парк. Если ИФЛИ был «красным лицеем», то Сокольники выполняли функцию Царскосельских садов. Средой ифлийского поэтического чувства были Сокольники.
В предвечерних хождениях по Лучевому просеку от института до метро рождалась идея литературного альманаха «Сокольники». Видимо, ища ему поддержку, перед зимой пришли мы в обиталище богов, в писательский дом в Лаврушинском к Илье Львовичу Сельвинскому. Ходоков было четверо – Коган, Наровчатов, Лащенко и я.
Сельвинский был тогда одним из самых знаменитых поэтов. Он был знаменит уже лет десять, а это великий был тогда срок, и потому казался нам патриархом. Мы заробели перед дверью роскошной (опять-таки по тем временам) квартиры в доме в Лаврушинском. Но Павел решительно нажал звонок.
Нас провели в кабинет. Не помню его убранства, ибо внимание было приковано к Сельвинскому.
Пышная блондинка внесла в кабинет чай и сушки. Мы переглянулись: «Голубой песец!».
Илья Львович просто и доброжелательно заговорил с нами. Будничность угощения и простота Сельвинского нас успокоили. Мы почувствовали, что он добр. И в этом не ошиблись.
Он делал себя или был на самом деле, или рисовал себя таковым в своем воображении – литературным вождем, полководцем поэтических армий. Конструктивисты распались. Уже твердо наступила эпоха социалистического реализма.
Сельвинский выдвигал идею социалистического романтизма. Он искал сторонников и, наверное, надеялся сколотить себе войско из молодых. Благо, молодых было много, среди них были таланты, и никто из них не претендовал на место вождя. Все же, вперед забегая, из модной тогда двучленной формулы «вождь и учитель» мы избрали только второе. Это мы признали в тот же вечер.
Сельвинский предложил почитать стихи.
Начал Павел. Он тут же разделался с овалом и рисовал рукой угол. Он словно и не боялся и читал стихи в своей напористой манере, рубя ладонью воздух и голосом давая петуха. Затем запел Наровчатов. Как всегда, он привлекал своей красотой, развалочкой и тоже своим особым напором. После него Лащенко выглядел бледно. Почувствовав спад настроения у Сельвинского, я пролепетал «Плотники о плаху притупили топоры». Это был мой единственный козырь.
Сельвинский выслушал нас внимательно, не прерывая. Когда мы закончили, стал разбирать стихи. Он похвалил Павла, похвалил Сергея, похвалил меня. Каждого назвал поэтом. Костю он как-то обошел. Не раздраконивал, а умолчал. Может быть, именно этот факт роковым образом повлиял на дальнейшую поэтическую судьбу самолюбивого Кости.
Мы пили чай с сушками. Не спешили уходить, впивая поучения Ильи Львовича. Мы еще не знали тогда, что надо беречь время и душу поэта, не навязывая ему лишнего общения. Впрочем, может быть, сам Сельвинский не спешил нас выставить.
Мы вышли в полночь в пустынный Лаврушинский. И втроем обнялись от избытка чувств – Павел, Сергей и я. Непризнанный, нерукоположенный Костя обиженно ушел. Но мы почти этого не заметили. Радость эгоистична. А тут как будто решилось для нас самое главное: мы – поэты!
Я не помню, считал ли себя поэтом в ту пору. Разговор с Ярополком Семеновым в восьмом классе открыл мне эту перспективу. Но звание поэта было для меня слишком высоким, и я знал множество замечательных стихов, с которыми и не смел сравнивать свои творения. Поэтом рано стали считать меня мои друзья. Не опровергая их, я внутренне робел, боялся ринуться в поэзию, потому что понимал, что это опасное ремесло, требующее всего тебя без остатка. По природе не будучи склонен к рефлексии и к раздирающим душу противоречиям, я оставлял себе пути для отступления. Я страшился несчастья не быть поэтом. И потому сам себе не признавался в бесповоротности выбора.
Рядом с живостью и горячностью чувств была во мне и некая их поверхностность, и некая вялость натуры, и боязнь делать решительные шаги.
Свидание с Сельвинским стало как бы вторым этапом освоения поэтического призвания.
Конечно, признание Сельвинского чрезвычайно подняло нас троих в своих собственных глазах. Кроме того, мы поверили друг в друга. Павел смело называл нас поэтами. И я ходил в некотором головокружении, впервые всерьез соприкоснувшись с этим званием.
Но писать я не стал ни больше, ни лучше.
У меня вообще существовал некий страх перед писанием стихов. Я не верил в возможность написать стихотворение просто в силу умения и даже наличия повода. Я ждал вдохновения, той блаженной дрожи, которая пронизывает тебя с головы до ног. Мне казалось кощунственным писать без вдохновения. Я не умел его призывать и организовывать. Оставалось ждать. А оно являлось слишком редко.
Его отгоняли и новое общение с многочисленными ифлийскими друзьями, и новые критерии, и осознание высоты поэтического долга. Я запугивал свое вдохновение. И оно почти не проявлялось. Новые стихи упорно не появлялись. И я читал в компаниях и на вечерах все тех же «Плотников», благо они нравились.
Все же я был на своем курсе в некоторой моде. Жизнь у меня тогда была наполнена новыми дружбами, долгими спорами, чтением стихов, занятиями. Чего не было – это скуки.
Признание Сельвинского, правда, несколько охладило мой первоначальный учебный пыл. Но его все же хватило на весь первый курс. А учиться спустя рукава начал я уже на втором, когда появились в моей жизни новые лица, идеи и обстоятельства.
На своем курсе ближе всех сошелся я с Марком Бершадским, человеком высоко одаренным, тонким, умным и ироническим.
У него не было сомнений относительно своего призвания. Он собирался стать прозаиком. Образцом для него были Ильф и Петров.
Он писал юмористические рассказы. И вскоре начал печатать их в «Крокодиле». Кстати, именно в этом журнале, кажется, в сороковом году, впервые опубликовался и я.
Мы относили с Марком один из его рассказов. Звонили по дороге Весенину, тогдашнему сотруднику «Крокодила». Один автомат съел у нас несколько гривенников, но соединения не было. Другой же, напротив, выбросил нам несколько монет и еще соединил с «Крокодилом». Об этом происшествии я по дороге сочинил восемь строк. Марк показал их Весенину. И они были вскоре напечатаны. Кажется, с этой публикации отсчитывается мой официальный литературный стаж.
На первый гонорар я что-то купил в подарок родителям. А остальные прогуляли в ресторане «Националь» вместе со Львом Коганом, который первым из приятелей подвернулся в тот день. С этого посещения «Националя» можно отсчитывать и мой ресторанный стаж, который не меньше литературного.
Марк Бершадский был принципиальным носителем ифлийского вкуса. В прозе это были Бабель, Олеша, Ильф и Петров и Хемингуэй. В поэзии – Пастернак.
Марк более всего ценил образ. Он был искателем образов. «Записные книжки» Ильфа он знал наизусть. И пытался им подражать. Он был способным учеником. От него остались записные книжки, которые, надеюсь, будут опубликованы. В них – точность глаза, ощущение интонации, юмор. По одним этим книжкам видно, что в Марке мы потеряли истинного писателя, только становившегося на путь.
Поэты развиваются, как правило, раньше. От них больше осталось и дожило до послевоенных времен.
В «Записных книжках» Марка был раздел, куда он записывал мои остроты и меткие словечки. Есть и такая запись: «Прочитал записные книжки Д. Больше всего ему понравились собственные остроты». Марк преувеличивал. Мне очень нравилось то, что писал он.
Пастернака я знал от доски до доски. Так что я был на уровне ифлийского вкуса. Но вкус этот вскоре начал меня раздражать. Некоторые наши снобы, хорошо зная Пастернака, вовсе не знали русской классической поэзии. К примеру, Кнабе однажды презрительно отозвался о Тютчеве. В моде всегда есть что-то тупое.
Я и в то время инстинктивно не доверял моде. Я стал разлюблять Пастернака.
Началось увлечение Хлебниковым. Под влиянием ранних поэм Хлебникова («И и Э», «Вила и леший») я стал писать поэму «Мангазея». В ней было несколько хороших строф, внушенных Хлебниковым. Павлу и Сергею она нравилась. Большинство осталось к ней равнодушно. Для меня она была важна, потому что была раскованней других стихов. Поэтические всхлипы и запутанные образы раннего Пастернака, наиболее почитаемого, меньше соответствовали моему характеру, в ту пору тянувшемуся к ясности и чистоте стиля. Я извлекал из Хлебникова эту ясность. Мне казалось, что я его понимаю.
Античную литературу читал нам Сергей Иванович Радциг. Главные достоинства его были любовь к своему предмету и его основательные знания. Читал он со старческой эмоциональностью, можно сказать, самозабвенно. Излагал содержание произведений и обильно их цитировал. Концепций особых не излагал и в глубину философии не вдавался. И это, может быть, было к лучшему, ибо исподволь приучало нас слушать университетские курсы, все более трудные. Не скажу, чтобы Сергей Иванович приучил меня любить античную литературу, однако он привлек к ней внимание. Я стал читать Гомера и Гесиода, сам постигая их первозданную прелесть. А потом даже полюбил Горация. Радциг был начальным знаком университетского обучения, человек добрый и невъедливый. Мы его любили. И боялись огорчить незнанием предмета.
Средневековье читал нам доцент Михаил Евгеньевич Михальчи. Тоже добрый и внимательный к студентам. Он не считался у нас в числе блестящих лекторов, хотя обладал большими знаниями, особенно в романских литературах. В отличие от Радцига, он студентов различал.
Я впервые тогда перевел несколько строф из «Большого завещания» Вийона и был тепло поддержан Михальчи. В общем, средневековая литература оказалась тоже интересной. Лекции были менее описательными, и мы начинали привыкать к истории литературы как к мыслительному процессу. И все же мы с нетерпением ожидали окончания этого раздела, ибо ходил слух, что Возрождение будет нам читать Пинский.
Он был одним из любимцев ИФЛИ. И действительно, был назначен читать нам лекции.
Роста он был небольшого, коренастый, с длинными темно-русыми волосами, которые он имел привычку кокетливо отбрасывать назад движением головы. Лицо его не было красиво, но выразительно. И к женскому полу он, кажется, был не совсем равнодушен, но и здесь сказывался в нем недостаток эстетического момента, о котором я скажу ниже.
Произносил он лекции, отрешась от действительности, взор устремив в окно; читал медленно, раздумчиво, как бы заново отыскивая слова, иногда мучительно. У него была привычка время от времени вертеть головой. И похож он был чем-то на небольшую птичку.
Птичка эта чирикала не красно, ибо по форме лекции Пинского были не блестящи. Он не был оратор, он был проповедник.
Увлечься им можно было, только вслушавшись в содержание. А еще лучше было слово в слово записывать проповеди Пинского. А потом перечитывать. Тогда воспринималось стройное здание мысли, концепция периода литературы. Пинский давал понятие об исторической эволюции человеческой личности, о величии личности Возрождения и отсюда выводил особенности литературы.
Он был истинный проповедник. Писал значительно хуже.
В старину он стал бы знаменитым раввином где-нибудь на хасидской Украине, святым и предметом поклонения. Поклонялись ему, впрочем, и мы. Он был огромный авторитет. Великий толкователь текстов.
Перед войной, как-то случайно разговорившись, я познакомился и на короткое время сблизился с ним.
Мы несколько раз возвращались с ним из ИФЛИ через темные весенние Сокольники, и Пинский, не смущаясь, что слушатель у него один, с той же серьезностью и отдачей толковал тексты, возводил концепции и произносил парадоксы, остроумие которых было талмудического толка, то есть строилось на игре словесных значений.
Бывал я у него и в Усачевском общежитии, где жил он с дочерью и женой в небольшой комнате.
Война вскоре разлучила нас. Он пошел рядовым в ополчение. Начало войны совпало с подъемом его духа, и он величаво толковал события и был полон патриотического чувства. Несмотря на это, после войны он отсидел положенный срок за любовь к толкованиям.
И встретились мы только в начале 50-х годов, когда он был отпущен и реабилитирован.
Произошла эта встреча у Лунгиных, близко друживших с Леонидом Ефимовичем.
В нем еще были приметы зека или солдата, пришедшего со службы: неловкость и привыкание к отвычной обстановке. Однако тот же интерес к литературе, та же одушевленность при обсуждении ее проблем. Он увлечен был Мандельштамом и поминутно читал его стихи. Мандельштам – поэт, наиболее пригодный для толкований.
Но любовь к Мандельштаму была за счет, например, Блока. Тут мы схлестнулись. Он утверждал, что «Конь Блед» Брюсова куда выше блоковских «Шагов командора». Строки «в час рассвета холодно и странно» ставили его в тупик своей бессмысленностью. Именно в этом споре я впервые осознал недостаток в Пинском эстетического чувства. При всем своем уме и превосходном знании литературы он был «выковыриватель изюма из сайки» и любил литературу за то, что из нее можно построить грандиозные концепции. Ему нравилась концептуальность литературы, а не весь ее жизненный объем.
Встречались мы у Лунгиных еще несколько раз. Помню, снова крупно поспорили. На сей раз из-за нового его увлечения, совсем непонятного, – из-за стихов довольно сдвинутого и малоталантливого Севы Некрасова, бродившего тогда по московским салонам со своим рациональным алогизмом.
В общем, дружбы у нас не получалось. Хотя каждый раз встречались мы доброжелательно, и Пинский не жалел для меня своих парадоксов.
Помню нашу последнюю встречу[17].
Летом 1981 года читал «Парафразы» Лепина в «Синтаксисе». Жанр им был найден правильно – толкования слов. Но смысл толкований показался мне банальным. А способ изложения – заносчивым. Это присвоение права на беспощадную мысль только мыслящей элитой. Нет уважения ко «мнению народному», которое Пушкин ставил критерием при оценке исторических обстоятельств и действий.
Народное мнение, конечно, не может отлиться в такие четкие формы, как «Парафразы» Пинского, но оно есть воздух всякой мысли.
Вскоре после получения «Парафраз» я узнал о смерти их автора, о котором вспоминаю с благодарной и доброй печалью.
Все-таки удивительный человек был!
Краткое знакомство с Владимиром Грибом состоялось до того, как он начал читать нам курс.
В ИФЛИ существовала стенгазета «Комсомолия». Это был авторитетный орган. Газета делалась интересно, живо, умно, остроумно. Ее деятели стояли высоко в институтской субординации. Подвизался в ней в качестве карикатуриста многим памятный Эдик Падаревский, погибший в войну; другим художником был тишайший Гена Соловьев. Известным редактором был Сергей Потемкин. Наиболее ловким репортером – Семен Красильщик. Все они потом вышли в люди.
«Комсомолия» печатала серьезные критические статьи, рассказы, стихи, репортажи, обзоры, интервью с известными писателями. Настоящая была газета, только в единственном экземпляре. Читали ее с огромным интересом, многое выучивали наизусть. Газета делалась с размахом. Длина ее была несколько шагов. А в один праздничный день насчитал я двадцать два шага. Газета не помещалась на одной стене, а шла округ коридора, заворачиваясь два раза.
Вот к этой-то знаменитой газете задумали мы сатирическое приложение. Приложение должно было пародировать типичную ифлийскую поэзию. Хотя поэтами в ИФЛИ не все почитались, но писали стихи многие. И были даже особый ифлийский стиль, особая тематика, характерные для студенческого стихотворства. Готовили сатирический листок Лев Шейдин (впоследствии – Седин, известный международный журналист), Марк Бершадский, Евгений Астерман (о них я скажу ниже), а также несколько других наших остряков.
Листок был задуман как публикация вымышленного ифлийского поэта Ярополка Гунна (был такой Владимир Галл в действительности), а также критические отзывы о нем.
Я написал несколько пародий. Одна была на романтический стиль тогдашнего Наровчатова и называлась «Охота на зайца»:
Был холод такой, что даже ром Приходилось рубить топором.Другая пародия была на излюбленный жанр наших эрудированных авторов – стихи о великих людях. Было множество стихов о Вийоне, Бальзаке, Цицероне, Рембо, Глебе Успенском и других. Пародия называлась «Великий утешитель». Ее я помню целиком.
Скрипит диван. Пронзительно визжат Пружины, как рессоры омнибуса. Он чешется. Клопы его томят. Вся жизнь полна их запаха и вкуса. Эпоха чешется! Рождаются в пыли И тело в кровь дерут рукой нечистой. Клопы везде. И даже корабли Кормою трутся о пустую пристань. Но можно ль так? Страданью есть предел. Судьбы миров над головой нависли. Он быстро встал. Ночной колпак раздел. И сел за стол. Его томили мысли… Века безжалостны. Как бурных волн наскок, Все – даже имя – разодрали в клочья… Но вечен труд страдальца. Этой ночью Он изобрел персидский порошок.Еще написал я две пародии на наших переводчиков. Помню одну строфу из «Лорелеи»:
Воздух чист и темнеет. И тихо течет Райн. Вершины гор светлеют Ин абендзонненшайн.Примечание к последней строке: непереводимая игра слов.
И начало «Лесного царя» Гёте:
Кто скачет, кто мчится ночным путем? Это папа с своим дитем.О стихах Ярополка Гунна были даны ниже две рецензии, подписанные: А. Прель и Ф. Враль.
«Как это не похоже на шаманские завывания Наровчатова и слезливый маразм Павла Когана», – говорилось в одной рецензии.
«Это как две капли воды похоже на шаманские завывания Наровчатова и слезливый маразм Павла Когана», – писалось в другой. Таков был стиль нелицеприятной ифлийской критики.
«Свисток» понравился. В. Гриб пожелал познакомиться с его авторами.
Помню, мы зашли в аудиторию после его лекции. И долго и весело разговаривали о пародии. Слова Гриба я не упомнил.
Тогда он был молод и, казалось, полон сил. Но болезнь уже подтачивала его. Весной сорокового года он умер, совсем молодым. От него осталась небольшая книга статей, для ифлийцев ставшая катехизисом.
Помню день его похорон. Весь институт провожал Владимира Романовича со слезами.
ИФЛИ был задуман как «красный лицей», чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств и ведомств искусства, культуры и просвещения.
Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак.
Все же бывшие студенты института, часть которых оканчивала уже Московский университет, стали заметными фигурами в вышеназванных отраслях деятельности.
Наивысшей ступени в государственной иерархии достиг А. Шелепин, бывший одно время членом Политбюро и министром госбезопасности. По каким причинам он утратил свое положение, нам неизвестно. Но на него одновременно надеялись и прогрессисты, и обскуранты.
Как антитеза Шелепину, в антигосударственной субординации наибольшей известности достиг Л. Копелев. Он перед войной учился у нас в аспирантуре. Его жена Р. Орлова – на выпускном курсе.
ИФЛИ дал несколько известных поэтов: Павла Когана, Сергея Наровчатова, Юрия Левитанского, Семена Гудзенко, а также множество неизвестных прозаиков – Мальцева, Елену Ржевскую, Ю. Капусто, И. Крамова, Л. Якименко, Рослякова, Крутилина и др. Переводчиков – Л. Лунгину и блестящего К. Наумова.
Деятелей – работника ЦК Черноуцана, В. Озерова, Караганова. Посла Олега Трояновского. Международных журналистов Безыменского и Седина. Восточного философа Гришу Померанца, знатоков и теоретиков фольклора Мелетинского и Пермякова, пару испанистов – Осповата и Кутейщикову, основателя и директора музея Пушкина в Москве А. Крейна, литературоведа Н. Балашова, колеблющегося философа А. Гулыгу, издателей С. Потемкина, Б. Грибанова, Г. Соловьева, искусствоведов А. Каменского и Д. Сарабьянова…
«Есть в наших днях такая точность…»
Павел Коган писал о точности дней, то есть о точном совпадении времени и судьбы. Он верил в то, что судьба его поколения станет легендой.
Он сам уже стал легендарен. Свой портрет, увиденный из наших времен, он очертил в стихах. Строгий, острый взгляд слегка прищуренных глаз. Юноша-поэт, воин, «в двадцать пять внесенный в смертные реляции». (Только на год ошибся. Может быть, вся страна ошиблась на этот год в предвидении войны.) Автор «Бригантины». Она написана была на грани отрочества и юности.
«Бригантину» он всерьез не принимал. Но ее запели. Сперва в дружеских компаниях, потом в ИФЛИ, нашем институте. Пели и другие песни – «О, Сюзанна», «Холодина синяя…», «В тумане расплываются огни…». Была потребность в песнях не только строевых и массовых.
Пели песни, потом забыли. А «Бригантина» осталась, может быть, предвестницей искусства Окуджавы.
Сказать бы тогда Павлу, что из всего им написанного самой известной останется его песенка, он бы рассердился или рассмеялся.
Он был человек широких планов и больших замыслов. Но мы часто не знаем, что именно угадали в своих песнях.
На прифронтовой станции слышал, как пели «Бригантину» девичьи голоса. А однажды наш старшина, человек из алтайской деревни, запел мощным своим басом, путая слова и перевирая мелодию, песню, в которой я узнал «Бригантину». «Авантюристов» он перекрестил в «кавалеристов». Откуда бы им взяться в море?
– Ты где эту песню выучил?
– Давно знаю. Старинная песня, – отвечал старшина.
Музыку к «Бригантине» сочинил близкий друг Павла Георгий Лепский. В 1939 году мы его провожали в армию. Он прошел всю войну. Это ему посвящены стихи, где есть вещие строки о внесенных в смертные реляции в двадцать пять лет.
В пророческом свойстве поэзии нет ничего туманного. Поэт – ясновидец, если он ощущает точность времени. Тогда в слове – судьба. Легенды живут по-своему, все отдаляясь от реального сюжета. В них патетика побеждает трагедию. Наверное, так нужно. Ведь легенда – людское творение, а в ранней смерти торжествует нелюдское.
Но никак не могу отрешиться от того, что Павел погиб так рано. Никак не могу забыть письма, полученного в госпитале, из которого, чуть не через полгода, узнал я о гибели Когана.
«Потеря невосполнимая», – писал мне тогда И. Крамов.
Зная характер Павла, могу себе представить, как все это происходило. Наверное, очень нужно было взять языка. Предстоял трудный ночной поиск в районе высоты Сахарная Голова. Коган, переводчик полкового разведотдела, мог бы дожидаться в штабе, когда разведчики приведут пленного. Или не вернутся. Он сам напросился в поиск. Он был смел и азартен. Не мог не пойти.
Человек он был яркий, отважный. И своим однополчанам навсегда запомнился. Поминается он в мемуарах самого высокого ранга.
А вот стихов не осталось. Может, и не писал он вовсе в те годы, увлеченный ратной работой. Может, не укладывались в стихи те необычные и необычайные впечатления. Я это по себе знаю.
Все трудней писать о Павле Когане, да и о каждом из тех, кто молодым не вернулся с войны. Кажется, что короткую жизнь описать легко. Что там? Школа, институт, несколько стихов, война. Но живые не укладываются в рамки сказания. Их можно понять и оценить в контексте времени и среды, во всей сложности связей и постижений, в том блестящем окружении, в котором они жили.
История сложна, и поколение наше сложней, чем оно казалось. Оно было рождено для одной эпопеи. И в ней выполнило свое назначение. Павел Коган замахивался на несколько эпопей. Здесь кончалась «точность дней» и все виделось в романтическом тумане.
В 1939 году Илья Львович Сельвинский собрал чуть не всех способных молодых поэтов Москвы в семинаре при тогдашнем Гослитиздате.
Павел на семинарах Сельвинского выступал замечательно. Он не терпел расслабленности ни в строке, ни в мысли. Высоким, срывающимся голосом, отбрасывая худой рукой волосы со лба, он громил или хвалил, темпераментно, категорично, во всем азарте и блеске своего ума.
Характер у Павла был трудный, угловатый («с детства не любил овал»), прямолинейный. Любил верховодить. Но в компании равных приходилось унимать себя, что порой бывало ему нелегко. Был негласный договор, что никто не претендует на лидерство. Мы любили, ценили друг друга и верили, что все станем поэтами. Разговор о стихах был остроугольный, беспощадный. Но на личности переходить не допускалось.
Павел любил друзей нежно и преданно. Он не просто их любил, но и старался лепить по своему идеальному замыслу. И настойчиво требовал, чтобы замыслу этому следовали в жизни. И некоторые старались, примерялись. Да и сам Павел примерялся к своему созданию. Об одном нашем друге Слуцкий сказал: «Павел его делает таким, каким хотел быть сам».
Мне он отвел роль летописца. В начале войны сказал: «Тебе на войне делать нечего. Ты лучше напиши про нас».
Зима 1940 года стояла холодная, снежная. Павел томился, был озабочен своими глубокими переживаниями. Расспрашивать не полагалось. Часто приходил ко мне. Вяло о чем-то разговаривали.
Однажды спросил у него:
– Что важней – любовь или стихи?
Ответил, не задумываясь: «Любовь». Он всегда ценил свою принадлежность к жизни выше, чем принадлежность к литературе. Может, оттого и не писал на войне.
В нем тогда вызревал замысел романа в стихах «Владимир Рогов». Но о нем не говорил. Замах был дерзкий – на «Евгения Онегина» наших дней. Никто из нас тогда, да и позже, на это не решался.
Павел ждал, пока созреет стих, и, если не ошибаюсь, первые куски из романа прочитал осенью 1940 года. Место и обстоятельства этой первой читки хорошо помню. При Союзе писателей тогда существовало объединение молодых поэтов, руководимое Иосифом Уткиным. Была назначена встреча «сельвинцев» с «уткинцами». И надо сказать без хвастовства, что наши стихи оказались намного интереснее. На обсуждении Коган, Кульчицкий, Слуцкий, владевшие, если надо, скальпелем, выступили в боксерских перчатках. Уткин в заключительной речи признал поражение своего семинара. Сельвинский был доволен. После встречи мы в радостном настроении облазили весь Дом литераторов, залезли на антресоли деревянного зала, и там, развалившись на мягком диванчике, Павел уверенно произнес:
– Все здесь будем!
Угадал, но не знал тогда, что он и Кульчицкий будут только на мемориальной доске в вестибюле дома на улице Герцена.
Там, на антресолях, Павел впервые прочитал друзьям большие куски из романа в стихах. Тогда он еще не имел названия.
О романе мы много спорили. Он был сложно задуман, черты автобиографические переплетались с историей времени и с патетическим предвидением будущего. Он писался как эпопея, до того, как наше поколение обрело эпопею. И в этом была особая смелость.
Стилистически «Владимир Рогов» не был однороден. В нем перекрещивались многие влияния – и традиция русской классической поэмы, и пафос поэм Маяковского, и опыт поэм Сельвинского. Да и многое другое, в чем предстоит еще разобраться литературоведам. В нем отразились все наши тогдашние вкусы и пристрастия.
«Рогова», как, впрочем, и все, написанное нами, судили строго и нелицеприятно. Думаю теперь, что недооценивали. Не было еще исторического расстояния и далеко еще до подведения итогов работы поэтического поколения.
На работу над романом после первого чтения отведено было чуть больше полугода.
Перед самой войной Павел поехал в геологическую экспедицию в Закавказье. Встретились мы с ним в начале осени, когда немецкие дивизии двигались по Смоленщине. Я вернулся оттуда с трудовых работ. Павел с трудом добрался из Закавказья.
Павел тут же предложил план действий. На улице Мархлевского в здании бывшей школы набирали людей на курсы военных переводчиков. Мы с ним отправились туда. Первый вопрос, который нам задали люди, принимавшие документы, знаем ли мы немецкий.
Павел уверенно сказал, что знает. Я промямлил что-то невразумительное.
Там, на улице Мархлевского, и расстались мы навсегда. Обнялись.
– Береги себя, – сказал Павел, – таким, как ты, на войне плохо.
О себе он не беспокоился.
Война разбросала нас. Письма не доходили.
Попытка воспоминаний
Мне трудно писать воспоминания о Сергее Наровчатове, потому что объем нашей почти полустолетней дружбы почти совпадает с объемом нашей творческой жизни. Наша дружба, не испорченная ни одним внешним конфликтом, была не лишена своего внутреннего драматизма, что естественно при различии наших характеров и путей. Этот драматизм прочитывается в графике наших схождений и расхождений, мягких и естественных. Мы сближались тогда, когда Наровчатову бывало плохо. Не считая, впрочем, юношеских лет, когда нам обоим было хорошо.
– Мне тебя физически не хватает, – сказал мне Сергей при последней нашей встрече.
Я мог бы ответить ему тем же. Нехватка друг друга была, может быть, определяющим фактором наших отношений в последние четверть века. И, возможно, фактором плодотворным.
Наша дружба была близкой, прочной, но не тесной. Теснота часто мешает. Нехватка друг друга создавала некий простор, расстояние, с которого мы лучше видели друг друга. У нас не было потребности друг друга исправлять или улучшать, не было потребности ежедневно делиться подробностями и неурядицами личной жизни. «Нехватка» означала потребность делиться идеями, а не оправданиями или объяснениями. Нашими исповедями были идеи.
Исторические масштабы мыслей и понятий всегда увлекали Сергея. В этих масштабах несущественными были мелкие извилины личных путей. Их можно было воспринимать со снисходительной иронией, как забавные игры абсолюта, то есть исторического закона.
Мышление Наровчатова было настолько масштабным, что порой не вмещалось в стихи и в события его жизни. Он долгие годы пробивался к совмещению этих двух планов в литературном творчестве, понимая, что одного абсолюта для литературы недостаточно, пока не отыскал точку совмещения в исторической иронии.
В прозе позднего Наровчатова воплотились все достоинства его мышления, нашли применение его обширные знания. Он вступил в новый этап своего творчества, может быть, наиболее важный. Этот этап жестоко прервался смертью. Вот когда снова не хватает Наровчатова не только мне, но и всей нашей литературе.
С иронией эпохальной у него было все в порядке. Хуже иногда бывало с самоиронией.
Помню, как он рассердился на Глазкова, сочинившего песенку:
От Эльбы до Саратова, От Волги до Курил Сережу Наровчатова Никто не перепил.– Пришел Глазков, – возмущался Сергей, – и спел мне своим мерзким козлетоном какую-то дурацкую песенку. Вполне бездарную, между прочим…
Однажды он пришел ко мне восторженный и окрыленный.
– Ты знаешь, я не ожидал, что Фадеев обо мне такого высокого мнения. Он написал мне рекомендательное письмо с потрясающими формулировками!
– А куда письмо?
– В больницу.
Я расхохотался. Сергей с некоторым недоумением уставился на меня. Потом заулыбался, заразившись моим смехом, и сказал добродушно:
– Всегда ты что-нибудь схохмишь.
Он ложился тогда на лечение в Институт питания. Я несколько раз навещал его. И он с большим юмором рассказывал о своих соседях и об эпизодах больничной жизни.
К себе Наровчатов относился с большим простодушием.
У него было характерное произношение: твердое «ш» перед гласными он произносил почти как «ф». Это придавало особое обаяние его речи, придавало воздушность и сочность его прекрасному говору.
– Послуфай, брат, – часто начинал он разговоры со мной.
В годы нечастых наших встреч он особенно любил предаваться воспоминаниям нашей юности, к которым был нежно привязан. Он детально помнил разговоры, случаи и происшествия ифлийского периода нашей жизни, считал это нашим личным достоянием и не любил, чтобы посторонние мешали ему вспоминать.
Однажды, когда мы вдвоем сидели за столиком в ресторане ЦДЛ и Сергей наслаждался пиром памяти, к нам подсел поэт тоже ифлийского происхождения, но следующей генерации и вторгся в речь Наровчатова с какими-то уточнениями и дополнениями.
– Алё! Молчать! – вдруг закричал Наровчатов.
Поэт обиделся. Он решил, что на него накричал секретарь Союза.
Часто улыбался. А вот смеха, хохота его не помню. Скорей посмеивался, пофыркивал, часто при этом приговаривая. Смеялся не во вне, а как бы внутрь себя, не смешному слову или происшествию, а чему-то своему.
В разговоре то, что не затрагивало его, скользило по поверхности. Всегда поворачивал разговор к тому, что его интересовало.
Любил, когда мысль ветвится, расширяется до беспредельности, но не перебрасывается на что-то другое. В основе своей был серьезен. Оттого любил разговаривать с И. Крамовым, который тоже был упорен в мысли.
С Крамовым он дружил на год дольше, чем со мной. Отношения их были в чем-то похожи на наши. Крамов, однако, позволял себе на него сердиться.
Правильностью черт и фигурой Сергей больше походил на отца, выражением лица – на мать. Из-за густых бровей и немногословности отец на первый взгляд казался суровым. На самом деле он был человек мягкий и добрый. Сам Сергей писал о его природной интеллигентности.
Лидия Яковлевна отличалась яркостью характера и живостью в разговоре. Она ревниво, с большим честолюбием и твердостью любила сына.
Сергей признавал авторитет матери, ценил ее ум, считался с ее мнением, испытывал необходимость делиться с ней мыслями, замыслами и сюжетами своей жизни. Честолюбие Лидии Яковлевны часто подогревало его, но побуждало к действию только тогда, когда совпадало с собственным немалым честолюбием Наровчатова. Честолюбие его было в чистейшем значении этого слова. Он любил честь, любил быть в чести.
Несмотря на руководящее положение в семье, Лидия Яковлевна уважала право Сергея на самостоятельные решения в поворотные моменты его биографии.
Помню, с каким мужеством и достоинством держалась она, проводив Сергея на финскую войну. С тем же мужеством несла она крест ожидания в Отечественную, особенно тяжкий в начальные месяцы, когда Сергей надолго пропадал без вести. Она знала, что сын ее храбр. Нелегкое знание для матери.
Судьба судила ей, хоть и не надолго, пережить Сергея…
В юном Наровчатове сразу отмечалось, что он очень хорош собой. Русый чуб. Глаза речной синевы. Высокий лоб. Прямой нос. Красиво очерченный маленький рот (с вечно приставшей к губе папироской). Распахнутый ворот ковбойки открывал безупречную шею. Прямые плечи. Медвежеватая походка таежного охотника.
О своей красоте знал. Любил покрасоваться. Но откровенно, бесхитростно. Друзья его за это над ним подшучивали. Не обижался.
Естественно, что женский пол обращал на него свое внимание. Относился к этому с добродушной снисходительностью. Ловеласом не был. Всегда был готов променять любовное свидание на серьезную мужскую беседу.
Иногда, сбегая с лекций, забирались мы в маленькую комнатенку коммуналки на углу улицы Мархлевского и Сретенского бульвара. И по многу часов, пока не придут с работы родители, с упоением разговаривали о поэзии, о живописи, о высших категориях жизни, об истории, о современности.
Современность мы любили. Мы спорили не с ней, а с поэтами, воспевавшими ее. Мы хотели не воспевать, а совершать и представлять современность.
Студенты ИФЛИ делились на эрудитов и деятелей. Многие из тех и других писали стихи и даже успешно печатались. Но взыскательное ифлийское мнение поэтами их не считало. Поэтами были Павел Коган, Сергей Наровчатов, Алексей Леонтьев, Константин Лащенко. Были еще старшие, уже вошедшие в литературу, Константин Симонов и Александр Твардовский. Между теми и другими пролегла граница поэтических поколений. Бывали и пограничные стычки.
Рассказывали мне о поэтическом вечере Твардовского с обсуждением его стихов. По поводу «Страны Муравии» задиристо выступали Коган и Наровчатов.
Твардовский это крепко запомнил и много лет спустя, после войны, напомнил Сергею: я, дескать, не забыл того вечера, Сергей Сергеевич. Сказал почти добродушно. Старый спор был исчерпан.
Отношения были не близкие, но доброжелательные.
Я впервые увидел Наровчатова на заседании литкружка осенью 1938 года. Там читали стихи кадровые ифлийские поэты и присуждали право называться поэтами отдельным счастливцам из новобранцев.
Наровчатов запаздывал. Он вошел запыхавшись и сразу ринулся в свою «Северную повесть».
Стихи, по правде сказать, были не больно хороши. Но в их трехстопных ямбах с дактилическими выбросами и особенно в образе юного Наровчатова, в его манере чтения была непререкаемая убедительность.
В его произнесении стиха, уже тогда сложившемся, было обаяние вольного дыхания. Короткий, сильный вдох – и на выдохе поэтическая строка. Ритм естественно соединялся с дыханием. Интонация не падала, а поднималась на иссякании выдоха. Некоторые слова произносились замедленно, как бы по слогам. Легкая шепелявость украшала речь.
За всем этим – самоуверенный напор, освеженность ритма, здоровье и сила.
Не было сомнения, что он хорош собой и талантлив.
Эта осень летела в упоенье дружбой, в завалах бурых и желтых листьев Сокольнического парка. Я влюблен был в Павла и в Сергея.
К осени 1939 года мы познакомились со многими молодыми из разных институтов. Большинство их было из семинара Сельвинского. Кульчицкий из Литинститута, Слуцкий из Юридического, Глазков из Педагогического, Майоров из Университета, Луконин из Литинститута. И еще – Смоленский, Лапшин, Лебский, Львов, Окунев, Тамарина. Еще кое-кто.
Столь многими событиями было набито время, что оно теперь кажется длительным. На самом деле на довоенное формирование нам было отпущено меньше двух лет. Сроки измерялись днями, неделями, месяцами.
Осенью 1939 года, сразу же после знакомства, сбилась наша поэтическая компания из шести человек: Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и я.
Часто собирались у Когана в каморке за кухней, у меня. До поздней ночи читали и обсуждали стихи, строили планы. В этой школе стиха и политики собрались умы и характеры яркие и, казалось бы, несовместимые. Однако уживались. Была дисциплина и чувство ответственности.
Жаль, что не осталось четких формул Слуцкого, энергичных речей Когана, иронических замечаний Кульчицкого, воспарений Наровчатова, тончайших анализов Львовского. Я был младший, хоть и ненамного. Помалкивал больше. Ума набирался.
Слуцкий – «административный гений», как мы его именовали, – организовал поэтический вечер в Юридическом институте. Первый наш вечер, а для многих единственный. Снова схлестнулись с представителями предыдущего поколения на тему – воспевать время или совершать его. Павел чуть не подрался с Даниным. Поэт М. из журнала «Молодая гвардия» заявил, что, пока он жив, нас на страницах журнала не будет.
– Правильно, – ответил Сергей, – когда мы придем в журнал, мы вас оттуда вынесем.
О вечере много ходило толков среди литературной молодежи. А Слуцкому досталось от институтского начальства, что, кажется, ускорило его переход в Литинститут.
В 1940 году начали постепенно переходить в Литинститут. Сергей учился в двух, а то и в трех учебных заведениях одновременно.
Из всех общих понятий литературного процесса в понятии «поколение» наиболее явно сопряжены историческая судьба и творчество.
О поэтических поколениях много думал, часто говорил, постоянно писал Сергей Наровчатов. Будучи человеком с историческим масштабом мышления, он наиболее дробным делением человечества по времени воспринимал поколение и свою личную судьбу воспринимал или, вернее, оценивал в системе поколения.
Одной из главных особенностей нашего поколения Наровчатов считал отсутствие гения. Все поколение – по его мнению – должно было осуществить дело гения. И оно создало поэзию гениальную.
Схема поэтических поколений XX века представлялась нам следующим образом.
Поэты, заявившие о себе в литературе между 1900 и 1905 годами, – Брюсов, Бальмонт, Блок, Белый. Символисты.
Поэты, пришедшие в литературу в районе 10-х годов: Гумилев, Хлебников, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Асеев, Мандельштам, Ходасевич; младший из них – Есенин. Акмеисты, футуристы и проч.
20-е годы: Тихонов, Луговской, Багрицкий, Сельвинский, Кирсанов, Светлов, Заболоцкий, Мартынов. Лефовцы, серапионы, конструктивисты, комсомольские поэты.
Поколение 30-х годов: Корнилов, Васильев, Твардовский, Смеляков, Симонов.
Сплошные взлеты. Ахматова насчитывала их с 10-х до 50-х три или четыре.
Потом наше поколение. Военное, фронтовое.
Потом поколение конца 50 – начала 60-х годов.
Потом…
– Кино прервалось, – как любит говорить один мой друг.
Литературные направления, группы, кружки неминуемо распадаются. Поколение может не осуществиться, но распасться не может. Сергей любил оперировать этой, более прочной, общностью.
…Когда встретились после войны, из шестерых осталось нас трое. Двое погибли, третий от поэзии отошел.
Несколько лет держались вместе. Пытались выработать пригодную для жизни платформу в рамках «откровенного марксизма».
Старались освоить постановления о журналах и о музыке.
Передавали слова Сталина о Зощенко:
– Если он ничего не понимает, то пусть идет к черту со своей обезьяной!
Старались свести концы с концами.
Сергей рассуждал. Победа над фашизмом показала, что решающим фактором исторического движения является Россия. Казалось прежде, что вектор исторических сил идет от античной Греции через Западный Рим и Западную Европу. Время показало, что он проходит через Византию и Россию…
Так или иначе этот взгляд разделяли мы со Слуцким.
На фоне глобальных категорий казалась несущественной литературная судьба Ахматовой, Пастернака и Зощенко.
– Европа стала провинцией, – утверждал Сергей. – Постановления учат нас избавляться от провинциализма.
Ахматова, по взгляду, усвоенному до войны, казалась поэтом давно ушедшей эпохи. Зощенко тоже был куда-то давно отодвинут. Мы его не перечитывали. Пастернак – другое дело. Учитель. До постановления он был в чести. Это ему не шло. Он казался слишком утонченным, слишком отрешенным от войны, от грубой правды, которая еще не остыла в нас…
…В те трудные годы, когда даже ортодоксальные взгляды могли быть неверно и опасно истолкованы, мы держались друг друга. Литературное восхождение представлялось нам вроде альпинистского похода: один поднимается на очередной уступ и за веревку подтягивает остальных.
На деле, когда в середине 50-х годов началось бурное восхождение Слуцкого, альпинистская бечева оказалась для него помехой. И это естественно. В юности нужны общие платформы и стартовые площадки. Для зрелого писателя взлет – дело индивидуальное. Низко ли, высоко ли он летает, полет этот одиночный. Иногда так возносит или заносит, что и дружеские голоса становятся не слышны. Мы трое все же перекликались, откликались порой друг другу.
Понимается все это потом, когда альпинистская веревка для каждого оказывается путами.
Помню, как сердился Сергей на Слуцкого, не пожелавшего подтягивать нас на взятую им высоту. В раздражении называл это предательством.
Но вскоре сам в одиночку стал брать свои уступы…
Наша дружба с Наровчатовым была прочной отчасти потому, что мы не нарушали нескольких правил. Не наваливали друг на друга жизненные заботы и подробности и не обращались друг к другу с неприятными просьбами.
Когда Сергей стал редактором «Нового мира», я иногда посылал туда стихи, обычно обращаясь к Михаилу Львову.
Так была напечатана поэма «Снегопад».
Я послал «Сон о Ганнибале». Сергей ответил очень смешно. Дескать, поэма хороша, но у нас сейчас сложные отношения с Эфиопией. Как бы эфиопы не обиделись.
Поэма не понравилась. Слишком хорошо знал XVIII век. В этом был ревнив.
Новый, 1940 год я встречал у Виктории Мальт, в квартире на улице Правды.
Поздно пришли Сергей и Михаил Молочко. Возбужденные, разгоряченные. Назавтра они уходили на финскую войну.
Был какой-то разговор, тяжелый, нервный, резкий. Мишу Молочко мы видели в последний раз.
Потом потянулась студеная, лютая зима. Вся Москва, притихнув в сугробах, томилась в ожидании.
Наконец взят был Выборг и объявили о замирении.
…С Сергеем встретились во дворе ИФЛИ солнечным днем в конце апреля или в начале мая. Кажется, он был в полувоенном.
Поразила его сосредоточенность, отрешенность. Глаза поблекли. Он словно продолжал видеть то, что нам еще видеть не было дано.
Прочитал страшные стихи, написанные в госпитале, – о холерном бараке. Очень сильные стихи. Я больше никогда их не слышал и не видел.
Большая война никогда так мрачно не отражалась в стихах Наровчатова.
Отходил медленно, долго. Что-то оборвалось, что-то прервалось тогда в его жизни. Что-то новое в нем рождалось.
Осенью 1940 года в среде литературной молодежи зазвучало новое имя – Нина Воркунова. Она была невестой Сергея Наровчатова. Он «таскал ее с собой» и «репетировал» в московских литературных домах. Ее стихи нравились Лиле Юрьевне Брик гораздо больше, чем стихи Наровчатова.
Об этой литературной мистификации Сергей писал. Хочу кое-что добавить. Идея, кажется, первому пришла в голову Слуцкому. Ему же принадлежало первое стихотворение придуманной поэтессы. Помню первую строфу:
Мне снился сон без повода и толка Про проводы, про правду, про провал. И долго-долго, очень долго Продолговато целовал.Этот обман Сергей раскрыл через многие годы. Первоначально его скрывали и от нашей компании. Когда узнали, стали называть Воркунову Кларой Гасуль.
Она была человеком незаурядным. Острого, сильного, едкого ума. Многих талантов и знаний.
Кажется, Наровчатов никого так не любил до встречи с ней и после расставанья.
Елена Ржевская вспоминает о дне рождения Сергея в Усачевском общежитии. Я помню последний предвоенный день рождения в квартире Нины Воркуновой в Большом Комсомольском переулке.
Дисциплина нашей творческой группы вовсе не требовала, чтобы с ее границами совпадали наши дружеские связи. Я, например, редко встречался с Кульчицким помимо наших сборищ. Бывали размолвки между Павлом и Сергеем. Слуцкий гоголем носился по Москве, инспектируя молодую поэзию.
На том же дне рождения из нашей компании был я один. Пили тогда мало. Читали стихи.
После войны несколько дней рождения Сергей справлял дома, в комнатенке на Сретенском бульваре. Гостей вмещалось мало. Бывал в ту пору Глазков, с которым Сергей тогда часто встречался.
Глазков посвятил Наровчатову несколько веселых стихов и поминал его в своей прозе из цикла рассказов Великого гуманиста.
Стихи о поэте и милиционере, впоследствии переделанные, тогда начинались так:
Стихи в газете напечатав, Поэт Сережа Наровчатов… и т. д.Лидии Яковлевне Глазков не нравился. Она щурила глаза и поджимала губы. Она считала, что ее сын подвержен дурным влияниям. На самом деле Сергей нелегко поддавался влияниям. Он жил по собственному внутреннему закону.
Еще помню один день рождения, какой-то грустный и неуютный, в доме приятельницы Сергея М. Н., милой, красивой и беспомощной.
Однажды был на дне рождения на Профсоюзной, уже при Гале, в начале 60-х. Из присутствующих запомнил Дудинцева.
Сергей много говорил о Софроницком, который должен был прийти, но отсутствовал то ли по болезни, то ли по другой какой причине. Наровчатов дружил с ним последние годы, восхищался его талантом.
Музыкой, впрочем, Сергей, кажется, никогда не увлекался. Не помню, чтобы мы говорили о музыке.
Стихи его не были песенны. Помню лишь одну песню на его слова, которую охотно пели в юности и хорошо знали в ИФЛИ. Это «Роб Рой». Музыку написал Г. Лепский, тот, что создал «Бригантину».
С юности любил Коктебель. Гордился дружбой с Марией Степановной, вдовой Максимилиана Волошина. Она всегда его ласково привечала.
Несколько раз совпадали с ним летом. Последний раз, кажется, году в 1969-м. Сидели за одним столом в Доме творчества – мы и наши жены. Был благостен. Добродушно общался с моей малолетней дочерью. Наговорились всласть за несколько предыдущих лет.
Пошли на Карадаг. Сергей знал здесь каждую тропку. Был он уже грузноват, но легко шагал в гору.
Обошли Святую. Поглядели в долину.
Я спросил о стихах.
– Пишу редко, – ответил Сергей, – два-три стихотворения в год.
Последние годы его больше тянуло к прозе. Чувствовалось, с каким удовольствием он свободно располагался в прозаической фразе, даже в деловой прозе – в статьях и воспоминаниях.
Заговорили о делах Союза писателей, о перипетиях литературных и, главным образом, нелитературных отношений.
Образцом литературного деятеля для Наровчатова был Тихонов. Об этом, впрочем, в тот раз не говорили.
– Я держусь, как молчаливый дворянин из Шекспира, – сказал Сергей, усмехнувшись. – Забыл я, из какой пьесы этот молчаливый дворянин.
Наровчатов – фамилия скорей разночинская. Был когда-то такой уездный город – Наровчат.
В последний раз виделись за год с небольшим до его смерти, летом. Жива еще была Галя.
Обедали трезвенно каким-то пайковым обедом. Говорили о прозе Наровчатова. С удовольствием слушал мои похвалы.
Прочитал незаконченный рассказ из Смутного времени. Прозой своей был очень увлечен.
От разговора быстро уставал. Уходил прилечь, но меня не отпускал. Приходил, показывал книги, рассказывал о них.
– Сколько же ты собрал?
– Тысяч пятнадцать.
В библиотеке его превосходно был подобран XVIII век и книги по истории этого века. Он не был библиоманом. Собирал книги, чтобы их прочитать.
Наровчатов осуществлялся многообразно, согласно масштабам своего таланта и ума. Он осуществился как поэт и воин. Мог бы полнее осуществиться как деятель, если бы попал в другие обстоятельства и другое окружение. Жаль, что не успел осуществиться в большем объеме как прозаик. Уверен, что наша литература на этом много потеряла.
Свои замыслы и мысли сообщал он мне в письмах последних лет.
Читая Тацита, прислал мне в письме цитату: «Человек смертен, государство вечно». Не в том ли истолкование рассказа из времен Екатерины II «Абсолют»?
«В ее царствование, – писал мне Сергей, – непочатые залежи сюжетов, размышлений, обобщений. Россия ни в чем не ведала краю» (от 20 августа 1978 года).
Вот одно прелюбопытнейшее его рассуждение: «С историческими допущениями много можно, умеючи, увидеть и понять… Стоило императрикс Елисавете протянуть еще два года и скончаться не 53, а 54–55 лет, как Пруссия была бы разгромлена вдребезги, Кенигсберг превратился бы в губернский град Российской империи, но этим бы дело не ограничилось. Победила бы в Семилетней войне австро-испано-французская коалиция, и по миру 1763 года Канада осталась бы за французами, которые вместе с Лузитанией замкнули бы 13 будущих штатов в полукольцо. С юга его бы консервировала католическая Испания. Проблема отделения протестантской Америки могла бы надолго отдалиться. Во всяком случае это не стало бы делом XVIII века» (от 26 января 1980 года).
В одном из писем 1979 года сообщает, что написал новеллу-быль екатерининского времени. Позже так ее комментировал: «Вещь это современная, особенно по природе иронии, одно “объемное изображение” совсем в духе иносказаний нашего века».
Вместе с тем подчеркивал, что не «аллюзии» его интересуют в историческом повествовании, а постижение постоянных и временных факторов, то есть дух и существо истории.
Успех «Абсолюта» внушал ему уверенность в осуществлении других прозаических замыслов.
«Появилось желание написать еще нечто подобное из времен Ивана Васильевича», – сообщает он в январе 1980 года. И через несколько месяцев: «Написал… новую новеллу. Об Иване Грозном и Матвее Башкине (ересиархе)». И еще раз о новелле: «В ключе “Абсолюта”, но резче и печальнее. Хотя и там дал волю усмешке» (от 21 декабря 1980 года).
Речь идет о рассказе «Диспут», опубликованном в «Новом мире».
Был ли он весел и счастлив в зрелости, когда, казалось, многого достиг?
Однажды он написал мне: «В дневнике Марка Твена есть такая запись: “Гек возвращается домой бог знает откуда. Ему 60 лет, спятил с ума. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки и проч. Из других блужданий приходит Том. Находит Гека. Вспоминает старое время. Жизнь оказалась неудачной. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, ничего этого уже нет…” Ладно, переменим пластинку».
Кульчицкий и пятеро
Наверное, нам не поздоровилось бы от властей предержащих, если бы они узнали о разговорах в нашей компании с осени 1939 по весну 1941 года. Но среди нас не было и не могло быть доносчика. Нет, я ничуть не хочу изобразить нас инакомыслящими или фрондерами. Мы были юноши вполне ортодоксальные. Были не «инако», а просто мыслящими. И разговоры наши касались не только поэзии, но истории, философии и чаще всего – политики.
Мы признавали себя марксистами. И способ разговора называли «откровенным марксизмом». Мыслить, да еще откровенно! Вот тут-то и был криминал. Это и было «инако». Но мы этого не подозревали. Может, и пробалтывались бы. Но у нас были основания не открываться перед посторонними. И не из-за сугубой осторожности.
Во-первых, было принято откровенные мысли о наших стихах не выносить из избы. Ибо у нас были свои дальние намерения, требовавшие крепкой сплоченности и сохранения в тайне.
Во-вторых, именно эти нескромные намерения и связанные с ними надежды неудобно было излагать непосвященным, тем, кто в эти намерения не входил.
В-третьих, мы не считали, что есть более интересные собеседники, чем мы сами.
О наших суждениях и планах я скажу ниже. А пока о самой компании.
Компанию сейчас кое-кто называет «ифлийцами», вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни. Не отрекаюсь от этого почетного звания. Но ради истины скажу, что из нас шестерых ифлийцами были трое – Павел Коган, Наровчатов и я. И то Павел Коган вскоре перешел в Литинститут, где на заочном, одновременно с ИФЛИ, учился Наровчатов. Подумывал о переходе и я. Литинститутцами были Кульчицкий и Львовский. Слуцкий тогда учился в Юридическом. В Литинституте нас считали своими.
А рядом мир литинститутский, Где люди прыгали из окон, И где котировались Слуцкий, Кульчицкий, Кауфман и Коган, —писал Глазков. Здесь перечислена большая часть нашего содружества.
Итак, мы не были никакой подозрительной кастой «ифлийцев». Позже мы сами себя называли «поколением сорокового года», имея в виду не только нас шестерых, но и всех талантливых молодых поэтов – Луконина, Глазкова, Долгина, Смоленского, Лапшина, Львова, Севу Багрицкого и других ровесников и друзей…
Собирались у меня или у Павла Когана. В крохотной комнатенке за кухней, куда вмещались едва и сидели на старом диване, на письменном столике, на подоконнике. Иногда в наших сборах участвовали Исаак Крамов и Михаил Молочко. Оба писали критику и прозу. Наши девушки – Лена (жена Павла, известная ныне писательница Елена Ржевская) и Вика Мальт – слушали наши речи и споры из кухни, где готовили чай и скромнейшую закусь, если таковая случалась в доме.
Разговаривали до хрипоты, читали стихи до одурения. Засиживались далеко за полночь. Помню, как-то у меня часа в два ночи кончились папиросы. Пошли по ночному городу километров за пять, в ночной магазин на Маяковской. Вернулись. Доспоривали в клубах табачного дыма.
Иногда просиживали в баре № 4 на площади Пушкина, именуемом у нас «Бар имени товарища Четвертого». Пили пиво с соленой соломкой. Там проводили вечера многие литинститутцы. А если денег было совсем мало, шли в столовую за углом, на Тверском бульваре. Там подавали дешевое пиво в кувшинах и играли слепые на баяне и двух скрипках.
О чем же шла у нас речь применительно к литературе?
Мы считали поэзию делом гражданским. Гражданственность, по нашему убеждению, состояла в служении политическим задачам, в целесообразность которых мы верили.
Предыдущее поколение в целом плохо решало эту задачу. Общим тоном были ходульность, поверхностность, льстивость, громогласность, хвалебность. Высшее назначение литературы не могло быть выполнено таким бездарным способом.
Я б запретил приказом Совнаркома Писать о Родине бездарные стихи, —формулировал Кульчицкий…
Предполагали, что руководство страны знает о положении в литературе и ждет пополнения искреннего и талантливого, способного понять и поэтически сформулировать политические задачи. Мы и готовились к этому. Но считали, что, принимая на себя гражданскую миссию, вправе рассчитывать на откровенность власти («Откровенный марксизм»). Нам нужно было разъяснение смысла и целесообразности ее решений. Мы решительно не хотели быть бездумными исполнителями, эдакими «чего изволите». Готовы были стать посредниками между властью и народом. Извечная мечта российских идеалистов. Налагая на себя обязанности «толкования истины», мы требовали и права «истину царям с улыбкой говорить».
Нашу позицию почти всю можно было открыто излагать, кроме, конечно, пункта о взаимной откровенности. Тогда требовалась чистая вера.
Но мы были самоуверенны. И именно самоуверенность скрывали.
Мы хотели отличиться умом и талантом. И тогда, дескать, будем замечены, нас призовут. Не могут не призвать. И возникнут новые отношения государства с поэзией. Новое положение и даже начало новой поэтики. Об этом говорить было нескромно.
В своем кругу мы разговаривали, как предполагали разговаривать с властью. Искали политических, логических, юридических, других обоснований для разгадки тогдашнего положения в стране. Размышляли о перспективах.
Претензия, конечно, слишком дерзкая на то, чтобы правители заговорили с поэтами. В известной мере это получалось у Вольтера. Но где взять Вольтера в наше время? Где взять Просвещение?
Сталину не нужен был диалог с литературой и не нужна была такая поэзия.
Не все мы дожили, чтобы это осознать.
…Уже не помню, когда впервые увидели Кульчицкого. То ли нас свел Слуцкий, то ли вместе были на сборище молодых поэтов у Ильи Лапшина.
Внешность его была примечательная. Высокого роста, статный, гвардейской выправки. Такой далеко бы пошел при русских императрицах. Волосы темно-русые. Сперва при знакомстве, коротко подстриженные, потом – на косой пробор, с прядью, спадавшей на лоб. Правильные черты лица. Нос прямой, красивый мужской рот. Большие серо-зеленые глаза, глядевшие с прищуром. Лицо сперва было юношески округлое, потом похудевшее, быстро взрослевшее. Выражение ума, юмора. Как будто открытое лицо, готовое к улыбке и к насмешке. Но я замечал в лицах хороших поэтов, что они открыты снаружи, а не изнутри. Там где-то существует второй план, за которым серьезность, грусть, тайна. Лицо Кульчицкого было в этом роде. Оно было объемным.
Рассматривая его фотографии, наибольшее сходство с Кульчицким московского периода нахожу там, где он в кепке, с кашне. Есть сходство с ранним Маяковским. Он об этом сходстве знал и, может быть, нарочито подчеркивал.
– С такими лицами в наше время погибают, – сказала моя жена.
Мы не стали с Мишей близкими друзьями, то есть не искали друг друга, чтобы провести свободное время или пооткровенничать на личные темы. У него был широкий круг общения, были обожатели и клевреты. Из близких ему людей знал я лишь бесконечно преданную Генриэтту Миловидову. Из поэтов он много общался с Глазковым.
Над Мишиными романами иногда посмеивались в нашей компании. Однажды встретил его на улице, вел под руку молодую женщину. «Познакомься. Моя жена».
…И любимую каждую Называл почему-то своею женой, —писал Глазков.
Но мы с Мишей были не просто знакомые или приятели. Мы были единомышленники, единоверцы. Вот почему в воспоминаниях о нем я так много места уделяю изложению символов нашей веры и темам наших бесед. Я так часто употребляю местоимение «мы» потому, что наше единомыслие было важным достоянием каждого, общим багажом, накопленным совместно. Уверен, что так же понимал и Кульчицкий.
…Естественно, что в откровенных разговорах мы пытались разобраться в событиях 37–38 годов, недавно прокатившихся по стране.
Нынешним молодым читателям наверняка кажется парадоксом, нелепицей, недомыслием оправдание «большого террора» (или полуоправдание, или полуприятие) людьми, бывшими его жертвами или свидетелями пятьдесят лет тому назад. Тут, конечно, огромную роль играло наше воспитание, еще не формализованное и проводившееся с убедительным фанатизмом. И круг идей, которые мы исповедовали, убежденные этим воспитанием и отторгнутые от других идей.
Мы были уверены в справедливости революции, ее исторической неизбежности в России. Мы были убеждены, что беспощадность есть главный метод революционного действия.
В нас глубоко сидела вера в бескорыстие деятелей революции и в необходимость самоотречения. Несмотря на провозглашаемый материализм, нас воспитывали идеалистами. Мы стремились жить не ради настоящего, а ради светлого будущего, ради будущего счастья. А оно, учили нас, может осуществиться только путем жертв, страданий, самоотречения нынешних поколений. Никто из нас не был аскетом или фанатиком, но культ страдания и самоотречения глубоко сидел в наших умах. И в них видели ближайшее будущее поколения, так как хорошо осознавали, что не за горами война, где именно нашему поколению придется сыграть свою историческую роль, пройдя сквозь страдание и самоотречение.
Некоторые современники теперь отговариваются тем, что ничего не знали и не понимали в 37-м году. Мы кое-что знали и кое-что понимали. Тяжелый каток террора не прокатился по нашим семьям, но прогрохотал рядом. Кроме того, мы были довольно начитаны и искали исторических параллелей. Наиболее наглядной был якобинский террор 93-го года. А ведь мы по убеждению были «якобинцы». Предполагали возможность заговора военных, бонапартистского заговора, ответом на который был якобинский террор. Но последующие политические процессы, особенно бухаринский, и массовые репрессии высших и средних эшелонов власти (как теперь говорят), то есть фактическая смена правящего слоя (по меньшей мере двукратная), не вполне укладывались в схему борьбы с бонапартизмом. Скорее похоже на политический переворот. Не бонапартистский ли? Это сбивало с толку. Лозунговым формулировкам и стандартным проклятиям в печати, призывам к тотальной бдительности мы не верили. Не были увлечены призывами выискивать и разоблачать.
Однако предполагали какую-то тайну, какую-то цель, какую-то высшую целесообразность карательной политики. И старались это разгадать. Наиболее загадочным было поведение Бухарина, Рыкова и других бывших вождей на процессах. Не верилось, что пытки могут сломить людей такого сорта. Кроме того, на процессе они могли заявить, что признания из них были выбиты. Ведь присутствовала пресса, сам Фейхтвангер приехал, и книгу его мы читали. (С книгой, правда, что-то странное произошло: едва ее прочитали, как она исчезла, даже из частных библиотек.) Нет, в покаяниях Бухарина, Рыкова и других была какая-то высшая, скрытая, от нас цель, какой-то сговор судей с обвиняемыми, исходя из высшей дисциплины партии. Мы ни на минуту не верили, что подсудимые – шпионы, агенты разведок, диверсанты и террористы. Но причины принятой ими на себя роли оставались для нас непонятными.
Обсуждали мы вопрос о том, не являются ли политические процессы и переворот 37-го года предвоенными мероприятиями. И это была, пожалуй, наиболее приемлемая для нас версия. Ибо объясняла закрытость политических целей военной тайной.
В общем, мы принимали 37-й с оговоркой, что истинный его смысл не может быть сейчас открыт, но он несомненно существует и является частью необходимой стратегии. Подробное разбирательство и окончательную оценку мы оставляли «на потом» – на после войны, после победы.
Таково было в общих чертах воззрение юношей с незамутненными мозгами в это смутное время.
…Характер и душевные свойства Кульчицкого не могу сказать, чтобы знал досконально. У него была выходка яркого таланта. Был умен. Может быть, чуть сентиментален и тайно застенчив. Хотя воспитывал в себе обаяние бесцеремонности. Отличался хорошо развитым юмором.
Он, как и Слуцкий, любил шутливый тон в наших взаимоотношениях. Но Слуцкий острил жестче, а порой и обидней. Миша юмором старался не обострить, а «закрыть дело». Иногда, впрочем, мог поставить в неловкое положение. Так дважды было со мной, известным в ту пору своей смешливостью.
Тогда вернулась из Парижа Цветаева. Пожелала она познакомиться с молодыми поэтами и узнать, воспринимают ли комсомольцы ее стихи.
Из московской молодежи выбрали нас. Собрались в квартире Елены Михайловны Голышевой в первом корпусе новых домов по улице Горького. Почему-то из старших присутствовали бывшие конструктивисты – Илья Сельвинский, Корнелий Зелинский, Вера Инбер. Еще была Жанна Гаузнер, дочь Инбер, на последних сносях. Цветаеву должна была представлять Елена Тагер. Но Цветаева не пришла. И, чтобы не пропадать вечеру, просили нас читать без нее.
Весь синклит располагался за столом. А мы напротив, на поставленных в ряд стульях. Подошло читать Слуцкому. Он начал с известного стихотворения «Инвалиды»:
На Монмартре есть дом, на другие дома непохожий, Там живут инвалиды по прозвищу «гнусные рожи».Описывались в стихотворении инвалиды Первой мировой. И были такие строчки:
И приличные дамы, случалось, рожали досрочно При поверхностном взгляде на этих проклятых уродов.Кульчицкий толкнул меня в бок и указал глазами сперва на нас, потом на сильно беременную Жанну Гаузнер. Я тонко пискнул. Слуцкий прервал чтение. Жанна Гаузнер покраснела. На меня смотрели с укоризной. Я готов был провалиться.
В другой раз Лена Ржевская впервые решилась прочитать нам рассказ. Мы с Мишей слушали, сидя рядом на диване. Все сохраняли серьезность, подобающую моменту. Но Кульчицкому, наверное, стало скучно, и он, притянув меня, шепнул на ухо какую-то веселую скабрезность, не имевшую, впрочем, отношения к происходящему. Я прыснул. Лена отказалась читать дальше. Кульчицкий сохранял невозмутимость и даже делал вид, что осуждает меня за несерьезность, как и все остальные. От Павла мне досталась большая встрепка, а Лена при мне стала читать только после войны.
…Наш кружок был серьезной школой. Мы учились критическому отношению к себе, к ответственности за слово. Вырабатывали иммунитет к критике. И – самое важное – научились понимать, что в стихе нет мелочей. Существенно все.
Однако мы не варились только в узком кругу. Ходили на поэтические вечера. Бывали в компаниях молодых поэтов.
А истинным поэтическим университетом был знаменитый семинар Сельвинского при Гослитиздате.
Общались мы с Сельвинским и приватно, приходя к нему домой почитать стихи. Тогда он был сердечен и откровенен. Ходил к нему и Михаил Кульчицкий.
А также посещали мы семинар Сельвинского и в Литинституте, где, кажется, именно с этой осени он стал преподавать. Кульчицкий, Львовский, Коган, если верно помню, официально состояли в этом семинаре. Но тогда пускали всех молодых поэтов. И в наших университетах можно еще отметить семинары Асеева, Луговского, Антокольского, Кирсанова.
Было у кого поучиться. Да и сами наши педагоги были еще довольно молоды и не держали себя бонзами. С ними можно было просто дружить.
Нужны ли были учителя именно Кульчицкому с его самостоятельной походкой в поэзии? Может, и нужны были. Но не ученичество, а широкий и вольный разговор о поэзии с людьми, хорошо ее знающими и в ней опытными. Знаю только, что, охотно посещая семинары, Миша не был особо усерден в прочих науках.
Во всяком случае об академических своих делах он никогда не говорил.
Любимым поэтом Кульчицкого был Маяковский. Его, может быть, и можно было бы считать учителем Кульчицкого. Но я в их поэтике, в манере строить образ, во всей поэтической походке не вижу прямого сходства. Кульчицкий много перенимал от Маяковского в стихах и в манере поведения. Но талант он был другого типа, менее способный к насилию над собой, над стихом, над строкой.
Однако несомненна преемственная связь между поэзией Маяковского и ЛЕФа и поэзией Кульчицкого.
Он так же ценил стих нетрадиционный, на другие стихи непохожий. Ценил оригинальность метафоры, рифмы, ритма. То есть, как нынче говорят, стих «одноразового использования», стих, который принадлежит только данному поэту и никому другому. Такая установка у людей ограниченного дарования часто ведет к манерности, к голому экспериментаторству на узких участках. У некоторых просто не хватает сил на содержание. У Кульчицкого сил было много. Его стих прежде всего содержателен. Голый эксперимент ему был неинтересен.
Традиционные стихи Миша называл презрительно: «ямбочки», «квадратики», «рифмочки».
Вероятно, именно приверженность к «левому фронту» послужила причиной того, что его стали привечать у Бриков. Лиля Юрьевна была женщина умная, проницательная, опытная в общении с художниками. Она верно угадывала талант и его перспективы.
Мишу у Бриков намечали в продолжатели Маяковского, Глазкова – в продолжатели Хлебникова.
Скорей всего Кульчицкий привел в дом Лили Юрьевны в Спасо-Песковском переулке всех остальных. Присутствовали, кроме хозяйки, Осип Максимович Брик, Василий Абгарович Катанян. Читали стихи. Миша держался фаворитом. Нажимал на икру и на водку.
Ему не каждый день выпадала хорошая пища. Он был беден. Однако никогда не прибеднялся, не жаловался. Отчеты о его скудных расходах прочитал я только после войны в уцелевших письмах к родным.
Имя Кульчицкого приобретало некоторую известность среди молодых литераторов, студентов и в московских литературных кругах. Особенно после вечера в Юридическом институте, устроенного Слуцким.
Миша тогда писал свою главную поэму «Самое такое». Читал из нее куски. Нравилось. Очень.
Шел последний предвоенный год.
В стихах, в разговорах все чаще возникала тема войны. И конечно, часто говорили о Сталине.
В нынешнее время нас обозвали бы сталинистами. Да простится нам, что мы воспитывались и росли в то время. В нас не было страха, особенно страха божьего. Мы считали, что бояться нам нечего, ибо совесть чиста. А Сталина мы не боготворили, а старались разгадать.
Мы были преданными, но без лести. А лесть тогда считалась главным признаком преданности.
Мы не то чтобы Сталину верили, то есть его официальным речам; скорее, верили в него как содержателя некой истины, некой тайны, от нас до времени скрытой. Верили, что это в конечном счете идет на пользу стране.
Мы не разделяли распространенного заблуждения, что Сталин «не знает» об истинном положении и об излишнем усердии исполнителей. Мы думали, что знает. И порой унимает слишком ретивых.
А главное, уверены были, что война близко и что именно он, сосредоточивший в своих руках всю власть, способен привести страну к победе. А война требует беспрекословного подчинения главнокомандующему. Вопрос же о свободе решится сам собой после победы.
А война была действительно на носу, ближе, чем думали мы и чем предполагал Сталин.
…В мартовском номере журнала «Октябрь» 1941 года состоялась наша первая публикация под названием «Стихи студентов Москвы». Гвоздем этой подборки была поэма «Самое такое» Михаила Кульчицкого. Скромное это событие было замечено и отмечено довольно большой рецензией в «Литературной газете». Автор рецензии – Аделина Адалис, опытная, умелая поэтесса. Наши стихи подверглись основательному разгрому. Особенно досталось Кульчицкому и мне. Однако «раздолб» оканчивался знаменательными словами: похоже, что в литературу вступает новое поколение. В этом было главное. Радовался Сельвинский, настойчиво «пробивавший» нашу подборку. Нас он называл «Могучей кучкой».
До начала войны оставалось чуть больше двух месяцев. В июне мы не встречались.
В первый день войны я мельком видел Мишу. Но это как в тумане. Больше не пришлось свидеться.
О жизни Миши до ухода в армию (кажется, это произошло в начале 1942 года) знаю отрывочно, с чужих слов.
Вскоре после начала войны из литинститутцев был сформирован истребительный батальон, полувоенное формирование, в задачу которого входило то ли поддерживать порядок в городе, то ли ловить шпионов, то ли охранять важные объекты (знаю, что дежурили ночью на главном телеграфе), то ли (уже осенью) бороться с прорвавшимися в город танками противника. Батальон был плохо обучен, вооружен лишь бутылками с горючей смесью и был обречен на гибель. Но после стабилизации фронта под Москвой был по чьему-то мудрому решению распущен и студенты возвращены на учебу. В Москве оставались лишь несколько литинститутских профессоров – Асмус, Радциг, Шамбинаго, – с грехом пополам начали занятия.
Зима надвинулась лютая и голодная. Кульчицкий с несколькими товарищами поселился в правом флигеле герценовского дома, в чьей-то профессорской квартире, оставленной владельцами. Раздобыли буржуйку. Топили книгами из хозяйской библиотеки, выбирая наименее ценные.
Анекдот из жизни Кульчицкого в ту пору рассказал мне Наровчатов после войны. Будто однажды Кульчицкий пришел к своей приятельнице Генриэтте Миловидовой и подарил ей шкурку азиатского тушканчика. Генриэтта, не привыкшая к подаркам, была растрогана и горда. И вскоре сделала из меха муфту. С этой муфтой она явилась на лекцию профессора Леонида Ивановича Тимофеева и выложила ее на стол, чтобы все могли полюбоваться ценной вещью.
Во время лекции Леонид Иванович Тимофеев, не отрываясь, смотрел на муфту. А в перерыве подозвал Генриэтту и спросил, что это за мех.
– Азиатский тушканчик, – гордо ответила девушка.
– Это мой кот, – горестно сказал профессор.
О гибели тимофеевского кота стало будто бы известно комсомольскому руководству. Один из членов бюро подошел к Кульчицкому, неожиданно уставил в него палец и спросил:
– Ты съел кота профессора Тимофеева?
И будто бы растерявшийся Кульчицкий ответил:
– Я. Но откуда это тебе известно?
Кульчицкого после этого происшествия будто бы отчислили из Литинститута с формулировкой «за безнравственное поведение». Я не стал бы рассказывать этой раблезианской легенды, если бы не узнал истории похожей, но совсем иначе повернутой.
О быте студентов страшной зимой 1941/42 года рассказал мне Борис Куняев, рижский поэт, живший в ту пору в одной комнате с Кульчицким.
Страшно было голодно. Полное безденежье. Редко везло на приработки. Как-то за плату рубили дрова у профессора Шамбинаго. Как-то повезло: доставили на санках водку из склада в магазин против Телеграфа. Получили бутылку и сменяли ее на хлеб. А еще был у Кульчицкого верный друг, Женя Ройтман, инвалид от рождения. Меняли на продукты барахло, оставленное в квартире эвакуированной родней Жени. Даже, говорят, протез его сменяли. Но это деталь уже недостоверная. И проверить не у кого. Слышал я, что Ройтман недавно умер.
А однажды Кульчицкий принес своим сожителям жирного зайца. Его сварили на буржуйке и наелись до отвала. Потом, правда, был слушок, что это был не заяц, а кот. Но проверять не хотелось, чтобы не портить блаженного воспоминания. История, как видите, печальная[18].
Не думаю, что из-за кота был скандал. Потому что о нем знал бы и не мог не запомнить рассказчик. Да и с формулировкой «за безнравственное поведение» едва ли можно было попасть в офицерское училище. Так что можно снять обвинение с кота за то, что Миша попал на фронт. Достоверно известно, что Михаил Кульчицкий ушел на фронт добровольцем.
Недавно в одном журнале появилась грязненькая статья о том, что «ифлийцы» пошли на войну не из патриотизма, не из любви к России, а ради абстрактной идеи завоевания мира и господства над ним. В числе прочих упоминается и Михаил Кульчицкий. Бумага все терпит. Мне нет нужды опровергать осквернителей могил, проливающих за родину не кровь, а чернила. Это было бы недостойно памяти погибших на войне и недавно ушедших друзей.
Поэма Михаила Кульчицкого «Самое такое», которая должна была называться «Россия» и названа так под давлением редакторов, начиналась строками:
Я очень сильно люблю Россию…И кончается мечтой о том,
чтоб, как в русские, в небеса французская девушка смотрела б спокойно…И хватит об этом!
…Во время войны о Мише я ничего не знал. А когда вернулся, услышал, что он погиб. Но где, когда и при каких обстоятельствах – неизвестно. В смерть Павла Когана поверилось сразу. А в смерть Миши верить не хотелось.
В мир иной отворились двери те, Где кончается слово «вперед», Умер Кульчицкий, а мне не верится, По-моему, пляшет он и поет, —писал Глазков в стихотворении «Памяти Миши Кульчицкого».
Ходил слух, что Кульчицкого везли мимо Москвы в арестантском вагоне, и он на Пресне выкинул записку, которую случайно нашел человек, его знавший. Ни записки, ни человека этого никто не видел.
Был еще один слух, распускаемый человеком, по мнению знавших его, недостойным доверия. Будто Кульчицкий попал в плен и жил в неком немецком городе у некой дамы, с которой распускатель слуха был знаком (и более чем знаком); будто у дамы сохранились стихи Кульчицкого, которые она по каким-то причинам не отдала своему знакомцу; будто при приближении советских войск Кульчицкий (по одному варианту) пошел на восток, им навстречу, или (по другой версии) на запад, ушел от наступающих войск. И запропал.
Ясно, что это выдумка, где концы не сходятся с концами. И об этом тоже хватит.
Михаил Кульчицкий погиб в Сталинграде. Дата его гибели засвидетельствована официальным документом, выданным его родным. Имя его высечено на граните в Пантеоне славы на Мамаевом кургане: «Мл. лейтенант Кульчицкий М. В.».
К сожалению, это так.
Гибель Михаила Кульчицкого – невосполнимая потеря для поэзии нашего поколения, для русской поэзии вообще…
Друг и соперник
Впервые я встретился с Борисом Слуцким в доме Ильи Лапшина, только что поступившего в Литинститут. Привел меня, кажется, Борис Смоленский, школьный товарищ хозяина. Это было весной 1939 года.
Воспоминания о Слуцком я уже один раз написал – еще при его жизни, в начале 70-х годов – и прочитал их ему.
Слушая, он сильно краснел, что было признаком волнения. Выслушав, сказал несколько коротких фраз.
– Ты написал некролог… В общем верно… Не знал, что оказывал на тебя такое влияние…
Больше к этому никогда не возвращались.
Воспоминания те я сейчас перечитал. Они несправедливы. Они писаны в раздражении. Думаю, что их можно дополнить, исправить…
Итак, у Ильи Лапшина я встретился со Слуцким. Он сразу произвел на меня большое впечатление.
Слуцкий занимался тогда инвентаризацией московской молодой поэзии. Ему нужно было знать всех, чтобы определить, кто лучше, кто хуже. Он искал единомышленников, а если удастся – последователей.
Мы вышли вместе из продымленной комнаты. Слуцкий был худощав и по-юношески прыщеват. Легко краснел. Голову носил высоко и как-то на отлете. Руки длинные торчали из заурядного пиджачка не первого года носки.
Он ходил, рассекая воздух.
Он не лез за словом в карман. У него была масса сведений. Он знал уйму дат и имен. Он знал всех политических деятелей мира. И мог назвать весь центральный комитет гондурасской компартии. Он знал наизусть массу стихов. Он понимал, что такое талант, и был выше зависти. Он умел отличать ум от глупости. Он умел разбираться в законах. Он умел различать добро и зло. Он был частью общества и государства. Он был блестящ. Он умел покорять и управлять. Он был человек невиданный.
Он действительно рассекал воздух.
Можно себе представить, с какой гордостью я шагал рядом с ним, обшагивая который раз клумбу в сквере бывшей Александровской площади, ныне площади Борьбы, радуясь невероятному открытию и ликуя, что наконец-то, наконец-то открылся тот, кто может превосходно мыслить и решать за меня, неведомо как одаренный ранней мудростью, давать оценку стихам и вести за руку куда угодно.
Слуцкий учинил мне допрос. Он всегда гордился умением учинять допросы. Через час он знал обо мне все.
Мы подружились быстро…
Приехал Кульчицкий. Слуцкий познакомил с ним нас, ифлийцев, – Павла Когана, Сергея Наровчатова и меня.
Кульчицкого он любил верно, нежно и восторженно. Ему отдавал пальму первенства. На него возлагал главные надежды. После гибели Кульчицкого постоянно тосковал о нем. Часто вспоминал. Испытывал чувство одиночества:
И я, как собака, вою Над мертвой твоей головою…Слуцкий сыграл главную роль в организации нашей компании, уже не внутриинститутской, а как бы всемосковской, ставшей чем-то вроде маленькой партии, впрочем, вполне ортодоксальной. Само наличие такой компании, где происходили откровенные разговоры о литературе и политике, разговоры по гамбургскому счету, разговоры, которые мы называли «откровенным марксизмом», могло в ту пору окончиться плохо. Но среди нас не было предателя…
Слуцкий жаждал деятельности. Он был прирожденный лидер. Тогда и долго еще потом был честолюбив. Лидером по натуре был и Павел.
Кульчицкий жил Франсуа Вийоном между щедрыми стихами и нищенскими пирами. Наровчатов был упоен обретением знаний, своей красотой, силой и звучащими в нем стихами. Львовский и я на лидерство не претендовали.
Впрочем, нетерпимость Павла в нашей компании амортизировалась. А Слуцкому даже он отдавал предпочтение в организационных делах…
Чего мы хотели?
Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение.
Трагические условия формирования этого поколения мы не понимали, не видели, что, отделенное от нас всего несколькими годами, оно еще не раскрылось. За Твардовским была одна «Муравия», за Смеляковым – «Любка Фейгельман». Симонов иногда нравился. Мартынов жил на отшибе, поэмы его иногда доходили до нас, но он не вписывался в поколение, не воспринимался нами в его контексте. Борис Корнилов и Павел Васильев были убиты. И они в поколение не вписывались. Тарковский, Петровых и Липкин не были известны. Оставались только те, кто «на плаву». Их-то мы и считали предыдущими.
Все они для нас были одним миром мазаны. Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой. Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе.
Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну.
В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:
– Я хочу писать для умных секретарей обкомов.
Идею слияния поэзии с властью не мы придумали. Она перешла к нам от старших. Такова была атмосфера, в которой мы росли, такова была традиция Маяковского, которому мы верили…
«Готовились в пророки товарищи мои», позже скажет тот же Слуцкий. Время было такое: верили в молитву и в разговор с земными богами.
Отношения поэзии с властью в России порой бывали интимными. Так было при Екатерине, когда поэзия была делом придворным; и при Александре, когда она стала делом светским.
Незадолго до нас литература была еще вхожа к власти.
Совсем недавно Сталин и члены Политбюро бывали у Горького и беседовали с основателем соцреализма и его соратниками.
О литературных делах…
Компания наша к осени собиралась регулярно. Читали стихи, часами спорили о литературе и политике.
Недавнее сближение с Германией рассматривали как тактическую необходимость. Войну с фашизмом считали близкой и неизбежной. Идея различия нравственных норм тактики и стратегии принималась всеми нами. В Слуцком она глубоко и надолго засела.
У меня он стал бывать часто. С порога заявлял:
– Есть пара любопытных фактов.
Излагал какую-нибудь политическую или литературную новость. Или про встречу с интересным человеком. Ценил знакомство с информированными людьми. Таких было несколько в Юридическом институте. Рассказывал интересно. Был весел, оживлен, энергичен. Острил.
Совсем не походил на сурового Слуцкого, образ которого сложился у тех, кто узнал его позднее.
Однажды пришел встревоженный.
– Белинков сказал, что я похож на раннего Сюпервьеля.
Такого поэта он не знал, что было ударом по его эрудиции.
Предприняли расследование. Выяснилось, что из Сюпервьеля на русский язык переведены два стихотворения в антологии Бенедикта Лившица. Выяснилось также, что Белинков французского не знает. Слуцкий успокоился. На Сюпервьеля он не был похож. К Белинкову с тех пор не относились всерьез.
Поделившись со мной «парой любопытных фактов», часто доставал с полки сборник стихов – «Тяжелую лиру» Ходасевича, «Версты» Цветаевой, Сельвинского или из классики – Пушкина, Баратынского, Некрасова. Выбирал стихотворение. Читал.
Стихи читал громко, раздельно, с характерным южнорусским «г». От него так и не отучился. Но с придыханием его чтение казалось еще убедительнее. Ему чужды были поэтические завывания и распевы. Читал убедительно, выделяя смысл, а не ритм, без захлеба, как бы несколько прозаизируя текст. Никто лучше него стихи Слуцкого прочитать не может.
Чаще, чем свои стихи, читал вслух чужие.
Ставил книгу на место. Говорил:
– Вот, пицик, как надо писать. («Пицик» было харьковское слово, означавшее нечто вроде «несмышленыш».)
Спрашивал строго:
– Есть новые стихи?
Их чаще всего у меня не было. Предлагал:
– Послушай стишок.
Требовал оценки. Стихи обычно мне нравились. А если делал замечание, он либо соглашался, либо говорил:
– Есть и другие мнения.
Спрашивал:
– На кого тянет?
Нужно было назвать поэта, на которого тянет. Если затруднялся, спрашивал конкретно:
– На Тихонова? На Сельвинского?
Он любил сравнивать, создавать шкалу успехов, точно определять место: кто входит в первую десятку современных поэтов? А вообще русских поэтов? А мировых? Эту особенность Слуцкого друзья называли субординационным мышлением.
Его систематический ум требовал постоянной систематизации. Но он понимал, что истинные поэтические ценности не поддаются классификации. Сам же он утверждал идеал поэта «самостоятельного», то есть вне систематизации, и ценил именно «непохожесть».
Однажды по его инициативе, собравшись вместе, провели голосование на тему: десять самых любимых поэтов. На первых местах оказались Маяковский и Пастернак. На последних – Рембо и Шекспир. Предложил тайное голосование – кто из нас шестерых какое занимает место. Дружно отказались.
Уже после войны рассуждал, какое бы кто получил звание, если бы в Союзе писателей ввели военные звания. Мне сказал:
– Больше чем на майора не потянешь.
Субординационная манера оценок породила ложное мнение о характере ума Слуцкого и его поэзии. Ум его считался рациональным, да и он сам и его стихи малоэмоциональными. Для человека, знавшего его так хорошо и так близко, как я, было очевидно, что это заблуждение. Слуцкий был чрезвычайно эмоционален, высоко одарен поэтически. Он просто до сих пор еще не прочитан, да и не полностью опубликован. Для знавших его лично его манера держаться и манера читать стихи порождали искаженное восприятие его личности и поэзии.
Слуцкий, как и многие поэты, создавал образ, нарочито лишенный всякой поэтической растрепанности. И немало потратил на это сил. В нем абсолютно не было актерства. Но всю жизнь он строил образ. И это давалось ему с трудом. Ему трудно было быть «в образе», но он никогда из него не выходил. Он стеснялся своей непосредственности и пытался рационализировать свой ум. Это удавалось ему только внешне. На самом деле даже его система субординаций была выражением конкретности поэтического мышления, той самой конкретности, которой он добивался в своих поэтических описаниях.
Несмотря на свой якобы систематический ум и рациональное строение, Слуцкий был типичным представителем довоенного вселенского утопизма. С верой в грядущую утопию связана одна особенность ума Слуцкого, ставившая в тупик близко его знавших.
Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немузыкальность, которую связывали с немузыкальностью поэзии Слуцкого.
На самом деле в этом проявлялись убежденность в осуществимости утопии и нежелание представлять себе будущее иначе.
Мне уже приходилось писать в связи с Велимиром Хлебниковым о том, что наличие социальной утопии – черта крупных писателей. Была эта утопия и в творчестве Маяковского.
Слуцкий – их верный ученик. А до времени – и продолжатель.
Он и стиху учился у левых поэтов 20-х годов. Будучи любителем систематизации, стих он искал без систем, вне традиционных ритмов, рифм и образов. Он хотел писать нетрадиционно. Он был сторонником стиха, который И. Шайтанов удачно назвал «одноразовым», то есть неповторимым. Воспроизвести вторично его нельзя, ибо сразу обнаружится эпигонство. Мне казалось, что в ту пору Слуцкий не отпускал стиха на волю, а постоянно производил над ним формальное усилие.
Однажды спросил:
– Не надоело тебе ломать строку о колено?
Ответил:
– А тебе не надоело не спотыкаться на гладком месте?
Он ценил содержательность стиха. Но еще отдельно и «левизну», новаторство формы. Этому вкусу он остался верен навсегда. Хотя вкус этот порой подводил его: нравилось иногда и малоталантливое. Ошибался в перспективах начинающих поэтов. Попытки эпатажа и формальное самоутверждение принимал за талант.
Своего он все же добился: стих его ни на чей не похож.
Слуцкий не всегда писал хорошо. Но читать его всегда интересно. Есть поэты, которые всегда хорошо пишут, а читать их скучно.
Трудно излагать настроения того времени. У каждого из нас они приняли разную окраску. А у меня, например, было немало ифлийской путаницы в мозгах.
Яснее и проще всех мыслил Слуцкий, и потому приняты за основу были его формулы, приправленные устремлениями Павла, поэзией Кульчицкого, безоблачной верой Наровчатова и моим недозрелым гегельянством.
Трудно писать про это, потому что тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось.
Но твердо могу сказать, что оно было честным мировоззрением и отнюдь не исчерпывалось идеей служения искусства власти.
Наше как бы согласие с властью не было полной гармонией. Мы требовали признания прав литературы откровенно говорить с народом. У нас было представление о гражданском назначении поэзии.
И ощущение эпохи у нас было. Тут уж я могу сказать, что оно компенсировало неполноту или неточность помыслов. Оно не было заблуждением.
Умники того времени гордятся тем, что уже тогда все понимали. А они не понимали одного и самого главного: что назначение нашего поколения – воевать и умирать за нашу действительность, что иного исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни. Потому голоса мудрых скептиков всегда звучали для меня, как карканье ворон над полем боя.
Мы тоже ощущали приближение войны и внутренне снаряжались для нее, потому и посейчас продолжается наш спор с всеведущими змиями довоенных времен, посейчас, когда как бы и нету предмета для спора и надо бы признать их правоту. Но дело в том, что важна не только истина, а и путь к ней. А пути у нас разные. В нашем довоенном мышлении и самоощущении если и было трагическое начало, то только объективно, как в каждом поколении, предназначенном для войны. На деле у нас не было чувства фатальной обреченности, мы были веселыми и здоровыми молодыми людьми. Но не пришлось еще прилагать наши схемы на практике.
И в первый же раз это оказалось сложным. В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас в смущение.
Это было в начале незнаменитой финской войны.
Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона. Почему не пошел Павел, человек, чья храбрость ярко проявилась в большой войне? Не пошел и Кульчицкий. Его военные письма тоже свидетельствуют о мужестве. О себе и Львовском не говорю. Я поздно созрел для войны. А он не созрел никогда.
Странным и сомнительным оказалось в ту пору поведение нашей поэтической компании. Героем был один Наровчатов. Значит, вера его была подлинная. И, может, раннее его восхождение и отсутствие сомнения и преобладание киплингианского порыва привели потом к более быстрому слому и выхолащиванию веры? Может быть, все это свидетельствует об изъяне нравственного чувства у Наровчатова?
Наверное, никто из нас не думал тогда о нравственном значении той малой войны. Не думал и Наровчатов. Не думал, но и не почувствовал, ибо только подспудным нравственным чувством, неосознанным и свербящим, объясняется нерешительность всех остальных в начале финской.
В ту зиму финской войны Слуцкий появлялся редко. Жестоко тосковал Павел. Это казалось угрызениями совести. В том, как ринулись на войну с Германией Павел и Слуцкий, было и некое чувство искупления.
После финской мы продолжали встречаться. Слуцкий познакомил меня с Петром Гореликом, лейтенантом, учившимся в военной академии, с той поры одним из ближайших моих друзей.
Были какие-то вечера, нас впервые напечатали в «Октябре». Но в компании наступил разброд. Какие-то личные сломы и катаклизмы. Со Слуцким было легче, чем с другими. Свои личные чувства он не любил выставлять напоказ. Только мучительно краснел от любви.
Я продолжал питаться его соображениями и формулами, как личинка муравьиным медом. Он меня выкармливал, а я ему подражал. И это надолго.
Я усвоил его отрывистую речь и так усовершенствовался, что многие думали, что я всегда так разговаривал. Изучил я и Борисову манеру острить. Некоторые остроты в духе Слуцкого мы и сейчас оспариваем друг у друга. В частности, остроту о Жуковке, приведенную в книге С. А. В любом случае, половина авторства – его. Это работа из мастерской Слуцкого…
…Началась война. Помню фразу Слуцкого: «Если кто-нибудь из нас погибнет, какую икону сотворят из него остальные». В этих словах – тяга познать будущее и обычное неумение предвидеть. Иконы из погибших создавали не друзья, не мы дорисовывали недорисованный портрет. Первый день войны я описал. Слуцкий вскоре ушел на фронт. Посылал короткие директивные открытки. Вскоре был ранен и сообщал не без шику: «Вырвало из плеча на две котлеты».
Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий – лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпиталя, снисходительный к моей штатской растерянности.
– Таким, как ты, на войне делать нечего, – решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашались воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.
Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября он был деятелен, увлечен, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию. Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала «Интернациональная литература». Пришел проститься.
– Ну, прощай, брат, – сказал он, похлопав меня по плечу. – Уезжай из Москвы поскорей.
Я малодушно всхлипнул. Слуцкий, слегка отворотясь лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице.
Всю войну мы изредка перебрасывались письмами. Вскоре после моей демобилизации мы увиделись – Слуцкий был в коротком отпуску, – но как-то несосредоточенно, и от встречи мало что у меня осталось. Он воротился в Москву в сентябре 1946 года блестящим майором. Похорошевший, возмужавший, с пшеничными усами, грудь в орденах, он в тот же день явился ко мне. Я был уже женат, и жили мы на улице Мархлевского, в центре города. Слуцкий был великолепен. Мы двое суток не могли наговориться. Он тогда замечательно рассказывал о войне, часть рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: «Женщины Европы», «Попы», «Евреи» и т. д.
Памятуя о военных записках, сказал ему:
– Будешь писать воспоминания? У тебя получается.
– Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов. Все, что надо, решил вложить в стихи.
Разговаривали мы всласть и в эти двое суток, и после много лет подряд…
На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. Надо было обсудить серьезные проблемы. Время не давало отдыха. Победа, как оказалось, была не только победой народа над врагом, победой советской власти над фашизмом, но и победой чего-то еще над довоенным советским идеализмом. Это чувствовалось в общественной атмосфере, в печати, в озадачивающих постановлениях ЦК.
Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. Мы пытались рассуждать как государственные люди. И понять суть происходящего.
Концепция Сергея была такова: постановление о ленинградцах – часть обширного идеологического поворота, который является следствием уже совершившегося послевоенного поворота в политике. Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. Складывается коалиция для будущей войны, где нам будут противостоять англичане и американцы. Отсюда резкое размежевание идеологий. Возможно восстановление коминтерновских лозунгов.
Литература отстала от политики. Постановление спасает ее от мещанской узости и провинциального прозябания…
Как видим, откровенный марксизм по-своему довольно толково оценивал ситуацию.
Нам не было особенно жаль ленинградцев, ибо мы считали их прошедшим днем литературы, а себя – сегодняшним и завтрашним. Мы не хотели сильно обижать Ахматову, Зощенко или Пастернака, но считали, что обижают их из тактических соображений. И гордились тем, что умеем четко отличать стратегию от тактики.
Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов.
Беда откровенного марксизма состояла в том, что он был явлением односторонним. Власть не признавала ни откровенности, ни марксизма. Тактика оказалась стратегией. И те, поруганные и ошельмованные, были за то и поруганы, что поняли раньше нас смысл стратегии. Опыт и талант придали им силы устоять, противостоять, остаться самими собой и приготовиться к следующей эпохе лучше, чем мы, потратившие столько сил в поисках откровенности и доброго смысла там, где была сплошная ложь и злонамеренность.
Ближайшие два года показали подлинный смысл государственной стратегии. Держава окончательно отливалась в азиатско-византийские формы. Требовались новые идеологии. Пресловутая борьба с космополитизмом была тридцать седьмым годом для ортодоксально марксистских идеологов довоенного типа. Из них уцелели только самые прожженные. Обнаружилось, что во время войны руками и кровью народа одержало победу бюрократическое государство, что незаметно новая государственная идеология подменила довоенную, что некий новый слой, выдвинутый к власти, воевавший за нее ради себя, нуждался в новой своей идеологии, которую для удобства именовал тоже марксизмом, марксизмом творческим.
Прежние идеологи действительно устарели, потеряли почву. Они стояли на почве «последнего», последний оказался предпоследним. Напрасно они доказывали ссылками и цитатами свою никому не нужную верность теории. Их изничтожали жестоко и грубо. И это даже нас коробило. Но Слуцкий все же со свойственной ему ясностью ума выстраивал новую концепцию.
С Петра I до наших дней происходит бурное развитие государственности и культуры России. Растет ее значение в исторической жизни человечества. Причины этого ее бурного развития лежат где-то в истоках русской истории, русского народного характера и государственности. В XIX веке Россия сравнялась с Европой. Белинскому, Герцену и Чернышевскому для осознания этого факта достаточно было проследить отечественную историю до Петра. Для них русская история начинается с Петра I.
Октябрь, революционное переустройство России и победа в последней войне как результат этих событий сделали Россию главной движущей силой истории и прогресса. Для объяснения факта выхода России в главные двигатели современной цивилизации требуются исследования более отдаленных истоков. Важное значение приобретает то, что игнорировалось прежде в истории духовной, общественной и государственной жизни России. Проследить это нужно до самых отдаленных времен.
С этой точки зрения живопись Рублева может быть важнее живописи Джотто. Преобразования Ивана Грозного значительнее кромвелевской революции. «Слово о полку Игореве» серьезнее песни о Роланде и нибелунгах. Нужно пересмотреть всю историю человечества с древнейших времен с позиций русской революции. Схема такова: Восток – античность – Византия – русское средневековье – Россия XVIII–XIX веков – русская революция.
Эта концепция была последним усилием откровенного марксизма. Он не выдержал ударов реальности, мерзких статей в газетах, распоясавшегося хамства и всего, чем богата была эпоха послевоенного переустройства жизни.
В середине 48-го года Наровчатов принес верстку своей первой книги «Костер», там были строки:
Быть на Одре славянским заставам, Воевать им славу мечом.Остатки довоенной поэтической компании окончательно распались. Только мы со Слуцким еще несколько лет держались вместе.
Слуцкий, вернувшись с войны, привез мало стихов. Но вскоре расписался и именно в ту пору создал лучшие, на мой взгляд, стихи. Они были в духе откровенного марксизма, но это не делало их печатными. Слуцкий ждал своего часа, но кривить душой не умел. В тех стихах перевешивала откровенность. Они были посвящены в основном войне, судьбе поколения. В них были острые сюжеты, ясные чувства, трагические ситуации, хлесткие формулы.
Война была временем сближения интеллигенции с народом, временем гармонического единства. Это чувство единения было одним из самых счастливых, было изживанием интеллигентских комплексов и ощущением собственной полноценности. Это чувство очень сильно в творчестве и сознании Слуцкого.
Глобалистские замыслы, идущие от идеологии 20-х годов, которые проявились в творчестве Когана и Кульчицкого, в общем были лишь идеальной абстракцией и так понимались самими молодыми поэтами. Во главе угла стоял реальный патриотизм, воспитанный в нас государством и временем. Он преобладал в нас и был реальным побудителем поступков. В Слуцком глобалистские идеи никогда не были сильны. Он был политическим реалистом и патриотом.
Я усердно пытался ему подражать, но во мне не было той органики и убежденности, марксизм мешал откровенности.
Мой поэтический дебют был во всех отношениях неудачен, от него стихов не осталось.
Слуцкий не был в восторге от своего верного последователя. Он всегда умно и откровенно высказывался о моих стихах. Отмечал хорошие строки, некоторую раскованность (теперь она мне кажется раздрызганностью), некий свой облик, но и замах на печатность, утрату независимости, которая была в довоенных «Мамонте» и «Софье Палеолог». Все это верно.
Некоторые из друзей объясняют неудачу моих громоздких и неоконченных поэм послевоенного времени пагубным влиянием Слуцкого, его диктатом и давлением. Действительное отношение Слуцкого к моим стихам опровергает этот взгляд.
Натужность, внутренняя неоткровенность моих стихов, их романтическое велеречие проистекали из страха, настолько вошедшего в плоть тогдашнего времени, что он становился формирующим началом духа, движущей силой фарисейства, обоснованием приятия действительности. Это был высший страх, почти страх божий. Он был настолько высший страх, что существовал отдельно от низшего – от страха расправы, который нарастал с каждым годом и сопровождал повсюду в часы бодрствования.
Страшные были годы, ни с чем не сравнимые.
Два молодых поэта, Слуцкий и я, оба – поэты, принимающие действительность, – мы каждый день могли ожидать ареста, а дальше – известно что – методы, «бессрочные» лагеря, погибель. За что, собственно? Только за то, что не умели мы пристроиться к действительности, печатать стихи, где-то числиться и служить. За то, что собирались кучками больше трех, разговаривали, общались, встречались.
Каково было Слуцкому, майору запаса, пенсионеру по военной инвалидности, кавалеру болгарского креста «За храбрость», члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу и отматываться от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему ночью прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице? Он, впрочем, был дисциплинирован, отучал и меня от болтовни, мало с кем разговаривал откровенно.
Я был ежедневным его собеседником.
Наши ровесники хорошо помнят спертую, накаленную атмосферу тех лет, нашу постоянную взвинченность.
Но вспоминается и другое. Был не только ужас, но и веселье. Ужас не разогнал нас по норам, а сблизил.
Слуцкий бывал во множестве компаний, его стихи нравились. А объяснения успокаивали. Он умел находить лазейки для надежды и видеть во всем некую целесообразность.
Подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал политические композиции типа «Народы мира славят вождя». Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой «Сталин с нами» Алекса Чачи.
На радио Слуцкий познакомился с Ю. Тимофеевым, заведовавшим тогда детским отделом, и стал бывать в его доме на Сытинском, где толклось всегда множество народу и куда можно было забрести в любой час до глубокой ночи. Как-то притащил с собой и меня. Тимофеев умел нравиться. Понравились и его гости: молодые литераторы, актеры, актрисы.
О тимофеевской компании скажу здесь только несколько слов. Кстати, впервые будущую жену Слуцкого я увидел у Тоома, куда Тимофеев привел ее в качестве своей невесты.
После женитьбы отношения Слуцкого с Тимофеевым прекратились. (Одна из причин.)
Слуцкий заставил меня читать стихи. Указывал, чтî надо читать. Первое выступление мое в этой компании прошло бледно. Я не знаю подлинной дружбы без спора, без «тягания». Почти до конца 40-х годов (до начала 50-х) я находился под сильным творческим влиянием Слуцкого. Стихи, которые ему не нравились, я считал неудачными. Но и те, которые нравились, внутренне меня не устраивали. Большую их часть я потом отбросил. Одним из толчков послужило неудачное чтение в тимофеевской компании, куда меня привел Слуцкий и где я читал стихи по его выбору. После «Чайной» я стал писать, как сам умел. Только постепенно мою новую линию признал Слуцкий. Однако с Тимофеевым мы вскоре подружились. Я начал часто бывать у него.
В тимофеевском кружке Слуцкий был пророком, первым поэтом, непререкаемым авторитетом.
Жизнь его тогда была кочевая. Любитель статистики, он уверял, что переменил 22 квартиры. Переезды бывали не сложны, и я в них всегда участвовал. Собирались в чемодан вещи, связывались в пачки книги. И на такси происходила передислокация.
Все свободные средства Борис тратил на книги. Он умел отыскивать у букинистов редкие книги по искусству 20-х годов, редкие поэтические сборники, вроде довоенного Хлебникова, имажинистов, Тихона Чурилина; покупал множество книг по новой и новейшей истории. Справедливо полагая, что нельзя объять необъятное, мы в шутку разделили области знания между собой. Борис взял новую историю и изобразительное искусство. Я – средневековье и музыку. Мы вполне доверяли друг другу составлять общие мнения по своим отраслям знаний.
Над своей немузыкальностью Борис посмеивался. Рассказывал, что в детстве насильно был отдан в музыкальную школу имени Бетховена, где был последним учеником, пока не уговорил поступить туда же своего кузена.
…Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и незрячие.
Мы со Слуцким сблизились и сдружились совершенно. Навсегда стали друзьями он и Ляля, моя жена. Кажется, многое в нем ей было понятней, чем во мне. Поссорились тогда лишь однажды, по пустяку. Я осмелился где-то назвать имя его любимой женщины, по правде и не подозревая о его чувствах. Недоразумение скоро разъяснилось.
Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежды. Опять-таки в шутку мы составили список 24-х его официальных невест. При всей внешней лихости с женщинами он был робок и греховодником так и не стал. Несмотря на все свои преимущества и на огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Непосягательство Слуцкого вызывало толки, нелестные для его мужества, исходившие, главным образом, от разочарованных невест. Объясняется оно, на мой взгляд, чрезвычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже понятием о нравственности, а отчасти тщеславной заботой о репутации лихого во всех делах майора, которая, вероятно, была бы поколеблена, если бы перед какой-либо особой женского пола вдруг открылась его юношеская робость, чистота и отсутствие мужского опыта. В каком-то смысле те годы были временем высших внутренних достижений Слуцкого. Отсутствие выходов вовне умеряло утилитарность его поэтических принципов. Поэт государственный по заданию, но не признанный государством, готовый служить, но не ставший прислуживать, он формировался поэтом гражданским в самом лучшем варианте этого понятия. Отсутствие форума придавало оттенок горечи тщеславию. Честолюбие было бескорыстным. Душа была свободна для доброты и участия, глубоко ему присущих и тогда ничем не подавляемых. Сама ортодоксальность была бескорыстным подвигом веры, спасавшим от озлобления, была явлением веры и надежды, которые источались на всех, кто его окружал. Мысль порой побеждала надежду и веру, уставая выстраивать домыслы, и приобретала грусть, которая переводит рассудок в план поэзии. Он писал:
Всем лозунгам я верил до конца И молчаливо следовал за ними, Как шли в огонь во Сына, во Отца, Во голубя Святого Духа имя.В 1951 году я спросил его:
– Ты любишь Сталина?
Помолчав, ответил:
– В общем, да. А ты?
– В общем, нет.
В общем. В частности мы были согласны. Целесообразность послевоенных мероприятий Сталина была нам непонятна. В 37-м году мы предполагали наличие непостижимой нам политической цели. Теперь, как ни крутили, – не выходило. Думаю, что сейчас, разбираясь в этом, мало учитывают один простой фактор: тяжелую старческую болезнь Сталина, усугубившую его природную подозрительность и жестокость.
Он сумел заразить всю страну. Мы жили манией преследования и манией величия.
Когда умер Сталин, Слуцкий находился в возбуждении. Своих коротких определений не выдавал. Зашел и убежал смотреть вождя в Колонном зале. Чуть его не раздавили на Трубной. Он должен был быть там, где творилась история, – при закрытии занавеса.
Вечером пришел усталый, угрюмый.
– Хуже не будет, – сказал я.
Согласился:
– Не будет.
Через немногие годы он стал автором известных по всему свету стихов «Бог» и «Хозяин». Где-то Евтушенко писал, что «Бог» и «Хозяин» были написаны при жизни Сталина. Написаны после смерти, но вскоре, еще до XX съезда. Там все глаголы в прошедшем времени. Про одно произведение кто-то сказал: «Там все глаголы врут». У Слуцкого все глаголы говорят правду.
Любовь к Сталину рухнула и в Слуцком. Но и от себя не освободился.
Он сказал мне по поводу каких-то моих стихов:
– Это стихи ученика, сбежавшего с уроков. Урок – наша литература.
Живя рядом, мы обучались каждый своим наукам. Я – сбегать с уроков. А Борис – сидеть в классе даже во время большой перемены. В этом – наше различие.
С первой большой переменой настал час Слуцкого, которого он так долго ждал. Он снова стал рассекать воздух.
Воздух был ему благоприятен. В нем носилось ожидание. В том числе и ожидание Слуцкого.
Проницательный Эренбург, приуготовляясь к новой службе, обозначил обнадеживающее веяние словом «оттепель». Оно было точным, потому и не понравилось наверху.
У нас эпитеты идут по курсу керенок – меньше, чем за «расцвет» или за «буйное цветение», ничего не купишь.
Эренбург не осторожничал, он свободно выразил упование. За оттепелью предполагалась весна.
Один из первых споров был у нас по поводу этой книги. Мне она не понравилась. Эренбург – старый метрдотель в правительственном ресторане – был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капель. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта.
Нравственные принципы, изложенные в поэзии Слуцкого, были ясны, просты и реалистичны. Он не призывал к немедленному, решительному пересмотру основ. И давал время на отдых. Эстетика Слуцкого как бы специально предназначена для решения подобной задачи. Он принципиальный последователь поэзии 20-х годов, ее лефовского, отчасти – конструктивистского направления. Басам той политической поэзии он хотел придать более мягкий баритональный оттенок.
Слуцкий никогда не менял веры, не менял идеала, не изменял ему. Политическую реальность он до какого-то времени считал очередным этапом на пути к осуществлению идеала. Он остро интересовался политикой именно поэтому и всегда искал в политической ситуации признаки продвижения к идеалу. С этой точки зрения он долго был оптимистом и ортодоксом. С этой точки зрения рассматривал и роль Сталина.
Он впоследствии разочаровался в политике и в реальности, убедившись, что они не приближаются, а удаляются от его идеи. Теперь уже его интересовала степень отдаления политики от идеала. Он записывал в стихах свои горькие наблюдения.
Он всегда старался определить свое место в поэзии, в обществе, в мире. Испробовал разные шкалы измерения: по официальному признаку, по славе. Во всем этом разочаровался. Стал судить себя по шкале истории. Трудно было с точками отсчета.
В стихах, как и в принципах его, всегда ощущается некое усилие. Иногда – и насилие над собой. Но усилию внутри стиха и внутри натуры противостоят поэзия и правда. Слуцкий не лжет, а верит и объясняет веру себе и другим. Но талант его выше веры, сильнее формул и насильственных метафор. Это проявляется очень рано и даже в самых декларативных стихах.
Расту из хребта, как вершина хребта. И выше вершин над землей вырастаю. И ниже меня остается крутая, Не взятая мною в бою высота.Эта «не взятая в бою высота» оказывается в конечном счете выше метафорических вершин. Правда невзятой Высоты всегда тайно присутствует в поэзии Слуцкого. Потому так точны и жгучи некоторые его формулы, формулы, где сентиментальность спрессована и отжата. Все многосопливые дольнички какой-нибудь Ю. Друниной не стоят двух строк Слуцкого о женской судьбе на войне:
Слишком тяжко даются вам войны. Лучше б дома сидели.Как щемяще верны эти строки – из лучших строк о войне!
Спрессованная сентиментальность вообще часто присутствует в стихах Слуцкого, та же самая, что и в день нашего расставания, когда он, похлопав меня по плечу, побежал вниз по лестнице. И эта сентиментальность, не показная, не распущенная, не любующаяся собой, украшает поэзию, приближает декларации к сердцу.
Не любовь, не гнев – главное поэтическое чувство Слуцкого. Он жалеет детей, лошадей, девушек, вдов, солдат, писарей, даже немца, пленного врага, ему жалко, хотя и принуждает себя не жалеть:
Мне что! Детей у немцев я крестил? От их потерь ни холодно, ни жарко! Мне всех – не жалко! Одного мне жалко, Того, что на гармошке вальс крутил.Жалко. «А все-таки мне жаль их». «Здесь рядом дети спят…» «А вдова Ковалева все помнит о нем». Пляшут вдовы: «их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького». Стихи, глубоко присущие Слуцкому. Талант, в сущности, состоит в свойстве выразить в искусстве свой характер. Зазор между характером и творчеством тем меньше, чем больше таланта. У Слуцкого этого зазора нет; его поэтика – это он сам.
В. Соколов говорит, что стихи Слуцкого – баллады, сперва романтические, потом без романтизма. Слуцкий любил сюжет. Но его стихи – не баллады, а отрывки из дневника. Он исповедуется и размышляет. В его стихах есть непосредственность юношеского дневника. Он исследует себя. В этом смысле надо понимать слова Слуцкого о том, что он не профессиональный поэт.
Профессиональным поэтом он считал Евтушенко. Тот мог загореться от внешней темы.
Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Волевое усилие формы для прикрытия содержания. Гипс на ране – вот поэтика Слуцкого. Перевес формы, и не только по вкусу, но и по натуре. Попытка прояснить содержание времени, текучего, непрояснившегося, непроявившегося четкостью гипсовой отливки…
Весь материал поэзии Слуцкого был шит по времени, по его росту и размеру. Слуцкий возликовал. Для того чтобы широко осуществиться, ему нужно было сделать одно усилие – порвать со средой, которая по интеллигентскому занудству и въедливости не умела быть счастливой и тут же начала ставить неудобный вопрос о личной ответственности; да и в надеждах была поумеренней.
Всякая среда консервативна, ибо должна сохранять себя как нечто сложившееся и усредненное целое. Среда неохотно отпускает своих завсегдатаев, а особенно кумиров. Она с трудом отпускает от себя человека. Любое новаторское действие требует разрыва, ухода из среды, освобождения от ее нравственных, политических или эстетических запретов. Я не знаю ни одной истории таланта, где бы не было выхода за рамки среды.
Среда мешала Слуцкому осуществиться. Друзья всегда восхищались им. Правда, как бы часто он ни создавал для других рабочие гипотезы и мнения, идеальным выразителем идей своей послевоенной среды Слуцкий быть не мог. Да и не хотел. Ему нужна была иная аудитория…
Он вновь стал деятелен и энергичен. Ввиду больших забот у меня стал бывать редко. Обнаруживал некую снисходительность. Подарил мне фотографию с надписью: «Побежденному ученику от победившего учителя»…
Для удобства Слуцкий тогда себе составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов – № 1; Слуцкий – № 2. В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов – явление поважнее и поэт поталантливее.
Субординация подвела. История с «Доктором Живаго» и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и от Мартынова ясного решения – встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власти и повредить ренессансу, либо защищать ренессанс.
После некоторого колебания Слуцкий и Мартынов публично осудили Пастернака. Мягче других, уклончивей, как тогда казалось, но осудили.
Свой ренессанс оказался ближе к телу. Но тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас.
Исай Кузнецов рассказывал, что в день собрания по поводу Пастернака Евтушенко разыскивал Слуцкого, чтобы удержать его от выступления. Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался.
После отвратительного собрания, где все это происходило, Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.
Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился.
Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко или Межирова, которые никогда не были выше него нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего поминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова?
Со Слуцкого спрос больший.
Евг. Бор. Пастернак сказал, что Борис Леонидович Слуцкого простил бы. Слуцкий не пошел к Пастернаку каяться. Сам себя судил.
Случай этот многому научил Слуцкого, в частности развенчал в его глазах давнюю и любимую мысль о стратегии и тактике. Нет никакой тактики в нравственных вопросах. Малым грехом великой справедливости не купишь.
Тактика отпущения грехов поколению закончилась тактикой продажи Пастернака. С этого момента пошел на убыль авторитет лидеров нью-ренессанса. На первый план литературного процесса выдвинулись другие фигуры.
Чтобы показать, каковы были наши с ним тогдашние споры, приведу письмо, написанное мной и адресованное ему, видимо, летом 1956 года. Разговаривать мы уже не могли. Слуцкий прочитал письмо, приехав ко мне на дачу в Мамонтовку. Сказал коротко:
– Ты для меня не идеолог.
…Прежде всего о тактике. Если тактикой называть стремление печататься, намерение издать книгу, звучать по радио или выглядывать из телевизора, стать в ряду «наших талантливых» или «наших уважаемых» – что ж, это естественное для поэта намерение, но никакой тактики во всем этом нет, как нет ее и в моей пассивности. Это естественное проявление поэта, который считает, что он готов к встрече с читателем. И это естественное проявление свойственно и Суркову, и Захарченко, и Долматовскому, можно сказать, что в этом у всех поэтов одна тактика.
«Смешное» в тебе именно и идет от попытки убедить себя и окружающих в том, что ты занят особой тактикой, то есть неким важным, существенным для общества делом, организацией литературной жизни. Однако покуда еще масштабы этого дела более чем скромные. Шуму подымать не стоит.
Твоя тактика исходит из тезиса о том, что за последние два-три года в литературе произошли серьезные, коренные, существенные изменения, позволяющие говорить даже о некоем ренессансе, новом периоде нашей литературы, новой ее общественной функции.
Ты вписываешь в актив книгу стихов Мартынова, несколько стихов Заболоцкого, поэму Смелякова, кое-что из Твардовского, конечно, стихи Слуцкого и особенно – готовящийся сборник московских поэтов.
Даже Володя Огнев постесняется называть это ренессансом. Пока это еще слабые проблески поэзии, довольно мирной, довольно законопослушной, просто более талантливой, чем поэзия предыдущего периода. И оттого, может быть, более опасной. По сути же, она еще поэзия предыдущего периода, периода духовного плена, ибо самое существенное, что в ней есть, – это робкая попытка сказать правду о том, что уже миновало. Причем эта правда по своей остроте далеко отстоит от той доли правды, которая была высказана «сверху» о нашей политической и общественной жизни предыдущего периода.
Большего в литературе не произошло. По-прежнему она плетется в хвосте событий.
То, что Ян Котт называет «мифологией», не рухнуло, не отошло в область предания, наоборот, мифология окрепла, поумнела, перекрасилась.
И объективно твоя тактика – это камуфлирование нового мифа, поддержка мифологии, подкрашивание ее под правду и телячий восторг по этому поводу.
Да, определенная доля правды сказана о нашей жизни, о нашей морали, о нашей экономике, о нашем правосудии. Сказана отнюдь не поэзией. Где в твоем «ренессансе» попытка разбить старые догмы, хотя бы литературные?
Правда о нашем обществе сказана по необходимости. В период «культа» жизнью страны управлял чиновник, обезличенный культом, исполнитель, отвыкший думать и решать что-либо. «Культ» снимал с него всякую моральную ответственность. И это его устраивало. Он работал на «культ», «культ» работал на него, предоставив ему целый ряд общественных и экономических привилегий. Этими привилегиями пользовался и литературный чиновник. И он работал на «культ», пользуясь привилегиями чиновника и сняв с себя моральную ответственность за свое творчество.
Осиротевший чиновник начал бороться с культом. Начал бороться не потому, что ему нравится литературная тактика Слуцкого. Борясь с культом, он борется за себя в новых условиях. И тоже называет это тактикой и даже стратегией.
А дело в том, что уже не культ, а именно он, чиновник, реально управляет государством, что государство досталось в наследство ему, и он как подлинный хозяин должен сделать опись всему, что досталось ему от культа. Когда ждешь наследства, можно преувеличивать его ценность. Когда оно тебе достается, ты узнаешь его реальную стоимость. Чиновник произвел инвентаризацию. Хозяин узнал правду о своем хозяйстве. Узнал, что оно не в блестящем состоянии. Узнал ту правду, которую способен постичь и которая необходима для дальнейшего хозяйствования. Раздавать свое имущество бедным, в том числе и бедным поэтам, он не собирается. Он считает, что реальное положение дел ему известно, и не намерен вести хозяйство каким-нибудь принципиально новым способом. Он полагает, что полезно ругнуть старого хозяина, чтобы подчеркнуть достоинства нового.
Он ведь более не живет за спиной культа, ему нужен здравый смысл, практическая сметка, некое пробуждение разума.
Он критикует не только культ. Он готов критиковать и своего тупого, не применившегося к новым обстоятельствам собрата. Он вырабатывает свой идеал умного, толкового, правдивого чиновника, верного долгу, закону и так далее.
В нем самом происходят изменения, как в приказчике, ставшем компаньоном хозяина. Вот это произошло. Это действительно произошло.
Произошло и другое. Он перехитрил литературу, дозволив небольшую правду себе (по необходимости), он дозволил кое-что и поэзии. Старой мифологии не хватало «чувства», «сентиментальности», «человечности», «уюта». А чиновник – тот же мещанин. Поэтому, восторженно преклоняясь перед аляповатым величием, он в основе своей любит нечто более домашнее, сантиментальное, красивенькое.
Новый чиновник хочет, чтобы литератор стал новым, он готов дать литератору кое-какие права, соответственно своим новым потребностям.
Поэт имеет право на творческое своеобразие в той же мере, в какой, после отмены ведомственного мундира, чиновник имеет право на костюм любого покроя (не слишком экстравагантный, впрочем). Поэт имеет право на человеческие чувства, поскольку новому сантиментальному чиновнику вменяется в обязанность их иметь. Поэт имеет право размахивать кулаками после драки, поскольку драка закончилась в пользу нового чиновника.
Вот покуда и все. Таковы объективные условия «ренессанса». Сводятся они к тому, что несколько расширились рамки печатности. Ряд новых или старых поэтов получили право жительства. Но право жительства не отменяет черты оседлости. Право жительства еще не демократия. Право жительства каждого поэта в литературе есть его нормальное, естественное право.
В литературе создана обстановка, благоприятная для создания нового камуфлированного сантиментального мифа.
Может быть, поэзия воспользовалась этой обстановкой для чего-то большего?
Пока незаметно. Поэзия показала, что она эти годы все же существовала, текла где-то подземным ручейком, не исчезла вовсе. Но она еще поэзия «старая». Старые стихи публикуют и Заболоцкий, и Пастернак, и Мартынов, старые стихи шести– или десятилетней давности печатают многие из молодых. А новое, что написано уже сейчас, в пору ренессанса, для приспособления к нему, оказывается хуже, мельче, пассивнее старых стихов. Так и у тебя.
Всего этого для ренессанса маловато.
Идеи, которые можно извлечь из поэзии последнего времени, немногочисленны и неопределенны.
Во-первых, – это признание правильности происходящего. Некоторое недовольство темпами, как сам ты говоришь. Хотелось бы скорей, но можно и так. Разногласия с умным чиновником касаются частного вопроса о скорости, а не главного – о направлении.
Вот тут-то и спотыкается «новый ренессанс», тут он не идет дальше «умного чиновника». Он, по существу, крепко держится за этого чиновника, ибо так же боится демократизации, свободы мнений, свободы печати. Он опасается, что реакционные тенденции в обществе сильнее демократических. Он за постепенное административное изменение основ. Он за административный ренессанс.
Во-вторых, – «новый ренессанс» хочет правды о человеке. Правды, не пугающей администратора, правды в административных рамках. А эта правда и есть сантиментальный миф.
Сантиментальный миф – это новый Симонов. Это миф о добрых намерениях умного чиновника. Мечта об административном рае.
Кстати, это твоя давняя мечта – писать для умных секретарей обкомов. Это – одна из твоих военных тем: умный политработник, нач. отдела кадров. Отчасти, это тема твоих военных записок – толковый образованный офицер, организующий правительства и партии в освобожденных странах.
Не продолжай этой темы – она опорочила себя.
О «новом ренессансе» говорить можно очень много. Думаю, что и сказанного достаточно, чтоб понять, что речь идет не о новых явлениях, а о новых именах и отдельных публикациях.
Стоит подумать о «честном Растиньяке».
Честного и бесчестного Растиньяка объединяет одно – инстинктивный восторг перед официальной иерархией и стремление занять в ней место. «Честным Растиньяком» был Симонов. «Честным Растиньяком» пытался быть покойный Гудзенко, с его «критерием печатного станка». И Сашка Межиров с его «хочу писать про то же, но лучше». Из всего этого не получится ни ренессанс, ни «поэзия поколения».
Та же опасность грозит и тебе. Это видно вовсе не из твоей тактики, которая вовсе не тактика, а желание печатать стихи. Это видно из стратегии, из того, что ты пишешь, говоришь и думаешь последнее время.
А это – разговор особый.
Этим письмом завершились наши серьезные разговоры со Слуцким… Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг друга. Наблюдая друг друга, думали про себя: это мне не подходит, это подходит.
Тот же Кузнецов вспоминает, что на дне рождения у Вероники Тушновой своя компания поддевала Слуцкого, особенно отличался я, называя его на вы и «Борисы Абрамовичи».
Не к этому ли относится фраза Слуцкого:
– Никто не доводил меня до такой ярости, как ты.
Таня усвоила со мной обычную для нашего общения с Борисом иронию. Это не было уместно. В ее тоне не было ласковой доброты, которой всегда отличалась его ирония по отношению к близким друзьям. Мы ему отвечали тем же. Ей ответить было невозможно. Может быть, ее тон означал, что я – человек из прошлого общения, а не из настоящего и будущего. Возможно. Ибо круг общения Слуцкого менялся.
Прервалась дружба с Мартыновым.
Однажды спросил у него:
– Как Леонид Николаевич?
Ответил сухо:
– Я его не вижу.
После опалы Эренбурга Мартынов перестал к нему ходить. Не это ли причина разрыва с Мартыновым?
С начала 60-х годов Слуцкий заметно переменился. У него отпало честолюбие. Перестал ездить за границу. Наверное, мог бы, если бы захотел. Перестал встречаться с зарубежными деятелями и литературоведами, знакомством с которыми до этого гордился. Отпала его энергия общения и любопытство к разным сборищам. Редко и только по крайней необходимости выступал, избегая «модных вечеров». Никогда не устраивал персональных вечеров. Никогда не занимался «пробиванием» книг. Так и умер, не издав давно положенного ему однотомника.
Близкого общения его тех лет не знаю. В начале 60-х продолжал дружить с Межелайтисом. Ценил его ум и талант. Несколько лет жил на даче рядом с Окуджавой. Жена его дружила с семьей Евтушенко. Кажется, она стремилась к «светскому» общению.
Круг общения был узок. Высоко ценил Трифонова как умного собеседника. Трифонов был один из тех, с кем встречался регулярно.
Много уделял времени молодым. Старался помочь им, учил их. Даже однажды, помню, поехал в Софрино на семинар молодых. Вел семинар совместно с Окуджавой. К ним валили молодые с других семинаров. Выделил двух-трех по степени «левизны». Ошибся. Это с ним нередко бывало.
Говорили о суде над Бродским. Я спрашивал, почему никто из имеющих вес писателей, кроме Маршака и Чуковского, за него не вступился. Сказал:
– Таких, как он, много.
Тогда судил не по той шкале.
После отъезда Бродского говорили о нем, сравнивая его почему-то с Горбаневской (видимо, пытались определить, как его примут на Западе). Сказал:
– По погонам она намного выше.
Диссидентов Слуцкий сторонился. Они шумно разрушали его мир. Он предпочитал это делать сам. К тому же, по привычке не хотел, видимо, привлекать внимания органов.
Помню – петушком налетал на него Якобсон у нас на даче. Слуцкий сердился. Скоро уехал.
В начале 60-х годов мы виделись крайне редко. А одно время даже были в ссоре. Потом встретились, кажется, на вечере памяти Цветаевой и буквально бросились друг к другу. Снова стали встречаться, хотя и не так часто. Однако всегда дружественно и приятно. В 63-м году прогнозы Слуцкого были мрачные. Перспективы хрущевской оттепели исчерпывались. Но какое-то время в Слуцком еще оставался рефлекс деятельности.
Когда умер Иванов, Слуцкий сказал:
– Старики умирают, потеряв надежду.
С Ахматовой встречался. И она отзывалась о нем с неизменным уважением, хотя несколько отстраненно. Они не могли сойтись, и знакомство расстроилось по какому-то пустяку. Будто бы Слуцкий где-то, говоря о тиражах поэтических книг, заметил, что Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике.
Один из ахматовских пажей, склонных к сплетням, передал эту фразу в искаженном смысле. На что Ахматова гордо сказала:
– Я никогда не возила сама своих тиражей.
Конечно, не это была подлинная причина их охлаждения.
После смерти и похорон Хикмета приехали к Слуцкому. Говорили о наследстве Хикмета. Слуцкий предлагал посмертные гонорары отдавать тем, кому посвящены стихи. Симонов посмеялся: тогда, мол, за стихи, посвященные Серовой, должна получать она.
Мы как бы друг от друга отвыкали, а может быть, и отдыхали, уже в другом качестве – не ежедневного общения.
На одном из первых моих вечеров в ЦДЛ произнес очень теплое запоминающееся вступительное слово. В 76-м тоже в ЦДРИ.
Через год он заболел.
Часто говорят о причинах болезни Слуцкого. Говорят, что это болезнь совести после пастернаковской истории. Другие – смерть Тани.
На самом деле причин было много. Во-первых, дурная наследственность. Мать Слуцкого страдала тяжелым склерозом.
Сам рассказывал. Ее привезли в Москву. Слуцкий снял ей дачу на Николиной горе. Однажды, прогуливая мать, встретил Людмилу Ильиничну Толстую, вдову Алексея Николаевича. Поздоровались. Поговорили. Когда расстались, мама сказала:
– А Софья Андреевна еще совсем неплохо выглядит.
Главной болезни Слуцкого способствовали побочные. Осколок в спине, причинявший ему боли. Простуда лобных пазух, полученная на войне, в результате которой была тяжелая операция (шрамик между лбом и носом) и тяжелейшая многолетняя бессонница. Слуцкий не спал годами. Рано выезжал в Коктебель. Купался в ледяной воде. Немного помогало.
А главная причина ускорившейся болезни – постоянное напряжение. Он напрягался всю жизнь. К докторам ходил редко – за снотворным. О болезнях не говорил. На вопрос о самочувствии коротко отвечал: «Плохо».
Несколько лет тяжело болела Таня. Однажды сказал:
– В семье должен быть один больной человек. – Этим больным была Таня.
Смерть жены тяжело на нем сказалась. Он был глубоко к ней привязан. Не из-за комфорта, ухода и прочего. Этого в доме не было, хоть и был достаток. Он просто ее любил.
В ответ на его обычное:
– Ну как твои романы и адюльтеры? – спросил однажды:
– А у тебя есть романы и адюльтеры?
Ответил: «Есть!». Однако развивать эту тему не стал. Может, и были, но он твердо и преданно любил Таню. Их отношений я не знаю. Однажды неожиданно сказал:
– Я сказал Таньке: изменишь – прогоню.
Что-то, может быть, и было. Не знаю.
Во время последней болезни сказал мне:
– После смерти Таньки я написал двести стихотворений и сошел с ума.
Это последнее напряжение окончательно сломило его здоровье.
Он не сошел с ума. Он не был лишенным ума. Ум остался. Была тяжелая душевная болезнь. Вот и гадай теперь, где помещается душа.
В характере его, как это и положено по классической схеме болезни, происходили заметные изменения. Например, он стал тревожиться о своем финансовом будущем, бояться бедности. Это ему не грозило, но он постоянно при посещениях говорил об этом. Это была не скупость, а еще более обострившееся чувство независимости, боязни за независимость.
Когда мы с женой впервые пришли к нему в Первую Градскую, он категорически отказался принять принесенные нами соки, фрукты, что-то еще. Так и заставил унести все обратно. Это тоже казалось ему посягательством на независимость.
Но в целом многие черты его личности остались нетронутыми. Он изображал себя более больным умственно, чем был на самом деле.
Так же внимательно, как и всегда, наблюдал за окружающими. Немало историй рассказывал о больных, лежавших с ним в клиниках. Например, об одном склеротическом генерале, который воображал себя маршалом.
Расспрашивал всегда обо всех знакомых, о событиях в литературном мире, о политических событиях. Утверждал, что не читает, но на самом деле читал, конечно, не так много, как прежде.
Когда он находился уже в Туле у брата, спросил его по телефону:
– Послать тебе новую мою книжку?
– Не посылай. Я ничего не читаю.
Я, однако, послал. Сказал мне по телефону:
– Прочитал. Это лучшая твоя книжка.
С болезнью Слуцкого окончился наш спор. Остались любовь, жалость, сочувствие.
Никого не хотел видеть. Однажды сказал:
– Хочу видеть только Горелика и Самойлова.
В мастерской стиха
До войны мы учились у поэтов 20-х годов – у Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Асеева, Тихонова, Сельвинского, Багрицкого.
От них усвоили стремление писать стихи, повторить форму которых либо невозможно, либо не имеет смысла. Вроде асеевских «Синих гусар» или «Черного принца». Мы искали уникальные формы, и на поиски уходило много сил. Оттого, вероятно, писали реже, чем пишут сейчас.
Позже, когда хорошо были прочитаны Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Ходасевич, поздние Пастернак и Заболоцкий, Твардовский, выяснилось, что традиционные «квадратики» могут вмещать стихи гениальные и не мешать раскрытию творческой индивидуальности.
Некоторые из нас – Луконин, Слуцкий – до конца остались верны системе «одноразового стиха».
Тогда мы искали учителя по своему довоенному вкусу. Именно поэтому молодые ифлийские стихотворцы осенью 1938 года пришли к Сельвинскому. Он принял нас ласково, выслушал стихи. Троих – Когана, Наровчатова и меня – признал поэтами и взял в ученики.
Я уже описывал восторженное состояние, в котором находились мы трое, выйдя в ночной Лаврушинский после «рукоположения в поэты».
По приглашению Ильи Львовича стали мы посещать семинар молодых поэтов при тогдашнем Гослите. Там постепенно собрались чуть не все литературные абитуриенты Москвы. Их было много – человек двадцать пять. Тогда еще повальная жажда стихописания не овладела массами.
Илья Львович был среднего роста, широкоплечий, с темными, слегка волнистыми волосами. Часто ходил в брюках гольф. Поперечные складки на лбу и грозные очки придавали его лицу вид суровости. Но это впечатление мгновенно рассеивалось, когда Сельвинский смеялся или улыбался своей добродушной улыбкой.
Он умел и гневаться, главным образом на своих литературных противников, но их козням мог противопоставить только этот благородный гнев.
Сельвинский был в расцвете молодости, сил, мастерства. Нам он казался человеком пожилым, а ему было всего сорок лет. В наше время сорокалетние литераторы числят себя в молодых и не стыдятся щеголять в коротких штанишках.
Кроме огромного поэтического таланта у него был еще явный талант педагога, внутренняя необходимость общаться с учениками, учить, передавать опыт.
Сам еще молодой, но давно прославленный поэт, он отдавал нам много времени и сил, воспитывал, учил, затевал споры, хвалил и разделывал по заслугам. Приучал нас в поэзии к гамбургскому счету. Мы ему верили и во многом обязаны. Он обладал замечательным чутьем и пониманием таланта. Все, кого отличал, стали поэтами.
Тому поколению поэтов вообще было свойственно иметь учеников. Многие из них всегда находились в окружении молодежи, дорожили мнением молодых и учили, но не поучали. Каждый по-своему – в кабинетных беседах, в прогулках, на семинарах Литинститута, даже в застольях. Мы дорожили личным, бытовым общением с мастерами, где крупицы опыта доставались нам порой как бы походя, но где учились мы и «образу поэта» – широте, открытости, способу проявления эмоций, обращению с людьми, щедрости, некоторой даже театральности, ибо поэт – это всегда в той или иной мере театр одного актера. Испытывая себя в этом театре, Тихонов, Луговской, Асеев, Антокольский были каждый по-своему артистичны, свойство, кажется, утрачиваемое. Отношения учителя с учеником часто перерастали в дружбу, редко в приятельство.
Жаль, что у нас нет обычая, как у музыкантов, называть прославленных поэтов «мастер». На этом легче было бы устанавливать отношения. Например, подойти к Тарковскому и сказать: «Здравствуйте, мастер». А мы часто тычем, кому и как попало.
Сельвинский мечтал о Мастерской стиха. Это ему в большой мере удалось осуществить в Гослитовском семинаре, а позже, руководя поэтическим семинаром, в Литинституте.
Илья Львович сам был выдающийся мастер стиха и считал, что мастерство, понимавшееся им широко, – необходимое свойство настоящего поэта.
Талант и мастерство не одно и то же, но поэт, не умеющий справиться с рифмой, ритмом, строфикой, метафорой, эпитетом, грамматикой и прочими, как бы привходящими факторами стиха, всегда и недоталант. «Локальный метод» конструктивизма как организующее начало стиха, в той умеренной дозе, которую предлагал нам Сельвинский, сыграл положительную роль в наращивании нашего поэтического умения. Мы учились бережно относиться к стиху. Стихотворная небрежность (это нечто другое, чем небрежность поэтическая) снижает силу воздействия стиха. Стих надо держать крепко, не то он вырвется из рук и плюхнется, как мокрая рыба.
Сельвинский учил нас на живых стихах, написанных нами. Часто цитировал мастеров. Он не задавал нам упражнений, вроде задания написать сонет на такую-то тему. Он считал, что наращивание мышц должно происходить в работе, а не от физзарядки. Мастерство должно войти в моторику и не мешать при создании стихотворения. Сам он уже к тому времени переболел экспериментальностью и предписаниями школ 20-х годов. Он в полной мере пользовался плодами своего интенсивного прохождения программы конструктивистской школы, которую сам для себя в большой степени и выработал.
То, чему учил нас Илья Львович, можно прочитать в его книге «Студия стиха». Книга эта может много дать начинающим литераторам, да и всем, кто интересуется механикой стиха.
Удивляют своей щедростью, внимательностью, затратой времени, ума и знаний письма Сельвинского молодым поэтам, его тщательные разборы произведений, часто довольно несовершенных.
С той же самоотдачей разговаривал он с нами.
Семинар собирался раза два в месяц в одной из редакционных комнат на Большом Черкасском. Обычно заранее раздавали участникам стихи того, кого должны были разбирать. Кто-то выступал в качестве референта.
Организацией каждой встречи занималась бессменная поэтесса Руфь Тамарина. Про нее, кажется, Кульчицкий сочинил:
Как любила Русь татарина, Так любила Руфь Тамарина.Испытуемый читал стихи. Потом начинался разгром. Разбирали стихи придирчиво и пристрастно.
Павел Коган умел бескорыстно восхититься удачными строками и с беспощадностью, горячо и красноречиво, в пыль стереть все чуждое, неприемлемое и бездарное. Кульчицкий убивал дурной стих иронической фразой. Четко, с железной логикой и всегда интересно выступал Слуцкий, он часто разил юмором. Вообще, юмора у всех хватало. Увлеченно выступал Наровчатов, умевший воспарить от предмета в высшие сферы. Тонко и остроумно анализировал стихи Львовский.
Испытуемый защищался. Некоторые брали его сторону. Тяжелое было испытание. И тот, кто его не выдерживал, больше на семинаре не появлялся.
Илью Львовича увлекала наша горячность. Он слушал выступления с удовольствием. В мнениях самых отрицательных, в высказываниях самых резких не было ничего оскорбительного, никаких придирок по мелочам. Было страстное желание постичь суть поэзии и ее механику. Обижаться не было принято.
Атмосферу высокой требовательности друг к другу создал Сельвинский. Он отдыхал в ней. Он сам заражался нашим азартом. Умело направлял дискуссию. Часто смеялся, улыбался удачным остротам. У него была чудесная, добрая улыбка, мгновенно преображавшая серьезное, суровое его лицо. Заключая дискуссию, он подводил итог, стараясь быть объективным. Оценки его были строги и доброжелательны. Он бережно относился к своим ученикам, умел быть взыскательным, никогда нас не обижая. Но сам он был человек страстный и пристрастный, и клокотавшие в нем бури сочувствия или неприятия, конечно, были различимы под «умиряющим елеем педагогики».
Гослитовский семинар просуществовал с осени 1939-го до самой войны. Месяца за три до ее начала Сельвинский опубликовал первую нашу подборку стихов в журнале «Октябрь».
Разговаривали в издательстве об издании альманаха молодых. Война порушила наши планы.
Общение с Сельвинским еще более приблизило к нам его поэзию, которой мы и до этого были восторженные почитатели. Особенно способствовало тому чтение Сельвинского. В его исполнении (произнесении) каждое стихотворение было гениальным.
У него был роскошный низкий голос. Голос грудной, диапазона от баритона до баса. Интонации его описать невозможно. В чтении его было любование ритмом, рифмой, словом, паузой, взлетом строфы, падением фразы. Это любование передавалось слушателям. Он читал без обычных поэтических завываний, с естественностью речи и со свободой дыхания. Естественность и свобода захватывали, одухотворяли слова, обогащали их значения. Он был симфоничен, полифоничен. Стихи прочитанные и услышанные порой отличались, как нотные палочки от пения. Он мыслил стихами, произнесенными вслух, как композитор музыкой. Чтение его было моноспектаклем высокого артистизма.
У него учились мы поэтическому чтению, устному контакту с читателем. И многие научились.
Лучше него никто не читал в то время. Он один из тех, кто создал традицию русского поэтического чтения, которым славится русская поэзия, а многие литературы не знают вовсе.
Сельвинский учил нас высоким образцам поэзии. Да и сам знал, с кем соизмеряться – с Пастернаком и с Маяковским.
С Пастернаком можно было соизмеряться только на почве поэзии, даже споря о понимании гражданского долга.
С Маяковским дело было сложнее. Спор шел о лучшем исполнении социального заказа. И не без перехлестов, скажем прямо.
В пору нашего знакомства Маяковский был уже канонизирован Главным Читателем страны и началось его медленное школьное сжевывание. Сельвинскому хотелось на манер канонизированного Маяковского выполнять прямой заказ Главного Читателя, быть как бы его конфидентом. Тот, вероятно, Сельвинского читал и даже ценил. Илья Львович не без гордости рассказывал, что Главный Читатель в 37-м году Пастернака и его трогать не велел. Но рупором и конфидентом вряд ли кто мог стать, не угадать было причудливого хода его мыслей и тайных замыслов. Да Сельвинского постоянно заносило. Заносило в сторону поэзии. Его эпические замыслы как-то все не прилаживались к Главному Читателю, к его неуловимому мнению.
«Апокрифы в евангелье хотят», – не без ехидства писал тогда Слуцкий.
Часть III
Странное чувство свободы
Война, которую мы ожидали и о которой сочиняли стихи, началась неожиданно.
Об этом после писали генералы и генштабисты, и люди, близко стоявшие к власти. Неожиданным показалось ее начало не только потому, что в возможность дурного не хочется верить, – начало войны было неожиданным особенно потому, что нация решительно не была подготовлена к такому началу войны.
Предвоенная пропаганда – книги, песни, кино – все, что годами въедалось в сознание, – разрабатывала лишь вариант наступления и победы: на чужой территории, малой кровью. И если можно понять причины военной и экономической неподготовленности к войне, если можно понять страх Сталина, если можно объяснить причины его политики 1939–1941 годов, то уж ничем нельзя объяснить и простить ему, более всех понимавшему неизбежность войны, то, что нация была морально не подготовлена к самозащите. И эта неподготовленность играла не последнюю роль в военном поражении лета и осени 1941 года.
В первые дни войны во главе государства оказался трусливый деспот. И я верю тем, кто писал о сумеречном состоянии его души: тревожно звенела пробка о графин, захлебываясь, булькала вода, когда человек, не пожалевший миллионов своих подданных, вдруг воззвал к «братьям и сестрам», к «друзьям» – он, не признававший ни родства, ни дружбы, – с мольбой о самоотверженности, когда почувствовал, что опасность грозит его шкуре.
Если бы можно было позлорадствовать, то это был момент самого глубокого унижения Сталина. И это публичное унижение он не простил народу.
Осенью и летом 1941 года Сталина спас идеализм русской нации, инстинктом постигшей, что ей грозит позор и разор.
Солдаты сорок первого года, спасая Родину, спасали Сталина. И он отомстил им за это спасение, объявив предателями тех, кто был предан и отдан в пленение, кто не пустил последнюю пулю в висок, кто скитался по лесам и топям Белоруссии и уходил в партизаны.
Он, не решившийся пустить в себя пулю в дни своего позора и унижения, погнал в лагеря и долго расправлялся с теми, кто уцелел, спасая его.
Создатель догматического учения, сам он не был догматиком. И потому обратился к русскому патриотическому сознанию: к чему и к кому еще он мог обратиться – к деревне, помнившей 30-е годы, к людям гражданской войны, уничтоженным в 37-м?
В конце 1941 года он почувствовал мощь нации, несломленность ее духа, взбодрился, собрался и стал приписывать себе победы, и снова стал несгибаем, велик, тверд, напряг волю и сделался хозяином положения – Верховный Главнокомандующий, Генералиссимус всех войск.
– Ему больше всего нравилось быть военным, – как-то сказала мне его дочь.
Он обращался к «внукам Суворова» и «детям Чапаева», к русской военной традиции. Приобщаясь к военной славе, он хотел быть русским генералом, Иваном Виссарионовичем, и пил за русский народ в день Победы, одновременно карая его и заискивая перед ним.
Как наивны наши славные генералы (и как предусмотрительны бесславные!), приписывая организацию победы Сталину.
Военную победу над Гитлером мог бы одержать и Жуков.
Люди одного варианта, мы не думаем о том, что могли бы победить без Сталина, может быть, меньшей кровью, с лучшим устройством послевоенной Европы. Капитуляция перед союзниками нам не грозила.
…Где-то я читал, что день 22-го июня был пасмурным. У меня в памяти солнечное утро.
Я готовлюсь к очередному экзамену за третий курс. Как обычно, в половине десятого приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла в Японии и США, а ныне и сам посол.
Это спокойный, дружелюбный и замкнутый юноша. Немного растягивая гласные на английский манер, он говорит:
– Началась война.
Включаем радио. Играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны и не умели разгадывать ситуацию по музыкальным жанрам.
Война? Может быть, просто наши войска вступили куда-нибудь, как в Западную Украину, Бессарабию и Прибалтику? Недавно было успокаивающее разъяснение ТАСС. Стоит ли беспокоиться?
Решаем заниматься. И Олег соглашается. Он спокоен, как обычно.
Однако занятия все же не ладятся. Я понимаю, что, если не сообщу о войне Слуцкому, он мне этого никогда не простит. Такая информация может посрамить известную в Юридическом институте пару: Горбаткина и Айзенштата – основателей агентства «Айзенштат-пресс энд Горбаткин-пост», самых осведомленных людей в Москве.
Через полчаса я стучусь в знакомую комнату в общежитии Юридического на Козицком, где прежде, говорят, был публичный дом, а сейчас Институт истории искусств.
Слуцкий и его сожители жуют бутерброды, толсто намазанные красной икрой. Кто-то из студентов получил посылку из дома.
– Война началась, – говорю я спокойно.
– Да брось ты, – отвечают юристы.
Я присоединился к ним, не стараясь переубедить. На всякий случай включили громкоговоритель.
Когда мы доедали посылку, объявили о выступлении Молотова.
– Сопляк, – с досадой сказал мне Слуцкий. Он никому не успел сообщить о начале войны…
Москва была неузнаваема, когда мы вышли на улицу Горького после известной речи. Народ куда-то спешил встревоженно и понуро.
Не зная, что делать, я купил цветы и отправился к Л., с которой до войны был в ссоре. Все, что произошло вчера, принадлежало уже другой эпохе: «до войны». Солдату полагалась невеста, которая провожает его на войну, которой он почему-то дарит на прощание пику и саблю («Подари мне, сокол…»), а та машет ему вслед «синим платочком»…
Дней через десять я был под Вязьмой, неподалеку от станции Издешково. И то, что началось таинственно и возбуждающе – ночным звонком из райкома комсомола, – оказалось строительством укрепленного рубежа: противотанковых рвов, эскарпов и контрэскарпов. «Синий платочек» – Л. тоже была рядом. В нашем же отряде находилась и вторая моя любовь – В.
К счастью, у меня открылась малярия – через день трепала лихорадка с сорокаградусной температурой. Я ослабел и не имел энергии выяснять отношения. Годен я был лишь на то, чтобы в свободные от лихорадки дни ездить на базу за продуктами для отряда. Я запрягал старую кобылу, имени которой не знал, и возил хлеб, масло и крупу, иногда подвергаясь пулеметному обстрелу немецкого самолета, стрелявшего лениво и неприцельно.
Почему-то было решено, что в женской роте, размещавшейся в большом сенном сарае, мне болеть лучше, и я, переселившись в этот сарай из мужского, дрожал ослабевшим телом и горел, лежа между Л. и В. Таким образом замысловатый треугольник превратился в три параллельные линии. И я не знал толком, кого люблю.
Московская обувь очень быстро распалась. И я купил в Издешково сапоги, которые прослужили мне до вступления в армию. С тех пор я полюбил эту настоящую мужскую обувь.
Стояло прекрасное лето. И часто после работы мы с Л. уходили в чистое поле, поскольку все же невеста была она, и лежали во ржи. Однажды нас чуть не убил немецкий стрелок с бреющего полета.
Ночью небо гудело миллионнократно усиленным шмелиным гулом – немцы летели бомбить Москву.
Как-то в конце светлого солнечного сентября нас повели в Вязьму, посадили в вагоны и отправили в столицу. Много позже я узнал, что немцы обошли наши оборонительные линии и, если бы не распорядительность какого-то начальства, мы бы оказались в окружении и в плену.
В Вязьме мы встретились с ополчением – плохо одетым и обученным войском, состоявшим из московских интеллигентов и мальчишек.
А может быть, это произошло в начале октября. Время текло быстро и дни сливались с днями.
В Москве находился Павел Коган, сухой, загоревший, с трудом добравшийся из Закавказья, где работал в геологической экспедиции. Он проживал тогда на улице Пушкина (Б. Дмитровке) у литинститутки Нины Бать. Вместе мы пошли на улицу Мархлевского, где в здании школы записывали в училище военных переводчиков. Первый вопрос был – знаете ли немецкий. Павел быстро сказал: «Да». Я замялся, потому что немецкий знал плохо. Меня не взяли. Павел вскоре уехал в училище переводчиков, наскоро приказав мне на фронт не идти, а описывать подвиги друзей и вообще историю поколения.
В эти начальные дни солнечного и пустого октября 1941 года я и попытался написать нечто о поколении – безуспешная попытка, а может быть, самое начальное состояние этой моей всегда писавшейся книги.
Пришел и ушел Слуцкий.
Марк Бершадский и Женя Астерман, сказавшись отсутствующими в городе, когда нас призвали строить укрепления перед Вязьмой, уже были в военном училище на станции Подсолнечной. Вскоре им предстояло погибнуть.
Солнечный этот октябрь был пуст. По радио играла музыка. Я почему-то переводил «Пьяный корабль» Рембо – первый мой перевод.
Теперь, пожалуй, можно себе представить, почему в каком-то смутном порыве я обратился к строкам «Пьяного корабля» и ощутил потребность вновь пережить его и переложить по-своему. Меня влекло ощущение внутренней свободы среди разбушевавшихся стихий, бесстрашие и обреченность, воплощенные в образе летящего по бурным волнам корабля. И чувство огромности и небывалости происходящего. И чувство неприкаянности.
16 октября, в день паники, когда прошел слух о немецком десанте в Волоколамске, Москва казалась малонаселенной, и, собственно, паники не было, не было панического шума и топота толпы.
Отец вернулся из Института, откуда уже сбежало начальство, увезя с собой кассу с зарплатой.
В ИФЛИ, переселившемся на Пироговскую, тоже никого не было. В канцелярии валялись на полу бумаги и документы, маленькая записка предлагала студентам своими средствами добираться до Ташкента.
Город был просторный и оставленный. Было странное чувство свободы, неизвестности, страха, пустоты и отсутствия власти.
Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Квартиру не заперли.
В подъезде стоял сосед Мухин.
– Ай да Гитлер! Ай да молодец! – сказал он гнусавым голосом хулигана.
Тут же терся жуликоватый управдом.
Вместе они отправились грабить нашу квартиру.
Битком набитый трамвай медленно плелся через весь город к Речному вокзалу. Неожиданно он был остановлен милицейским свистком. Какой-то гражданин вскочил на ходу на площадку прицепа. Милиционер снял его и потребовал уплатить штраф.
Этот эпизод чем-то был утешителен. Впоследствии я сам наблюдал и много слышал об автономной инерции в действиях должностных лиц и учреждений, временно лишенных руководства. Эта черта свидетельствовала о прочности строя и его отдельных звеньев. О крепости круговой поруки низового аппарата, выявлению которой много способствовала политика гитлеризма.
В способности сопротивления, в проявлении прочности и самосуществования изолированных частей государственного организма были, конечно, и национальный подтекст, национальная традиция. Но наличие национального начала здесь тесно слилось с началами строя. Одного национального не хватало, как, например, у французов.
Является ли национальная стойкость исторической и исключительной чертой русской нации? В известной мере – да. Но среде власти выгодно затушевывать социальный подтекст русского сопротивления в силу инстинкта самосохранения, выработавшегося у русской власти со времен татарщины. Когда ей грозит внешняя опасность – власть обращается к нации.
В начале войны выявилось, что у нас не столько крепкая власть, сколько прочный строй.
Именно это обстоятельство, может быть, впервые так сильно проявившееся, было причиной известного «тягания» власти со строем. Недаром был отвергнут первый вариант «Молодой гвардии» Фадеева – романа, доказывавшего несокрушимость строя, его ячеистую прочность и самовозгорающуюся инициативу. Власть на высшем гребне своей мощи желала приписать себе даже заслуги строя, впервые обнаруживая в этом известную червоточинку. Послесталинское развитие страны показало, что строй у нас сильней и прочней власти.
Это не означает, конечно, что уже сейчас можно говорить о серьезных противоречиях строя и власти. Еще не достигли антагонизма социальные подосновы того и другого. Однако черты расхождения, искусственно сдерживаемого, будут обостряться с каждым поколением, и все это приведет в конце концов к необходимости компромисса между властью и строем или крушению основ власти…
…Прогулочный пароходик, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала и, наконец, отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тетка; Л. с отцом и мачехой; и наконец, В. с теткой и другом детства Женей – вероятно, по тем же причинам, что и я, решившим не расставаться с рабочей гипотезой невесты.
Говорили, что немцы подходят к Рязани, и пароходик наш осторожно плыл ночью без огней. От молодости и тревоги не спалось. Мы с В. стояли на палубе, опершись о фальшборт, и, касаясь друг друга плечом, молчали, может быть, об одном и том же.
Настоящая картина бегства предстала в Горьком. На берегу толпились тысячи беженцев. Раздавали круглые белые хлебы.
Едва приставали волжские суда, как к непрочным трапам кидались ошалевшие толпы и, толкаясь и роняя в воду мешки, баулы и чемоданы, с муравьиным упорством лезли на палубу, забивали каюты, трюмы, салоны, утеснялись – с ором, с матом, с воплями, с детским плачем; и еще лезли, и еще утрамбовывались, пока не снимались сходни и не отчаливал пароход, – и тогда орали с палубы на пристань и с пристани на палубу разлученные, потерявшие друг друга жены, бабки, дети. И уже внутри парохода продолжались сутолока и утрясение, и поиски уборной, и поиски воды, и плач разлученных, и смерть стариков и детей, и поиски врача, и устройство, и протягивание ног, и подстраивание тюка под голову, и временная благость покоя, и знакомство с соседями, и оборонительные союзы, и внезапные и ожесточенные ссоры, и острая ненависть, и хватание за грудки.
И тяжелый горестный запах бегства, и вонь гальюна, и медленное прохождение волжских берегов мимо парохода. И опять чья-то смерть в трюме, и ночное причитание женщины. И раздача чаю, и запасливое чавканье. Все это затихало к середине ночи.
На одном из таких пароходов мы прибыли в Куйбышев. И там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли нервной горячкой.
Л. и В. направились дальше в Самарканд. Я же остался болеть у родственников, еще до войны проживавших в этом городе.
Недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше – в Самарканд, вслед за Л.
Родители уговаривали остаться в Куйбышеве, где можно было рассчитывать на родственную помощь. Но какая-то потребность довести до конца раз принятое решение была сильней всех разумных доводов. И мы тронулись в путь в огромном эшелоне эвакуированных, в той же тесноте и ожесточении бегства, через сухие верблюжьи степи, на Ташкент.
Не буду описывать эту дорогу, ибо по свойству памяти быстро утрачиваю детали и храню лишь общее впечатление, общую картину, суммированное состояние. Состояние это было – тревога, неопределенность, затерянность в огромной России и странное чувство свободы.
И при том, что перед глазами все время мелькали люди, лица, а в ушах не смолкали шум, гомон и ругань, было ощущение бесконечного одиночества России, звук которого я узнал потом, во второй части Десятой симфонии Шостаковича.
В Ташкенте не задерживались. Там находился папин институт, но я настаивал на продолжении пути.
Неожиданно встретил Исаака Крамова. Он спрыгнул с трамвая, увидев меня. Поделились новостями – кто, где?
Ехать! Ехать! Неизвестное мне дотоле стремление. Сам не знаю, почему Самарканд представал необходимой целью.
На станцию Самарканд прибыли рано утром. У меня был адрес В. Я надеялся увидеть ее, но она в те дни отсутствовала в городе. Я мог узнать только, где проживает Л. Встреча была холодная. Л., отведя меня в уголок азиатского дворика, сказала, что в эти тяжелые дни каждый должен заботиться о себе и своих близких… а я, дескать, мало приспособлен к жизни… а у них (сам видел) – тесно… и так далее.
Стоило тащиться три тысячи километров, чтобы все это выслушать.
Я коротко простился и ушел.
Странно, что рядом с чувством растерянности и обиды я испытал нечто похожее на облегчение. С этого чувства началось мое выздоровление и становление в Самарканде.
Родителям я лаконично сообщил, что у Л. остановиться нельзя.
Помню длинную, километров в пять, улицу, от вокзала до Старого города, по которой мама, папа и я следовали за ишаком и арбой, где размещался наш скарб. В этом шествии было что-то похоронное и пародийное одновременно; но я по пути выздоравливал и сам удивлялся быстрому вытеснению печали впечатлениями невиданного азиатского города. Попытались устроиться в гостинице. Это было невозможно. Потолкались по городу в поисках жилья. И к ночи оказались под открытым небом у Регистана, где расположились спать на садовой скамейке. Регистан. Крупные звезды. Азия.
Подошел милиционер. Сказал, что здесь грабят. В случае чего велел орать.
Наутро мы отправились по эфемерному адресу двоюродной тетки общих знакомых. Это была последняя зацепка.
Двоюродная тетка оказалась скверной старухой, но все же приютила нас на несколько дней. Вскоре отец поступил на работу в больницу. Удалось снять комнату, было голодно, но можно жить.
Полгода жизни в Самарканде оказались для меня большим везением.
Вся моя жизнь – сплошное везение. Хотя удач было не так много. Но различая везение и удачу, я всегда более ценил везение, как нечто законно принадлежащее моему характеру, и гораздо менее уважал удачу – нечто внешнее по отношению к везенью.
Удачливость может быть ничем не оплачена внутренне. Она – легкомысленная и пустая случайность, выигрыш на лотерейный билет. Достоевский, к примеру, не был удачлив, он всегда проигрывал, когда играл.
А я никогда игроком не был.
Я вручал свою судьбу везению. И оно никогда меня не обманывало.
В этом Самарканде, в Новом городе, похожем на колониальный городок, где нет достопримечательностей, а просто правильные улицы и мелкие, похожие друг на друга дома и низкие дувалы, – и все же черты Азии: Ургутский базар, и все же – от Родниковой улицы открывающийся вид Агалыкских гор, и все же – арыки и огромные тутовые деревья. В этом Самарканде мое везение позволило мне выздороветь и приготовиться к войне.
В вечернем Пединституте, куда я поступил, было бы совсем скучно, если бы не доцент Бабушкин, читавший курс русской литературы XIX века.
Для него я писал курсовую работу о Толстом, о «Войне и мире», работу, которая была важна мне как способ выздоровления и становления. Суть ее и идея были в том, что я (а может быть, и кто-нибудь и до меня) усматривал – глазами Толстого – схему социализма, социального равенства в структуре народной войны. Мысль эта не так уж и глупа, если предполагать, что сюжет Каратаев – Безухов так же важен для Толстого, как и сюжет Безухов – Болконский – Наташа. Но не в этом было тогда дело. Литературный юноша искал подтверждения собственному состоянию не в жизни, которой не знал, а в литературе, которая давала надежные опоры духу. Речь шла (и я глубоко это понимал) об избавлении от интеллигентской идеи исключительности, то есть о преобладании обязанностей над правами. Для меня необходимо было выздороветь от этой идеи, невольно поселенной во мне, невольно внушенной средой, воспитанием, школой, ифлийской элитарностью, надеждой на талант и особое предназначение.
Важной (и тогда не осознанной) опорой здесь был мой отец, с его удивительным отсутствием идеи личной избранности, с его наивным и доподлинным демократизмом, то есть гуманизмом, то есть истинным признанием прав любого человека на то, на что претендуешь сам.
И конечно, я отдаю должное тогдашней чистоте своего ума и ясности чувств, тогдашней способности выздоравливать и становиться.
Желание стать солдатом, стать как все, надеть шинель и подвергнуться всему, чему должен подвергнуться солдат, и именно в этом риске, страхе и смерти обрести свое лицо и индивидуальность – добровольно утратить лицо и усилием воли, веры и долга обрести его в новом качестве – вот о чем я думал тогда, вот что постепенно обретал в своем выздоровлении и становлении.
В этом было везение моего одиночества, в этом внутренний смысл самаркандской зимы и весны.
В Самарканде холодов почти не бывает. Раза три в январе выпадал снег и тут же таял. А в феврале началась весна, в отдалении зазеленели нежные Агалыкские горы, одарявшие Родниковую улицу почти бесплотной высотой.
Увлеченный течением мыслей, я утром стоял в очереди за пайковым хлебом – это были соленые, серые, удивительно вкусные лепешки. А день уж не помню как проходил – в молчаливом чтении, в радостном накоплении сил, в разговоре через дувал с соседом Димой ради созерцания его прекрасной жены.
Каждый день на пороге я находил цветы в стеклянной баночке, раздражавшие мое воображение. А вечером шел на лекции в Пединститут. И меня нагоняли торопливые шаги соседки-однокурсницы Ларисы Лукиной. Однажды, желая покрасоваться, я рассказал ей о цветах.
– Какая-то дура каждый день мне приносит цветы.
– Эта дура я, – сказала Лариса.
В Самарканде часто попадались москвичи. Осенью приходил художник Тышлер с женой. Завелись и новые знакомства.
По соседству жил старик Феоктистов, сибирский писатель, с дочерьми, милыми увядающими девицами Юлей и Галей. Юля – актриса московского кукольного театра.
Феоктистов – собакообразный старик, ходил по городу с палкой, грозно лез без очереди, ругался, грозился, всегда что-то доставал. По вечерам пил у нас чай с кишмишем. Говорил, отдуваясь:
– Волка ноги кормят.
Приходил еще тихий чахоточный еврейский поэт из Западной Белоруссии – Моргентой. Мама, знакомя его, представляла:
– Поэт Моргентау.
Встречал я несколько раз старуху Надежду Павлович, сокрушавшуюся, что сын Блока (Сашка Нелле) поступил в военное училище, тогда как отец завещал ему быть человеком мира.
Сравнительно размеренная жизнь вдруг резко нарушилась болезнью отца. Он слег в сыпняке.
Никогда не забуду тоскливые дни перед кризисом, ежедневный путь в больницу с тревожной надеждой, что он жив. Кризис, однако, миновал благополучно, и я на радостях перемахнул больничную стену и, отыскав отцовскую палату, заглянул в открытое окно. Было, видимо, уже начало мая. До сегодня помню изможденное лицо, потусторонние глаза отца. Таким он порой является мне во сне и в стихах:
Отец босой стоял передо мною.В дни отцовского выздоровления неожиданно пришла В. Я не видел ее всю зиму и поразился расцвету ее красоты, неравномерно выцветшим прядям волос и, главное, нежному доверию ко мне. Это был единственный осуществившийся день наших неосуществившихся отношений.
Мы шли по длинной улице по направлению к вокзалу под руку и почти молча. И я чувствовал себя свежим, подтянутым, счастливым и даже ловко одетым – в издешковских сапогах, в довоенном пиджачке «от Журкевича». Из-за госпитального забора на нас глазели раненые, и никто не отпустил вслед похабного слова, ибо мы были убедительно молоды, хороши и счастливы. В. назавтра отбывала в экспедицию. Мы простились, веря, что не навсегда.
Пора было ехать и мне. В те же дни военкомат предложил студентам нашего института поступить в офицерское училище. Я не раздумывая написал заявление.
Отец вернулся из больницы за несколько дней до моего отъезда в армию.
Я простился с родителями у порога. Люблю уезжать один – без томления последних минут провожанья. Лариса Лукина догнала меня на улице и довела до ворот военкомата.
Во дворе военкомата все новобранцы пили из горлышек водку, обнимали невест. Плакали матери, кто-то пытался петь.
Прислонясь спиною к забору, одиноко сидел на земле старшина из раненых. Я подсел к нему. Меня тоже никто не провожал.
Я предложил ему водки, и мы распили бутылку «Горного дубняка». Старшину звали Сердюк. Я попал в команду, в которой он был старшим. К вечеру мы двинулись на вокзал.
По дороге я заскочил к Л. Она удивилась, но собралась меня провожать.
Стемнело. Мы сидели с ней в вокзальном скверике. Она молчала, а я плакал под влиянием грусти и «Горного дубняка», плакал долго и подробно, как Весли Джексон – про то и про это. Завидую страницам Сарояна, где описан плач Весли Джексона.
Итак, был вокзал, заплечный мешок и невеста – «синий платочек». Все как положено у отправляющегося на войну…
Впрочем, в тот вечер мы не уехали. Еще ночь я провел у родителей, считая это возвращение добрым знаком.
Серый
Ночью мы кое-как затолкались в поезд, и через некоторое время наша команда во главе со старшиной Сердюком высадилась в Катта-Кургане.
Катта-Курганское училище называлось Гомельским военно-пехотным. Готовило оно младших офицеров для войны где-нибудь в пустынях Ближнего Востока. Попал же я через несколько месяцев на самый мокрый фронт – Волховский, в горнострелковую бригаду, однако сидевшую по горло в воде.
Именно с тех пор я на практике начал изучение вопроса о несоответствии названия и содержания. Кажущийся необычайно простым, этот вопрос является глубокой и важной проблемой. В сущности, качество ума обнаруживается в умении преодолеть несоответствие между названием и содержанием и раз и навсегда определить, что не в названии дело, и выработать нечто вроде здорового скептицизма по отношению к названиям. Мы так часто путаем название с сутью, что боремся не против сути, а против названия или ожесточенно защищаем название, а не суть. Это черта идеологического общества.
По житейской неопытности и отсутствию солдатского образования я на первых порах полагал, что Гомельско-Азиатское училище является образцовым совпадением идеи военного обучения с наименованием.
В училище я прибыл, видимо, в начале июня.
Устройство квадратного плаца, твердого, как страусиная пятка, обстроенного с двух сторон глинобитными сараями – бывшими конюшнями кавалерийского полка – и огороженного глиняным дувалом, соответствовало моему представлению об архитектуре колониального военного поста с гарнизоном турков или сипаев.
Нечто колониальное было и в нашем не виданном до этого желтом обмундировании, за которое окрестные жители нас прозывали «румынцы».
В роте, куда я был зачислен, старшиной стал тот же Сердюк. Он был зверь и прирожденный мерзавец.
В тогдашнем моем благостном и завершенном состоянии, которое я внутренне трактовал как «эстетическое состояние личности», правильно предположив или вычитав у Гегеля, что оно есть высшая ступень «этического состояния», – в этом моем туманном и идеальном восчувствовании долга голым стержнем и совершенно не к месту торчала острая ненависть к старшине Сердюку, первая моя персонифицированная ненависть.
Я и сейчас, обломавшись изрядно на понимании и прощении, чувствую порой шевеление ярости и желание мести, когда вспоминаю круглорожего с выпученными глазами Сердюка. И сладостно пригвождаю его к позорному столбу, хотя бы к воображаемому и воздвигнутому лишь на страницах моих памятных записок.
Позор Сердюку!
Я, может быть, многое бы простил Сердюку, если бы он издевался только надо мной. Он мучил всю роту. Например, в жаркий, невыносимо душный и пыльный день, когда мы, по его мнению, недостаточно лихо пели «Броня крепка», он командовал: «Газы!», а потом: «Бегом!» – и мы, обливаясь потом и задыхаясь в резиновой вони противогаза, хрипевшего и блеявшего своими клапанами, похожие на каких-то фантастических слоно-овец, с пулеметами на плечах (станок – 32 кг, тело – 20, щит – 14) бежали, спотыкаясь, по глиняной дороге далеко в степь.
Конечно, я должен был вызывать особую ярость Сердюка всем своим отрешенно-покорным обликом и особым неумением что-либо мотать или заправлять.
Однажды после подъема, сыгранного горнистом («Вставайте, вставайте, вставайте, ночь прошла, тари-рара-тара!»), Сердюк оставил меня в расположении и, содрав одеяло с койки, скомандовал: «Отбой!». Я разделся и лег. По команде «Подъем!» я проворно оделся и заправил койку. Снова Сердюк сорвал одеяло и прокричал «Отбой!». И так пять раз.
На шестой я не выполнил команды и только тихо произнес: «Я не лягу». Сердюк радостно зарычал (за неподчинение команде полагалось минимум десять суток строгой гауптвахты) и помчался к командиру роты.
Через две минуты я стоял перед очами старшего лейтенанта Яблонского, юноши нервного и дергавшегося лицом и плечом в результате контузии.
Лейтенант перечислил мне параграфы устава и статьи закона, злонамеренно нарушенные, объяснил, что предаст меня суду военного трибунала, и наконец строго спросил, на каком основании я не выполняю приказания вышестоящего командира.
– Это не приказание, а посягательство на человеческое достоинство, – ответил я тонким голосом, готовый на муки и на смерть.
Лейтенант пригляделся ко мне.
– Человеческое?.. – переспросил он с любопытством. – Как ты сказал?
– Достоинство, – повторил я.
– Ладно, идите, – сказал Яблонский после некоторого раздумья. – И чтобы это больше не повторялось.
Ликуя, я сделал сносный поворот и «отход» от начальства. И ушел.
…Степь под Катта-Курганом покрыта светло-зелеными пыльными колючками. В июне они зацветают редкими маленькими цветами, похожими на капельки крови. По этой степи мы ползаем с утра до обеда и с обеда до вечера, изучая тактику и все прочее, нужное для войны. Руки и колени в занозах. Гимнастерки и брюки в дырах. Потом это надо все залатывать и очищать от едкой пыли, отмывать соль, коркой засохшую на лопатках.
Дико хочется пить. Но лишь однажды до обеда разрешается прополоскать рот тепловатой водой из фляжки. Не стерпишь, выпьешь – гауптвахта.
Вернувшись на обед, мы все, едва распустят строй, кидаемся в душевые и в полном обмундировании стоим под струями, задрав головы и разинув рты, жадно глотаем воду, пахнущую затхлостью и хлором.
К обеду мы успеваем обсохнуть. И, наскоро набившись обжигающей бараниной с рисом, выслушиваем в строю бесконечные наставления, почти засыпая стоя и с отчаянием понимая, что безвозвратно теряются минуты послеобеденного сна и что их остается всего пятнадцать, и что все равно нам придется раздеться и лечь на койку и тут же вскочить, как из нокаута, и, торопясь одеваться, заправлять постели. И вновь шагать в степь с лихой песней «Краснармеец был герой».
Из-за дурной воды в сочетании с жирной едой большинство из нас маялось животами.
Фрукты нам покупать запрещалось. Это приравнивалось к членовредительству. Но мы все же пробирались к пролому в стене, где был тайный базар, и потом, забившись в солдатский гальюн, жадно поедали виноград, давясь и захлебываясь соком.
Вставали мы в шесть утра. Отбой был в одиннадцать вечера. Добравшись до коек, мы засыпали свинцовым сном. Но едва успевали заснуть, трубач трубил тревогу. Дневальный кричал: «В ружье!», и мы бежали на ночную поверку. И выстраивались на плацу при свете прожекторов. И шел мимо строя начальник училища полковник Барсов, зверь немыслимый, невиданный и фантастический, стократно увеличенный Сердюк, не Сердюк уже, а Левиафан, лица которого я не запомнил, хотя и видел его перед строем ночью много раз.
В ту пору я так был измаян жарой, усталостью, недосыпом, желудочной хворью, что даже неспособен был к дружбе. Друзей не искал. Как-то на плацу, бегом направляясь в гальюн, встретил Арсения Гулыгу, философа. Поздоровались вяло. И разбежались.
Проведать меня из Самарканда приехал отец. Часа на два дали увольнительную. Мы шли по городу, и я старался козырять встречным сержантам.
– Ты совсем еще серый, – жалостливо сказал папа.
Через несколько дней нас, не доучив на лейтенантов, рядовыми послали на фронт.
Эти первые мои военные месяцы я прожил как бы двойным существованием. Внешняя моя оболочка была неказистой и жалкой – я был худ и желт. Порою приступы странной болезни сваливали меня с температурой сорок. И тогда разрешалось не ходить на занятия, а валяться где-нибудь в пыльной тени у забора. Жар внутренний соединялся с внешним. Я спал и бредил.
Но бред мой был высок и воспарял над повседневными трудами солдатской жизни. Я думал о судьбе поколения, о его назначении. Думал не о себе, а о нас. Я старался свести в систему весь опыт надежд и мечтаний, создать нечто вроде эстетического кредо, которое, как я правильно полагал и тогда, является одновременно нравственным кодексом.
Может быть, именно туманная болезнь помогла мне прожить в полусне самые скверные, бессмысленные и унизительные дни солдатской жизни, в оболочке которой плавали и парили голубизна «эстетических принципов», а позже замыслы романа, который я проживал вторым, идеальным своим бытием, отнюдь не жалким и слабым, а радующимся и приемлющим – приемлющим труды и отрешенным от злобы.
Я не стыжусь своего тогдашнего образа мыслей, ни его наивного идеализма, ни его ходульного пафоса.
Я не был умней своего поколения. И развивался вместе с ним. И не хочу быть крепким задним умом. Ибо не умом был крепок. А чем-то другим, ныне уже утраченным.
Ни того, ни другого не хочу – ни оправдания незрелости ума, ни сожалений о том, каким был.
Я хочу быть таким, каков есть. И, значит, таким, каков был.
– …Курсанты эпохи Сталина! – сказали нам на митинге.
Мы кричали «ура». И стали грузиться в вагоны.
В эшелоне как-то вдруг все переменилось. И формула этой перемены была, оказывается, давно найдена.
– Дальше фронта не ушлют, – сказал кто-то, когда мы улеглись на нарах и поезд двинулся.
Это краткое определение означало, во-первых, освобождение от власти Сердюка. А во-вторых, объявляло свободу торговли. На всех станциях двухнедельного пути мы сбывали новое обмундирование – байковые запасные портянки, белье, новые башмаки – и облачались в немыслимое старье.
Кормились мы сухим пайком – чрезвычайно соленой воблой, сухарями и арбузами, купленными на средства, полученные от продажи военного имущества. Питательные пункты были редки.
Вокруг Сердюка возникла зона мстительного молчания. Он стал задумчив.
Именно тогда я впервые почувствовал трагедию отстранения от власти.
Трагедия тирана состоит в том, что насилие не беспредельно. Тиран обольщается легкостью тиранства над отдельной личностью, над физическим существом. Эта легкость внушает ему мысль о том, что насилие является его историческим назначением, его миссией в этом мире.
И вдруг оказывается, что он бессилен.
Он не может совершить насилия над историей.
Тут он становится жалок.
Одинокий Сердюк стоял в дверях телятника, опершись на поперечный брус, и глядел, как вокруг поезда поворачивалась казахская степь, однообразная и печальная. Вокруг неподвижного Сердюка плыла эта степь и была так же уныла и одинока, как Сердюк, но превышала его своим огромным безоблачным пространством.
И вдруг с двух сторон с какой-то тигриной хваткой спрыгнули с нар два узбека и оказались по обе стороны Сердюка, слева и справа. И как-то осторожно, локотком, один из них подтолкнул Сердюка и, улыбаясь всеми тигриными белыми зубами на смуглом неподвижном лице, сказал:
– Старшина. На фронт едем, да?
Сердюк отпрянул и инстинктивно отвернулся ко второму – там на смуглом лице сияла та же неподвижная, во все зубы улыбка. И раскосый глаз Тамерлана подмигнул Сердюку.
Он знал, что это означает. Хана.
Во фронтовом запасном полку Сердюк подал рапорт и был отчислен в другую часть.
Эшелон между тем неспеша подвигался по казахской степи. Потом стало холодней по ночам. Возникли облака и холмы. Это была Россия.
Она была пустынной и как бы покинутой жителями. Только на узловых станциях сновал озабоченный люд, и в залах на полу и на мешках спали солдаты, раненые, бабы, детишки. И куда-то все ехали. Словно вся Россия снялась с места и стремилась уехать от своего несчастья.
А мы либо спали, отгоняя во сне печаль и тревогу, либо часами глазели в квадрат распахнутой двери, где двигался однообразный пейзажный фильм российского бабьего лета сорок второго года.
– Вот она, Рассея! Вывернула титьки и сидит… – слова эти однажды неожиданно произнес Литвиненко негромко и зло.
Татароватое лицо Литвиненко с узкими умными глазами было попорчено оспой. Он был ташкентский рабочий. Человек сильный, умный, внушавший уважение. Не казался он добрым и все же в какой-то мере покровительствовал мне. Порой разговаривал со мной, лежа рядом на эшелонных нарах. Иногда давал закурить.
Дело в том, что по классической схеме Петеньки Ростова я быстро роздал своим вагонным товарищам припасы, привезенные отцом. Там был и классический изюм. Кисет мой с душистым самаркандским табаком скоро опустел. Деньги я промотал на арбузы и дыни. Обмундирование сменял и продал, не торгуясь.
В результате я оказался на мели.
Мои приятели как бы от меня отшатнулись. И покуривали табачок, пуская дым в открытую дверь.
Не скажу, чтобы чувство, испытанное мной по этому поводу, было очень сильным, глубоким и горьким.
Я не привык обобщать факты и выводить из них мнение о человечестве. В этом случае мнение мое было бы скорее отрицательным. Готовые обобщенные понятия, идеальные категории, во мне сложившиеся и парившие над неизвестной мне повседневностью, постепенно снижались, как воздушный шар, никогда, впрочем, не теряя подъемной силы. Надо было только сбросить балласт. И все. Лети дальше.
Должен здесь же заметить, что подъемной силой тогдашних обобщенных схем не было чувство исключительности.
Напротив, воспарение возникало скорей в преодолении ощущения прав, и восторг был от ощущения обязанностей, разделяемых со всеми, и в той же степени от ощущения особой ценности своего лица, как равного любому другому.
Верно понятое преобладание обязанностей над правами – главный залог существования в «большом времени» лиц, идеологов, поколений.
Потребность запечатлеть себя в «большом времени» есть у каждой среды и у каждой мало-мальски незаурядной личности.
Но большинство пытается проникнуть в «большое время» через дверцу малого, хотя бы способом Герострата. Такие явления в общем где-то лежат пестрыми пятнами на поверхности «большого времени», суть же в том, чтобы достижения поколения или личности расположились в самом его массиве. А это возможно лишь при отсутствии посягательства на особые права в современности, то есть при уважении к естественному движению реальности без навязывания ей чужеродного, может быть, господства – господства личности не избранной, поколения не посвященного, духа бренного и самоуничтожающегося. Я бы, конечно, с большей иронией отнесся к моему тогдашнему способу соотношений с действительностью, если бы он не был принадлежностью многих юных интеллигентов начала войны.
Здесь речь идет не просто о моей жизненной неопытности, а об идеализме целого поколения. И у меня нет охоты смеяться над идеализмом.
У нас принято уважать идеализм отрицающий – это мода, или убеждение, или русский обычай.
Идеализм нашего типа надменно третируется людьми, которые были умнее, но не смелее нас, а теперь уже и не умнее. Они не хотели участвовать. В чем? Не было ли их самоустранение самосохранением? Не знаю. У них-то вот и принято считать наш идеализм незрелостью ума. Не знаю.
Литвиненко был одной из реальных зацепок моего младенческого опыта.
Тем томительнее для совести оказалась его ужасная судьба.
Расскажу о ней кратко, ибо мало что знаю.
В Горной бригаде на фронте я попал в пулеметный расчет. А Литвиненко стал оружейным мастером. Он ходил по нашей длинной обороне, проверяя пулеметы и производя мелкий ремонт. Покурим, бывало, и разойдемся.
Месяца через три – уже зима настала – он ходить перестал.
Я как-то попросил командира роты прислать Литвиненко, чтобы поглядел пулемет. И тот рассказал мне следующее.
Литвиненко будто бы подговорил двух солдат-украинцев ночью убить командира взвода и перейти на сторону врага. Те сперва согласились, потом один передумал и рассказал про их замысел рыжему капитану из контрразведки.
Трибунал приговорил двоих к расстрелу перед строем, а третьего, который передумал, к десяти годам жизни в лагерях.
Литвиненко я видел в день его расстрела. Он сидел на снегу у землянки комендантского взвода. Рядом стоял часовой. Башмаки без шнурков были надеты на босу ногу. Шинель без погон расстегнута. Осунувшееся лицо обросло редкой щетиной. А татарские узкие глаза безучастно уставлены в какую-то расплывшуюся точку. Несосредоточенные, невидящие, мертвые глаза.
Я прошел мимо по тропке. Литвиненко меня не видел. Он, наверное, уже пережил свою смерть, и даже телесное его существо не чувствовало стужи, не воспринимало движения, само не желало движения. И воля телесная, воля к жизни, заставляющая вопить, вырываться, молить о пощаде, тоже умерла уже и заледенела в пассивное ожидание того, что неминуемо свершится сейчас или через час.
Вспомнил я тогда странную фразу Литвиненко. И другую, из какого-то его рассказа о себе:
– Встал я утром. Чувствую – тепло уходит…
Он был расстрелян перед строем. И перед расстрелом держался так же безучастно.
Странность этой истории лишь теперь пришла мне на ум. Доверил ли бы умный, хитрый и проницательный Литвиненко свой план двум людям, когда мог осуществить его один? Он свободно ходил по обороне, и его нескоро бы хватились, если бы он ушел днем кустарниками нейтральной полосы. Передний край наш не был сплошным. Да и как мог составиться предательский замысел, если сотоварищи Литвиненко находились в пулеметном расчете, а он, не рискуя навлечь подозрение, мог являться в расчет ну хотя бы раз в неделю на десяток минут. Да и все друг у друга были на виду.
Не было ли дело Литвиненко замыслом рыжего капитана, который обитал рядом с оружейниками в батальонном тылу и действительно мог усмотреть и унюхать нечто незаурядное и самостоятельное в натуре пулеметного мастера?
Все могло быть…
Эта трагическая история вновь всплыла и вернулась ко мне через тридцать три года.
Осенью я вдруг получил повестку от ОСО КГБ Московского военного округа, куда вызывался свидетелем по неизвестному делу.
В некоторой растерянности я отправился на Кропоткинскую, где отыскал неуютный пустоватый особняк и был встречен лейтенантом – следователем Особого отдела.
– Дела давно минувших лет, – сказал мне следователь после необходимых формальностей, предшествующих снятию свидетельских показаний.
Я, перебравший в уме множество вариантов, в том числе и дело Литвиненко, почему-то сразу понял, что это о нем.
Не знаю, каким образом возникло мое имя при переследовании, видимо, кто-то из горной бригады помнит о моем существовании, а может, и следит за моей судьбой.
Я рассказал следователю все немногое, что знал о Литвиненко. По памяти казалось, что соучастников у него было двое, выяснилось, что было их пятеро. Пара фамилий смутно мне припоминалась.
Не знаю, хотел ли лейтенант подлинного пересмотра дела. Я прямо его об этом спросил. Он ответил, что его мнение играет роль лишь при пересмотре решений Особых совещаний и Троек, поскольку они юридически не обоснованы, пересмотры же трибунальных приговоров, как это было в случае с Литвиненко, зависят целиком от прокурорского надзора.
Разговор наш был довольно поверхностный и касался главным образом поведения Литвиненко, его разговоров и того, кто был в курсе его замысла.
Придя домой и обдумывая свои ответы следователю, я понял, что мало коснулся обстановки на нашем участке фронта и реальной возможности сговора и перехода целой группы на сторону противника. Свои соображения я изложил в письме, которое просил присовокупить к моим показаниям.
Термин «дутое дело» мелькнул в речи лейтенанта, впрочем, кажется, без всякого касательства к истории с Литвиненко.
На прощание лейтенант показал мне папку с материалами о Николае Афанасьевиче Литвиненко, на которой означено: ХРАНИТЬ ВЕЧНО.
Вот каким образом прикоснулось к вечности имя Николая Литвиненко, а заодно, вероятно, и рыжего особиста из нашей бригады, и всех других, имевших к этому отношение…
…Я, однако, далеко обогнал наш эшелон, сперва миновавший Куйбышев, а после Москву. В этих городах я надеялся отыскать родственников и знакомых, которые пополнили бы мои совершенно иссякшие запасы. И мечтал, как злорадно буду курить свой табачок и поплевывать в дверь и публично большими кусками жевать роскошную пищу.
Мои низменные мечтания никогда не исполнялись. В Куйбышеве родственники опоздали меня встретить. В Москве, куда я отпущен был часа на три, я никого не нашел. Надо было зайти домой и прихватить что-нибудь на продажу. Но домой не хотелось. Дома не было. Была пустая квартира.
После Москвы эшелон набрал скорость. И на пятнадцатый день с начала пути мы прибыли в Тихвин.
Утром, вблизи рельс, варили концентраты. А потом нас вывели за станцию, в лесок.
Там, в четырехстах метрах от станционных построек, было поле сражения. Почему – поле? Это в старину выходили на поле. Перед нами был лес боя, болото сражения.
Припахивало неубранным немецким трупом. Зияли воронки, куда медленно нацеживалась вода. Валялись каски, патроны, гранаты.
Приехали. Чувствую: тепло уходит…
Горняшка
Передний край оказался опушкой заболоченного леса, кое-где отделенного от болота нейтральной полосы бревенчатым забором в рост человека. Забор этот, построенный ломаной линией, защищал от шальной пули и заменял окоп. Сквозь небольшие оконца можно было стрелять в сторону противника.
От минометного огня укрывались в небольших дзотах или землянках в три-четыре наката, обсыпанных землей и замаскированных мхом. Они напоминали большие муравьиные кучи.
От артиллерийского обстрела, в сущности, защиты не было. Но немцы вели его редко и по площадям. Фугасные снаряды глухо ухали в болото, разбрызгивая грязь.
В землянках отогревались, ели и спали, не раздеваясь и не снимая с пояса гранат, солдаты, свободные от караула. В дзотах лежали при пулемете, глядя сквозь амбразуру на простреленные кустарники нейтральной полосы.
Своей деревянно-земляной архитектурой передний край напоминал какие-нибудь древнерусские пограничные крепостцы, засеки или заставы. На старинных воинов походили и пожилые мужики в ушанках и телогрейках, именуемых здесь «куфайками».
Один из них с ружьем стоял на посту близ дзота, покуривая в рукав и поглядывая в амбразурку. Другой чистил винтовку щелочью и маслом. Двое сидели на бревне у входа в блиндаж и тоже покуривали.
Эта мирная картина была успокаивающим контрастом вчерашней настильной дороге вдоль фронта, по которой мы бесконечно шли, оскальзываясь на хлюпающих бревнах, прислушиваясь к отдаленному грохоту справа, напоминавшему работу камнедробильной машины, и встревоженно оглядываясь на встречные санитарные обозы. Крестьянские лошаденки медленно волокли узкие дроги, где по двое, по трое лежали раненые, прикрытые брезентом от дождя так, что только иногда можно было увидеть часть забинтованной головы, руки или ноги.
Посасывало под ложечкой от тревожной близости смерти.
Солдаты, расположившиеся в конце просеки, рядом со спрятанным в ельнике дзотом, оказались пулеметным расчетом старшего сержанта Кабанова из второго батальона горно-стрелковой бригады, прозванной на фронте «горняшка». Здесь мне предстояло прожить осень 42-го и зиму 43-го года.
Самые напряженные месяцы войны я провел на «тихом» фронте, в болотной обороне. Как все важное в моей жизни – превращение в солдата происходило медленно и постепенно, по какому-то моей жизни присущему закону.
Именно такому темпу хорошо соответствовала прочно усвоенная мной солдатская мудрость: «ни на что не напрашивайся, ни от чего не отпрашивайся».
В этом изречении я усматриваю не просто формулу русского фатализма, а скорее опыт осторожного обращения с жизненным материалом, столь огнеопасным в России. В этом изречении проявляется народный слух, улавливающий в движении жизни некий особый ритм. «Не напрашивайся» означает доверие к этому ритму, доверие настолько полное, что приводит и к «не отпрашивайся». Доверие это основано не на знании абстрактных законов жизни, не на дедукции, которая всегда вносит в понимание жизни субъективный момент долженствования, – оно основано на ощущении конкретного протекания жизни, на ощущении цвета, вкуса и формы каждой данной волны, а не на теории волн, формулы которой всегда нуждаются в поправках.
В ту пору, о которой я говорю, – в пору трудную, но, вероятно, лучшую для национального духа за многие годы, принцип «не напрашивайся – не отпрашивайся», может быть, все же отдавал фатализмом, но отнюдь не был оправданием конформизма.
Народ не отпрашивался от войны, от смерти, от тюрьмы и сумы.
Только на этой ступени доверия к жизни, доверия к жизни гражданской, «не напрашивайся» звучит высоким и достойным приуготовлением к «не отпрашивайся».
Нация именно в ту пору переживала острый период своего развития, когда резко изменялся состав народа. Мы еще мало думали о том, какую роль сыграла война в ускорении процесса, который мы именуем процессом урбанизации.
Уход с исторической сцены народа-мужика стал высоким финалом крестьянской трагедии. Действующее лицо этой трагедии – народ-мужик – в последний раз показал мощную специфику своего духа.
Подвиг крестьянства, которому будущее сулило одно изживание, то есть ничего не сулило, был выше делового героизма «второй генерации власти» и того посредственного слоя, который стал базой «второй генерации».
Именно с тех позиций уходящего народа каждому слою или личности, лишенным исторических перспектив, следует воспринять гражданское содержание народной формулы: «Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отпрашивайся».
Народ-мужик, чей подвиг достоин самого высокого воспевания и достойно воспет, пожалуй, одним лишь Твардовским, представал, между тем, чредою отдельных лиц, часто наделенных качествами, невыносимыми для юного городского интеллигента.
Сержант Кабанов, к которому я попал под команду, человек по душе не злой, грубо презирал знания и, так сказать, интеллектуализм, в то же время как бы и завидуя им. Он не то чтобы преследовал меня, но часто грубо притеснял и постоянно со мной тягался, яростно споря, например, о том, что вша лезет из тела от заботы, а триппер бывает от простуды. Вместе с тем он и гордился мной, и особенно тем, что под его командой находился московский студент, и даже вызывал блеснуть перед ходоками из других пулеметных расчетов, специально посылаемыми, чтобы узнать новости и прогнозы насчет ближайшего хода событий, а то и просто попросить написать письмо или стрельнуть табаку.
Кабанов был грубой натурой, при этом – классный пулеметчик из чапаевской дивизии.
– У меня никакая оружия от рук не отобьется, – говаривал он.
Другой тип был Шипицын, тихонький вятский мужичишка, в бою, однако, не робкого десятка. Он благоговел перед Кабановым и вообще начальства боялся больше, чем немца, потому собственного мнения не имел, а точнее – не высказывал. Он привык к насмешкам, которым подвергались вятские из-за их дробно-окающего говорка, и, посмеиваясь, отмалчивался, когда приставали с расспросами, как вятский ехал со середы на базар или как затаскивал корову на крышу.
Вторым номером до меня в пулеметном расчете был Макар Прянишников, старик лет сорока. Может, за то он возненавидел меня, что вынужден был уступить должность, на его взгляд, значительную. Меня он преследовал и постоянно утеснял, как мог. Он был из тверских валенщиков. Скуп, запаслив и осторожно вороват. Медленно и как-то с боку на бок пережевывал пищу, перетирал ее стертыми желтыми зубами, как старая корова. Утром, выйдя из землянки, обстоятельно опорожнялся, громко пускал злого духа и удовлетворенно говорил: «Ну, Макар, перезимуешь».
Единственным человеком в расчете, для которого духовные начала и знания были предметом постоянного уважения и восхищения, был Семен Андреевич Косов, алтайский пахарь. Мужик большого роста и огромной силы, он испытывал особую нежность ко всем, кто слабей его, будь то зверь или человек. Пуще других его мучил голод, и я иногда отдавал Семену обеденный суп, а он зато приберегал для меня огрызочек сахару. Но не из-за этого обмена состоялась наша дружба, а из-за взаимной тяги сильного и слабого.
Обоих нас недолюбливал Кабанов. Мне, например, мешало то, что я любил говорить правду, и это, пожалуй, больше всего раздражало старшего сержанта Кабанова.
Любовь к высказыванию правды в любых обстоятельствах – либо незрелость, либо болезнь.
Правдолюбцы болезненные, лихорадочные, за правду не пожалеют ни себя, ни других. Они на виселицу готовы пойти ради правды, но и не взыскующих града готовы на ту же виселицу отправить. К счастью, болезнь правдолюбия чаще не больше, чем насморк, выражается так же гнусаво и излечивается так же легко.
Важнее, пожалуй, не любить правду, а знать ее. И это знание уже не болезнь, но мудрость.
Правдознатцы больше знают о правде, чем правдолюбцы, которым их правда кажется главной, самой последней и достойной подвига или инквизиции. Правдознатцы хотят о правде дознаться. Правдознатцам не только своя правда нужна, но и чужая. И знание их – несчастливое. Знают, что правда горька есть.
Высший тип – праведники, которые высказывать правду не умеют, да и понять ее не тщатся, они живут правдой. И потому независимы ни от болезни, ни от знания. Живут они правдой по инстинкту, по устройству натуры. Правдолюбцам они кажутся трусливыми, правдознатцам – глупыми. А они готовы, может быть, признать и то, и это. Живут, как умеют жить. Боясь иногда пустяков. Но главного – не боясь: врага, насилия, смерти.
В каждое время есть свой главный тип. В одно – правдолюбцы, в другое – правдознатцы, в третье – праведники.
Нам сейчас нужней правдознатцы. Но скоро понадобятся праведники…
Праведником был Семен Косов.
Тянулась длинная голодная осень. Потом подмерзли болота. Мы с Семеном часто стояли ночью на посту и, поскольку противник не собирался наступать, только изредка поглядывали в заборную амбразурку и беседовали вполголоса о своих делах. Из московской жизни, о которой я рассказывал, Семена больше всего интересовал зоопарк. И я, с детства помня Брема, сообщал Семену сведения о жизни слонов, крокодилов и зебр.
Когда оборону прикрыло снегом, а нам выдали валенки, все приняло вид еще более деревенский, и наша жизнь текла размеренно, действительно как в старинном острожке на граничном краю земли. Еще затемно, перед рассветом, приезжала кухня, – издалека по морозцу было слышно, как скрипят полозья саней и ругается Васька-повар. Старшина приносил сухари, махорку и сахар, отмерял гильзой от противотанкового ружья водку.
На той стороне у немцев гремело по настилу, тоже ехала полевая кухня.
Потом чистили винтовки, пулемет, расчищали траншейки в сугробах. В обед приходил почтарь, приносил газеты и письма. Письма перечитывались про себя и вслух.
Сменялись дневные посты, заходил замполит роты. Порой – кто-нибудь из соседней – узнать новости.
Дни были короткие. Часа в четыре смеркалось. Батальонный связной приносил ночной пропуск: пароль и отзыв. Время днем отмерялось по тлеющему тряпичному жгуту, сколько сгорит. Ночью – по звездам. Перед нами, над обороной, стояло семизвездье, называвшееся Качиги. Когда Качиги заходили за березу, росшую рядом с дзотом, была полночь. Приходил комбат или ротный со связным – проверять посты. Мимо нас в белых маскхалатах разведчики уходили на нейтральную полосу. Под утро возвращались.
Распорядок, однако, нередко нарушали обстрелы, неожиданные перестрелки.
Ударял пулемет. Немцы били трассирующими. Разрывные щелкали о стволы, ветки и блиндажи, как каленые орешки. Одному пулемету отзывался другой. Включались и мы, наугад длинными очередями прошивая кустарник на подступах к позиции. И как деревенские собаки, вдруг разбуженные, на всем участке лаяли пулеметы. Начинали поддавать минометчики, и получалась невообразимая кутерьма, порой не смолкавшая до рассвета. И так же внезапно, как началась, стихавшая, как только обе стороны понимали, что ночной поиск или разведка боем только почудились придремавшему часовому.
При сем бывали и потери. По обороне сообщалось: тот убит, тот ранен. Тихая наша война тоже была войной, и Кабанов горестно восклицал каждый раз:
– Эх, жизня, она не плошает, она все к лучшему идет!
Мои отношения с ним были лишены сердечности. Так же не близки мне были и другие члены расчета. Поэтому я все более привязывался и привыкал к Семену Косову.
Семен, как и большинство солдат горно-болотной бригады, принадлежал к русской народной культуре, которая в наше время почти стерлась с исчезновением ее носителей – крестьян.
Эта культура пережила многие века и стала органической частью национальной культуры, в ней исчезнув и растворившись – в гениях XIX века, прежде всего – в Пушкине.
Эта культура уже не соответствовала нашему времени – и нелепая мечта: ее возродить – с ее мифологией, прагматической философией, с ее историческими и политическими понятиями, с ее мироощущением, с коллективизмом, с индивидуальным сознанием, с ее медициной, гигиеной, универсальным умельчеством, с ее правилами поведения и с самым ценным, что в ней было, – с ее словесным искусством.
Евтушенко упрекнул меня как-то за образ «конь тонкий, как рука». Между тем, образ этот принадлежит речи Семена Косова, который про зимнюю дорогу говорил: «Как яичком накатана». Это было не творчество, а речь. Речь Семена была полна новых для меня значений; он учил меня понимать сны, толкование которых сродни звуковым ассоциациям поэзии: девки – к диву, лошадь – ко лжи. Однажды мне приснилось, что спорю с отцом.
– С отцом дрался – домой придерешь, – сказал Семен.
Мудрость Семена была не от чтения, а от опыта, накопленного в народной речи.
Мне порой казалось, что у него нет собственных мыслей, а только готовые штампы на все случаи жизни. Теперь я понимаю, что мы тоже говорим штампами, но цитируем неточно и небрежно, наши знаки, может быть, индивидуализированны, но бледны по речи. Народ купается в стихии речи, отмывая в ней мысли. Мы же речью только полощем горло.
Самым талантливым среди всех, владевших речью, был у нас Каботов Иван Васильевич, пожилой пехотинец, бывший волжский матрос или бакенщик.
Стрелковое отделение поздней осенью располагалось некоторое время в нашей землянке. И всех забавляли бесконечные шутки, прибаутки и присловья Каботова, а также его изобретательный неругательный и необидный мат. Во время обстрела при каждом близком разрыве мины Иван Васильевич выдавал матерное проклятие немцам, обычно в рифму, и никогда не повторялся.
Поздним вечером, сменясь с поста, промокший и продрогший, он долго сушил портянки и шинель около печурки, устроенной из большого молочного бидона, и спрашивал, если не все спали: «Сбрехать, что ли, сказку?».
Сказки он рассказывал плутовские, по большей части непристойные, о солдате, идущем с войны («вроде как мы с вами»), и о черте, строящем солдату замысловатые козни. Иван Васильевич был солдатский Андерсен, он умел развеселить и утешить. И сказки плел до поздней ночи, пока не уснет последний слушатель, а может, и потом рассказывал для самого себя. Спал он мало. Я его спящим не помню.
Осень и начало зимы прошли спокойно. Я постепенно привыкал к солдатской жизни и к фронтовому быту.
Отношения между собой у фронтовых солдат, как правило, были дружеские. Средние офицеры редко обижали и унижали рядовых. Вспоминая тыловые запасные полки, солдаты охотно ругали тамошнее начальство, считая, что вся сволочь окопалась в тылу и по собственной злой воле, да еще и стараясь особо выслужиться, заедает солдатскую жизнь драконовскими строгостями и бессмысленными трудами. Если это верно, то только отчасти. Наш комроты капитан Никифоров и его замполит, осетин, по фамилии, кажется, Залиев, и комвзвода Непочатов, и старшина роты, славный великан Бербец, и даже сам легендарной смелости комбат Жиганов – все они проявляли о нас заботу, были просты в обращении, ничего не заставляли делать зря, да и жили примерно так, как жили мы, одинаково разделяя с нами все опасности и превратности фронтовой жизни.
Но на фронте не специально подбирались добрые, заботливые, смышленые и смелые командиры – на фронте была необходимость смелости и взаимной выручки, справедливости и заботы. Командиру, не обладающему подобными качествами, не поверят в бою, а не то еще похуже – оставят раненого на поле боя или помогут отправиться на тот свет.
Но, конечно, не расчет подобного рода формировал среднего фронтового командира. Вся обстановка опасности, смерти, единения, ответственности, долга, вся непосредственность и жизненность этих категорий, абстрактных в иное время и в иных обстоятельствах, определяли поведение большинства фронтовых офицеров. Я успел убедиться в конце войны, что в иной обстановке личные качества оказывались иными. И многих фронтовых офицеров я мог бы представить себе в тылу – с его исступленной и изнуряющей работой, голодом, бабьей тоской, жестокостью власти, хапужеством, возможностью удовлетворить корысть и похоть, взвинченностью пропаганды, шпиономанией и взаимной бдительностью.
Иллюзии на этот счет, впрочем, довольно прочно утвердились в нас, и слово «фронтовик» до сегодня означает нечто большее, чем «человек, побывавший на фронте».
Да и я лишь задним числом понял, что фронтовик фронтовику рознь, как и тыловик тыловику.
Портила качество человеческих отношений на фронте, а может быть, вообще снижала высокое самоощущение нации – сталинская бацилла недоверия и взаимной слежки, распространявшаяся и на фронт.
Мы знали, что за передовой линией стоят заградительные отряды с петлицами пограничников, коим приказано косить из пулеметов отступающих. По переднему краю в тихие дни ходил рыжий особист, любитель Стендаля, погубивший рабочего Литвиненко. Знали, что можно говорить о победах, а не о поражениях, знали, что наше среднее начальство тоже под богом ходит. Страх перед «Смершем», в какой-то мере воспетый Слуцким, на какой-то срок действительно цементировал фронт, но по сути глубоко разлагал высокие понятия народа, борющегося против нашествия.
Это позже сказалось. Сказывалось, впрочем, и в нашем быту боязнью откровенности и порой торжеством негодяйства.
Кто были среди нас наушниками «Смерша», мы чаще всего не знали.
После войны я встретил на улице Кирова бывшего сержанта разведроты Ваньку 3., мародера и насильника, трипперитика всех степеней. Он был младшим лейтенантом ГБ. Вспомнил я его откровенные речи, которые пресекал скорей по неприязни, чем по должности комсорга разведроты.
Установкой на подозрение пользовались многие дурные люди на фронте. Воспользовался ею и Макар Прянишников.
Вести дневник или записывать что-либо для памяти на войне не полагалось. Информбюро постоянно цитировало дневники немецких солдат и офицеров. Я не помню публикаций наших солдатских и офицерских дневников. Даже генеральских не помню. Есть журналистские дневники – Симонова и Полевого, но это другое дело.
Солдат практически и не мог вести постоянные записи. Это внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной проверке вещмешка старшина приказал бы изничтожить тетрадку или записную книжку, поскольку они не входили в список необходимого и достаточного солдатского скарба.
Не вел дневник и я. Но были у меня малого формата записные книжки, из которых некоторые уцелели. Как комсорг роты я вписывал туда планы очередных мероприятий и политбесед, а рядом и дневниковые записи, довольно скупые.
Стихов я осенью 42-го и зимой 43-го не писал, да и позже писал редко и плохо. Но порой записывал строки или строфы, случайно пришедшие на ум. Некоторые из этих строк надолго сохранились в моем чувствовании. И потом через много лет вошли в стихотворения. Например, первая строфа «Прощания юнака» записана в первой моей фронтовой книжечке. Почему-то я назвал это «Сербская песня». Через много лет откликнулись строки о скрипящем и поющем дереве, перенесенном из волховских болот в Михайловское, где жил Пушкин:
Дерево пело, скрипело…Дерево это, береза, над которой в полночь стояли Качиги, действительно пело и скрипело ночью, ветреной порой, когда я стоял на посту.
Писал я свой полудневничок, обычно сидя на пеньке у входа в блиндаж. Однажды услышал, как Прянишников сказал сержанту Кабанову:
– Проверить надо, что он пишет и куда передает.
Я вошел в землянку и ударил его по зубам.
Через час меня вызвали на КП пульроты.
– Садись, – печально сказал мне осетинский учитель, замполит Залиев. – Немца бить надо, своих бить не надо.
Я объяснил ему, в чем дело.
– План политбеседы писать надо, – сказал Залиев. – Обижаться не надо.
Тут в блиндаж вошел Мишка Трутнев. Мишка вместе со мной был курсантом гомельского училища, парень с восьмиклассным образованием, плакса и писун. Его отправляли доучиваться в офицерскую школу. Замполит подписал ему какие-то документы, и Трутнев, откозыряв, ушел.
– Обижаться не надо, – сказал Залиев. – Одни уходят, другие не уходят. Кто не нужен – уходит, кто нужен – не уходит. Например, я погибаю, например, ты – не погибаешь.
Так он закончил свою туманную речь и, отпуская меня, добавил:
– Иди, драться надо с врагом.
Я понял смысл его туманного напутствия. Мне было за что обижаться. Вместо Трутнева в офицерскую школу должен был ехать я…
После того, как ударили морозцы и стали болота, жизнь на нашем фронте пошла немного веселей. Всю осень мы пробедовали на плесневелых сухарях да на супчике, где капустка капустку догоняла. Мучились без табаку.
Все мысли и разговоры тогда вращались вокруг еды. По вечерам в землянке шли бесконечные рассказы – кто как женился, в центре которых всегда стояло роскошество свадебного пира. Иван Васильевич Каботов так расписывал картины многодневной еды и питья, что слабые духом просили: «Уймись, сатана!».
По санному пути нам стали возить 900 грамм хлеба, выдавать полный солдатский приварок – кашу из концентрата и суп с американской колбасой либо с кониной, если в обозе убивало лошадь.
Мы слегка отъелись, и вшей поубавилось, то ли действительно от успокоения, то ли оттого, что чаще стали присылать походную баню.
Однажды с баней прибыло зеркало. Помывшись и прожарившись, я поглядел в него. Из рамки на меня уставился круглолицый курносый солдатик в каске, похожий на подосиновый гриб. Выходило, что я добился того, о чем так возвышенно размышлял, – стал как все.
Поближе к Новому году к нам начали прибывать посылки из тыла, и все мы радовались вещественной вести, принесшей запах и вкус родного дома. Помню рассыпчатые пшеничные лепешки Семеновой жены, чуть горьковатые от полыни.
Получил и я посылку от родителей с разной снедью и с неизменным изюмом Петеньки Ростова.
Пришли к нам однажды подарки из какого-то города – рукавички, бумага, конверты, немного еды – бесценные подарки тыла фронту – с записочками, где стояли женские имена и адреса. По этим адресам многие молодые солдаты тотчас отправили письма.
В войну часто переписывались незнакомые одинокие люди – солдаты, оставившие семью в оккупации, с девушками, заброшенными эвакуацией на Урал или в Сибирь. Девушек этих звали «заочницы». Порой такая переписка заканчивалась свадьбой.
Я к тому времени хорошо изучил солдатский письмовник и слыл в батальоне неслыханным мастером сочинять письма.
Семен, уходя на пост или по какому-нибудь делу, часто поручал мне написать письмо. И, не прочитавши написанного, отсылал домой.
– Да чего читать, – говаривал он. – Ты грамотный, знаешь, как написать.
Постоянно обращался ко мне молодой Анисько с просьбой ответить «заочницам», которых было у него несколько штук. Всем он писал, что одинок, семью потерял и готов предложить сердце тыловой подруге, если та пришлет свое фото и проявит желание полюбить молодого солдата Анисько.
Письма «заочниц» обычно читались вслух. Аниськины друзья посмеивались над простодушием тыловых девиц и обсуждали сравнительные достоинства их фотографий.
«Сынок, – писала солдату Анисько женщина, приславшая новогоднюю посылку, – ты мне о любви пишешь, а мне уж пошел седьмой десяток…»
После этого Анисько сперва прочитывал письма сам.
В первый день нового года Шипицын убил большого жирного зайца. Едва заяц был сварен и съеден, как меня вызвали на КП пульроты к замполиту Залиеву.
Я взял винтовку и пошел по тропке мимо заснеженных ельников; идти было с километр мимо второй линии дзотов и землянок, где стояли автоматчики и ампулометчики.
Я не дошел до их землянок метров пятьдесят, как заяц взыграл в желудке, непривычном к обильной пище. Я отошел с тропы в ельничек и мирно присел. Тут ударили немецкие минометы. Кто знает, отчего забеспокоились немцы в погожий день нового года, но полковые мины ложились частыми сериями, неровными подпалинами грязня снег вокруг. Мне бы надо было вскочить и опрометью бежать к ближайшему блиндажу, не застегивая штанов, что заняло бы полминуты. Однако влететь в чужой блиндаж в таком виде означало бы полную потерю лица. Я стал бы посмешищем батальона. Именно это соображение заставило меня остаться под елкой. К счастью, обстрел скоро кончился.
Я вспомнил этот эпизод, ибо он свидетельствует, что я уже становился солдатом и мог чувство чести поставить выше опасности…
Когда порядок жизни в обороне перестал быть для меня внове, постепенно начала одолевать тоска по дому, по друзьям, по стихам.
Спасался я от тоски и скуки тем, что сочинял в уме большой роман. Это был роман со многими персонажами, со сложными переплетениями судеб, роман – история поколения, который никогда не лег на бумагу и все же существовал – для одного читателя, для меня, – и постоянно развивался, переделывался и оттачивался. Его вымышленный идеальный мир – а это был роман идеальный, потому не лишенный ходульности – восполнял недостаток идеального в моей повседневной жизни на протяжении всех моих фронтовых и тыловых лет, и его течение настолько меня увлекало, что я забывал о бедах и неприятностях, общаясь с его героями, ставя их в обстоятельства, сходные с моими и как бы проживая эти обстоятельства дважды – в том непосредственном мире, в каком они представали передо мной, и в том усиленном, очищенном и обобщенном, в каком их проживали герои романа.
Бывало, стоя на посту в ночную пору и поглядывая на медленно двигающиеся над березой Качиги, я доставлял себе удовольствие, перебирая эпизоды детства главного героя, его первую любовь – тщательно отобранную из мозаики моих первых увлечений, – эпизоды жизни его друзей и окружающих, составленные из воспоминаний о людях, которых я знал или о которых слышал.
Идеальный этот роман никогда не мог быть написан, потому что в нем было столько же пробелов, сколько и в моем несовершенном опыте, но он был высшей реальностью моего тогдашнего существования, я и сейчас без улыбки читаю редкие заметки о нем в своих старых записных книжках или планы его, изложенные в письмах, потому что там проглядывает суть написанного позже, а идеальный замысел, вновь сниженный и соединенный с реальным опытом, оказался замыслом моей подлинной жизни и воплощением характера.
Время медленно тянулось в обороне. Но 12 января 1943 года войска Волховского фронта приступили к прорыву блокады Ленинграда. В ночь на 12-е я как комсорг лазил по траншеям переднего края, читая в расчетах приказ о наступлении. Притащился к себе в землянку под утро и провалился в сон настолько глубокий, что проспал половину артиллерийской подготовки. А грохот от нее немалый. Проснулся и спросил:
– Началось?
Мы ждали приказа двигаться вперед, но бригада участвовала в наступлении только флангом, а в остальном все пять дней до завершения прорыва сковывала огнем немецкие части, противостоящие нам в районе села Лодва. День и ночь мы вели сильный огонь по заранее пристрелянным ориентирам, состязаясь с сильным ответным огнем противника. К счастью, в нашем расчете обошлось без потерь.
Через несколько дней с радостью узнали о прорыве блокады. И снова на нашем участке наступило затишье.
Однажды утром в конце марта пришел старшина Бербец и приказал проверить пулемет. Ничего у него не спрашивая, мы сразу поняли, что нам предстоит бой. Ночью мы снялись с позиций и были переброшены пешим порядком в район станции Мга.
О бое, в котором мы вскоре приняли участие, вскользь упомянуто в воспоминаниях командарма Федюнинского.
Естественно было мне волноваться перед первым боем, но не менее были тревожны и остальные солдаты. Хотя чем больше думали о предстоящем, тем меньше говорили о нем. Только как-то притихли, голоса звучали глухо и без выражения, привычные остроты не вызывали смеха. А старший сержант Кабанов чаще обычного тоскливо восклицал:
– Эх, жизня! Она не плошает, она все к лучшему идет!
Под вечер 25 марта мы заняли окопы первой линии немецкой обороны, уже кем-то накануне отбитые. Днем таяло, и мы промокли. Обуты мы были в валенки, и к вечеру, когда подморозило, все мокрое на нас подмерзло.
Когда совсем стемнело, немец стал кидать легкие мины в наш окоп. Немного задело Кабанова, он завопил: «Санитары!» – и его увели куда-то. Мы остались с Семеном.
Ночью пришел связной от Никифорова, командира пульроты, принес мне записку, что ранен замполит. Замещать его должен был я.
Что делать, я не знал и решил оставаться с моим пулеметом до утра, когда мы должны были наступать.
Еще не рассветало, Бербец принес в термосах горячий суп. Мы поели, чуть согрелись. Немцы снова начали садить из минометов, и тут ранило в ногу Прянишникова. Но еще были поблизости санитары, и его тоже куда-то поволокли.
Когда чуть рассвело, ударила наша артподготовка. Она была жидкая и недолгая. Откуда-то пустили ракету, и по окопу пронесся приказ: «Выходить!».
Уже было совсем светло и все видно, когда и я оперся руками о край окопа, чтобы вылезти и двигаться вперед, и в тот момент поглядел влево вдоль окопа и увидел все, как в остановившемся кадре кино; и сейчас могу подробно рассказать, что увидел в это мгновение: солдат, опершихся руками о край окопа, других, уже закинувших ногу, чтобы выйти наверх, и тех, кто уже вышел и наклонился, чтобы бежать вперед, и одного, картинно падавшего спиной с бруствера, уже, вероятно, убитого, – все это было застывшим мгновением, когда кто-то скомандовал «вперед!», и я занес ногу, чтобы выйти из немецкого окопа первой линии на открытую поляну, со всех сторон окруженную лесом.
С этого момента я руководствовался подсознанием, заботившимся обо мне четко и толково. Едва мне удалось заставить себя выйти из окопа, как сознание превратилось в стороннего наблюдателя, порой уходившего куда-то и незамечаемого. Оно уходило в те моменты, когда из подсознания выдвигался азарт действия, и приходило вновь в минуты передышки, но оставалось посторонним. Оно все же постоянно присутствовало, ибо потом, в госпитале, возвратило мне все протяжение боя со всей полнотой пережитого страха, усталости и сострадания, со всеми зримыми деталями, ненужными в те часы.
Мы продвигались, естественно прижимаясь к опушке. Косов и Шипицын тянули по снегу пулемет. Я шел рядом, неся запасные коробки с лентами. Приотстав от нас, плелся, тоже с запасными коробками, пожилой боец из хозвзвода, накануне приданный расчету.
Дело, видимо, завязывалось слева от нас. Там слышалась густая пулеметная стрельба. Туда, видимо, били минометы и артиллерия немцев.
На нашем фланге было относительно тихо. Мы осторожно продвигались вперед, прячась за деревьями, ибо в любую минуту нас могли заметить и обстрелять.
Пехоты рядом не оказалось, но мы почему-то двигались вперед, не зная, что происходит слева и справа, не зная другой задачи, ибо с вечера командир взвода сказал нам только, чтобы после артподготовки двигались вперед. Вот и все.
Метров через триста мы догнали пехоту – с десяток бойцов из роты, которой был придан наш пулемет. Они лежали под елками и закуривали. Командир взвода, видимо, был убит.
Откуда-то из-за кустов полоснула пулеметная очередь. Мы примостили наш «максим» под елкой. Впереди, шагах в тридцати, мы разглядели немецкий дзот. Главным сектором его обстрела была поляна, а мы находились на самом правом его развороте, то есть как бы сбоку, почти с тыла. К дзоту вела траншея полного профиля, извилисто уходившая в лес. Сосны росли в десяти шагах от дзота.
С этим дзотом в одиночку воевал связной командира стрелковой роты Симонов.
Перед ним за толстой сосной кучкой лежали немецкие ручные гранаты с длинными деревянными рукоятками. Симонов брал их одну за другой и, разбегаясь и как-то весело пританцовывая, кидал из-за сосны, метя в амбразуру дзота. Оттуда строчил пулемет, но Симонов ловко прятался за сосну и продолжал свой самозабвенный танец-бой, веселясь и что-то покрикивая. Тут азарт проснулся и в нас. Мы подползли поближе к дзоту, уже совсем обойдя его с тылу, и – уже не помню, как это было – в десять гранат рванули по дзоту и, попрыгав в траншею, вломились в него, и кто-то метнул вглубь еще гранату. Дзот замолк. Там живых не осталось.
В траншее мы отдышались и перекурили.
Симонов пошел отыскивать начальство, а мы покинули траншею и стали вновь продвигаться вдоль опушки, возбужденные и повеселевшие от удачи. Не успели пройти и семидесяти метров, как немцы стали класть мины вокруг нас. Пехота сразу отошла в траншею, и тут миной убило Шипицына. Мы с Семеном поскорей оттащили назад пулемет.
На снегу перед траншеей лежал убитый Шипицын и три коробки с лентами. Боец из хозвзвода притулился на дне окопа, уткнувшись носом в землю и прикрыв голову руками. Его била дрожь. Он был, видимо, патологический трус. Это так же редко встречается на войне, как и патологическая храбрость, и действует так же убедительно.
Дождавшись, когда стрельба чуть поутихла, я оставил Семена у пулемета и пополз за лентами, ибо думал, что немцы собираются контратаковать и ленты нам скоро понадобятся.
Я дополз до коробок и поволок их за собой. Немцы сбросили серию мин, сухо лопнувших рядом, разметывая снег и грязня его черными разбрызгами земли. Кисло запахло порохом. Метров двадцать оставалось до окопа. Следующей миной, как палкой, огрело меня по руке. Рука онемела. Я почему-то встал и тут же свалился, оглушенный взрывной волной.
Очнулся в траншее. Семен тер мне лицо снегом.
– Голова цела, – сказал он.
Я услышал его слова, как сквозь вату.
– Ступай в санвзвод. Может, ты хоть останешься живой.
Жизнь мне спас Семен. Под обстрелом немецких минометов он выскочил из окопа и на руках унес меня. Иначе следующей серией мин я был бы убит.
Было, наверное, около полудня и как бы перерыв на обед. Артиллерия работала где-то слева, а у нас наступило затишье. Так окончился для меня этот эпизод маленького боя, который в письме командира роты моим родителям назывался «взятием укрепленного пункта противника», а мое поведение – «проявил геройство и отвагу».
Я простился с Семеном, который оставался у пулемета один, потому что солдата из хозвзвода можно было не считать. Он сидел на дне окопа и доедал плитку горохового концентрата из НЗ.
– Больно? – спросил он меня с завистливым участием.
– Пошел ты к такой-то фене, – ответил за меня Семен.
Индпакеты наши были уже израсходованы, и он кое-как перевязал мою руку рукавом нижней рубахи, а выше перетянул поясным ремнем.
Рука моя висела как чужая, не болела, а только мерзла. Кровь понемногу сочилась из раны, и холодные капли, накапливаясь на пальцах, падали в снег.
Опираясь на карабин, я поплелся в тыл вдоль опушки, по которой мы недавно шли вперед, дошел до леска за исходным рубежом атаки. В лесу было пусто и тихо. Светило солнышко.
Встретил знакомого связного Яроша. Тот свернул мне папироску и сунул в карман пачку тонкой бумаги…
– Мне-то, может, не пригодится.
Надо было поскорей добираться до батальонного медпункта, потому что мог снова начаться артобстрел, и было бы глупо погибнуть сейчас от осколка, когда смерть только что ошиблась на двадцать сантиметров. Но я ослабел. В голове гудело, и быстро шагать я не мог.
Где-то на просеке стояла разбитая полевая кухня. Наверное, везли обед на передовую, но рядом жахнула мина. Я заметил и термос для водки. Там на дне еще оставалось немного. Кое-как наклонил и хлебнул два глотка, обливая ворот. Скоро стало теплее, но зато еще больше отяжелели ноги. Боковое сознание, которое чуть высунулось страхом, что могут убить, сейчас, когда главная смерть этого дня позади, опять куда-то убралось.
Время в бою продвигается толчками, и равные на часах отрезки не равны в сознании – некоторые вмещают в себя столько, что как бы растягиваются, другие сходятся в точку и лишаются протяжения. Время становится функцией зрения, обретающего свойство растягивать мгновенные впечатления и останавливать кадр, как в кино.
Первый бой оформливает солдатский фатализм в мироощущение. Вернее, закрепляет одно из двух противоположных ощущений, являющихся базой солдатского поведения. Первое состоит в уверенности, что ты не будешь убит, что теория вероятности именно тебя оградила пуленепроницаемым колпаком; второе – напротив – основано на уверенности, что не в этом, так в другом бою ты обязательно погибнешь. Формулируется все это просто: живы будем – не помрем.
Поскольку я по складу бесспорно принадлежу к первой категории фаталистов, этот бой, пускай небольшой, подтвердил реальность моего предположения о том, что убит я не буду.
Только с одним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом.
Почему я избрал дорогу, по которой пошел, не знаю. Может быть, она была единственная, ведущая в тыл, и должна была привести к батальонному медпункту – БМП. Шла она каким-то унылым серым лесом без кустов, и потому я издалека увидел лодку-волокушу, в которой сидел человек и, отталкиваясь карабином, медленно плыл по снегу. Это был Прянишников. Лицо его осунулось, посерело, пот тек по щекам. Не знаю, где он обретался с тех пор, как был ранен, куда девались собаки, тащившие санитарные лодки, и где были санитары. Я ничего не спросил у Прянишникова, подал ему мой карабин и впрягся в лямки лодки-волокуши. Часа полтора, потом – под начавшимся обстрелом – мы медленно добирались до БМП, расположившегося в траншее на склоне какого-то оврага.
– Прощай, Давыд, – сказал мне Прянишников.
– Прощай, Макар, – сказал я.
Он хотел еще что-то сказать, но я не стал ждать и вошел в землянку медпункта.
До санбата я добрался уже поздней ночью. Просторные его палатки были набиты ранеными. Полбригады, наверное, было уже здесь. Хирурги и медсестры валились с ног. Уже вторые сутки они оперировали раненых. Раненые лежали на полу, порой постанывали, бормотали и вскрикивали во сне. Молодой парнишка громко стонал.
– Тебя куда ранило? – спросил его сосед.
– Палец отбило.
– Тогда молчи. Здесь тяжелей твоего раненые есть.
Я описал этот день так подробно потому, что в нем были минуты небоязни смерти, и, кажется, прожит он был достойно.
Однако это был день боя и, значит, убийства. Как же можно достойно прожить день убийства?
С высшей точки зрения, с точки зрения высшей нравственной заповеди – «не убий» – вне ее фальшивых и уклончивых толкований, а именно в том прямом понимании, что никто не смеет посягать на физическое именно существование другого человека, – с точки зрения этой высшей заповеди день 26 марта был недостойным днем моей жизни.
Но я не ощущаю и не оцениваю его таковым.
Дело, мне кажется, в том, что нравственное состояние человека не всегда, и, скорее всего, очень редко, и где-то в развитии человеческого существа, пребывает в высшей зенитной точке.
Наше существование внутри общества, внутри его особых категорий – нации, долга, закона, обычая, в окружении явлений и лиц, исторически сложившихся вне нравственного идеала, – это наше существование требует от нас практического осуществления.
Ибо вне практического осуществления нравственность становится абстракцией, и ее существование равно несуществованию.
В этом практическом осуществлении нравственности есть состояние преднравственности, то есть нравственное осуществление личности в конкретных обстоятельствах, в общественных условиях, когда, в сущности, для человека нет выбора между высшим и низшим либо в силу неразвитости, либо по принятому решению соучаствовать в определенной исторической или просто конфликтной ситуации.
Принцип «не убий» неминуемо должен быть нарушен в войне, даже справедливой, в состоянии самообороны или защиты другого от убийства.
Осуществление естественного права самозащиты или защиты национальной, или социальной, или личной и относится к сфере преднравственности.
И конечно, не покаяние, не ощущение греховности этого состояния выводит личность за его пределы – к высшему принципу, к идеалу.
Состояние преднравственности не является предметом оценки. Оценивать его можно только с точки зрения тенденции и завершения.
Преднравственность достойна, если ведет к нравственности.
Преднравственность деградирующая не имеет оправданий.
Основная беда нашего военного поколения литературы в том, что большинство ее представителей в поэзии и прозе преднравственное состояние ретроспективно оценивают как свое высшее нравственное достижение. Потому и нет «военного периода» в нашей литературе, вернее, есть – лишь по внешним признакам, количественно, а не качественно. «Военный период» по нравственному качеству не отличается от всех других времен литературы воспевания власти.
Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать его интонации и повторять его ситуации, не понимая истинного значения нравственной позиции Толстого по отношению к войне, проявившейся уже в «Севастопольских рассказах». В сущности же, наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы, принятой всерьез: «война все спишет».
Нет, не спишет! Не списала.
Роман про себя
Завиден язык повествований XVIII века! Хорошо бы слогом «Вильгельма Мейстера» описать эту часть моего учения. Деревянные вагоны санлетучки и детей, подбегающих к дверям на маленьких станциях, просивших: «Дяденька, дай хлебца или супчика!», описать ночную бомбежку в Волховстрое, где наш состав стоял между горящими цистернами и эшелонами со снарядами, и раненые выбрасывались из вагонов и ползли, кто не мог бежать, подальше от станции; описать фронтовой госпиталь в Бокситогорске, а потом госпиталь в Рыбинске, набитый ранеными, где мы лежали по двое на койке, и сосед мой, повар, могучий детина, оттеснивший меня на железную перекладину, мучил разговорами о кулинарии, часто повторяя слово «фритюр»; и чувство голода, потому что медсестры не успевали нас накормить; и погрузку в настоящий санпоезд с рессорными койками, в вагон, куда приходил баянист; и как нас везли далеко на Урал; описать, что где-то окончилось затемнение и мимо пошли освещенные города, а днем в окно были видны ручьи и подтаявшие сугробы; на душе было радостно, потому что – живой.
Мы прибыли в Красноуральск во второй половине апреля. Этот город окружен зелеными холмами; холмы – Уральские горы. Близко к полуночи здесь еще видна полоска вечерней зари.
Красноуральск открыт с четырех сторон. Он новый. Прямые и пустынные улицы не замощены, барачного типа дома не успели постареть. На телеграфных столбах не высохли медовые слезы. Рядом – шахты, медеплавильный завод, железнодорожная ветка. Пустыри, даже в центре, вскопаны под картошку.
Население города состояло тогда преимущественно из женщин, казалось – из молодых. Может быть, старухи сидели по домам, а мимо школы, в которой был размещен эвакогоспиталь № 1932, ходили те, кто помоложе, и, не смущаясь, поглядывали на окна, где торчали весь день молодые солдаты в гипсах и повязках.
На Урале в русских лицах проступают татарские скулы, местный говор округлен и приятен.
Чуть оправившись от первых болей, я начал читать запоем.
В бывшей школьной библиотеке были пестрые книги: Стендаль, «Разговоры Гете с Эккерманом»; Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Павленко и даже первый том «Эстетики» Гегеля.
Важных и оригинальных мыслей в любой период жизни у нас не так уж много, и они у разных людей поразительно схожи, поэтому часто приходится признавать правоту людей чуждых, а то и враждебных. Только фанатики способны отринуть идею, если она высказана не их устами. Не надо бояться совпадений. Ум, состоящий из самых верных и благородных определений, часто не выше банальности. Уникальность ума проявляется во взаимодействии мыслей, в их сцеплении, в особенности их произрастания, в том веществе мышления, которое уникально и неповторимо.
Многие мои госпитальные размышления были неглупы. Но вещество их было водянисто.
Все же что-то в них было, вернее всего – признак времени, ощущение его.
Устная эпопея «Поколение сорокового года» разрасталась и оформливалась во мне, став костяком для разнородных размышлений. Она уже приобретала некое строение, то есть строй мыслей, и части ее носили весьма характерные названия.
ЧАСТЬ I: Освобождение от сует (1939 год – Финская война).
ЧАСТЬ II: Воспитание чувств (Финская война – 22 июня 1941 года).
ЧАСТЬ III: Воспитание характера (вся война до конца).
ЧАСТЬ IV: Солдаты возвращаются с войны (неопределенное число послевоенных лет).
И наконец, эпилог под названием «Соразмерность замыслов и прав».
Забавно, что роман мой осмысливал не только прошедшее, но и расчислял будущее, что гулял по времени вперед и назад.
Не так уж плоха мысль о соразмерности замыслов и прав, не только я, неопытный в мыслях юноша, но и мудрый Пастернак в своих фронтовых записях, но и прожженный граф Алексей Николаевич Толстой в своем дневнике тоже мечтали о соразмерности права и замыслов. И замысел этот был – свобода. Война была осмысленна и одухотворена, кровь только в том случае не зря пролита, если замысел о свободе приобретал право на осуществление.
Мы знаем, какое крушение потерпел этот замысел в 1946–1948 годах, как грубо был пресечен и изничтожен. Но те, кому удалось прожить до нашего времени, знают, как мощен оказался заряд этого замысла, и, как ни трудно осуществляется он в сознании всех поколений русского общества, он неминуемо должен воплотиться.
До июня я был лежачим больным. Конспектировал Гегеля. Писал длинные письма преданной приятельнице Э. Чериковер, рыжей поэтессе с лиловым от смертельной болезни лицом, бесконечно верившей в меня и всегда в кого-нибудь влюбленной. И переживал туманные письма В.
Едва разрешили встать с койки, как я с новым другом – морячком Петькой Срословым – стал смываться в город.
Госпиталь наш отличался стилем сугубо штатским. Начальником его была славная толстая баба в чине полковника медслужбы. Врачом моим был незабвенный Яков Яковлевич Иванов, бывший земский врач, добряк и идеалист.
Медичка третьего курса Аллочка, ведавшая сероводородными ваннами и потому прозванная Серочкой Водородовной, достала мне гимнастерку, брюки и сапоги.
Дом культуры был центром жизни городка. На танцплощадке происходил скромный парад красноуральских невест и вдов. Мы, раненые, стояли шеренгой вокруг. А внутренним кругом, редко вальсируя – шерочка с машерочкой, – циркулировали они.
Во время фильма «Свинарка и пастух» рядом со мной, навалясь телом и жарко дыша, сидела райкомовская повариха Леля, тридцатилетняя, изнывающая, в сиреневом, чуть не лопающемся крепдешине, – Леля, готовая на все. Она неловко надавила на мой гипс. Я пискнул и очнулся.
Мы пошли втроем – Леля, Петька Срослов и я. Она проворно поджарила яичницу на сале. Выпили спирту.
Потом я сидел часов до трех ночи на пороге барачного дома и ждал Петьку. Без него в госпиталь вернуться я не мог. Мы влезали в окно. Сперва я подсаживал его – он был ранен в ногу. Потом он здоровыми руками втаскивал меня…
Я полагал, что знаю не только, о чем надо писать роман, но и как следует писать.
Фраза должна быть сжата. Следует избегать иностранных слов там, где можно изъясниться русскими… Фразы отрывистые и напряженные в иных местах обогащать сложными и плавными периодами, чтобы слова обнаруживали богатство звучания и смысла. Помнить: основное – смысл. Если мысль хороша – ей легко воплотиться в слово. Уподобления редки и неожиданны. Обилие метафор делает стиль вычурным и раздробленным. Основное – эпитет. Он выдерживает испытание временем. Сравни «облака, как перья на шляпе». Или просто – «перистые облака».
Самое любопытное, что, давая себе столь разумные советы, я не собирался писать роман и никогда всерьез не приступал к делу.
Может быть, мы стали слишком холодны, записывал я, в своем безудержном желании дойти до сути. Наше существование противоречиво и парадоксально. В мире, разъятом страстями, мы пытаемся сохранить единство разума и сердца. Отрекшись от романтики, живем по канонам романтизма; избавившись от тщеславия, приобретаем самоуверенность; дойдя до утверждения, продолжаем отрицать. Способные двигать горы, все еще бросаем камешки…
…У меня холодное сердце и пламенный ум, записывал я в ту пору.
Официальной моей девушкой числилась Валя Тархова, хорошенькая секретарша из госпитальной канцелярии. Помню до сегодня ее матерчатые туфельки. Она была так опрятна, что только сейчас я понимаю, как бедно была одета. И оттого сжимается сердце.
У нее был поклонник – пожилой мрачный бухгалтер. Он приходил на танцплощадку, становился под деревом и, набычившись, смотрел на Валю. Она зябла под его взглядом, брала меня под руку и поправляла воротничок гимнастерки. Относилась ко мне по-сестрински.
Для разработки пальцев раненой руки мне принесли беззвучную клавиатуру. Играть на ней было скучно. В Красном уголке стояло старенькое фортепиано. Я приходил туда и подолгу барабанил военные песни и немыслимые импровизации. Оттого слыл музыкантом. Срослов благоговейно сидел у меня за плечом, допуская в храм искусства только избранных. Среди них присутствовали безногий узбечонок Ахмедка и малый со множественным ранением всего тела. Он был загипсован от пупка до шеи, руки разведены в жесте парковой статуи и откликался на прозвище Статуй.
Узбечонок нам был нужен. Палату безногих не проверяли после отбоя. Я перетаскивал Ахмедку к себе на койку. Дежурный врач ощупывал Ахмедку, спавшего за меня. Расплачивался компотом.
В музыкальный салон приходил еще и рентгенолог. Тихий идиот, сочинявший романсы на собственные слова. Кое-как я записывал на нотной бумаге его опусы.
Якову Яковлевичу я дарил фривольные стишки и эпиграммы на местные темы. Старик хохотал до слез, дивился легкости слога и лечил не торопясь.
Главный хирург по кличке Тишка, похожий на мясника одеждой и повадкой, однажды призвал меня в свой кабинет. Он был молчалив и страшен. Яков Яковлевич присутствовал тут же. Он велел мне прочитать эпиграммы. Тишка молчал. Он достал какие-то щипцы, зажал меня между коленями и, недолго пошарив в свище, вынул осколок с полкуска пиленого сахару. Я охнул. И тогда Тишка захохотал.
– Ловко, – сказал он басом, – ловко пишешь.
Над стишками моими потешался весь госпиталь, и я выхлопотал командировку в Свердловск, где в ту пору находился ИФЛИ, вошедший в состав Московского университета. Хотелось повидать кого-нибудь из ребят.
С трудом влез в вагон. Петька подал мне в окно парусиновый наматрасник в красную полоску, набитый продуктами. В госпитале не поскупились. Я долго стоял на одной ноге в полукупе, балагуря с тремя девицами, чудом уместившимися на четверти нижней полки. Поезд уже набрал скорость, когда к нам пробился курчавый заика средних лет, оказавшийся писателем Евгением Пермяком. Он потребовал, чтобы раненый лейтенант освободил ему место на верхней полке. Лейтенант спокойно острил. Четверть часа их полемика веселила вагон.
Настала ночь. Я примостился на полке в полувисячем положении. И долго врал Пермяку про фронт. Он ахал, восхищался русским интеллигентом из армейских низов. Горячо приглашал к себе. Обещался написать обо мне Шагинян. Однако адреса не дал.
Н. пережил любовь, и радость, и печаль, записывал я. Но все это как-то в нем исказилось из-за вечно неудовлетворенного самолюбия.
Его лучшие дни прошли в кругу людей, которых он впоследствии презирал, но чья печать осталась на нем навсегда.
Эти люди много знали, были добры и скромны. Они гордились своей скромностью, а это худший вид тщеславия.
То, что происходило в них, они считали сугубо важным, ибо не знали и не хотели знать иной жизни, кроме своей. Такого рода люди по-особому наивны – тщеславной наивностью.
Они любили друг друга, но больше никто им не был нужен. Остальной мир казался им банальным, они считали, что живут «не как все». В попытках быть «не как все» они постепенно утратили искренность и начали актерствовать. Они даже не заметили, как превратились в актеров.
Н. жил между этими людьми и до поры не хотел от них отличаться. Читал нараспев «Соловьиный сад» Блока и таскал в кармане бодлеровские «Записки вдовца».
Вечные усилия извратили его характер.
Иногда естественные чувства готовы были прорваться простыми словами. Но он мгновенно ловил себя на этом, смущался и произносил родившиеся слова тоном насмешки, обесценивавшей их значение. Потому посторонним казалось, что он знает еще что-то. А он ничего не знал. И к девятнадцати годам почувствовал скуку.
Утром, подъезжая к Свердловску, я пригласил трех своих соседок в театр. Собственно, интересовала меня одна – красотка Нина.
Ввечеру я стоял у оперного театра, купив четыре билета. Рука моя была в лангете. На плече висел мешок из матрасной ткани, похожий на флаг Соединенных Штатов. Девицы долго не шли. Наконец появилась подслеповатая Вера. Я зверел от досады. В последнюю минуту прибежала Нина, и мы втроем вошли в театр.
Давали «Дон-Кихота». Танцевали Дудинская и ленинградский балет.
Меня угнетал матрас. Я пытался сдать его в гардероб, но гардеробщица наотрез отказалась:
– Украдут продукцию – а я отвечай.
Пришлось идти в ложу с полосатым мешком.
Заиграла музыка. Нина сидела рядом, прижимаясь плечом.
В антракте я уныло кружил по фойе под руку с Ниной, волоча злосчастный матрас.
Зал был наполнен отощавшими балетоманами, солдатами и девушками. Бледной казалась музыка, бледными выцветшие декорации. Лица балерин под гримом были худы и печальны.
Весела была Нина, когда я провожал ее пешком через весь город куда-то в дальнее предместье. Она рассказывала о женихе, фронтовом офицере. Светало.
Отыскать Московский университет оказалось делом нелегким.
Я стоял, ожидая трамвая. И вдруг откуда-то с неба слетела – в белом легком платье – бледный ангел на плечо – моя соученица Милочка Ляхова – с поцелуями, со слезами: «Откуда? Жив? Слава богу!».
Университет в этот день, оказывается, возвращался из эвакуации в Москву.
Собралась небольшая толпа. Говорили, что, дескать, невеста, а жениха, мол, убило. Думала, что убило. А он раненый. И не знал, куда писать.
И уже кто-то из женщин всплакнул. Мы уехали в трамвае, а на остановке, наверное, еще долго говорили о нас.
В общежитии находились только девчонки. Потом отыскался Орлов по прозвищу «Мясо» – за прыщавое лицо. Он сейчас, говорят, профессор. И милый Милька Люмкес, единственная отрада, – близорукий Люмкес, настолько подслеповатый, что его отчислили из действующей армии доучиваться истории немецкой литературы.
Все заняты были сборами. Я обижен был равнодушием и вялостью, с которыми отреагировали на мое лихое явление. «Тыловые суки!» – разочарованно думал я. И стал вынимать из матраса угощение. Тут все оживились. Я извлек две буханки белого хлеба, сало, банку с американской колбасой, сахар и масло. Еда исчезла мгновенно. И тогда все словно опьянели. И тогда только обрадовались мне. Я понял, что вялость была от голода. И девочки, и милый Люмкес действительно опьянели от еды.
Я читал стихи. И какой-то шальной математик, как теперь выяснилось – один из братьев Ягломов, вопил, что это здорово. И Милька расспрашивал и рассказывал. Мы никак не могли наговориться.
Милый Люмкес, который тогда уже прекрасно переводил Рембо и Грифиуса; Люмкес, который вернулся в Москву из эвакуации в мае 43-го года и вскоре, несмотря на слабость зрения, попал на войну и успел погибнуть; милый, умный, ученый Люмкес, от которого осталось лишь несколько переводов, – как жадно разговаривали мы в тот день!
К вечеру я помог ребятам погрузиться в эшелон, отбывавший в Москву. Мы с Милочкой Ляховой стояли в тамбуре. Эшелон тронулся, и я проехал до какой-то ближайшей станции. А когда простился и сошел с поезда, была уже ночь, звездная, теплая, ясная. Составы на Свердловск не шли. Я прошел по путям, потом свернул в кусты, подложил под голову опустевший матрас и заснул, счастливый, вольный, сам по себе, не отягченный ни домом, ни бытом, ни совестью.
Так спалось только тогда, во время войны, в часы отдохновения и свободы.
В госпитале ожидали меня два письма. Одно от В., где она в своей меланхолической манере сообщала об отъезде в Якутск с геологической партией. Надо было послать ей телеграмму: «Приезжай!..». Но было уже поздно.
Во втором письме родители переслали мне краткое сообщение из пулеметной роты, где говорилось, что я представлен к боевой награде.
Скромный бой, в котором я был ранен, сразу представился мне в новом литературном оформлении. Приятно было поверить в геройство и отвагу и в укрепленный пункт. Это был язык сводок Информбюро. Медаль сияла в моем воображении. Я, впрочем, ее так и не получил.
Тем не менее письмо из роты наполнило меня чувством благодарности и новым солдатским самоощущением. Остальную часть войны я был уже не новобранец, а бывалый воин, «проявивший геройство и отвагу при взятии».
В госпитале пробыл до 9 августа. Уже начала одолевать скука. Приелись госпитальные удовольствия. Приказ о выписке я встретил почти радостно. Последний раз побренчал на фортепиано. Сзади хлюпал носом Петька Срослов. Он пошел меня провожать. Зашли к Вале. Она выкинула все лишнее из моего вещмешка. Уложила чистые подворотнички, носовые платки, нитки и прочую мелочь. Все домашнее, опрятное и бедное, как сама Валя. Потом начала укладывать чуть не месячный свой паек продовольствия. Я протестовал. Тогда она заплакала. Мы плакали втроем – она, я и Петька. И это облегчило нас. Почти весело мы отправились на станцию. Меня подсадили в окно вагона. Валя и Петька кричали, чтоб писал. Обещались друг другу увидеться.
В тени у багажного сарая стоял, прислонившись к стене, Валин бухгалтер и ждал своего часа.
В самодельной записной книжке тех дней в виде эпиграфа стояло изречение из Ницше: «Что не убивает меня, то меня укрепляет».
Откуда мог появиться характер, подобный К.? – записывал я. Он был болезненно честен. Это качество всегда выражалось у него как-то порывисто, мучительно и неловко. Сильные натуры обычно страдают излишком любви, смелости, упорства. Но как бы бурно они ни проявлялись, в них всегда остается определенная гармония. Люди от природы слабые страдают от излишка других чувств – веры, честности, долга. Но эти качества всегда проявляются как-то неровно, искривленно, болезненно. То, в чем им отказала природа – внутренняя сила, то есть умение жить, непременно восполняется истерическими порывами самооценки.
Сильные люди редко бывают фанатиками. Фанатизм – сила слабых. Страшным напряжением воли они заставляют себя следовать раз избранному пути. И ужасаются, что малейшее отклонение их погубит. Поэтому они разрушают вокруг все соблазны жизни.
Четвертый раз за войну я пересекал Россию, Она казалась веселей и спокойней. Может быть, оттого, что в воздухе чувствовалась светлая осень.
В Горьком на вокзале какой-то солдатик, оглядев мое обмундирование, сказал:
– Сапоги продай, солдат! В запасном все равно отберут.
Вдвоем отправились на барахолку, где сменяли новую обмундировку на б/у третьей степени, получив приплату хлебом и салом, и тогда уже отправились в полк.
В лагерях запасного полка под Горьким, в Марьиной Роще, на голых нарах гвоздем кто-то нацарапал истинно лагерное изречение:
«Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет. Учти! Горя хлебнете!»
Мне как всегда везло. Не успел я горя хлебнуть и учесть, как нас построили в одну шеренгу, скомандовали рассчитаться по порядку номеров.
Я был девяносто девятый. Отсчитали сто человек. Сотый – Сашка Лебедкин – будущий друг.
Нас повели в речной порт, погрузили в нутро пароходика. Мы тут же завалились спать на верхних полках трюмного помещения. Делать было нечего, куда везут – неизвестно, а двухдневный сухой паек съеден еще на пристани. Оставалось спать.
Через ночь высадились на берег в Лыскове. На маленькой пристани одинокая старуха стерегла рогожные кули.
– Что у тебя, бабка?
– Три упокойника…
От Макарьева через приволжские дубравы пошли в леса километров за тридцать вверх по Керженцу; там, в Усть-Ялокше, и разместились в шалашах и балаганах.
Нам предстояло заготовлять дрова для полка.
Уничтожение леса – признак цивилизации, а не культуры. Но сама рубка деревьев – жестокая азартная работа – сродни охоте. При этом переживаешь азарт и жестокость подлинной борьбы за существование. Дерево падает, трепеща всеми ветками, со вздохом, как живое существо.
Переделка природы пока означает ее погибель. Люди, деревья и звери уцелеют только в том случае, если цивилизация подчинится культуре. Утешает, что культура непрерывна. Мы забыли, как плетут лапти. И помним «Песнь о Гильгамеше».
Валить лес – работа тяжелая, но здоровая. С рассвета до трех-четырех дня мы валили березы и елки, обрубали ветки, крыжевали стволы и таскали на плечах двухметровые поленья километра за полтора к реке. Жгли сучья. От больших костров стлался трехслойный дым – белый, черный и зеленоватый.
Потом отдыхали, варили обед в котелках. На троих – два котелка. Моими сотрапезниками были Сашка Лебедкин, паренек с Ветлуги, природный лесовик, и Ванька Козырев, толстый прожорливый увалень, по военной профессии – санинструктор. У Ваньки ложка была величиной с черпак. И поскольку хлебали мы по очереди – ложку я, ложку Сашка, ложку он, – то добрую половину котелка выхлебывал Ванька; особенно жалко было, когда дело доходило до гущи. Сашка однажды выкрал Ванькину ложку и подстрогал ее до нормальных размеров. Ванька в обед достал ложку, поглядел, огорчился. Но смолчал.
Пообедав, мы с Сашкой отправлялись добывать пропитание: то шли по грибы, а то – в полузаброшенный поселок лесорубов. Там спали полночи, а потом во тьме пробирались к совхозному полю воровать картошку.
Жизнь у нас была вольная, потому что лейтенанты, посланные с нашей командой, обосновались в селе, километрах в двадцати от наших делянок. И там, по слухам, прижились при учительницах. Гуляли и пили. А по ночам шало носились в полуторке по лесным дорогам, выменивая на заимках солдатские пайки на самогон. Нам от пайков доставались крохи. Но на свободе и мы кое-как кормились. И были рады, что лейтенантов с нами нет.
Старшина, который управлял нашим нестройным войском, убедившись, что дневной урок выполнен, уходил в ближайшую деревню, где пристроился к солдатке. А за ним сбегали и мы, унтера, в деревни подальше, в лесные заимки, кто к девкам, а кто повечерять с хозяевами и отоспаться на теплой печи.
Мы с Сашкой на гулянки ходили не часто, да и что там было делать. Мальчонка-гармонист бесконечно наигрывал одну и ту же мелодию, под которую пели частушки, начало медленно, а конец – часто. Пели девки, сбившись в кучу. А солдаты сидели на бревнышках, покуривали, балагурили, задевали девок. А когда наставала ночь, те по одной испарялись во тьме, а за ними по одному солдату. И гуляли где-то до зари парочками, покрывшись шинелью. Мальчонка-гармонист наконец вздыхал и, наигрывая, уходил вдоль деревни.
Если бы можно было, записывал я, очистить сознание А. от разнородных примесей, от того, что было прочитано и услышано, от всех хитроумных соображений, возникших в его мозгу по тому или иному поводу, то главной идеей осталась бы идея относительности.
Становясь основой убеждений и, следовательно, частью характера, эта идея разрушает всякую твердость принципов. Можно сказать, что всякий рефлектирующий подлец или эгоист существует именно этой идеей. Разросшись до масштабов государства, она самым ханжеским образом оправдывает насилие. Проникнув в искусство, губит понятие о прекрасном.
Детей нельзя воспитывать в понятиях относительности всего, как это делал отец А. для того, чтобы облегчить себе задачу воспитания. Для детей это означает, что все дозволено. Но так как человеческая натура требует какой-то прочности, ребенок инстинктивно ищет ее в самом себе. Он становится эгоистом.
А. считал себя аристократом духа. Вслух он этого не произносил. Притворяясь равнодушным ко всем, он был от всех зависим. Более всего он хотел нравиться. Произвести хорошее впечатление на всех – единственное, к чему он стремился и ради чего мог совершить поступок…
Часто с Лебедкиным отправлялись на заимку к старику Сулейману.
Санька был идеальный товарищ – незлобивый, веселый и неунывающий. Теперь все реже встречаются люди такие, как он, – люди, для которых физический труд – душевная потребность, способ самовыявления, бескорыстная надобность. Небольшого роста, коренастый, он был необычайно силен. Работал в лесу без устали, без перекуров, всегда пошучивал, приговаривал. Валить любил самые большие деревья, таскать самые тяжелые комли. Он был сметлив, ловок и поистине одухотворен, совершая работу, для других утомительную и однообразную. Он был человеком такого труда, в котором духовные начала искал Толстой и который в наше время, поскольку человек по природе должен выявляться и как физическое существо, все более заменяется спортом. Но спорт – это азарт самоустремленный, выявление самоутверждающее. Если и говорят теперь об интеллектуализме спорта, то это лишь умение при помощи науки отыскать кратчайший путь от старта к финишу. Спорт – самослужение, саморазвитие, самоцель физического существа.
В труде Сашки Лебедкина преобладала, пусть неосознанно, цель преобразования энергии мускулов в некий целесообразный результат, выход из себя в «другое», то есть творческое начало, духовная надобность.
Натуры, подобные Лебедкину, изживаются веком техники. И, видимо, исчезнут навсегда. Как на смену следопыту и землепроходцу приходит турист, на смену скороходу – марафонец, на смену охотнику – член общества охоты и рыболовства.
Сулеймана, к которому мы ходили, не знаю, как звали на самом деле.
Сулейман – прозвище. Старик он был чокнутый, в ту войну его пришибло. Жил на заимке со старухой и глухонемым сыном. Плел мордовские лапти и молол про Николая Николаевича, великого князя, про высочайший смотр, про Перемышль и про немецкий плен. Порой говорил и к делу. С хлебом было у них скудно. Но картошки с солеными груздями старуха нам не жалела, а то наливала и по кружке молока. Поев и послушав Сулеймановы байки, залезали на печь к немтырю.
В тех местах народ верующий – большинство староверы. И хотя вера уже сильно пошатнулась – табак курили, хмельное пили, – к солдатам относились как к божьим странникам. Кормили и пускали в дом на ночлег.
Помню, приглянулась Лебедкину молодая староверка, военная вдова. Он ей дров нарубил, сложил в сараюшке. Однажды остались у нее ночевать. Постелила нам на лавках, а сама всю ночь простояла на коленях перед иконой, молилась шепотом, упрашивала и укоряла бога. Утром попросила:
– Не ходите ко мне больше, ребята.
С тех пор и стали мы навещать Сулеймана.
Иногда среди ночи заваливались к нему наши лейтенанты – просили то меду, то соленых грибов. Мы поглубже утеснялись на печи. А когда начальство отбывало, Сулейман говорил:
– С вашего добра гуляют.
Однако начальство не осуждал. Он считал, что русский человек ко всякой работе способен. Но взяться толково и дружно за дело не может. Потому ему нужно начальство.
– Только путного начальства у нас мало. Оттого вся дурость на Руси, – добавлял Сулейман.
Хороша на рассвете лесная дорога! Восемь верст отмахать – пустяки. Еще сыро и зябко. Но золотисто отсвечивают верхушки деревьев. Посвистывают в кустах негромкие осенние птицы. Сашка знает их по голосам. На днях видели журавлиную стаю. Осень. Конец сентября. Сашка поет во весь голос:
Молодые мои ноги На угодья не идут. Молодые мои годы Без залеточки текут! Э-ха!Любоваться природой я не умею. Мне чуждо праздное восхищение красотой. Природа не музей. Ее не рассматривать надо, а проживать, как проживал ее Бунин. Для казаха мила и голая степь, и какой-нибудь суслик говорит его сердцу, ибо он проживает природу; для него она пастбище для верблюдов или источник для овец. Проживание природы означает практические, жизненные отношения с ней. Отсюда же порождается истинный поэтический образ природы как атмосферы и условия человеческого действия. Образ, который все меньше дается поэтам XX века, воспринимающим и воспроизводящим явления природы как отдельные, иногда сильные, впечатления. Это и есть «пейзажная лирика».
Лесная тропа, узкие постройки ельника, записывал я, березы с лишаями, похожими на рукомойники. Потом – просвет и белая вода в песчаных берегах, как бы вобравшая в себя свет и оставившая ночи всю черноту…
Российский солдат вынослив, неприхотлив, беспечен и убежденный фаталист, записывал я. Эти черты делают его непобедимым.
Вместе с тем он прожорлив, вороват и груб.
Впрочем, в разных обстоятельствах он проявляется по-разному.
Есть три главных его состояния.
Первое. Без начальства. Тогда он брюзга и ругатель. Грозится и хвастает. Готов что-нибудь слямзить и схватиться за грудки из-за пустяков. В этой раздражительности видно, что солдатское житье его тяготит.
Второе. Солдат при начальстве. Смирен, косноязычен. Легко соглашается, легко поддается на обещания и посулы. Расцветает от похвалы и готов восхититься даже строгостью начальства, перед которым за глаза куражился.
В этих двух состояниях солдат не воспринимает патетики.
Третье состояние – артельная работа или бой. Тут он – герой. Он умирает спокойно и сосредоточенно. Без рисовки. В беде не оставит товарища. Он умирает деловито и мужественно, как привык делать умное артельное дело.
В бою он прекрасен…
Первое солдатское ощущение Л. – исчезновение вещей, поразительная легкость быта, чувство освобождения от груза лишних предметов. Он думает о спартанском государстве. О пользе воспитания в солдатской скудости быта.
Наконец-то я перестал искать причины неполноценности своих героев и пытался воссоздавать условия, в которых им придется существовать. У меня появился новый опыт. И довоенные картины стали постепенно заменяться другими.
Мужик и рабочий верят в себя и в свой труд.
Моя главная мысль была об избавлении от чувства единственности, об избавлении от него без утраты веры. Мы же вечно ищем веры, а главный свой труд – создание нравственного климата, без которого не может существовать нация и ее культура, – считаем за второстепенное.
Между тем именно вера изначально дана нам средой, в которой мы развивались. Можно изменить воззрение, а не веру.
Утративший веру – новую не обретет. Лишенный любви и благодати – ими не осенится.
Сама потребность веры еще не создает верующих. Потребность осознаваемая, «духовная жажда» порождает часто «неразборчивость веры», ибо уровни этой потребности разные, соответственно уровню личности. Жажда требует утоления и тем скорей, чем слабее личность. Терпеть жажду умеют лишь сильные.
Среднее статистическое «духовной жажды» выражается в среднем предмете веры. Жажда эта порождает чаще не людей верования, а людей церкви. По нашему времени это естественно, ибо исходит из сложившегося годами и уже поколениями мышления субординационно-коллективистского.
Слабые верой приходят к церкви, забыв, что в России церковь всегда подрывала устои веры.
Невольная ошибка людей новой веры в том, что они, став людьми церкви, полагают, что стали истинно верующими. Божья благодать кажется им легко достижимой.
Если бы было так! Истинная вера дается с трудом. Либо собственным глубочайшим прозрением, либо принятой на себя мукой, либо строем и направлением жизни, воспринятым с детства как данность. То есть, в конечном счете, той же выстраданностью, но исторической, семейно-традиционной.
Глубокое же прозрение – явление редчайшее. Оно порождает пророков и апостолов, то есть не приводит к новой вере, а лишь вскрывает заложенное искони.
…Первые полтора года моего пребывания в армии были единственным временем, когда я жил среди людей, подобных Косову и Лебедкину, ничем не отличаясь от них по способу жизни, не будучи сторонним наблюдателем. Сама жизнь помогла мне принимать и усваивать практические понятия и душевное состояние новой среды. Это было большое везение, хотя в ту пору не всегда так казалось.
Я понял тогда, что народ не однородный фарш истории, а соединение личностей, из которых каждая способна сознательно и полноценно осуществляться согласно своей внутренней цели. Единство языка, культуры и судьбы порождает черты, сходные у многих, которые мы именуем народным характером. Но на деле народ – это неисчерпаемое множество характеров. В сходных чертах их нет ничего извечного, постоянного и застывшего. Напротив – свежесть и энергия русской нации, ее историческая неосуществленность способствуют развитию и постоянному изменению обстоятельств и характеров.
А общие, присущие русским черты, порожденные действующими факторами русской истории – безжалостной мощью и своеволием власти, беззаконием, скудостью быта, – есть черты не народные, а национальные. Это русский фатализм, неверие в прочность счастья, податливость перед насилием власти, компенсируемая жертвенным сопротивлением внешнему нашествию; безудержные выплески щедрости и гнева; умение ждать, мириться и, подспудно чувствуя неправомерность ожидания и примирения, предаваться жесточайшим мучениям совести, самоосуждению, внутреннему самоистязанию.
Современные почвенники под народом разумеют здоровое ядро нации, как бы неизменное во времени; вокруг же ядра – шелуха, наподобие луковой. Самые бездарные почвенники шелухой считают интеллигенцию, а власть, по их понятию, располагается в самой толще ядра, является ядром ядра и даже, может быть, чем-то большим, чем ядро; как у сумасшедшего: шар, внутри которого помещается другой, значительно больших размеров.
Почвенники-интеллигенты шелухой считают власть, бюрократию. Эта схема во многом симпатична, ее можно бы и принять, но с одной поправкой: народ, ядро нации, изменяется, а последние полвека довольно быстро, резко меняются социальная материя ядра и все его свойства. Само ядро отшелушивается во власть. И покуда идет это шелушение – власть у нас будет стоять твердо, ибо от ядра неотделима.
У славянофилов прошлого века были основания считать, что ядро нации неизменно. Ибо народ были крестьяне, среда, изменявшаяся крайне медленно по сравнению с эволюцией дворянства (от екатерининских вельмож до декабристов) или священства (от деревенского попа до Добролюбова). В славянофильстве, кроме того, содержалась и некая вселенская идея – православие, всеславянство. Недаром они славянофилы, а не русситы. Славянофилы были обращены к настоящему и к будущему. Наши же почвенники хотят, чтобы общество двигалось вперед задом. Они изображают народ тем же, что при старых славянофилах, дворянах, хотя народ уже не тот, а дворян и вовсе нету. Борясь с мифом космополитически-интернациональным, почвенники создают свой миф – сентиментально-провинциальный, овчинно-лапотный, запечный. Своя вонь – лучший запах, как сказано где-то у Шекспира.
Запечный миф имеет свое запечное происхождение. Народ уже не крестьяне, но он еще из крестьян. И как в старину, построив новую избу, мужик в лапте уносил туда запечного жителя – домового – из старой хаты, так из отцовских и дедовских изб запечный миф переехал в Новые Черемушки.
В наше время нация – конгломерат, который стараются скрепить клейкой идеей исключительности: исключительность судьбы, культуры, характера, климата, природы, пространства, даже недостатков.
Нация самоопределяется вплоть до отделения. Отделения от человечества. В наше время разделение наций рождается на глазах на основе наречий, неправомерных границ, а главным образом – ввиду крушения вселенских идей и торжества идеи, которая сродни одиночеству.
Если вычесть из нации все слои, которые являются носителями идеи разделения, то есть слои власти и идеологии, интеллигенцию, дворянство, буржуазию, служилый люд, то останется уже не нация, а народ.
У народа идеи исключительности нет. Есть идея отличия – религии, обычая, нравов. Идея отличия, не более.
Идея исключительности прививается народу сверху, подменяет идею отличия и порой придает народам звериный облик.
…Еще во время войны русский народ были крестьяне. Война ускорила процесс разрушения деревни, так называемую урбанизацию. Перед войной колхозники составляли половину населения страны, сельское население – две трети. Сейчас, я думаю, чуть больше одной десятой работает на земле.
Война уничтожила миллионов десять работящих мужиков. Столько же (кто помоложе), демобилизовавшись, до деревни не доехали, а осели в городах, сперва сбоку припеку, при вдовах и перезрелых невестах, а потом отстроились, поселились, укоренились. И постепенно преобразовались в новый народ, у которого в памяти деревня, деревенское детство, мать и тятя, дядья и тетки, в памяти преобразованная в сельскую идиллию жизнь, – а в реальности хватка средних горожан.
Они-то и составляют народ.
Сознание этого народа еще не утрясенное, промежуточное. Этот народ душевно не порвал с деревней, а реально не порвал и с властью. Ибо шабер, племянник, а то и брат, и сват – кто профессор, кто дипломат, а кто уж так залетел высоко, что, глядя, шапку уронишь. Уже не свой он, а все-таки свой – Вася, Федя, сыны Петра да Феклы.
Никогда еще поэтому вкусы и предрассудки народа и власти не были так близки друг другу. В этом смысле власть у нас народная, хороша она или плоха.
Не утряслись у нас толком ни народ, ни власть, потому и философия у нас еще не утрясенная, доморощенная, то такая тараканно-запечная, что повеситься охота от тоски, а то такая браво-залихватская, что тоже повеситься хочется.
А спорить – с кем спорить-то?
Ведь те, кто мечтает о сельских радостях, об огородах да хороводах, сами же первые в деревне снова не укоренятся, а скорее самолетом куда-нибудь махнут – в Париж, на предмет питания отощавшей ностальгии. И так это, словно нехотя. Ну что ж – кто не хочет в Париж, можно пешочком обратно, в деревню…
Но, пожалуй что, хватит! Тирады моей без передышки хватило от Сулеймана до Ялокши – на восемь верст.
Но тогда разговоры и мысли у нас с Лебедкиным были другие. Как раз капитулировала Италия. Солдаты поговаривали:
– Теперь скоро. До фронта не доедем. Это точно.
– Проточная вода снилась. К воле, – говорил Сашка.
Надежду эту подтверждал слух, что будто мы зазимуем здесь, на Керженце. Слух этот принес от лейтенантов один сержант.
О нем кстати вспомнилось. За сержантом следом всегда ходил якут. Другого начальства не знал, по-русски понимал плохо, а сержант был веселый парень, якута не обижал. Звали якута Ефим, возраста неопределенного. Всегда курил трубку с резным чубуком в виде человеческого лица. Я однажды захотел выменять трубку. Но якут показал на чубук и сказал: «Ефим!». То ли это был его собственный портрет, то ли его личный бог.
В самый разгар слухов о зимовке нам приказали вернуться в Горький. Сборы были недолги. Мы покидали в реку последние кубометры дров, собрались у своих шалашей.
Слух о нашем уходе быстро дошел до ближних деревень и заимок. С узелками, с гостинцами пришли проститься с солдатами бабы.
Стояли кучкой, глядя на наши сборы. А иные, уже не страшась очевидного срама, приплакивались к солдатским плечам.
Пришла проститься со мной фельдшерица Анфиса. Я впервые при свете дня увидел ее невозмутимую красоту. Она любила гулять, держась за руку, и пахла сонной травой. Сашкина староверка не явилась.
Река. Под утро темнеет, голубеет, записывал я на прощание. Утром цвета раннего неба, светло-зеленая у берега. В ней детально отражены облака. Потом она еще темнеет, сохраняя зеленый отсвет.
Вечером, перед заходом – в красно-фиолетовых пятнах.
В пасмурное утро – вода издали похожа на цинк. Когда низовой ветер разгонит тучи, она – синяя, цвета холода, встревоженная, ветреная.
К ночи при ветре – цвета тусклого серебра, с красновато-желтыми бликами.
– На что похоже?
– На зарево, когда горит далеко, – отвечает Сашка.
С ним мы расстались дня через два в Горьком. Сперва было грустно, а потом ожидание грядущих дней, где, может быть, ждала скорая смерть, стерло память о нем, как часто бывало на войне.
Пребывание на Керженце было важной страницей моей жизни. Вспоминая об этих днях, я потом всегда размышлял об обязанностях наших перед народом, о том, есть ли они, а если есть, то каковы. И лишь недавно понял.
Ищущим призвания скажу кратко: производить мысли и распространять их.
Эренбург и прочие обстоятельства
В моей неприязни к Эренбургу кое-кто усматривал оттенок личности. Это неправда. У меня не было личных с ним отношений. Он несколько раз с симпатией отзывался обо мне, цитировал мои переводы в своих воспоминаниях. И однажды помог в важном деле.
Осенью 43-го года я кочевал по карантинам и запасным полкам города Горького. Было голодно, холодно и тоскливо. Томили три желания: поговорить с хорошим человеком, уехать на фронт и поесть.
Поесть удалось два раза. Однажды, почему-то на танке, приехал из Чебоксар мой фантастический дядька. Видимо, эта грозная машина заставила дежурного вызвать меня в проходную. Дядька сидел на броне. В ногах его располагался ящик с водкой. За две бутылки он выкупил меня на целые сутки. Я спал и ел.
Второй раз горьковский врач, знакомый отца, передал мне большую банку консервов. Я полагал, что это мясная тушенка. Пригласил старшину. У него была буханка черного хлеба. Расположились поесть тушенки. Оказалось – сгущенное какао. Пришлось макать хлеб в коричневую сладкую массу.
После скитаний я оказался в седьмом полку в Красных казармах на берегу Волги. Чем-то понравился старшему лейтенанту, командиру роты ПТР, и назначен был писарем. Это означало долгое прозябание в тылу.
Поговорить, в общем, было не с кем.
– Трудно жить без убеждений, – говорил мне батальонный писарь Захаров, юноша долговязый, болезненный, с дурными зубами. – У меня убеждений нет… Я тверд, когда дело касается других.
Приходил тощий еврей Карпель из полкового клуба. Тоже жаловался на жизнь.
С фронтом все было неясно.
Я стремился на фронт не по особым своим боевым качествам. Конечно, играли роль любопытство и желание действия. Но суть в том, что фронтовой солдат в тылу приживается туго, если он не особый мерзавец.
Помню солдата по фамилии Харкевич. Что-то действительно было в нем от хорька. Он заявил себя немцем. Писал рапорты, дескать, я немец и потому имею право на ссылку, а фронта не достоин.
Обычно же фронтовой солдат тянулся к фронту как к свободе. В тылу и кормежка была скудная, и дисциплина зверская, и обращение скотское.
«Кто был, тот не забудет».
Я-то сам, впрочем, обретался не худо. Только уныло. В углу большой ленкомнаты стоял мой писарский стол, где целый день я сочинял строевые записки, разные ведомости и формы.
Напротив меня во всю стену на белой карусельной лошадке скакал Чапаев с саблей наголо на фоне вишневого пожара.
Надо мной портреты вождей.
По стене, сбоку от двери, плакаты с изречениями Суворова и Кутузова, описание подвига рядового Матросова. И указ о дезертирстве и самовольных отлучках.
А за окном – Волга – ровная белая плоскость. Снег, холода.
Солдат выгоняют на занятия, чтобы не портили вида казарменной чистоты и порядка.
А я, соскучившись, начинаю выпускать стенгазету. Сочиняю стишки под Фому Смыслова, фельетоны и передовицы.
Стенгазеты мои вскоре прославились на целый гарнизон. Брать у меня интервью (первое в жизни) пришел Петр Петрович Нестеровский, тогда сотрудник гарнизонной газеты, а ныне киевский драматург.
По длинному коридору казармы шел высокий офицер с лицом артиста Черкасова, без головного убора, шел строевым шагом, вытянув по швам длинные руки, и поворотом головы налево-направо отвечал на приветствия слоняющихся в коридоре солдат.
– Чудак, – подумал я.
Мы сразу же разговорились и скоро подружились. Петр Петрович жестоко скучал в своей каморке при гарнизонной типографии. Иногда забирал меня из полка к себе. Я писал ему «фронтовой юмор», сатирические стишки против Гитлера под псевдонимом Семен Шило, а потом было великое отдохновение и вселенский треп.
Петр Петрович современную поэзию не признавал. Симонова называл «мещанский писатель». Любил забористую французскую прозу и Хемингуэя. Над Ромен Ролланом посмеивался, говоря, что Кола Брюньон – это наш Фома Смыслов.
Стихи мои, выслушав, не одобрил. Сказал, что слишком умственные. И попросил:
– Прочтите что-нибудь другое. Лирику.
Я сам понимал, что в моих тогдашних стихах мало сердца. Хорошо, что они затерялись, ежели где-то и бродят, то под другим именем. Бог с ними.
В ту пору случилось небольшое происшествие, мною начисто забытое, вполне достойное сентиментального рассказа. Изложу вкратце.
Я написал письмо незнакомой девушке, которую видел один раз, а адрес ее узнал случайно. Это явствует из письма. Девушка на письмо не ответила, но его сохранила.
Через сорок лет, к шестидесятилетию адресата, письмо это всплыло, был, по случайности, опознан его автор.
Девушка стала впоследствии известной актрисой, народной артисткой РСФСР Эрой Васильевной Сусловой. Я прибыл в Горький на ее юбилей. Наша трогательная встреча стала сюжетом местной прессы и телевидения. Только мы с Эрой Васильевной никак не могли вспомнить, вследствие каких обстоятельств было написано письмо и виделись ли мы вообще.
Нестеровский, может быть, в итоге наших разговоров, вознамерился отпроситься на фронт, а меня пристроить в газету.
Чтобы представить мой талант во всем блеске, он подрядил меня сочинять веселые вирши для новогоднего бала гарнизонных офицеров в Доме Красной Армии.
Ух и развернулся же я во всю силу воображения, заглушая голодные спазмы желудка армейскими остротами в форме стихотворного конферанса. Начальник Дома был доволен. Он пригласил меня на бал. Однако обмундирование мое было в столь плачевном состоянии, что пришлось позвонить командиру седьмого полка с просьбой приодеть. Командир седьмого полка приказал мне явиться. В назначенное время я предстал перед ним. Это был пожилой угрюмый подполковник с деревянной ногой.
Нитяной мех моей ушанки свалялся и выцвел. Шинель протерлась до мешковины, была коротка и бахромчата снизу, перехвачена лямочным поясом и приоткрывала залатанные колени хлопчатобумажных брюк, давно бывших в употреблении. Так же бахромчаты были залоснившиеся обмотки. Башмаки велики и трижды побывали в ремонте.
Подполковник довольно долго глядел на меня, потом с сомнением спросил:
– Это вы – поэт?
– Так точно, товарищ полковник, – бодро отвечал я, от волнения путая чины.
– А как у тебя внутри? – спросил командир полка не так уже строго, имея в виду части одежды, прикрытые шинелью.
– Тоже плохо, – бодро отрапортовал я.
Командир улыбнулся, позвал интенданта и велел одеть меня во все новое. Это был второй мой гонорар, полученный за юмор. Я удивил всю роту. И многие поверили в силу слова.
Новогодний бал состоялся, но я на нем почти не присутствовал. Военный конферансье из актеров быстро надрался, текст позабыл и нес отсебятину. Лучшие остроты пропали, а остальное заглушал духовой оркестр. Потом заиграл баян. Начались танцы.
Офицерские девчонки визжали и блевали в углах, а присутствовавшее поначалу командование брезгливо удалилось.
Мы с Нестеровским забрались в его каморку, распили бутылочку, поболтали «за жизнь» и часов в одиннадцать завалились спать.
Новый, 1944 год пришел к нам во сне.
Январь протянулся в смутном ожидании. Петр Петрович уехал, на прощание сведя меня с существом всемогущим – с полковым писарем. Тот обещал командировку в Москву.
…И вот я на Белорусском вокзале. Поезда из Горького почему-то прибывают сюда. Трамваи редки. И бегом по Лесной, по Палихе, не замечая Москвы, – бегом всю дорогу – домой. Изумление родителей, беспорядочные расспросы. Я – солдат, фронтовик, со шрамом на левом предплечье, сняв ремень, расстегнув гимнастерку, в папиных туфлях – сижу за родительским столом. И уже мне несут довоенные блинчики, и наливочку, и еще что-то жарят, пекут, достают припасенное для меня, на такой именно случай, если вдруг, неожиданный стук в дверь – и я войду – и вот как сейчас буду есть, курить и пахнуть казармой…
В Москве тогда из молодых поэтов находился один Семен Гудзенко. Я его разыскал, мы по-доброму встретились. Семен был в полуштатском положении. И уже в полуславе, к которой относился с удовлетворенным добродушием. Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении становился первым. Натура он был практическая, мягкого и веселого цинизма с долей сантиментальности и сухого ума. Был приятен.
Ему, как впоследствии Слуцкому, место в литературе уготовал Эренбург. Любопытно, что в обоих случаях Эренбург нашел поэтов не по своему вкусу, а точно почуяв вкус времени. Пикассирующий парижанин был другого вкуса, но хорошо понимал этот средний, полуцивилизованный вкус хорошего человека, стремящегося понять время.
Гудзенко был одаренный поэт, тогда еще искренний. В стихах его были точные и меткие строки. «У каждого поэта есть провинция». Его провинция была война, и вся Россия для него была провинция с мечтой об украинских борщах и жарком. Он становился романтиком борщей и мяса, которого судьба нечаянно поверстала в солдаты.
Я пришел к нему. Мы варили пшенную кашу. Пили водку. И спать легли рядом под двумя шинелями. В квартире на Хлебном топили плохо.
Узнав о моем деле, Семен повел меня к Эренбургу. Эренбург был в ту пору почти что власть. Его фельетонов ожидали фронта. В горной бригаде, в моей «горняшке», приходили из дальних расчетов послушать его статьи. Они были ясны, понятны, красно написаны, крыли Гитлера, объясняли причины наших временных поражений. И кончались кратко: «Убей немца».
Эренбург занимал тогда номер в гостинице «Москва». Он встретил нас хорошо, угощал коньяком и трюфелями, расспрашивал о фронте и солдатах, попросил почитать стихи. Когда Гудзенко изложил мое намерение, он сказал:
– Ну что ж. Ведь вы туда проситесь, а не обратно. Но куда именно вы бы хотели поехать?
У меня при себе было письмо, где товарищ мой Лев Безыменский прислал нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Белорусского фронта. Я попросился туда.
Эренбург снял трубку и запросто поговорил с начальником Главразведупра Генерального штаба генералом Кузнецовым.
На следующий день я смело ходил по Москве с внушительным пакетом за семью сургучными печатями. Пакет был Генерального штаба. И я был единственный в армии ефрейтор Генерального штаба.
Патрули почтительно меня отпускали. На этом основании я дней десять кантовался в родительском доме и не спеша отправился в Горький.
Таким вот успехом завершилось мое посещение Эренбурга. И поскольку впоследствии я у него не бывал, доскажу здесь то, что о нем думаю.
В каждом явлении литературы русскому уму свойственно искать нравственные основания. До корней нелегко докопаться.
Можно предположить, что каждое общество делится на лиц причастных и непричастных к власти. Эти два психологических типа конкретно в личностях обретают свой неповторимый рисунок. Но как в загадочных картинках – «где Вася?» – обязательно существует нарочито скрываемая развязка. В переплетениях личной судьбы всегда прячется «Вася». Или Вера.
Психология причастности к власти порой сложна и неоднозначна. Ее диапазон – от прямого цинизма до корнелевских категорий долга и чести. Суть ее в том, что естественно развивающиеся нравственные понятия человечества, заложенные в истинном самопознании духа, искажаются средой власти. Среда власти требует от человека подчинения долга внутреннего внешнему, личного – надличному, требует понятия о нравственной стратегии и тактике, о различии целей и средств.
Это создает либо двойственность цинизма, либо мертвую зону души и жесткую внутреннюю форму «честного чиновника», истого карателя – тип Симурдена из «93-го» Гюго.
Высокие требования среды власти к отдельной личности прекрасно уживаются с внутренней коррупцией. Ибо с развитием этой среды высокие критерии прилагаются только вовне, внутри же создается комплот безнравственности с его тактикой и стратегией. В конечном счете это разлагает любую среду власти, и она уступает место более свежей, на первых порах прилагающей критерии нравственности и к себе.
Эренбург прекрасно понимал этот процесс. Его честолюбие и, в сущности, малый потенциал таланта нашли правильный путь осуществления: он сознательно стал писателем «при политике». И точно отразил суть своего решения в лучшем своем романе «Хулио Хуренито». Это роман-насмешка, неглубокий, как всякая насмешка, но в нем загадочная картинка откровенно пародируется, и «Вася» явственно висит вверх тормашками с голым задом. Внутренние препоны не помешали Эренбургу стать литературной обслугой сталинизма. Не помешал в этом и как бы несовместимый со сталинизмом вкус.
Эренбург – западник, модернист, рокфорщик. Что ж – годился и такой, в конце концов. Ибо вкус тоже был неглубок, ориентирован на моду. И не мешал при случае утверждать нечто противоположное вкусу, как было, например, с Гудзенко и со Слуцким.
Была вакансия сталиниста-западника. Эренбург стал крайним западным флангом сталинизма.
При множественности аспектов сталинизма победа Сталина была и победой российской провинции над космополитическим духом интеллигентско-дворянского Петербурга, вольтерьянского, фармазонского, байронического, воспарившего в Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского.
При Сталине все вожди говорили с провинциальным акцентом.
Эренбург писал с акцентом парижским. Он ложь царям с улыбкой говорил.
В старости, подводя итоги, он сказал о себе: «Я всю жизнь петлял». Петлять – значит плутать или путать. В молодости, может, и плутал. А потом стал путать. И запутывал лихо. Никому не известно, кем он хотел стать. Скорей всего тем, чем стал. Делал вид, что хотел стать поэтом, но, на себя рассерчав, стал журналистом. На самом деле он прирожденный журналист. Поэзии нет в его природе. У него и ум, и глаз, и стиль журналиста. Он писал о временном, а делал вид, что пишет о времени.
В уме, однако, ему отказать нельзя. Он рано понял свою второсортность. И понял, каким образом второй сорт выдают за первый. В литературе временной второй сорт, а то и третий выступают в ранге первого.
Эренбург достаточно повидал в Париже людей, стяжавших посмертную славу. Но не у них он учился в «Ротонде». Его тянуло к мирской славе. А прижизненную славу раздают не так, как посмертную.
Эренбург в «Ротонде» учился стилю. Не способу жить и мыслить, то есть создавать первичные продукты человеческой природы, а стилю, то есть способу приготовления. Он учился французской кухне, где в луковом супе меньше всего луку.
В романах Эренбурга о времени – временем только пахнет.
Нельзя сказать, однако, что потребность, порождающая искусство, близкое к кулинарии, есть потребность мнимая. Напротив, искусство это порождено самой утробной насущной потребностью каждого члена общества отыскать нечто утешающее и объясняющее текущий момент его жизни. Ибо мы живем каждый день не высшими интересами бытия, а самыми что ни на есть ординарными, кулинарными потребностями и зависимостью от слухов, разговоров, переговоров, статей, постановлений; кормимся каждый день варевом современной журналистско-политической кухни, принимая его за экстракт времени.
Нельзя сказать, что для кулинарного искусства не нужно ни таланта, ни благородства. Нужно. Но все второго сорта. А уж известно – какое может быть благородство второго сорта.
Чтобы покончить с уже надоевшей аллегорией, скажу еще одно: судить ухарей-кухарей, к которым принадлежал Эренбург, надо с ясным представлением, для кого они готовят варево, чей стол обслуживают. Бывают и честные кухари. Бывают.
Был ли Эренбург вовсе безнравствен? Всегда ли сознательно лгал? Может быть, лгал и себе?
Говорят, он был личность сложная.
Не думаю. Он был одаренный и умный человек, много повидавший, бывалый. А сложным, по-моему, не был.
Он жаден был к внешнему, потому и был ярким журналистом. И эту жадность всю жизнь оправдывал. Убеждал, что все в его жизни было сложно, но правильно, честно. Скрытое в нем самооправдание и делало его писателем интеллигентским, в отличие от тех – натур более грубых, – что без обиняков лизали, вламывались, восхваляли, воскуряли, воспевали, при этом чувствуя невинную свою правоту.
Когда конфликтов не признавали, Эренбург придумывал мнимые конфликты для своих героев. Когда призывали проламывать головы, он убеждал. Он был государственник по способу существования, по профессии. Но государственник особого рода. Он всякое государство не любил, от всякого не ждал добра, однако знал, что оно земных благ раздатчик. Повидал эмиграцию и понял, что такие, как он, там не нужны. Потому и стал советским. Сентиментален не был. И позицию свою точно изложил в одном «Хулио Хуренито». Книгу эту до сегодня считаю единственной стоящей книгой Эренбурга, где вся его второсортность выражена с такой превосходной второсортностью, что получилось нечто вроде единства формы и содержания – лучшая из второсортных книг нашей литературы.
В восемнадцать лет с увлечением читали «День второй». Много времени спустя я прочитал «Котлован» Андрея Платонова. Недавно «День второй» перечитал. Пошлая, фальшивая и ничтожная книга.
Неужели в восемнадцать лет мы были пошлы, фальшивы и ничтожны? Скорей всего глупы, восторженны и обмануты.
Недоумение свое, несводимость происходящего с принципами, в которых нас воспитывали, объясняли собственной социальной неполноценностью. И Эренбург подтверждал: да, Володя Сафонов из «Дня второго» потому и погибает, что социально неполноценен, что корни у него гнилые.
Вот мы и старались подрубить корни, привиться к иному, свежему, романтическому, как нам казалось тогда.
А в «Оттепели» оказывается, что другой Володя (или тот же) – Володя Пухов загнивает не от корней. Корни свежие, партийно-пенсионерские. А вот ствол прогнивший.
Не в корнях, значит, дело. Обманывал нас Эренбург. Дело в деле. Делай его и будешь счастлив, хоть вокруг тебя светопреставление. И пример тому – человек вовсе без корней – Коротеев (не Каратаев ли в эренбурговском варианте?).
Я теперь думаю, что многие из нас, да и я в том числе, любили Эренбурга, а главное – уважали его ввиду противоестественности духовной жизни тридцатых и сороковых годов. Противоестественное казалось естественным. И умней всех эту противоестественность выдавал за естественность Эренбург. И не только потому, что лгал. Ложь была его убеждением. Он сам верил, что противоестественное естественно для государства. В этом он был органичен и убедителен.
Может быть, поняв это, можно умерить негодование.
Умеряется негодование и при воспоминании о его тонком бледном лице европейца – проницательного, скептического, умудренного печальным опытом; о том, что он когда-то кому-то помог; о том, что хвалил Пикассо и Леже, переводил Вийона; находился в Испании во время последней романтической войны и, говорят, под бомбами не трусил.
Вспоминается, впрочем, и другое. В апреле 45-го года, еще до известной статьи Александрова, где свыше предписывалось щадить побежденных, я на пороге Германии созвал комсомольское собрание разведчиков на тему «О поведении советских воинов в логове зверя».
Я поспешил и мог бы здорово погореть, ибо полез с гуманизмом поперед батьки, но мы назавтра тронулись с места, особист наш, как всегда накануне сражения, был в отлучке. А потом опубликовали известное письмо, и я оказался прав.
Разведчики хмуро слушали мой доклад о милосердии к побежденным. В прениях никто не выступил. Только веселый кругленький гармонист Ляшок выкрикнул из угла:
– А ты Эренбурга читай!
Раздался одобрительный гул.
Наши ребята не были ни злыми, ни жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с кистенем и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу по-разински, по-пугачевски. И это желание постоянно подогревалось лозунгами, стихами и особенно – эренбурговскими статьями.
Положение было трудное, качать права бесполезно. И тут я напомнил собранию эпизод из недавнего прошлого.
По метельным февральским дорогам мы вступили в Мендзыхуд-на-Варте. До утра разместились в недостроенных домишках на окраине, и вдруг кто-то крикнул: «Да тут немцы!». Их было трое: два старика и старуха, беспомощно сидевшая в детской колясочке.
– Гнать их к такой-то матери! – решил старший лейтенант Касаткин, командир артиллерийского взвода.
Я едва уговорил его оставить стариков до утра. Мы дали им хлеба, и при свете солдатского каганца я разглядел всех троих. Это были старые немецкие музыканты с добродушными большеносыми лицами, одетые в концертные сюртуки. Говорил я по-немецки прескверно, потому разговор наш состоял из мелодических фраз.
– О, Тшайковский!
– О, Брамс!
– О, Шуберт!
Ребята вскоре заснули. А мы вчетвером до утра напевали – титирити-ти-титири-ти-ти – из симфоний первых, пятых и седьмых. «О, Шуман! О, Моцарт! О, Гайдн!»
Когда рассвело, старики собрались в дорогу. Солдаты помогли им вытащить детскую коляску со старухой и поставили ее на шоссе. Во второй колясочке лежали два чемодана и две скрипки.
Узкое шоссе, с двух сторон обсаженное деревьями, уходило куда-то вверх, суживаясь на холме. Оно вело в Германию. Хмурым утром начала марта старики уходили в Германию, везя парализованную старуху. И на некрутых взгорьях оставляли тележку со скрипками и вдвоем толкали старуху… А мы глядели им вслед.
Вот и все. На этом я закрыл собрание.
Было бы слишком похоже на литературу, если бы именно тогда, в марте 45-го года, и потом, в апреле, уже под Берлином, я осознал роль Эренбурга и оценил его по достоинству. Ничуть не бывало.
Эпизод с комсомольским собранием всплыл в памяти позже, и только горячие споры об «Оттепели» выстроили в сознании все, что подспудно накапливалось, а было еще не мыслью, было инстинктивным неприятием, смутным раздражением. И отсюда, от «Оттепели», от моего письма Слуцкому, от письма, где Эренбург и не поминается, но незримо присутствует как идеолог для Слуцкого тех времен, – оттуда и возникло то личное, что ощущается в моих записках по отношению к Эренбургу.
Он нравился людям, которых я уважал и любил, с которыми спорил, против которых ожесточался. Он прикасался к «моему», петлял и путал вокруг. Потому и пишу о нем, а не о Грибачеве или Симонове. Где бы они ни петляли, меня это трогает мало.
Эренбург был представителем иллюзий послесталинского десятилетия, «эпохи позднего реабилитанса». Полезны или вредны были эти иллюзии? Они, вероятно, были необходимы. Нужно было залечить жгучие раны памяти. Нужно было, чтобы зарубцевался страх, чтобы чуть просветлело на душе, измаянной, приглушенной и оглушенной.
Ибо кто бы выдержал переход от кровавой веры к кровавому неверию, к сдиранию бинтов, к обнажению язв?
Иллюзии были госпитальным сном. В них мы медленно выздоравливали.
Может, и сам Эренбург на минуту поверил хотя бы в то, что в Манеже откроют «Ротонду». Я хотел бы думать так.
В 53-м году я не был обременен путем, я торопился и ждать уже больше не мог. В 33 года становятся прозаиками. Я же только собирался стать поэтом. И мог им стать – это я чувствовал – только «в предвиденье будущих бед». Я не представлял себе, с каким трудом дается обществу и каждому из его членов освоение нового содержания времени, обретение нового состояния. Мне странным казалось, что новое время начинается «с бунта формы». А Эренбург писал, что человечество с трудом принимает новую форму. Опыт показывает, что содержание дается намного труднее. Что в новых формах часто прозябает старое содержание, или они попросту заменяют содержание.
В ту пору и впрямь обрыдли старые формы.
Эренбург хвалил Аполлинера, Пикассо и Шагала. Своим вкусом он питал молодых. Наверное, именно это особливо раздражало начальство. Осенью 62-го года незабвенный Никита Сергеевич на Эренбурга натопал ногами. Через несколько дней я встретил его на вечере поэзии Рафаэля Альберти. Он был нарочито спокоен, даже веселоват. Уже старенький, прозрачный, опытный. Потом мы вместе выступали на вечере памяти Марины Цветаевой. Речь его была полна ироническими полунамеками. Перекинулись несколькими словами. Он, пожалуй, тогда понравился мне.
После очередного начальственного «цыц!» литературе Эренбург, как говорили, впал в депрессию. Мог бы под старость сказать верное слово, но не сказал. То ли сил не хватило, то ли отваги.
У нас за это не судят.
Повторился старый русский сюжет про Герасима и Муму. Полстолетия русские писатели топили своего Муму и вешались. А чаще садились писать оправдательные записки. Эренбург засел за мемуары.
Еще несколько раз я встречал его на вечерах и приемах, последний раз и в чешском посольстве. Потом – был на его похоронах.
…Мое запоздалое слово о нем не из веселых. Клубок памяти размотался не на месте.
Вздохнув, возвращаюсь в февраль 44-го года. Эренбург мне помог уехать на фронт. И, может быть, что-то понять.
Скоро ли после этой войны любовь к России сможет выражаться по-щедрински? Вероятно, законная гордость победителей у мещан взыграет, обратится в бахвальство, и невежество задерет нос. Рядом с политическим процессом традиционализации (стратегия или тактика?) это будет помехой нашей литературе. Ибо понимать умное на Руси можно заставить лишь «сверху». У нас гораздо больше добрых, чем умных.
Пожалуй, все добрые, если позволят обстоятельства.
Такова последняя тыловая запись в самодельном блокноте 44-го года.
Белоруссия родная, Украина золотая…
В Гомеле я разыскал штаб 1-го Белорусского фронта. А в штабе – разведотдел.
Майор Саркисов – лысый, лопоухий армянин, к которому мне надлежало явиться, сразу же наорал на меня за опоздание. Выходило, что именно меня здесь с нетерпением ожидали и из-за меня срывалось какое-то важное мероприятие. Откричавшись, майор задумался. Дело в том, что в его штатном расписании значились лишь офицерские должности. Ефрейтор, даже откомандированный Генеральным штабом, ему не полагался.
Саркисов предложил направить меня в Военный институт иностранных языков. Это не входило в мои планы.
Досадливо пожав плечами, он отпустил меня отдыхать, пообещав вскоре известить о решении.
Майор меня невзлюбил с первого взгляда непонятно почему. И до конца войны обходил званиями и наградами.
Лева Безыменский меня не ожидал. Трудно было поверить, что фиктивная бумажка с вызовом может повлиять на мою судьбу. Впрочем, встреча наша была сердечной. Я поселился у Левы, и первое время не было конца разговорам и общим воспоминаниям.
Между тем, приезд мой был не особенно удобен Безыменскому. И вскоре я это почувствовал.
С нашими отношениями никак не вязался дух субординации, столь чтимый в семье и окружении Безыменских. Отношения же со мной вне этого духа, как, видимо, полагал Лева, наносили некоторый ущерб его офицерскому престижу.
Лучшие из его фронтовых товарищей ни в чем не давали ему это почувствовать, ибо многие из них, вроде майора Симоняна, были добрые ребята, а остальные, вроде майора Наровлянского, люди глубоко штатские, мало дорожили принадлежностью к офицерской касте.
Другие же, как лопоухий Саркисов и полный гонора майор Савицкий – начальник следственной части, держались натянуто, когда случай сводил меня и их в одном обществе. Это смущало, а вскоре стало и раздражать Безыменского.
Я, впрочем, только потом понял, что держался слишком свободно с сослуживцами моего друга, тем самым нарушая уставный способ обращения рядового с офицерами.
Может быть, это было причиной неприязни ко мне Саркисова – военного чиновника до мозга костей, если хотя бы в костях у него содержался мозг.
Все же Безыменский был рад моему приезду. В его многотрудной жизни долгие годы я был чем-то вроде отдохновения и доброго дела, в общении со мной он порой расслаблялся от вечной сосредоточенности и отдалялся от ежедневных помыслов. Нам предстояло пробыть в близком соседстве полтора года. И мы все же могли делиться если не заветными мыслями, то новостями о родных и друзьях и воспоминаниями, милыми сердцу в отдалении от дома.
Дня три я прожил в полном безделье. Валялся на койке, читая Гоголя и поедая шоколад, которого накопилось множество коробок – из домашних посылок запасливого Левы. Шоколад, как и человек, белеет от старости и при этом теряет вкус и запах…
Меня зачислили комсоргом в разведроту. Полное ее название – Третья отдельная моторазведывательная рота разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. Командиром ее был храбрый и добрый офицер – капитан Харитонов. К вечеру старшина привел меня в хату на окраине Гомеля, где размещался один из взводов. За непокрытым столом в пятистенной избе сидело с десяток белозубых парней, подстриженных кто полубоксом, кто под польку, одетых в добротные гимнастерки (иногда без погон). Сразу было видно, что они не чета старшевозрастной деревенской матушке-пехоте. Они свободно и по-дружески поздоровались со старшиной и позвали меня ужинать. Мне отвалили большой котелок крутосваренной пшенки, дали с полкило хлеба и приличный кус сала. Когда старшина ушел, старший среди солдат сержант Быков налил мне полкружки самогона. Принимали в разведчики так: в барабане нагана оставляли одну пулю. Крутанув барабан, прикладывали наган к виску и нажимали на крючок. Так все по очереди. Только новичок не знал, что в барабане заложена стреляная гильза. Шутка казалась необычайно остроумной всем разведчикам. Когда, бледный, я спустил курок, все захохотали.
Рота жила воспоминаниями о недавних боях в Белоруссии, пополнялась, бездельничала, неся легкую караульную службу. Наш непосредственный начальник из разведотдела полковник Данилюк приказал мне занять разведчиков самодеятельностью. Я организовал хор, исполнявший ужасными голосами под баян песню «От края до края по горным вершинам»… Времени оставалось достаточно. Впервые за войну я начал пописывать стихи.
Я не могу сказать, что от жизни пришел к литературе. Скорее от литературы к жизни. От обратной связи. Ни одна жизненная ситуация не увлекала меня и не потрясала настолько же, насколько факты литературы. Жизненные факты всегда служили для меня лишь толчком, и я переживал их несколько вяло, пока во мне они не преобразовывались в субстанцию литературную, и тогда уже, в претворенном виде, я переживал эти факты со всей силой чувства, яростью сожаления, что их жизненная основа навсегда мной утрачена и ощутима только в мысли, что ее нельзя потрогать и вновь прожить в реальности.
Я думаю, что лишен другого дарования, кроме способности вторично прожить ситуацию в «другом этаже». Но это еще далеко от результата искусства. Нужно не только выйти из реальности, но и уметь вернуться к ней, сфокусировав силу переживания.
Мои стихи были результатом выхода из реальности, они рождались на этапе выхода. Я не умел вернуться в реальность слова, речи, то есть в ту реальность, где осуществляется поэзия.
Стихи мои были безнадежно плохи.
Во время войны мы вернулись к литературе революционного романтизма. Один из его планов – сентиментальность. Поскольку дело касалось войны – это была литература искренняя. Литература, обслуживающая непосредственную потребность жизни. Литература, не возвращавшаяся к жизни ради ее нравственного преображения. Это была литература преднравственности. Но поскольку вопрос касался смерти, в ней было порой нечто жгучее и возбуждающее. Она несомненно влияла на «исполнение жизни», но ничего не давала для понимания.
Лучшая литература военного времени – литература факта. Исключение – «Теркин». Начавшись с факта, он перерос в былину. Былина кончается с крестьянством. «Последний поэт деревни» Твардовский написал последнюю былину для последних крестьян о последней Русской Войне, где большинство солдат были крестьяне.
К весне штаб фронта двинулся на запад. Вслед за ним, погрузив на платформы броневики, виллисы, мотоциклы и походную мастерскую, тронулись и мы.
Штаб расположился в городе Овруче, а наша рота – в деревне Геевичи, от города в десяти километрах. Там за какие-то якобы упущения был смещен капитан Харитонов и к нам назначен командиром некий Герой Советского Союза, фамилии которого никто не запомнил ввиду краткости пребывания его в должности. Он явился к нам в сопровождении где-то по пути прихваченной военной девчонки и вместе с ней, произведя роте инспекторский смотр, удалился в хату, назначенную ему для постоя, откуда на свет божий не появлялся.
Утром ему подавали спирту и двухкилограммовую банку американской колбасы. В полночь он пускал из фортки ракету, объявляя учебную тревогу. Сам, однако, из дому не выходил.
По первой тревоге рота поднялась как положено, за пять минут. В последующие ночи время боевой подготовки все удлинялось, пока, наконец, дежурные вовсе не перестали обращать внимание на сигнальную ракету пьяного командира.
Герой вскоре был уволен и куда-то отправлен вместе с плачущей военной девчонкой. Вслед за ним изгнали и начальника ротного делопроизводства Бердюгина, видно, за излишнее потакание кратковременному начальству. Нас же переселили в лес под Овруч, под бок к штабу фронта.
Штаб фронта в ту пору представлял собою большое слаженное учреждение, располагавшееся километрах в ста, а то и больше, от передовой. Зная схему дислокации, можно было в любом месте разыскать его отделы и службы. Охрану нес специальный батальон. К штабу вела ВАД – Военно-автомобильная дорога – всегда одного и того же номера. И мы за много километров знали, что попадем на место, увидев на перекрестке знакомых регулировщиц.
Смена географических мест – единственное, что отличало службу множества военных чиновников в штабе фронта от службы в любом тыловом военном учреждении.
Половина разведотдела состояла из таких чиновников, не нюхавших пороху и лишь получавших очередные регалии за успешные операции фронта.
Другие офицеры регулярно выезжали в боевые подразделения, принимая непосредственное участие в операциях. В этих, как, например, в полковнике Данилюке, было меньше штабного лоску. Наши ребята часто сопровождали их в командировки на передовую.
Этим и ограничивалась наша служба до лета 1944 года.
Жили мы в прекрасном лесу, среди сосен и орешников, вместо занятий дремали полдня на полянках в отдалении от войны.
Ни о чем не думалось. Роман мой иссякал сам собой. Мечталось о возвращении и о доме. После открытия Второго фронта виделся уже конец войны.
Второй фронт был воспринят с той перегоревшей радостью, с какой принимается согласие долго строптивившейся невесты…
Окрестные мужики, привыкшие хозяйствовать в лесах, гнали самогон на укромных полянах. Их со всеми припасами накрывали разведчики и налагали дань. Мужики, крякая, отдавали часть самогона. Исчезали в более потайные места. Делом чести было отыскивать их снова.
Ввиду изгнания деловода Бердюгина вернувшийся в часть командир Харитонов приказал мне составить месячные отчеты по всем видам довольствия и снабжения.
Дело это – нехитрое, но требующее известной живости ума. С этого времени до ухода из армии я единолично вел все бумажное производство небольшой части, сочиняя все – от отчетов по продовольствию до реляций о награждении и боевых донесений. Вместо пишущей машинки служил Васька Карпов – человек с идеальным почерком. С ним я и поселился в штабной землянке.
Для сдачи отчетов мне дали двухдневную командировку в местечко Народичи, во второй эшелон штаба, куда мы и отбыли с шофером Мишей Тушинским. Он, как оказалось, был местный. Мы находились в двенадцати километрах от его дома.
Довольно быстро управившись, решили с Мишей ночевать у его родителей на хуторе неподалеку от Народич.
Проехали сперва бронзовым молодым сосняком со светлым ореховым подлеском. Миновали вброд несколько ручьев, потом небольшую речку. Пересекли несколько смешанных перелесков и вдруг выехали к хутору Любарка. Темнело поздно в эти дни. Ночь от дня отделяло длинное погожее предвечерье.
Хутор не был тронут войной и как бы отделен от нее лесом и полем. Он состоял из двух десятков хат и садов, вишенных и яблоневых. Ручей, перегороженный маленькой плотиной, образовал пруд. В крайней к мельнице хате жили родители Тушинского. Надо ли говорить, какими радостными причитаниями встретила Мишу его мать, сколько объятий и поцелуев досталось и мне. Старик Тушинский, высокий, с гайдамацкими усами, степенно приветствовал нас.
В лицах Мишиных родителей чувствовалась порода и виделось достоинство. Жители Любарки называли себя – шляхта и, видимо, прежде были не крепостные, а однодворцы, может быть, потомки войска тушинского Самозванца. Отсюда – фамилия Миши. Внутренность беленой хаты напоминала декорацию украинской оперы, а вид из окошек – иллюстрацию к Гоголю.
Нас тотчас принялись угощать борщом, галушками и медом. Не обошлось без пшеничного вина.
Тушинский тихо беседовал с родителями, а я благодушествовал, поглядывая в оконце. И тут в дверь заглянула молодая соседка с каким-то делом, а скорее от простого любопытства.
Миша успел шепнуть мне, что это – Катя, с которой состоит в переписке Сашка Пирожков из нашей части, и тут же представил меня девушке, сказав, что я и есть ее заочный знакомый Сашка Пирожков. Так в мгновение ока я превратился в Пирожкова и не знал, как поступать дальше. Катя как-то свободно и ясно поздоровалась и присела к столу, с любопытством меня разглядывая. Не желая мешать разговору родителей с сыном, мы вышли на крыльцо.
– Я так и думала, что ты такой, – просто сказала Катя.
И просидели мы всю ночь под одной шинелью – Катя, гоголевская панночка, и я, мнимый Пирожков, – на старой плотине, под кваканье лягушек, пока не рассвело, и я упивался почти понятной речью и Катиной доверчивой готовностью к любви.
В последующие суматошные дни я не успел сказать Пирожкову, что был им, а когда вспомнил, прошло уже два месяца. Катя писала ему, что после встречи любит и ждет Пирожкова. А он, не поняв, в чем дело, отвечал ей в тон, принимая ее письма за метафору и девичью фантазию.
Катин образ время от времени возникал в моем воображении и странно – никогда не отразился в стихах.
В июне 1944 года мы выехали на задание против бендеровцев. К тому времени мы кое-что слышали о бендеровском движении, впрочем, сведения были отрывочные, неточные и разноречивые.
О главе партизанского войска, которого кто именовал Бендерой, кто – Бандерой, а по имени Семеном, ходили разные слухи. Одни говорили, что он петлюровский полковник, другие – что полковник польской службы. Третьи – что киевский или львовский студент. В его отрядах, по слухам, тридцать или сорок тысяч бойцов.
Известно было также, что существуют украинские отряды мельниковцев и бульбовцев. Но точно никто не знал, существуют ли Мельник и Бульба и в каких отношениях находятся с Бандерой. Получалось, что это вроде как бы крайние и уже совсем бандитские варианты украинского мужицкого восстания. Попалась мне как-то бендеровская листовка на русском языке, отпечатанная типографским способом. Там кратко и грамотно излагалась идея устроения Украины по европейскому образцу, без колхозов и без НКВД. «Нам все равно – НКВД или гестапо».
Не знаю, много ли народу прочло эту листовку и какое она произвела впечатление. Во всяком случае, наши украинцы не высказывали какого-либо особого мнения о бендеровщине и не выказывали внешне никакого к ней сочувствия. Слышал я и о том, что в феврале 44-го года в городе Олевске состоялось соглашение между немецким командованием и украинским партизанским движением о совместной борьбе с Красной Армией. По-видимому, так оно и было, потому что с уходом немцев из этого района постоянно доходили слухи о нападении бендеровцев на отдельных наших военнослужащих и даже на мелкие воинские подразделения.
Никаких политбесед по этому вопросу я не помню. Как-то само собой было ясно, что кто бы из любых соображений ни воевал с Красной Армией, является нашим врагом и пособником фашистов. Таков был и мой взгляд. Хотя стихотворение «Бандитка», написанное, правда, уже после войны, свидетельствует о том, что мои ощущения всегда бывали верней и честней мыслей. Там конвоир ведет арестованную бендеровку. А она ему говорит:
…Слухай, хлопец, Я все равно от пули сгину. Дай перед тем, как будешь хлопать, Дай поглядеть на Украину. По Украине кони скачут Под стягом с именем Бандеры, На Украине ружья прячут, На Украине ищут веры. Кипит зеленая горилка В беленых хатах под Березно, И спящим москалям с ухмылкой В затылки тычутся обрезы. Пора пограбить печенегам, Пора поплакать русским бабам! Довольно украинским хлебом Кормиться москалям и швабам! Им не жиреть на нашем сале И нашей водкой не обпиться. Еще не начисто вписали Хохлов в Россию летописцы!..Наши виллисы, броневики и пушки колонной двигались по шоссе мимо Коростеня и Сарн по району бывшего партизанского заповедника. Каких только отрядов не пребывало здесь в тылу у немцев! Наши ковпаковцы, федоровцы и сабуровцы, несколько сортов польских отрядов, несколько вариантов украинских и просто «зеленые», мужики, укрывавшиеся от угона в Германию, от мобилизаций и карательных экспедиций. Как только могли прокормиться все эти войска в разоренном и обобранном краю!
Мы миновали Новоград-Волынский и расположились по какому-то плану в селах вдоль реки Случ.
Я был назначен начальствовать над десятком солдат на переправе у села Березно, где мы окопались на высоком берегу близ разрушенной плотины, примыкавшей к разоренному заводику, уже не упомню, какого назначения, ибо от него осталось лишь пустое здание с выбитыми стеклами. Говорили, что здешние земли принадлежали графине Валевской.
Харитонов приказал нам наблюдать за переправой, а также повыведывать у местных жителей сведения о бендеровцах в здешней округе.
У меня до сих дней сохранился листок со схемой нашего расположения. Мне казалось, что я с великой стратегической предусмотрительностью расставил броневик, пушку и два пулемета, чтобы сделать переправу недоступной.
Село Березно казалось больше, веселей и богаче, чем деревни, где мы до тех пор квартировались. Заняв позицию, мы по трое отправлялись знакомиться с населением, разведывать о бендеровцах, а заодно и раздобыть что-нибудь на ужин.
В беленых и чистых хатах нас встречали одни бабы и ребятишки. Незадолго перед тем по селу прошелся сыпняк, и многие бабы были коротко пострижены. Нас принимали внешне приветливо, но как-то настороженно и напряженно. Привыкшие, видно, к разным поборам, бабы сами несли нам хлеб, молоко, яйца. Но на вопросы отвечали скупо. И как будто радовались, когда начиналось солдатское балагурство и ухаживание:
– Где мужик?
– Помер под Каляды.
– Герман угнал.
– Ваши забрали.
Так отвечали во всех хатах, и казалось, что это правда.
Я потом только понял, какая напряженная жизнь таилась под внешним спокойствием украинского села.
В сельсовете сидел растерянный однорукий солдат-председатель. Два его предшественника были убиты. Его должность была должность смертника, неизвестно, где набирались новые кадры.
Возле старого барского сада в одном из флигелей умирал русский механик бывшей фабрики.
– Я скоро помру, – сказал он. – Слава богу, дождался своих. Ищите Сергея Шпоняка…
Едва мы вернулись в свое расположение, как двое солдат, отправившихся на соседний хутор за провиантом, прибежали с криком, что их обстреляли. Пошли прочесывать хутор. Лазили по чердакам и подвалам. Никого не нашли. Может, почудилось нашим солдатам?.. Однако, возвращаясь напрямик через пшеничное поле, вдруг обнаружили блиндаж, а в нем двух мужиков; то ли бандиты, то ли дезертиры. Отправили обоих к Харитонову. Пошли по селу искать Шпоняка. Отыскали дом его. Шпонячиха, баба лет сорока, на вопрос «где муж?» сухо ответила:
– Умер под Каляды.
Взяли мы с собой Шпонячиху, под вой пятерых ее малолетних детей. Привели в хату, ближайшую к нашему расположению. Снова стали спрашивать.
– Где твой мужик, Сергей Шпоняк?
– Помер под Каляды, – твердо отвечала Шпонячиха.
Допрашивал ее я. Раз десять спросил, раз десять то же и отвечала.
– Гляди, Шпонячиха, худо будет, – пригрозил я. Да баба, видно, была не робкого десятка. И я ее отпустил.
Квартировались мы в нескольких хатах, ближних к реке. Туда после караула приходили поесть и отоспаться наши солдаты. Ночью службу несли плохо, часовые все беспробудно спали, и я, видя бесплодность своих усилий наладить службу, отправился спать. В полутьме, при свете каганца, накормила меня старуха-хозяйка крайнего дома, а потом предложила лечь спать либо с «дивкой», младшей дочерью, на широкой деревянной кровати, либо на лавку, рядом с молодайкой.
Я, соблюдая бдительность, отказался от этих вариантов и пошел спать в сенной сарай, рядом с собой положив автомат и гранаты.
Не успел я заснуть, как пришла молодайка, Марийка. Я лишь утром ее разглядел: худенькая, черноокая, на цыганку похожая баба. Там в сенном сарае она мне сказала:
– Про что хочешь спрашивай, только не про Шпоняка. Ничего я не знаю.
Чуть рассвело, приехал связной от Харитонова, командир передал, что бендеровское войско оттесняют на нашу переправу.
Мы заняли позицию.
Внизу на реке паслось белое стадо гусей.
Утро было туманное. С высокого берега мы следили за низким, за широкой луговиной – там дальше сине-зеленой стеной вставал лес. Солнце чуть поднялось. И на той стороне увидели мы шевелившееся войско. Оно выходило из леса. В бинокль я разглядел – это наши. Кольцо замкнулось, внутри было пусто.
Пулеметчик дал очередь по белому гусиному стаду. Решили завтракать.
Что знал я об Украине летом 1944 года, когда наша рота выехала на задание в район Новоград-Волынска? «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» – это я читал еще в детстве. А больше всего у Гоголя любил Федора Шпоньку и его тетушку. В дурном настроении всегда открывал Шпоньку и утешался.
У Гоголя была Малороссия. Она была часть России, наречье, а не язык.
Навязшая в зубах гоголевская птица-тройка летела по громадной России из страшного Петербурга, может быть, именно в милую Малороссию, отмеряя огромность российского пространства и соединяя в своем полете хладные финские скалы с просторами Таврии. Гоголевская тройка летела над русской империей из столицы в провинцию. Малороссия Гоголя была провинцией и частью имперского титула – «Великия, малыя, белыя».
Гоголевская Малороссия, экзотика провинции, экзотика окраины, не хуже и не лучше других окраин, входивших в единое понятие Руси, – экзотики поморских морских былей, пугачевского Заволжья или разинского Каспия.
Затем – Шевченко. Его язык почти понятен. Он ощущался как диалект. А мечта о воле воспринималась как мечта социальная, а не национальная. И в Шевченко не чувствовал я человека другой нации, другой принадлежности, кроме российской. Удивляло: почему такой гениальный поэт не выучился писать по-русски. Гоголь и Шевченко сопоставлялись и даже противополагались друг другу, но это где-то в глубоком ощущении. Гоголевский путь казался главным. Шевченко – периферия, этнографический изыск.
Украинскую историю я знаю хуже, чем французскую.
Украинская нация то ли всегда пребывала в неразличимом виде, вокруг едва живого Киева после татарского нашествия, то ли откуда-то явилась со своими гетманами и запорожскими казаками.
Богдан Хмельницкий воссоединил Украину с Россией (значит, была отъединена?), Мазепа хотел снова отъединить (значит, уже тогда существовала идея сепаратизма?).
Дальше я знал об Украине в годы гражданской войны. Украинская Рада, скоропадчина, петлюровщина, сичевики, Тютюник, Ангел, Маруся, атаман Григорьев. Наконец – Махно с его летучим войском. Об этом больше всего писали поэты и прозаики одесской школы. В ней был свой акцент, но это была школа русской советской литературы.
Украинскую литературу я знал хуже, чем французскую. Несколько имен: Рыльский, Тычина, Сосюра, Бажан.
Понаслышке известно было о чудовищном украинском голоде 30-х годов.
Вот, пожалуй, только песни… В армии пели украинские песни. Пели русские, украинцы и казахи про Сагайдачного, про Галю молодую, про то, как «реве тай стогне Днипр широкий».
Что же такое Украина – часть России или отдельная нация? Кто ответит?
Современный национализм советских наций – свидетельство распада «вселенской» идеологии коммунизма. Этот распад – не результат сталинской национальной политики, а результат естественного хода истории. Сталинская политика – лишь варварское исполнение высших предначертаний, которые самым парадоксальным и самым кровавым путем реализуются в России.
Мы живем в пору крушения вселенских идей и создания частных сообществ, основанных преимущественно на идеологизации особенностей звериных пород человеческих. Не идея против идеи, а порода против породы. Современное понятие народа – это понятие породы, как бы ни назывались официальные религии. Нет в этом смысле принципиальной разницы между коммунизмом Кастро и христианским славянофильством Солженицына. Идеология нашего времени полностью отражает состояние раздела идей и разделения людей. Хотя фразеология порой остается прежней и путает многих, а некоторым помогает других запутывать. В советском национализме, на который человек моего поколения, еще заставшего реальность вселенской идеи, смотрит с недоумением и печалью, есть некое положительное начало, доказывающее, что Россия не выпала из всемирного хода истории; что плывет она по тем же морям Земли, в ту же сторону, куда и все человечество. Что никакая политика, никакой террор не могут свернуть движение вселенского флота держав и народов с пути, предназначенного историей. Мы обязаны лишь постичь и угадать этот путь.
Слабеют мощные державы, иссякают силы их имперских идей. Силы малых народов накапливаются, их идеи ожесточаются.
Куда плывут корабли? Приплывут ли они единым стройным флотом в новую гавань? Или остатки их междоусобицы притащатся с порванными парусами к необитаемым островам?
Пока лишь непрочные узы корысти и страха связывают народы. И если брезжит вдали новый свет единения, то это слабый свет культуры и нравственности.
Когда исчерпает себя звериный инстинкт малых сообществ, ибо человечеству предстоит еще дробиться, прежде чем оно дойдет до своей единицы – отдельного человека, когда исчерпает себя звериная злоба разъединения, – может быть, тогда люди увидят свет культуры, единственного незыблемого начала, на котором и произойдет новое единение.
Я сказал о слабом свете культуры. Ибо он почти не доходит до народов и до правительств, которые в наше время не выше народов, ибо упразднены сословные государства, и лишь складываются новые сословия и долго им еще складываться. Как это ни парадоксально, новая вселенская идея не восторжествует до тех пор, пока сословные интересы не возобладают над национальными. Пока новые сословия организаторов и идеологов не утвердятся у власти.
Единственная заручка в том, что народы не перебьют друг друга, это большие нации, где велика «критическая масса» культуры. Эти нации не утратили способности к культурной ассимиляции, в них еще не исчерпалась потребность интеллектуализма, сохранилось мощное ядро под слоем пепла. Интеллектуальное ядро великих народов, в том числе и русского народа, остается в наше время единственным критерием нравственного состояния мира. Это ядро – хранитель культурной и нравственной преемственности. У больших народов – большая ответственность. У народов и наций, достаточно продвинутых по пути истории, чей политический и культурный опыт выше, интеллектуальное ядро все еще играет свою сдерживающую роль. У народов менее продвинутых скрытое ядро тоже существует, тоже напоминает о себе, тоже сдерживает и раскалывает заскорузлую и жесткую массу власти и «переходных слоев».
Процесс разъединения вызван стремительным подъемом цивилизации в XX веке, взлетом цивилизации, оставившей позади духовную культуру.
Современная цивилизация с ее стремлением к массовости, стандартизации и унификации создает стандартные понятия о личности и равенстве. Вне культуры эти понятия легче всего укладываются в идею нации.
Цивилизации оказываются сильнее империй и их идей. Старые империи падают под их натиском, становятся полицентрическими, ибо для современной цивилизации любая точка может быть центром. Эти центры не всегда совпадают с традиционными центрами культуры, а иногда и противостоят им. Культура оттесняется цивилизацией и становится достоянием сословий до того момента, когда сословия – носители культуры – в новых сословных государствах не обретут достаточную силу, чтобы поднять культуру на цивилизацию.
Уродливо, как все в нашем веке, даже само стремление к равенству, и, вместе с тем, никакая политическая сила не сможет победить стремление к национальному равенству в рамках цивилизации. Легче разрушить цивилизацию при помощи ядерной войны, чем одолеть бездуховный инстинкт равенства, порожденный этой цивилизацией.
Как же решать простой якобы вопрос о праве наций на самоопределение? Можно ли ставить его в общем виде? Не требуется ли серьезный анализ в каждом данном случае? Одинаково ли стоит вопрос, когда дело касается чувашей, грузин, украинцев, басков, провансальцев, валлийцев или фламандцев?
Есть три уровня, на которых можно решать этот запутанный и сложный вопрос: уровень культуры, уровень равенства и уровень превосходства.
1. Уровень превосходства снимает идею самоопределения, этот уровень предполагает либо чтоб господствующая нация оставалась господствующей, либо чтоб господствующей стала угнетенная. Это уровень взаимного истребления хотя бы в сфере идей, понятий, культуры.
2. Уровень равенства предполагает право политической автономии для любой нации. Он должен исходить только из политической реальности. Например, политическая независимость мордовцев или марийцев невозможна из-за серединного положения их в русской среде, из-за перемешанности их с русским населением, из-за их относительной малочисленности.
3. Высший уровень – уровень культуры. Это уровень высшей целесообразности, до которого должны дойти прежде всего представители высшей среды данной нации. Если можно говорить о глубоких корнях и своеобразии грузинской или армянской культурной традиции, об их самостоятельности, если можно говорить о молодых, но уже оформившихся как нечто самостоятельное культурах Прибалтики, – можно ли то же сказать об Украине?
Целесообразно ли разделять две нации одной культурной традиции, близкие по языку и понятиям? Может быть, гоголевский путь тут более правилен, чем путь шевченковский? Отпадение Украины, ее пренебрежение общностью неминуемо означает упадок России, провинциализацию обеих наций. Ухудшение их стратегического положения.
Путь единой культуры был бы верней и плодотворней.
Но для того, чтобы он стал возможен, необходимо снять остроту страстей, удовлетворить чувство неполноценности, исторически свойственное украинцам. Для этого необходимы начала истинной федерации, или даже конфедерации, подлинная административная автономия, хозяйственная самостоятельность, устроение всяческих связей по принципу взаимной выгоды. Украина должна сама решать вопросы просвещения. Должна перестать быть источником материальных благ, за которые всегда недоплачивалось.
Такая Украина, может быть, в дальнейшем и примет концепцию единой культуры, к которой она издавна склонна.
Нынешнее же положение чревато взрывом, разделением и кровавой междоусобицей.
России как единому целому не страшно выделение Прибалтики, Закавказья или Средней Азии. Отделение Украины чревато распадом и переходом обеих наций на задворки истории; в конечном счете – обеднение культурной почвы, из которой постоянно будут высасываться силы, потребные для национальной самообороны.
Разделение России и Украины – страшное несчастье для обеих сторон.
Кажется, стоял уже август, когда мы вступили в Польшу.
Всю ночь ехали колонной с полным светом. Свет фар упирался в сплошную завесу ливня. Иногда на поворотах вдруг высвечивались углы домов или развалины в приграничных местечках. Ни огонька, ни живой души. Продрогшие, в мокрых плащ-палатках мы ехали до рассвета. Он скучно мерцал за спиной. Перед нами нехотя расступилась мгла. Не останавливаясь, миновали Брест. По мосту пересекли Буг. Городок Тересполь.
– Польша, – сказал мне лейтенант Иван Борисов, недавно к нам прибывший замполит.
Мы были за границей. В ту пору русское сознание до того отвыкло от пересечения границ, что невольно екнуло сердце, хотя местность за Бугом, селения и мелкие городки, представавшие перед нами в туманной пелене дождя, мало чем отличались от виденных.
Так или иначе, за последние годы (с 39-го) Россия несколько раз пересекала границы (туда и обратно) – Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика. В какое-то подспудное сознание закрадывалась возможность, а может быть, и необходимость пересечения границ.
В то утро это понималось, конечно, совсем иначе, чем сейчас. И скорее соответствовало чувству освобождения нашей земли от врага и – наконец-то! – осуществляющейся старой концепции – на чужой территории, – но малой ли кровью? Это еще как бог покажет.
Расположились мы в лесу близ села Конколевница. Отрыли землянки, построили шалаши и стали ожидать дальнейших событий.
В Польше держали нас в строгости. Из расположения улизнуть было трудно. А шалости сурово наказывались. Например, придурковатого солдата Митю Демина закатали в штрафную роту по жалобе соседнего мужика, у которого Митя уволок ненужную раму, чтобы сделать окно в землянке.
Солдаты помирали от скуки, а тут еще капитан Богомолов, новый наш командир, уехал куда-то недели на две – то ли в отпуск, то ли еще куда. С его отбытием занятия пошли кое-как, потому что офицеры Кондаков и Касаткин во главе с замполитом разложились и стали попивать самогон, за которым порой устраивали экспедиции в окрестные села. А сержанты у нас в разведке не отличались служебным рвением и надрываться не любили.
И так рота жестоко скучала от подъема до отбоя и пребывала в томительном ожидании новой перекантовки, боевых действий или вообще какого-нибудь происшествия.
В один из дней шофер Локотков, посланный за продуктами, привез щенка.
Никто не мог предполагать, что это мелкое событие вызовет такое оживление и даже сенсацию. Локотков и его собачонка стали героями дня. После обеда чуть не вся рота собралась у землянки шоферов, чтобы поглядеть на щенка. Это был обыкновенный кривоногий дворняг, выдаваемый хозяином за шотландского сеттера. Нашлись знатоки. Щенка брали за загривок, дули зачем-то в уши, лезли в рот. Затевались споры. И в конце концов решили, что щенок – обыкновенная дворовая сучка. Локотков, обидевшись, спрятал собачонку под бушлат и ушел к себе в землянку. У него появилась уйма забот – добыть мисочку, сделать ящичек и уложить туда ветошь, чтобы было где спать щенку.
Ребята разошлись, втайне завидуя шоферу, но вслух понося сучку.
На следующий день привез собаку другой шофер – Махов. Маховский пес был взрослый, отдаленно походил на овчарку, неблагородное его происхождение проглядывало в добродушном нраве, неприхотливости в пище и готовности следовать за каждым, кто его поманит.
Новый пес заслонил локотковского щенка, ибо тут же нашлись дрессировщики, пытавшиеся научить его носить палку, делать стойку и прыгать через пень. Но это не понравилось Махову, и он пошел к сапожнику Наслузову с просьбой сделать ошейник и поводок, чтобы пес не бегал зря и не ластился к посторонним. Наслузов не отказался, но взамен потребовал и себе собаку, что вскоре исполнилось. Махов привез ему откуда-то пестрого кобелька, сходившего за фокстерьера.
Так началось собачье помешательство в нашей роте.
Дня не проходило, чтобы кто-нибудь из солдат не раздобывал себе пса. С развитием собаководства расцвели и ремесла. Нашлись жестянщики, изготовлявшие миски, и шорники, делавшие замысловатые ошейники. Кто плел поводки из старых ремней, а кто особо ценившиеся проволочные.
Скуку как рукой сняло. Весь день солдаты озабоченно сновали вокруг кухни, раздобывая питание для своих подопечных. Другие учили собак разным штучкам. А некоторые весь день просто важно прохаживались, посвистывая и призывая своих собак.
По вечерам не было конца разговорам об уме и преданности собачьей породы. Разгорались споры о статьях и сравнительных достоинствах разных сук и кобелей. Вскоре владельцами псов сделались чуть не все наши разведчики. Завел себе щенка и я и поселил его в штабной землянке. Щенка я по недостатку фантазии назвал немецкой овчаркой. Породы мы раздавали сами, и уже не принято было спорить.
Щенок спал со мной, ночью поскуливая и разнежась, как малое дитя. Удивительное это было чувство близости маленького теплого существа, чувство почти отеческое.
Теперь каждый въезд в наш лагерь вызывал острое любопытство. Кабину окружали со всех сторон, и шоферы торжественно доставали очередную собаку, купленную или сведенную в стокилометровой округе по дороге на склад продовольствия или боепитания. Каких только польских псов не навезли наши собачники! Больших и малых, старых и молодых, породистых и беспородных, ожесточенных и растерянных, ласковых и наглых, всех мастей и видов.
Расположение нашей части выглядело необычно. Повсюду бегали собаки. У входов в блиндажи сидели на цепях сторожевые псы, лая и кидаясь на тех, кто шел по делу.
Ночью собаки устраивали всеобщие свары, вой, дрались из-за костей и устраивали любовные дуэли; выли на луну и тосковали по прежним хозяевам.
Офицеры сперва не принимали участия в этом деле и следили со стороны за развитием собачьей эпопеи. Но потом всеобщий азарт завладел и ими.
По своей гигантомании младший лейтенант Коля Кондаков отобрал у повара Колесаева громадное чудище, признанное датским догом. За ним обзавелись псарней Касаткин и замполит Борисов.
Замполит ничем не напоминал других замполитов, которых я знал до него. Здоровый детина, черномазый, коротко по-солдатски остриженный, с маленькими глазками и большим красноватым носом, он был выпивоха, бабник и лихой разведчик. Но решительно не мог связать двух слов и произнести короткую речь или провести политбеседу. Беседы проводил за него я. Мы были друзьями.
И уж если замполит увлекся собачьей игрой, то всем остальным сам бог велел. Так мы жили до того печального дня, когда вернулся в часть капитан Богомолов.
Говорят, досталось всем – и замполиту, и обоим лейтенантам, а пуще всех старшине Гончарову за то, что не сумел установить порядок на территории части.
После большого разгона построили роту.
– Так вот, – сказал капитан Богомолов без всякого предисловия, – даю сутки. Если встречу завтра здесь хоть одну скотину, сам пристрелю.
Он дал сутки и сквозь пальцы смотрел, как с утра потянулись из нашего леса в сторону Конколевницы опечаленные собаковладельцы. Они вели и тянули своих питомцев за поводки. А иные за пазухой несли щенков и комнатных собачонок.
В Конколевнице быстро образовалась собачья ярмарка. Установилась единообразная цена – литр самогона за собачью голову. Видно, в Польше за оккупацию сильно поубавилось дворовых псов. Торговля шла бойко, хоть и невесело.
А к вечеру все перепились. Капитан Богомолов в это не вмешивался. В нем не было жестокости и догматизма.
О Богомолове Степане Мокеевиче до сего дня вспоминаю хорошо. Это был честный, справедливый, добрый начальник. С цельной душой, неиспорченной тяготами и переживаниями войны. Наши отношения с ним были дружескими, без фамильярности, не допускаемой военной субординацией.
У нас же в части служила и жена командира, Валентина Дмитриевна, медицинский работник, женщина умная и с характером.
Меня он оставил при прежнем деловодстве, даже перевел в штат. С тех пор я стал жить вместе со старшиной роты Федором Гончаровым, с которым быстро подружился.
Федор чем-то напоминал Косова, тоже был мужчина большущей силы, говорил басом и родом происходил из Алтайского края.
С ним, а также с хитроумным кладовщиком Иваном Бакулиным нам удавалось иногда изобретать какой-нибудь повод уехать на виллисе из скучной Конколевницы – на фуражировку в окрестные хутора. Там за канистру бензина, за сахар или за мыло мы раздобывали самогон и пили с угрюмоватыми мужиками и с коварными деревенскими паненками.
Раза три меня посылали в командировку во второй эшелон фронтового штаба, располагавшийся в Бялой-Подляске. В этом городке я квартировал вместе с экспедитором у старой пани Адамовичевой, чьи дочь и сын описаны в одном из моих стихотворений.
Правда, я переселил брата и сестру в соседний город Мендзыжец, а матушку их вовсе забыл на старом месте в наказание за то, что она неизменно присутствовала при чтении Сырокомли и мешала мне поговорить с чахоточной панной Марылей.
В говоре панны Марыли я впервые ощутил сладость польской речи и полюбил польский язык навсегда.
Не могу сказать, впрочем, что Польша сильно понравилась нам. В ее жителях не встречалось мне ничего шляхетского и рыцарского. Напротив, все было мещанским, хуторянским – и понятия, и интересы. Да и на нас в Восточной Польше смотрели настороженно и полувраждебно, стараясь содрать с освободителей что только возможно. Впрочем, женщины были утешительно красивы и кокетливы, они пленяли нас обхождением, воркующей речью, где все вдруг становилось понятно, и сами пленялись порой грубоватой мужской силой или солдатским мундиром. И бледные отощавшие их поклонники из поляков, скрипя зубами, до времени уходили в тень.
Наступала прохладная осень, мы получили приказ передислоцироваться в город Седльце, поближе к штабу фронта.
А было так…
В конце лета до нас начали доходить слухи о Варшавском восстании. В разведотделе, где хорошо знали о ходе восстания, о нем говорили мало и неохотно отвечали на расспросы. Безыменский помалкивал.
Армия же, стоя почти на пороге погибающего города, вовсе не была осведомлена о происходящих событиях.
В середине сентября, отправляясь на машине из Седльца в Бялу-Подляску, я получил приказание прихватить на обратном пути нескольких людей из таинственного «хозяйства Романовского».
Стояла чернейшая ночь. Когда я вышел из дома, эти ребята уже сидели в кузове «доджа».
– Осторожней, парашюты помнешь! – прикрикнул на меня один из них.
В темноте нельзя было разглядеть их лица. Погрузив вещи, они молча стояли около машины.
– Пора, ребята, – произнес наконец кто-то. – Грудь в крестах или голова в кустах.
– Грудь в крестах – это вряд ли, а голова в кустах – это наверняка. – Гезагт – гетан[19], – по-немецки сказал первый. – Помните, что вы большевики.
– Грудь в крестах – это вряд ли. Прощай, капитан.
Остальные молча попрощались с тем, кого называли капитаном.
– Матке сообщи, – уже из машины крикнул совсем молодой голос. – В случае чего корову ей купи.
– Гезагт – гетан.
И мы тронулись.
При свете зажигалок можно было разглядеть моих спутников. Они были одеты в пальто с большим бортом и береты, так, как в наших довоенных фильмах одевали шпионов.
Переговаривались редко, но я начал различать их по голосам, покуда ехали до полевого аэродрома недалеко от Седльца. Один из них, судя по акценту, был поляк.
– Два часа, – сказал парень, которого называли Сашко. – Сегодня не полетим.
– У меня еще коньяк остался, – отозвался самый молодой.
Машина застопорила на повороте, шофер громко матюкнулся.
– Живые ругаются, – сказал младший.
Свет фар высветил колонну пехоты, шедшую к фронту и расступившуюся к обочинам перед машиной.
– Сколько их, куда их гонят! – сказал Сашко. – Идут, повинуясь одной воле.
– Много бы отдал, чтобы быть сейчас с ними, – отозвался младший.
– Нам лучше, – сказал поляк.
– Если б мы сейчас домой ехали, тогда было бы лучше, – сказал младший.
Я подождал на аэродроме, пока не вылетел «кукурузник» с тремя этими ребятами. Они летели в Варшаву.
Им удалось приземлиться и радировать о том, что поляк повредил ногу.
Большая часть парашютистов, посланных Романовским в Варшаву, погибла.
После разгрома восстания в разведотделе показывали капитана Ивана Колоса, малого с открытым русским лицом, с новеньким орденом боевого Красного Знамени на груди. Говорили, будто он вывел на нашу сторону Вислы большую группу повстанцев из Армии Людовой. Его я встретил в ЦДЛ через тридцать лет.
В октябре толки о Варшаве прекратились.
Было ощущение, что скоро откроется большая кампания – наступление на Берлин.
10 декабря. К нам прибыло пополнение – два десятка партизан из отрядов, выполнявших задания по агентурной разведке. Два десятка широкоплечих красавцев в офицерских ушанках, сдвинутых набок, в суконных гимнастерках, заправленных в брюки, перепоясанные широким ремнем, в бушлатах и в гражданских поддевках. С ними – мальчик лет пятнадцати, Ванька Радзевский. Он участвовал в десятке боев с немцами и бульбовцами и во взрыве четырех эшелонов. Он спит на моей койке, по-щенячьи свернувшись калачиком и сбивая с себя шинель.
Ванька Радзевский был паренек, казавшийся забавным, типичное дитя войны, партизанский Гаврош. Немало таких мальчуганов приставало к частям. Они славно воевали, ибо были в том возрасте, когда и отвагу, и страх можно одинаково воспитать в человеке.
Отец Ваньки, районный партийный работник в Западной Украине, был схвачен гестапо и расстрелян со всей семьей. Уцелел один Ванька, принявший на себя страшную долю мстителя.
Вообще же он нуждался в ласке и, отданный мне на попечение, вскоре привязался ко мне. Был он сметлив, опытен не по годам в делах, которые рано знать детям. И весьма ленив по части учения. Я никак не мог заставить его прочитать растрепанную книжку повестей Гоголя, единственное подходящее чтиво, которое отыскал.
Зато Ванька был величайший дока по части раздобывания еды и самогона. Его инициативу постоянно приходилось пресекать.
Чтобы парень не болтался по части, я брал его с собой в командировки. Однажды, проезжая Мендзыжец, Ванька попросил:
– Подъедем здесь недалеко к одному пану. Хочу повидать кобылу, которую у него оставил.
Крюк был небольшой. Решили заехать.
Пожилой польский мужик, хуторянин, встретил нас букой, а узнав Ваньку, совсем расстроился.
– Где моя кобыла? – после кратких приветствий спросил Ванька.
– Кобыла у меня, пан Ваня, – хмуро ответил хуторянин. – Совсем большой стал, пан Ваня, настоящий жолнеж.
– Я приехал за кобылой, – сказал Ванька.
– Зачем пану кобыла? Когда у Червоной Армии есть самоходы, – ответил хозяин.
– Нужна мне кобыла, – сказал Ванька и смело отправился на конюшню. Он отворил ворота и вывел кобылу. Лошадь добродушно поглядывала то на него, то на хуторянина.
– Зачем пану Ване кобыла? – вскричал хозяин, хватаясь за уздечку.
– Нужна мне моя кобыла, – упорствовал Ванька.
– Продай мне лошадь, – крикнул мужик. – Хорошо заплачу: каравай хлеба и жбан бимбера дам.
– За такую кобылу! – возмутился Ванька. – Хорошие люди дают три бидона бимбера, три окорока и пять хлебов…
Тут начался долгий и замысловатый торг, когда каждый тянул повод к себе, клялся и божился, так что я уже начал терять терпение. Наконец мужик увел кобылу, а нам вынес каравай хлеба, шмат сала, окорок и небольшой бидон самогона.
– Куркуль чертов, – удовлетворенно сказал Ванька, на ходу машины отрезая финкой куски ветчины и ломти домашнего хлеба.
28 декабря. 1-го января мы должны выехать на задание. Чувство приятного возбуждения.
Однако на задание мы выехали только 12 января 1945 года. И с военной точки зрения были плохо подготовлены к ведению разведки, ибо противника не наблюдали, местности, где нам придется действовать, не знали. Только быстрое продвижение наших войск способствовало тому, что мы не попали в какую-нибудь скверную переделку. Пользы же от наших действий во время Вислинской операции было мало, потому что обстановка менялась со стремительной быстротой, а разведотдел фронта получал наши ежедневные донесения по радио только ночью, один раз в сутки, и когда наши данные доходили до войск – все уже было иначе, совсем не так, как накануне.
13 января 1945 года. Вчера выехали на задание в одну из левофланговых армий фронта. Шоссе забито колоннами грузовиков, следующих к передовой. Ночевали в Куруве. От Пулав, сильно разрушенного городка, давшего название нашему плацдарму на левом берегу Вислы, дорога пролегает вдоль реки по холмистой местности. Местами холмы засажены фруктовыми деревьями и всюду изрыты траншеями. Миновали местечко Казимеж. В мирное время, вероятно, красивое, с замком или монастырем над Вислой, разрушенным временем и артиллерией. Окрестности в других обстоятельствах казались бы прекрасными, но бесснежная зима и особое чувство близости передовых позиций делают их безрадостными.
Расположились в деревушке, затертой песчаными дюнами.
14 января. Всю ночь била артиллерия немцев. Снаряды ложились где-то правее нас, и в хате дрожали стекла…
Проснулись от артподготовки. Началось.
С песчаных дюн за деревней, куда мы взбежали, видно на темном небе, как лопаются ракеты, взлетают огненные фонтаны из «катюш», вспыхивают малиновые огни дальнобойной. Воздух дрожит от мягкого звука, как будто бьют во множество огромных барабанов, и это дрожание передается земле, постройкам, отдается в груди и в сердце.
15 января. Вчера около полудня по тревоге выехали в направлении удаляющегося боя.
У переправы сгрудились машины, повозки, солдаты, царит оживление, словно все заняты веселой работой.
Сравнительно скоро мы протолкнулись по понтонному мосту. Тут же плацдарм. Обгоняем бесконечные колонны пехоты.
– Как там немец? – спрашиваю у встречного артиллериста.
– Пошел без оглядки, – ответил тот.
Стемнело. Мы расположились на ночлег в ложбине между песчаными холмами. Пели и дурачились. Потом легли спать, выставив караулы.
Ночь прошла спокойно. Под утро разбудил ближний артиллерийский бой справа.
Сегодня в середине дня пересекли бывший передний край немцев. Вчера здесь шел бой. Брошенные каски и оружие, кровавые тряпки, полураздетые трупы фрицев. Картина, вызывающая щемящее чувство тоски.
На опушке какого-то леска нам выдали водку. И сразу все пришли в бесшабашное настроение. Отсюда начинаем преследование противника. Деревня. Три часа назад здесь были немцы. Потом прошли наши танки. Поляки приветствуют нас со слезами радости.
Ночь. Вошли в село, где еще не видели русских.
– Пять лет вас высматривали, – говорит старая бабка.
Жители тащат нас в дома, угощают молоком и самогоном.
16 января. Ночью привели пленного. Допрашивали его при помощи разговорника. Говорит – австриец. Певец. Друг Яна Кипуры.
Потом еще привели двадцать пленных. Среди них трое офицеров.
Один из офицеров – чех. Неприятный тип. Отбили четырех лошадей у какой-то кавалерийской части. Вскоре привели троих кавалеристов. Они из охранной дивизии. На передовую их не пускали. Значит, мы порядочно зашли в тыл. Все трое кавалеристов – русские. Немцы будто бы их насильно мобилизовали в городе Сталино. Совсем молодые ребята.
Капитан из разведотдела, сопровождающий нас, оказался тоже из Сталино. А один из парней – с той же улицы, где жила семья капитана. Он знал Валерку, капитанова младшего брата. Того угнали в Германию.
Пленных посадили в машину и взяли с собой.
В селе Пелотко попали под обстрел немецких минометов и батареи, засевших в Илже. Начали выбивать из Илжи арьергард противника.
Тут погиб Глазов, молодой солдат. Я почти спокойно смотрел на его тело, развороченное гранатой. В розовой ране что-то еще дышало, дрожало и булькало.
Когда мы выбили немцев из Илжи, подошла мотопехота.
Когда подошла мотопехота, трое пленных из охранной дивизии сидели в открытом кузове полуторки на бочках с горючим. У машины стоял часовой. Пехота была свежая, еще не побывавшая в бою. Наш командир, капитан Богомолов, вышел на крыльцо дома, где временно располагался его штаб. Старший лейтенант из пехоты шел к нему. Рядом с ним тощая девчонка – санинструктор, в коротком кожушке. Она была пьяна, курила махорочную цигарку и материлась хриплым голосом. Офицер на нее прицыкнул, и она пошла к машине с пленными.
– Эй, фрицы! – заорала она и плюнула в них.
– Мы не фрицы, – вдруг сказал один из пленных.
– Власовцы! – еще громче заорала девчонка.
И по этому сигналу свежая, еще полная сил пехота, покинув строй, бросилась к машине. Они оттолкнули часового – ведь не стрелять же в своих, и сперва стали закидывать пленных камнями. А потом полезли в полуторку и сбросили их на руки осатаневших солдат. Их били, как в деревне бьют конокрадов. Не успели мы подбежать от хаты, как все уже было кончено. Хуже всех была эта девчонка.
17 января. Хлевиско. Взят в плен немецкий ортскомендант. Команда его разбежалась. Объяснялся с ним по-французски. По гражданской специальности он – пастор.
Поп с виду напоминал карикатурного пруссака: долговязый, с висячим носом, в негнущихся блестящих сапогах выше колена. Испуг его прошел быстро. Он попросил кофе и табаку и начал кейфовать. Он спросил, может ли сообщить жене через Красный Крест, что находится в плену.
– Конечно. Но не сразу, – ответил капитан Богомолов.
– Натюрлих, – согласился поп.
Возиться с ним было некогда, потому что мы вели разведку на Склобы и Русский Брод, а там, по сведениям, сосредоточились немецкие танки.
Богомолов ушел, и тогда его связной Сашка Пирожков предложил попу сменяться сапогами. С трудом сообразив, в чем дело, немец возмущенно заголготал, его огромный висячий нос покраснел, как индюший зоб. Поп бормотал что-то о какой-то женевской или гаагской конвенции. Сашка не смутился и сказал ему по-немецки:
– Зи фарен – бай-бай шляфен. Их фарен – пиф-паф, хенде хох, Гитлер капут.
Немец понял логическую силу Сашкиных аргументов и кряхтя стал стаскивать блестящие сапоги. Взамен он получил вполне приличные кирзовые. Надеть их, однако, не успел, потому что в хате появился неизвестно чей маленький пехотинец и, забрав из рук попа Сашин сапог, сказал:
– Погоди обуваться.
Тут он быстро размотал обмотки, снял огромные солдатские башмаки и протянул их ошеломленному пастору…
Днем прибыли в Склобы. Здесь кончается шоссе, и мы уперлись в лес, где сосредотачиваются части 214-й пехдивизии, какие-то танки и бронетранспортеры.
17.20. Ведем разведку в напр. Хуциско и Вулька-Зыкова.
20.50. Дозоры на Русский Брод и Юзефув.
Пришла группа партизан. Партизаны или лазутчики? Подтверждают сведения о скоплении пр-ка в р-не Склобы. А мы зачем-то разведываем Русский Брод, где никого нет. Немцы могут прорываться либо по проселку на Р. Б., либо по шоссе (если есть толковое командование) через Склобы. И там, и здесь им бы надо подготовить встречу, но войск на этих направлениях нет. Нас они запросто раздавят своими танками. Лучше бы расположиться вблизи шоссе и наблюдать, а то и ударить из засады по прорывающимся из наших сорокапяток. Ночью, впрочем, они, наверное, не полезут.
Была какая-то бестолковщина и неразбериха в наших действиях. Вернее – отсутствие ясной задачи. Часов в десять Богомолов отпустил меня и разрешил поспать, ибо две предыдущие ночи мы провели в движении. Я отправился в дом, где расположились наши радисты и мой подручный Васька Карпов. Тот умел выбирать дома. В Склобах он устроился в доме учителя, смирного, болезненного и услужливого человека. Поужинали в кухне. Радисты начали налаживать свое хозяйство. А я с бесцеремонностью военного человека вперся в горницу, надеясь там отыскать место для спанья. Но тут же выкатился обратно и в растерянности произнес одну только фразу:
– Вася, бриться.
Карпов вылупился на меня почти с ужасом. И все же начал доставать бритву, помазок и мыло.
Дело в том, что в горнице, куда я полез не спросясь, на большой деревянной кровати лежала девушка необыкновенной красоты. Я и до сего дня уверен, что ни раньше, ни позже не видел столь впечатляющей красоты. Даже если неожиданность и контраст со всем безобразием войны произвели на меня столь сильное впечатление, все же я могу предполагать, что передо мной была подлинная и редкая красота, ибо сердце на войне так же прикрыто для красоты, как и для ужаса и безобразия, и впечатление должно было быть подлинной ослепительной силы, чтобы так неожиданно освежить, освободить от усталости и сосредоточенного безразличия. Сонливость слетела с меня.
Ее звали Бронислава. Она хворала, а скорее, ее уложили в постель, пока не утрясется положение. Она не проявила никакой тревоги при моем вторжении, напротив – очень мило заговорила со мной, забавляясь моим способом говорить по-польски. Мы читали с ней какие-то стишки из календаря. Стишки альбомного содержания. Я сидел у постели на стуле. И учитель, несколько раз заглядывавший в дверь, видимо, успокоился и отправился спать. Было уже около полуночи, когда вдруг появился капитан, представитель разведотдела. Я доложил ему, что отпущен Богомоловым отдыхать, но он все толокся в горнице. Наконец его осенило:
– Знаешь, ты, пожалуй, прав, – сказал он, хотя я ему вовсе не высказывал своего взгляда на наши действия. – Возьми-ка троих ребят и поезжайте на виллисе (он указал мне на карте три дороги, которые надлежало проверить). Установишь связь с нашими частями и укажешь им группировку противника.
Мне ничего не оставалось, кроме как встать и отправиться выполнять приказание.
Ночью ездил устанавливать связь с нашими частями по шоссе и двум боковым дорогам. Тьма непроглядная. Сзади нас, километров на 20, наших войск нет.
Поездка была не из приятных. Мы ехали в чертовой тьме да еще с опущенным ветровым стеклом, ибо впереди был выставлен ручной пулемет. Продувало и плохо было видно от встречного ветра. Вот бы испортили мы настроение капитану, если бы нарвались на приличную группу немцев, прорывающуюся к своим!
Часам к трем ночи мы вернулись. Капитан сидел на моем стуле рядом с Брониславой. Я доложил ему результат нашей разведки. Он кивнул головой. Это можно было понять так, что я могу идти. Но уходить я не собирался, а поскольку другого стула не было, то присел на край постели рядом с Брониславой. Капитан насупился, недолго поразмышлял и наконец собрался уходить.
– Здесь тебе не обломится, – сказал он с порога и удалился не прощаясь.
О Брониславе я потом написал стихи под названием «Божена». Надо бы написать их заново.
Я вернулся в Польшу только через двадцать лет, мог бы поехать в Склобы – разыскать Брониславу. Но ей тогда было уже под сорок, если она еще жила на свете.
Я подумал: не слишком ли часто мелькают на этих страницах женские лица – выплывают из памяти и уходят бесследно? Не кажутся ли слишком легковесными мимолетные образы женщин рядом с картинами войны, порождающими тяжелые мысли? Не один раз я поднимал перо, чтобы вычеркнуть строки, милые только моему сердцу. И каждый раз острая жалость останавливала мою руку. Мне жаль не детали, правдиво подчеркивающей мою человеческую незрелость и легкость чувств. Мне жаль всех нас, молодых солдат, в чьем существовании, достаточно неестественном, ибо война не может считаться естественным условием формирования человеческой личности, – в этом существовании, где насущной потребностью были категории долга и пренебрежения смертью, – единственным проблеском тепла и нежности была женщина. О римском падении нравов во время войны твердили только сукины дети, покупавшие любовь у голодных за банку американской колбасы.
Была величайшая потребность духовного созерцания женщины, приобщения к ее миру. Потому так усердно писали молодые солдаты письма незнакомым заочницам, так ожидали ответного письма, так бережно носили фотографии в том карманчике гимнастерки, через который пуля пробивает сердце. Потому и нужны мне на этих страницах мимолетные образы, выплывающие из памяти и так легко исчезающие.
18 января. Под утро допрашивали лазутчиков-поляков, посланных немцами разведать Склобы. Они нарвались на нашу заставу.
Выдвинулись на рубеж Брызгув. Головной РД действует в направлении Русский Брод. Вышедший из строя виллис Кайгородова оставлен в Склобах. Горючее и продовольствие на исходе.
Догнавший нас Кайгородов рассказал, что едва мы покинули Склобы – их начала атаковать большая колонна немцев. С шумом и беспорядочной стрельбой они, не задерживаясь, покатились по шоссе за нами следом. Как оказалось вскоре, часть их пошла на Русский Брод по проселку. Значит, не было единого командования, и они решились действовать отдельными группами.
Русский Брод. Движемся по дороге вдоль села, расположенного на возвышенности. Слева в ложбине идет вялая перестрелка. Какая-то наша пехота блокирует опушку леса, того самого, что другим краем примыкает к Склобам. По поперечной дороге наперерез колонне движется подкрепление. Часть нашего обоза (продовольствие, горючее) и прикрывающий броневик остаются за перекрестком. Вдруг немцы начинают атаку. Они атакуют вдоль дороги, навстречу подкреплению, не успевшему развернуться в боевой порядок. Там суматоха. На виллисе выскакивает вперед генерал (впоследствии оказалось – начальник штаба корпуса). К нему кидаются наступающие немцы. Развернуть виллис на узкой дороге нельзя. К генералу пробивается наш броневик и, прикрыв его машину, чешет из пулемета по наступающим. Виллис пятится задом. Выручили генерала.
Но тут немцы выкатываются из леса и густой цепью атакуют село – вверх из ложбины. Наша пехота отступает, отстреливаясь. Все это происходит в пятистах метрах от нашей колонны с левого бока. Можно было развернуть пулеметы и чесануть по наступающим, но едва первые пехотинцы добегают до наших машин – Богомолов командует «по машинам!» и мы быстро оставляем Русский Брод. Пули свищут вслед колонне. Кравец успевает прихватить девять пленных.
19.30. Эугенюв. Немцы прорвались на ту же дорогу, по которой движемся мы. Они наступают нам на пятки. Слева мрачные пожары польских деревень.
21.50. Корытчув. Пехота и обозы противника огромной колонной отступают по параллельной дороге на Опочно. Пленные показали, что в районе Русский Брод находились части 16-й танк. дивизии, 72-й пехотной. Есть до тридцати орудий, боеприпасы. Видимо, главные силы их прорываются на Опочно.
Сильные взрывы слева. Противник взрывает склады. Дорога освещена заревом дальних пожаров.
Карвица. Из Корытчува пришлось срочно ретироваться. Танки и самоходки из Русского Брода прорывались по нашей дороге. В темноте нельзя определить, сколько их. Пришлось увильнуть на боковой проселок. Все это происходило в легкой панике. Чуть не оставили Богомолова. Мы с ним выбежали из дома, где составляли донесение, заслышав беспорядочную стрельбу. Наши машины уже двинулись. Я пузом на ходу перевалился в виллис второго взвода.
Здесь штаб двенадцатой стрелковой. Ее называют «армянской».
19 января. Карвица. Взяты пленные 124-го СП, 72-й СД. Колонна противника – до трехсот машин с танками – движется параллельно шоссе Корытчув – Опочно. То есть туда же, куда приказано двигаться нам.
Получив эти сведения, штаб «армянской» начал срочно перекантовываться. Двинулись и мы.
На окраине села у пруда старшина из штаба двенадцатой расстрелял пленных. Он озверел от крови. Топчет ногами трупы и стреляет в них.
Частые польские деревни. Хутора. Местность бедна, уныла и безлюдна. Бурые поля, каменистая почва. Слева – леса, справа – холмистая равнина. Мелкие группы деревьев – березы, елки. Нехолодная бесснежная зима.
На шоссе Радом – Опочно десятки разбитых немецких машин, штабных, грузовых, легковых. Кровавые мерзлые тряпки. В кюветах и рядом, на поле, валяются обезображенные трупы с задранными к небу головами и окровавленными лицами. Здесь работали наши танки. Все поля вокруг покрыты белыми шевелящимися листами бумаги. Откуда столько бумаги?
Я и сейчас помню это поле, покрытое шевелящейся бумагой. В этом шевелении, шелестении был какой-то живой ужас рядом с трагической неподвижностью мертвецов…
Я не верю в идею загробного страдания или блаженства в зависимости от земного греха или от земной же нашей безгрешности. В этой идее есть что-то от коммерции.
Теряя телесную форму, дух не должен уничтожаться, но лишается воли и времени, то есть коренных условий страдания и блаженства. Он существует как бы диффузно, до того момента, пока родственный дух живущего своей волей не соберет его к страданию или блаженству. В этом смысл культа предков – непревзойденного учения о бессмертии единичной души.
Дух усопшего не может быть судией духа в телесной форме, не может быть ему критерием, ибо лишен перед ним обязательств времени и воли. Наоборот, дух телесно воплощенный как бы верховодит бестелесным, отвечает за него и, как своему дитяти, старается принести блаженство, будучи нравственным духом.
Не потому ли с такой тревогой мы наблюдаем наших детей, ибо только их нравственный дух может поднять нас к бессмертию.
Я нравствен не для того, чтобы себе обрести бессмертное блаженство. Я нравствен, чтобы блаженным стал ты, – в благодарность тебе за то, что дал мне телесный облик, высшую форму всякого духа.
Опочно. Вблизи идет бой с прорывающейся колонной немцев. Будем отдыхать, если дадут. Немцы, видимо, решили обойти Опочно стороной. У нас горючего километров на 20. Продовольствие отстало в Русском Броде.
У самого въезда в Опочно – мост. Перед ним – два десятка грузовиков, отставших от передовых частей. Шоферы покинули кабины, потому что из придорожных кустов выходят сдаваться трое немцев. Я видел, как они шли, подняв руки, без оружия. А шоферы ждали возле машин. Вдруг раздались выстрелы, и двое немцев упали. Я подскочил к шоферам. И крикнул, схватив за рукав третьего немца:
– Что вы делаете?!
Не мешкая, я потащил немца за собой и подсадил его на свободное место в своем виллисе. Все это произошло в одно мгновение. Мы тут же въехали в город. Немец был без шапки, желтоволосый, средних лет, в очках. Его била крупная дрожь.
– Русские не расстреливают пленных, – сказал я фразу из разговорника. Это было первое, что пришло мне в голову, да я и не знал других успокоительных фраз по-немецки. Когда я заговорил, немец глядел на меня, а я обернулся к нему с переднего сиденья. Его белесые глаза в красных прожилках были широко раскрыты, почти выкатились. Он никак не мог уразуметь, что я ему сказал, и мне пришлось снова повторить фразу из разговорника…
20 января. Опочно. Группировка, прорывающаяся из Русского Брода, не дает нам покоя. В 8 часов утра в городе началась стрельба. Немцы, пробиваясь к шоссе, завязали перестрелку с шоферами какой-то нашей автоколонны. Шоферы не могли устоять. Немцы ворвались в городок. Им удалось взорвать мост перед Опочно. Мы быстро вывели автомашины за город. Расположились на холме – оттуда хороший обзор местности. И вскоре вышибли противника из города. Наши штурмовики в это время прочесали местность. И чуть не причесали нас.
Весь день под городом редкая орудийная стрельба, автоматные очереди со всех сторон.
Приходят сдаваться немцы, группами и поодиночке. Маленький лысоватый курчавый немец, давно не мытый, с гноящимися глазами. Он сдался от голоду, его обыскали. Он попросил, чтобы оставили фото жены. Ему отдали фото.
Партизанский мальчик Ванька Радзевский вызвался конвоировать этого немца до сарая, где содержались другие пленные.
Он отвел его на несколько шагов и пристрелил.
22.30. Чудом отыскался студебеккер с продовольствием. Только собрались ужинать, эскадрон немецких кавалеристов ворвался в город и рванул как раз на нашу улицу. Мы, однако, не растерялись и, развернув пулеметы, ударили вдоль улицы. Немцы повернули обратно.
Так надоела эта нервотрепка, что выехали из города и расположились в деревеньке вблизи Опочно, чуть в стороне от шоссе. Испортили нам ужин, сукины дети.
Немецкие части продолжают отступать по шоссе, минуя Опочно.
Дело было так. Мы выбрали для постоя окраинную улицу, отдаленную от шоссе, с выходом за город. Я стал на постой у местного нотариуса, пожилого человека, отца трех дочерей-перестарков, зябких, кутающихся в длинные шали, злых и некрасивых девиц с покрасневшими кончиками носов. Впрочем, младшая из них была приветливей и милей сестер. Ее бы можно было назвать миловидной, если бы не фамильное устройство носа. Не помню, как ее звали, но с ней мы до некоторой степени подружились. Здесь сыграла роль моя неуемная потребность практиковаться в польской речи. Мы сидели в гостиной нотариуса и вели светский разговор, который несколько заглушал чувство голода. Милая панна поила меня кофе с сухариками. Когда разговор иссяк, панна стала гадать по руке. Ее гадание сулило мне счастье и успех, «однако, – сказала мне панна с некоторой тревогой, – над вами нависла опасность (“грозьба”), и если эта угроза минует благополучно, все будет в порядке». Так сулило мне гадание.
Я привык к более безоблачным предсказаниям, потому не был совершенно удовлетворен гаданием младшей дочери нотариуса.
Но тут за мной прибежал Пирожков и позвал есть. Было еще светло, когда я перебежал в соседний дом, где на столе дымилась картошка, стояли раскрытые мясные консервы, сало, большая миска с хозяйской капустой и в лафитничке – водка.
– Давай, комиссар, – торопил меня Гончаров. Действительно, хотелось есть.
Но мы не набросились на пищу, а сперва степенно выпили, и поморщились для порядку, и покрякали, и понюхали корочку. И лишь тогда потянулись вилками к капусте.
Дотянуться не успели. На нашей улице затыркали автоматы, ухнула граната, послышался конский цокот. Мы выскочили из дома. Мой автомат остался у нотариуса, и я, выхватив наган, хотел пересечь улицу и взять автомат.
По улице скакали кавалеристы в немецкой форме. Наверное, целый эскадрон. И веерами рассыпали автоматные очереди по окнам домов. Я чуть высунулся из-за угла, как жахнула граната. Едва успел отскочить. Но там в конце улицы ребята уже установили пулемет и повели кинжальный огонь. Конь кавалериста, метнувшего в меня гранату, споткнулся. Всадник полетел через его голову. И я, не помня себя, выстрелил в него из нагана.
Встретив дружный отпор, кавалеристы развернули коней и, оставляя раненых и убитых, ринулись прочь.
Мы вернулись, чтобы доужинать. Но настроение было испорчено. Мы пересказывали друг другу эпизоды минувшего боя, ели же торопливо и без удовольствия.
Когда я зашел на квартиру нотариуса, чтобы забрать вещи, милая панна, младшая из сестер, лежала на столе, прикрытая черной шалью. Она глядела в окно, когда немецкие кавалеристы вломились на их улицу. Перед домом лежала убитая лошадь. Всадника не было. Может, я и не убил его, и, пользуясь темнотой, он уполз и скрылся.
21 января. День начался холодным туманом, который осел потом на поля и деревья белым инеем. В деревне, где мы ночевали, в сараях набито шестьсот пленных. Конвоиры обчищают их. Идет меновая торговля с нашими солдатами.
Наш дозор привел троих немцев. Они ели в хате суп с сухарями. К ним валился сильно выпивший старший лейтенант Касаткин. Один из них так и вышел – с сухарем в руке. Когда его застрелили, он упал с сухарем в руке.
Касаткин был в пьяной истерике. Его нельзя было унять. Я вбежал к Богомолову, с порога крича о том, что происходит. Он безнадежно махнул рукой. Разведчики в тот день были мрачны и понуры. Но утром никто не удержал Касаткина.
Как должен был поступить тогда я? Как – даже с нынешних моих позиций? Убить Касаткина, убить старшину из «армянской»? Убить пьяную девчонку? Убить шоферов под Опочно?
Я не убил их. И должен ли был убить?
Да я и не думал убивать их. Да и можно ли убийством карать убийство? Не знаю и сейчас. Не думал и не знал.
Война вменяет в обязанность убивать врага. Нас же убеждали, что мы имеем право убивать: убей немца! Обязанность за право приняли, конечно, худшие. Их аргумент был: а немцы, а эсэсовцы, а гестапо – разве они не поступали хуже? Для русского человека гестапо не предмет сравнения. Мы победили, потому что были лучше, нравственнее. И большая часть армии не воспользовалась правом убивать.
Страшная вещь война. И решившись воевать, надо решиться на убийство. Весь этот пресловутый гуманизм войны – ханжество и фикция. Нет и не может быть гуманной войны. Но может быть война ради самозащиты, самоспасения.
Такой была наша война в 41-м году. Это был акт необходимой самообороны, акт, признаваемый любым правом.
Солдат 41-го года, и 42-го, и 43-го воевал против злой воли и неправедной силы нашествия. Он воевал на своей земле, оборонял свою землю. Ему достаточно было знать только это. И именно это знание удесятерило его силы. Патриотизм 41—43-го годов был самым высоким и идеальным. В нем было нравственное достоинство обороняющегося патриотизма. Уязвленность души, которая сокрыта в каждом обороняющемся патриотизме, выражается в подвиге и самоотверженности. Но какой уродливой может стать компенсация за эту уязвленность тогда, когда обороняющийся патриотизм становится наступательным.
21 января. 19.00. Прибыли в Жерардув. Местность от Равы-Русской становится более веселой. Села чаще. Леса светлей. По дороге редкой вереницей движутся беженцы. Это варшавяне. Они идут по двое, по трое, реже более многолюдными компаниями, волочат узелки со скарбом, толкают детские коляски с барахлом, приветствуя, протягивают руки к проходящим машинам. У всех усталые, отощавшие лица, рано постаревшие, еще более жалкие у женщин с их пудрой и губной помадой. Город увешан польскими флагами, обмотан бело-красными лентами, даже маленькие дети носят польские флажки на тонких палочках…
23 января. Ночью проехал по развалинам Варшавы.
Варшава была не место сражения, а нечто иное. Все ее дома и костелы как-то сползли набок. Они были по большей части не пробиты артиллерией, а подорваны и сожжены. Эти наклонные с черной копотью вокруг окон здания странно и страшно гляделись на фоне неба, почему-то лиловатого. Улица без единого огонька тоже сползала к реке, где виднелись ребра взорванного моста.
Не знаю до сего дня, кто виноват в гибели Варшавы и трехсот тысяч ее граждан. Может быть, лондонские поляки и Бур-Комаровский, начавший восстание раньше благоприятного срока, может быть, Сталин, не пожелавший оказать помощь повстанцам.
Варшава погибла не в результате битвы, а в результате избиения – политикой…
Испытание победой
Дрянная погода, талый снег на дороге. За Конином плоский пейзаж. Бурые поля с неожиданно яркими платками озими. Однообразные городки и местечки.
Русское разнообразие предвисленского края сменилось немецким однообразием и чопорностью. Деревни редки. Часты хутора и фольварки. Край чужой и глядящий исподлобья. Здесь где-то уже начинается Германия.
Гнезно – красивый городок, еще не прибранный, но уже праздничный, украшенный польскими флагами. Наши ребята живут как победители – жарят мясо, едят немецкий эрзац-мед и пьют трофейную водку.
В штабе фронта я разыскал майора Сахарова, заместителя начальника войсковой разведки, к которому был направлен с донесением. Майор располагался один в кабинете за письменным столом. Перед ним стоял бидончик, граненый стакан с зеленоватой жидкостью. Обеими руками он держал копченый окорок. Сахаров был молчалив и больше объяснялся жестами. В ответ на мой рапорт кивнул головой и указал мне окороком сесть против него. Потом дал подержать окорок и, налив стакан самогона, пододвинул его ко мне. Я отдал ему ветчину, выпил самогон и тут же получил окорок обратно. Пока заедал хмельное, Сахаров налил себе, и, опрокинув стакан, отобрал окорок. Так окорок и стакан переходили из рук в руки несколько раз. Мы кусали прямо от окорока, хотя я предложил финкой отрезать по куску.
– Так лучше, – сказал Сахаров. Больше он не промолвил ни слова и, приняв донесение, отпустил меня.
Я отправился искать Безыменского, чтобы узнать, как дела. В штабе фронта говорили об оперативной паузе. Линия фронта растянута, фланги обнажены. Кроме того, значительные силы скованы в Познани и Шнайдемюле.
Несмотря на близость Берлина и быстрое отступление немцев, не было ощущения, что с падением Берлина окончится война. В штабе фронта говорили о попытке немцев подготовить удар по нашему правому флангу. Нельзя было считать это невероятным…
С конца февраля мы стояли в городе Мендзыхуде, недалеко от Познани. Этот польско-немецкий городок был похож на все соседние городки черепичной архитектурой своих крыш и базарной площадью – Маркт-пляц – в центре, когда-то называвшейся площадью Пилсудского, потом – Адольф-Гитлер-пляц, а при нас наскоро переименованной в площадь Победы или Войска Польского.
К востоку от Мендзыхуда сражалась несдавшаяся Познанская цитадель, с севера от приморья нависала мощная группировка немецких войск. Только благодаря военной уверенности Жукова штаб фронта был выдвинут так далеко на запад, в мешок, который мог быть отрезан контрнаступлением немцев.
У войск, вышедших к Одеру, иссякли боеприпасы и горючее. Однако война была уже в той стадии уверенности и организации, когда смелые решения были самыми правильными.
Рокоссовский бил северную группировку, а мы готовились к окончательной победе.
В Мендзыхуде, на улице Болеслава Храбрего, 2, прожил я беззаботные дни перед операцией Одер – Берлин.
Я жил в Доме пана Радлика, скромного чиновника речного порта на Варте. В этой семье было двое сыновей – Витек и Стасик, а также дочь Зофья, Зося, школьная учительница и моя первая учительница польского языка.
В ту пору я был легкомыслен и влюбчив и, конечно, влюблен был в пани Зоею Радликувну, впрочем, также и в сестру местного ксендза – пробоща Каспшака, и в племянницу пекаря Ванду Г еничувну.
Эти факты, ни для кого не имеющие никакого значения, тем не менее дороги мне и потому упомянуты на страницах «Памятных записок», где не обойтись без простого сюжета моей жизни.
Здесь же расскажу, что в Польшу вернулся через 19 лет после войны.
Репортер газеты эфемерной партии «Строництово демократичне» задал мне вопрос о поляках, с которыми я подружился и которых запомнил с военной поры. Конечно, на первом месте я назвал семейство Радликов.
Вскоре я получил письмо на адрес Министерства науки и культуры, благополучно дошедшее до меня. Пани Зофья Каминская, урожденная Радликувна, уведомила шановного пана, что она, родители и братья читали мое интервью и даже видели меня по телевидению.
Еще через год я приехал в Познань, чтобы повидаться с Зосей и Витеком…
Но вернусь к весенним месяцам 45-го года. Трудно писать о Польше, столь разгромленной и всеми преданной, что духовная ее жизнь, казалось, прервалась.
Трагедия Варшавы исчерпала на время силы польского национального духа, как будто и закаленного многовековыми испытаниями и неудобством своего промежуточного положения между мощной Россией и сильной Германией.
Удивительна все же резкая самостоятельность польского самосознания и твердость польской исторической концепции.
Чехи, к примеру, всегда капитулировали, спасаясь от гибели. Восстания – польский способ самовыявления. Поляков никогда не удерживало явное несоответствие их военных сил рядом с силами противника, будь то Россия или Германия. Обреченные на поражения, они умели сохранить нутро национальной гордости и, притихнув и даже почти утратив существование, вдруг снова отдышаться и собраться в нацию с сильной и самостоятельной культурой.
Поляки никогда не думали о своей относительной малочисленности и всегда ощущали себя великой нацией, пусть самой малой из великих.
Это ощущение является привлекательной чертой польского характера, во многом неприятного и чуждого. Именно эта черта – причина моей любви к Польше, любви, позже ставшей как бы частью миросозерцания и не угасающей, несмотря на поступки польского общества, порой трудно приемлемые.
Любовь к Польше – неизбежность для русского интеллигента.
Русская нация во многом может быть благодарна польской. В бурные времена яркие исторические деятели России, которые как бы составляют костяк истории, чаще всего рассматриваемой как драматическое действо, – в бурные времена исторические деятели России тянули ее к татарщине, азиатскими методами решая насущные вопросы времени. В «тихие» же времена Михаила и Алексея Польша была ближайшей станцией европейской цивилизации.
Россия была подготовлена к реформам Петра, и они могли бы произойти менее конфликтным способом, к сожалению, не свойственным нашему государственному мышлению.
В подготовке русского европеизма огромная роль принадлежит Польше. Приняв «переходный» польский вариант европеизации, Россия избежала бы многих драматических конфликтов, в частности доныне живого конфликта почвенников и западников, отражающего неизгладимую травму петровского и послепетровского западничества, нанесенную русскому сознанию Гольштейн-Готторпской династией.
Тут же оговорюсь, что нелепо давать ретроспективные советы истории. И конечно, драматически порывистый способ исторического продвижения глубоко свойствен России и является одной из черт ее своеобразия. Однако сама возможность иного варианта позволяет трезвее и спокойнее рассмотреть духовные конфликты прежнего и нашего времени. Соотнесение русской истории с историей Польши очень помогает в этом. «Промежуточность» Польши и тесная связь ее судьбы с нашей позволяют нам легче усваивать существенные стороны мирового уклада жизни, столь отличного от нашего и неприемлемого без опосредования в быту близкой, понятной и контактной нации.
…Первого апреля было «свенто» – польская Пасха. Я посетил трех моих приятельниц и сейчас, почти тридцать лет спустя, с грустным удовольствием читаю полустертые записи в растрепанной книжке о том, как гулял по кладбищу с панной Эрисей, как практичная и простодушная Ванда говорила, что станет моей женой, только если я приму католичество, и возмущалась с самоуверенностью польской панны:
– Не хочешь быть католиком ради меня?!
И как с горделивым бешенством встретила меня милая Зося.
Я теперь понимаю, почему упомянуты эти имена на страницах моих записок.
У человека, находящегося в дороге, а война – это тоже дорога, есть желание остановиться в пути – вон в том доме, вон на той улице – и войти в чей-то мир, стоящий на месте, не подвластный дорожному движению, и пожить в этом мире «своим», причастным тому, что – не война и не дорога.
Я всегда был счастлив, когда мне это удавалось: в госпитале, на Керженце или в городке Мендзыхуде.
В этих малых мирах должны быть юные женщины, и любовные клятвы, и слова прощания, свежо и печально помнящиеся первые три десятка километров нового пути.
13 апреля мы тронулись дальше на запад. От Мендзыхуда до Ландсберга вело узкое, обсаженное деревьями шоссе. Не доезжая Шверина, поперек дороги широкий плакат: «Здесь была граница Германии».
Я невольно ощутил волнение, пересекая незримый рубеж.
Черепичные крыши селений приветливо краснели среди яркой озими, безмятежное утро скрашивало пустоту домов и безобразие развалин. Оно вносило простодушие в аккуратный и прибранный пейзаж…
Ландсберг – довольно большой и красивый город, со взорванным мостом и поврежденными трамвайными линиями. Там мы встретили первых немцев с белыми повязками на рукаве.
Утром 16 апреля мы проснулись под гул канонады. Началось одно из крупнейших сражений в истории войн – битва за Берлин.
Наша фронтовая разведрота должна была по мере сил способствовать успеху этого огромного дела.
Мы действовали тремя группами, из которых, кажется, только одна сыграла некоторую роль, установив первый контакт с войсками Украинского фронта слева от Берлина.
Ощущение громадной мощи наступления охватывало каждого, кто в эти дни следовал по фронтовым дорогам в сторону Берлина.
Оборонительные линии за Одером не выдержали перед таранной силой наших танков и артиллерии.
Вся местность за Кюстрином была перепахана и исполосована танками.
Мы медленно продвигались по автостраде Варшава – Берлин, плотно уставленной «тридцатьчетверками», самоходными орудиями, артиллерией, грузовиками с боеприпасами и снаряжением, и все никак не могли пробиться к передовой, постепенно откатывающейся к Берлину. Чувствовалось и подавляющее превосходство нашей авиации.
На дороге, забитой техникой, господствовала оживленная неразбериха, вспыхивали то ругань, то смех.
Удивительным контрастом бронированной технике казался ослик, спокойно шествовавший по обочине дороги. Пожилой узбек в пилотке, напяленной, как тюбетейка, с винтовкой через плечо, подремывая, ехал верхом на осле, вдоль кювета, как вдоль арыка. Спокойно ехал в Берлин.
Таким же контрастом были верблюды, пришедшие с 8-й гвардейской армией из сталинградских степей. Они презрительно и степенно поворачивали аристократические головы. Ездовые с коричневыми скулами и раскосыми глазами таили в себе жестокое равнодушие Азии и жадность набега.
Немцам это казалось страшней танков. «Ди кальмукен» – калмыки, называли они наших казахов и узбеков, не зная о судьбе подлинных «кальмукен». Им чудилась белозубая улыбка и жадное дыхание Азии, коленом раздвигающей пах бледных дев Европы…
Ища объезда, мы свернули на боковую дорогу, неожиданно пустую. Справа громыхало сражение. Мы ехали, не встречая жилья, вдоль двух шпалер из яблонь и груш, которыми обсажена была узкая шоссейка, и выехали к фольварку, недавно покинутому жителями.
Я описал уже в поэме «Ближние страны», как старая корова подошла к старшине с просьбой подоить ее.
Хромая кобыла шла из-за дома. Навстречу ей коза. Кто-то напялил ей на рога женскую соломенную шляпку с голубыми лентами. Животные сошлись и остановились друг перед другом. И долго стояли, покачивая головами.
Эта смешная сцена была исполнена той подлинной грусти, так точно обозначала чувство одиночества и заброшенности, что смеяться не хотелось.
Первые 20–30 километров за Одером мы не встречали ни одного мирного жителя. Вся Германия готова была спасаться от страшного возмездия, которого ожидала и от которого не было спасения.
Первым мирным жителем, увиденным нами, была умирающая старуха. Ее оставили в полуподвальной комнате покинутого особняка. Свет падал от потолка из окошка. На столике близ деревянной кровати стоял кувшин с водой и какая-то пища. Старуха дышала так незаметно, что казалось – уже померла. Вдруг она открыла глаза и долго безучастно глядела на нас. Потом ясно тихим голосом спросила:
– Кто вы?
– Мы русские солдаты, – ответил я по-немецки.
– Вы не солдаты, вы разбойники, – так же ясно сказала старуха. И закрыла глаза.
Мы уже двинулись к двери, когда она вновь ясно и тихо спросила:
– Вы уже в Берлине?
– Да, – ответил я.
Старуха вновь закрыла глаза. Наверно, уже навсегда.
Первые наши немцы были смертельно напуганы и готовы ко всему. Они с удивлением и с некоторым облегчением приглядывались к солдатам, порой еще разгоряченным боем, а чаще уже остывающим от схватки, чаще добродушно и беззлобно копающимся в шмотках, реже напряженным и нервным – таким лучше под руку не попадаться.
Находились немцы, не терявшие присутствия духа. Вообще же большинство жителей пытались как можно скорей приспособиться к новым обстоятельствам и новой власти.
В одном местечке немец Фриц Прандт предъявил документ, написанный детским почерком на листке, вырванном из тетрадки: «Етот немец Фриц Прант с женой разбомбленные Лихтенштрассе 20 очень хороший. Я в их жила. Оля Ковалева».
Дальше следовал адрес – колхоз в Курской области. Документ действовал.
В другом местечке над домом развевался красный флаг вместо белых флагов капитуляции. Хозяин заявлял, что он коммунист. Его тоже не «курочили».
В Аренсфельде, где мы только что расположились, явилась небольшая толпа женщин с детьми. Ими предводительствовала огромная усатая немка лет пятидесяти – фрау Фридрих. Она заявила, что является представительницей мирного населения и просит зарегистрировать оставшихся жителей. Мы ответили, что это можно будет сделать, как только появится комендатура.
– Это невозможно, – сказала фрау Фридрих. – Здесь женщины и дети. Их надо зарегистрировать.
Мирное население воплем и слезами подтвердило ее слова.
Не зная, как поступить, я предложил им занять подвал дома, где мы разместились. И они успокоенные спустились в подвал и стали там размещаться в ожидании властей.
– Герр комиссар, – благодушно сказала мне фрау Фридрих (я носил кожаную куртку). – Мы понимаем, что у солдат есть маленькие потребности. Они готовы, – продолжала фрау Фридрих, – выделить вам несколько женщин помоложе для…
Я не стал продолжать разговор с фрау Фридрих.
Среди немок, разместившихся в подвале, была девушка дивной красоты – Эва-Мария Штром. Утром пришел какой-то штаб, и особист, проверявший наличие мирного населения, куда-то увел Эву-Марию…
Догнав передовые части, мы начали действовать вместе с пехотой, наступавшей вдоль шоссе. Наши группы по ночам прихватывали языков, днем же, сменяясь, вели наблюдение.
Немцы под Берлином отчаянно сопротивлялись. Военная машина действовала довольно слаженно до последнего момента, хотя армия состояла наполовину из стариков и мальчишек фольксштурма. Сопротивление их было бессмысленно с точки зрения солдата и фронтового немецкого офицера. Не идея спасения Германии и фюрера владела ими, а только одно желание не сдаться русским и попасть в плен к американцам и англичанам. С этой точки зрения Берлинская битва была не просто добиванием немецкой армии, а грандиозным сражением с двумя замыслами и с переменным успехом в ходе сражения, как это всегда бывает на войне. Это сражение выиграла советская армия, и не только потому, что заняла Берлин, но и потому, что заняла его к определенному сроку. Немцам не удалось осуществить свое главное намерение: прикрыть капитуляцию большей части войск перед англо-американцами, сдать им Берлин и создать мощный противовес в Европе нашей силе, что могло бы привести к политическому расколу союзников и, возможно, продолжению войны.
Наша армия в конце Берлинского сражения если не понимала, то ощущала возможность такого варианта. Вариант дальнейшего похода на Европу – война с нынешними союзниками – не казался невероятным ни мне, ни многим из моих однополчан. Военная удача, ощущение победы и непобедимости, не иссякший еще наступательный порыв – все это поддерживало ощущение возможности и выполнимости завоевания Европы. С таким настроением в армии можно было не остановиться в Берлине, если бы реальное соотношение сил было иным и отрезвляющие атомные налеты на Японию не удержали Сталина от дальнейшего наступления.
О том, что подобное намерение у Сталина было, говорит Потсдамский договор, где все границы были установлены временно, вчерне и огнеопасно.
Черчилль, понимая намерение Сталина и зная всю его невыполнимость, пошел на черновой договор. В случае продолжения войны договор этот не имел никакого значения. В случае длительного мира сплачивал Германию с Европой против Востока.
…Но это все было еще впереди. А пока в штабе фронта, видимо, не совсем были удовлетворены темпами операции.
22 апреля приехал полковник Данилюк, начальник войсковой разведки фронта. На мои расспросы о наступлении он недовольно пожал плечами и сказал, что мешают озерные дефиле юго-восточнее Берлина. Ранее на Зееловских высотах была задержана 8-я армия Чуйкова, сталинградская, которая по парадному замыслу сражения должна была войти в столицу первой и, как учила стратегия, обходом правого фланга немцев.
Наступление же в лоб шло своим чередом. 5-я ударная армия Берзарина неуклонно двигалась к Берлину.
Днем мы размещались вблизи передовой в помещениях, пригодных для укрытия от артиллерийского огня. Как-то стояли в дверях полуподвала, пережидая очередной минометный обстрел. Мины с промежутками в несколько минут падали в квадратный внутренний дворик, вымощенный кирпичом.
Во двор въехала полуторка. В ее кузове помещалось человек тридцать немецких пленных. Оттуда задом сполз толстый лейтенант с погонами административной службы. По его команде посыпались немцы. Лейтенант неумело построил их в две шеренги и что-то громко стал объяснять по-немецки.
Мы с недоумением ждали, что их всех накроет очередная мина.
– Эй ты, – выкрикнул один из разведчиков.
Лейтенант обернулся. Это был Сергей Львов, ныне писатель, а тогда переводчик разведотдела. Я за рукав оттащил его в укрытие, на ходу объясняя ситуацию. Едва он скомандовал немцам рассредоточиться, как рядом ухнула мина. Тогда Львов побледнел.
Я объяснил ему, что только дураки стоят там, где рвутся снаряды.
– Но вы тоже стоите, – оправдывался Львов.
– Мы стоим там, куда не падает.
Обнялись. Приятно было на войне встретить знакомого ифлийца. Львов на фронте был недавно и прослыл у шоферов разведотдела человеком отчаянной храбрости – по близорукости и непониманию обстановки пёр напролом и не раз мог угодить прямиком на позиции немцев.
Пленных, что привез с собой Львов, ночью мы переправили за передовую. И отпустили восвояси объяснять солдатам, что дело табак и пора сдаваться.
Этой же ночью в предместье Марцан группа Андрея Быкова приволокла генерала. Перед нами стоял старик сугубо штатского вида в неизвестном мундире, несколько помятом при транспортировке, со множеством блях и регалий. Старик был безучастен, не проявлял ни страха, ни волнения.
Вскоре выяснилось, что он отставной чиновник железнодорожного ведомства, а мундир надел, приготовясь к смерти, когда немцы отступили на западную окраину Марцана. Он хотел умереть достойно, при всех регалиях, ибо вообще вскоре собирался помирать, а тут представился удобный случай.
Мы сильно потешались над Быковым, и он, раздосадованный, снова отправился за передовую, отделенную этой ночью от немецких частей несколькими кварталами нейтральной полосы…
Недалеко дымным заревом, трепетавшим от вспышек артиллерии, обозначался Берлин. Гром сражения ночью слышался грознее, неразбавленный дневными звуками и голосами.
Бой шел день и ночь.
18 апреля к вечеру в доме, оставленном жителями, мне попался номер официальной газеты «Фёлькише Беобахтер» за тот же день. Германская почта работала до последнего.
В этой газете я увидел статью «Сталин фербт зихь гуманиш» – «Сталин подделывается под гуманность» – геббельсовский комментарий к знаменитой статье Александрова, тогдашнего руководителя нашей пропаганды, где критиковалась позиция Эренбурга – «Убей немца!» – и по-новому трактовался вопрос об ответственности немецкой нации за войну. Подтверждался тезис Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается».
«Берлин бляйбт дойч» – было начертано большими буквами на всех брандмауэрах берлинского предместья. «Берлин остается немецким».
Вопрос об ответственности нации или поколения за участие в историческом деянии или даже за присутствие при нем – одна из самых древних и до наших дней не решенных нравственных проблем человечества.
Решался этот вопрос обычно исходя из политики, волей победителя, его властью, предписывающей либо избиение младенцев, либо милость к побежденным.
Вопрос о нравственной ответственности победителей обычно не ставился. И проблема нравственных последствий победы как исторического деяния представляется еще более запутанной.
Между тем и победа, и поражение являются результатом участия нации в историческом деянии, во всех видах его психологической и материальной подготовки.
Лозунг «Убей немца!» решал старинный вопрос методом царя Ирода. И все годы войны не вызывал сомнений.
«Разъяснение» 17 апреля и особенно слова Сталина о Гитлере и народе как бы отменяли предыдущий ясный взгляд. Армия, однако, понимала политическую подоплеку этих высказываний. Ее эмоциональное состояние и нравственные понятия не могли принять помилования и амнистии народу, который принес столько несчастий России.
Уж после 17 апреля трибуналы продолжали судить солдат и офицеров, заподозренных в «буржуазном гуманизме» по отношению к побежденным. И все же – разрешим ли вопрос об ответственности нации или поколения перед историей?
Я думаю, что вопрос этот надо решить, прежде всего сравняв на почве нравственной ответственности победителей и побежденных.
Если мы принимаем ответственность за 37-й год и за сталинизм, то и немцы должны принять ответственность за гитлеризм.
Официальная точка зрения, да и большинство нашего общества не принимают этой ответственности и, не принимая, в разной степени оправдывают сталинизм.
В этом выражается низкая нравственная подготовка нашей власти и приемлющего ее общества.
Неприятие ответственности, как это ни парадоксально, означает оправдание зла или, что то же, самооправдание себя во зле.
Вероятно, такими были в большинстве немцы 1945 года.
Для принятия исторической ответственности нужно нравственно развитое ответственное общество.
Речь должна идти не об ответственности нации или поколения, а об ответственной нации или поколении. Не об ответственности налагаемой, а об ответственности принимаемой.
Историческая ответственность не возлагается, а принимается.
В 1945 году обе стороны – победившая и побежденная – решительно были не подготовлены к ответственности.
И это можно понять. Действовали психологические синдромы победы и поражения, искажавшие многие нормальные нравственные представления. В острые моменты истории редко кому удается не заболеть болезнью победы или поражения. И я думаю – инфекции не подвержены отнюдь не самые лучшие люди.
Легко не заболеть холерой, не входя в холерный барак. Не болели холерой, не переболели ею лишь те, кто не соприкасался с ней.
При всей абсолютности десяти заповедей – для каждой из них существуют свои времена.
И ответственность за войну существует только в Германии Бёлля, как в России ответственность за поражения и победы 1812 года воссуществовала 14 декабря 1825 года на Сенатской площади…
«Убей немца!» – в 41-м и 42-м, и в 43-м означало справедливость возмездия тем, кто вторгся в нашу землю, чтобы порушить ее и поработить, кто пришел к нам без всякой другой идеи, кроме идеи истребления и покорения.
На нашей стороне, кроме правды самозащиты, была еще и сверхзадача, пускай более абстрактная, менее душевная, менее потребная, но еще существовавшая для русского солдата – сверхзадача сокрушения фашизма, сверхзадача вселенская, которая своеобразно окрашивала подвиг патриотизма, придавала ему оттенок всемирного идеализма, ибо мы воевали или думали, что воюем не только за себя, но и за други своя.
И вот война поворачивалась к победе. И победа наша справедлива и заслуженна, и куплена ценой многой крови. И мы уже на чужих рубежах. И что нам делать? Уже не оборона, а лютая месть владеет нами. И справедлива эта месть. И «Убей немца!» остается нашим девизом и лозунгом, и мы убиваем немца.
Тут только один Сталин мог удержать нас огромным своим авторитетом. Только Сталин мог нам сказать, что мы идем освобождать Германию и Европу, но мы уже не были армией революционной. Мы шли вместе с союзниками, и задачи наши были – тайные политические задачи.
И наши генералы и офицеры, чувствуя, что нельзя разрешать армии убивать безнаказанно каждого немца, не имели внутреннего права пресечь убийство, ибо лозунг до 17 апреля был все тот же – «Убей немца!».
Армия сопротивления и самозащиты неприметно стала армией лютой мести.
И тут великая наша победа стала оборачиваться моральным поражением, которое неприметно обозначилось в 1945 году.
Для исторического возмездия за гитлеризм достаточно было военного разгрома Германии и всего, что связано с военными действиями в стране. Достаточно было морального разгрома фашизма, крушения его доктрины – единственным оружием в войне за моральный разгром фашизма был гуманизм мировой культуры. Чем полнее он мог осуществиться в войне с Германией, тем сокрушительнее был бы разгром идейных основ гитлеризма.
Войны никогда не окупаются. Репарации никогда не выплачиваются. Территориальные приобретения всегда – бочка пороха в доме.
Территориальные урезки побежденных стран всегда служат возбуждению национальной идеи, порождают тот комплекс национальной неполноценности, который мешает нации осознать моральную сторону исторического деяния. Единственный полноценный выигрыш войны – это моральная победа вселенской идеи над идеей национальной исключительности и присвоенным этой идеей правом одной нации подавлять другие.
Хотя у нас часто говорится о моральном разгроме Германии, Сталину был выгоден политический, военный, экономический, национальный – какой угодно – разгром, но не разгром моральный.
Этот разгром означал бы торжество идеи свободы и необходимость оправдать во внутренней политике нашего государства те чаяния, которые были порождены войной в русской нации.
Унимая мародерство и насилие ровно настолько, насколько оно угрожало армейской дисциплине, вводя организованные формы мародерства и насилия, Сталин создавал нечто вроде национальной круговой поруки аморализма, окончательно сводил к фразеологии идею интернационализма, чтобы лишить нацию морального права на осуществление свободы.
Поскольку ему это удалось, он в ближайшие годы после войны предпринял кампанию против мировой культуры, второй этап своего дьявольского плана отторжения России от человечества, чтобы окончательно вытравить из нации идею свободы, порожденную понятиями мировой культуры.
Германия подверглась не только военному разгрому. Она была отдана на милость победного войска. И народ Германии мог бы пострадать еще больше, если бы не русский национальный характер – незлобивость, немстительность, чадолюбие, сердечность, отсутствие чувства превосходства, остатки религиозного и интернационалистического сознания в самой толще солдатской массы.
Германию в 45-м году пощадил природный гуманизм русского солдата…
В последних числах апреля мы получили задание пробиться в городок Вернойхен к северо-западу от Берлина и захватить там локаторную установку. Я впервые услышал тогда это слово.
Рокады были забиты. Когда мы прибыли в Вернойхен, туда вступали уже передовые части. Установку не удалось обнаружить.
Теперь мы воевали к северу от Берлина, где расположились в городке Ораниенбауме.
Там оставалось довольно много жителей.
Под Ораниенбаумом показывали кусок поля, огороженного колючей проволокой, – лагерь для цыган. Цыган мы не встретили.
Зато в одном доме обнаружился еврей. Это был тихий, угнетенный человек, средних лет, интеллигентского вида. Его несколько лет прятала жена и не выдавали соседи. Жена – полька – рассказывала мне, что в Берлине и его окрестностях тысячи две евреев, скрывающихся у родственников и друзей. Поистине: еврейское неистребимое семя!
Грустная пара выставила нам бутылку кислого вина в награду за спасение.
Покуда мы вежливо тянули винцо, гармонист Ляшок приволок рыжего, до смерти перепуганного немца. Я увидел через окно, что немца ставят к стене. И сейчас хлопнут.
– Что за человек? – спросил я.
– Шпион, – ответили мне сильно подвыпившие ребята.
– По радио связь держит, – объяснил Ляшок.
– А где рация?
Мы спустились в подвал соседнего особнячка. Здесь спасались от налетов авиации. Была прилично обставленная подвальная комната. На столе стоял обыкновенный приемник.
– Так это же приемник, – сказал я.
– И верно – приемник, – согласился Ляшок.
Немца отпустили.
С Ляшком пошли поглядеть город. Ляшок был пьян, но держался хорошо.
– Сапоги бы достать, – сказал он.
В магазине модной одежды витрины были выбиты взрывной волной. Из модной одежды там оставались одни визитки. За прилавком стоял веселый солдатик.
– Прикинуть фрачишко? – спросил он, выкидывая нам несколько визиток.
Примерив визитки и посмеявшись с веселым солдатиком, пошли дальше.
– Сапоги совсем разбились, – сказал Ляшок, – где тут магазин обуви?
Мы вошли в какой-то дом, где явно чувствовались жители. В небольшой, бедно обставленной комнате на деревянной кровати лежали двое младенцев. Их родители, молодые, крайне истощенные люди, бессильно опустив руки, стояли перед кроватью. Дети, видимо, были тяжело больны.
– Доктор был? – спросил Ляшок, обращаясь ко мне.
Доктора не было, объяснили родители. Детям очень-очень плохо.
– Доктор есть? – снова спросил меня Ляшок.
Оказалось, что доктор живет неподалеку. Но визиты делать отказывается ввиду военного положения.
– Доктор будет, – сказал Ляшок.
В сопровождении отца мы отправились к доктору. Его двухэтажный дом был заполнен бледными женщинами и стариками. Видимо, дом доктора считался убежищем, вроде церкви.
Сам доктор, строгий толстый старик, доктор для богатых, держался с известным достоинством. Я спросил его, почему он отказывается посетить больных детей.
– У меня в доме больные, я не могу их оставить, – отвечал доктор.
Мы некоторое время вежливо препирались. Во время беседы я упирал на слово «гуманизмус». Ляшок, однако, теряя терпение, начал вытаскивать наган. Доктор неохотно согласился отправиться к больным, бросив уничтожающий взгляд на отца. Для скорости он решил поехать на велосипеде. Мы с отцом трусили сзади.
Ночью опять была слышней канонада в Берлине. Дымное зарево стояло к югу от нас. Новых заданий не поступало, и мы ночью пили кислый рейнвейн, дешевое винцо, которое в изобилии находили в покинутых домах, заедая его домашними компотами. Никакой другой еды не попадалось. Сильно, видимо, отощала Германия. В кухнях, блиставших адской чистотой и переполненных предметами, назначения которых мы не знали, не было ни одной крошки пищи.
Так мы сидели, несколько грустя и чувствуя себя отрешенными от огромного дела, которое совершается в эти дни под Берлином, а отчасти и довольные покоем и безопасностью.
У нас было двойственное чувство. Желание участвовать в последнем победном сражении, чувство победы и – с другой стороны – естественное стремление дожить до этой победы, поскольку она так уже близка, и столько до нее пройдено, и так она выстрадана, – естественное стремление сохраниться и не погибнуть в последние часы огромной битвы.
Мы пили до рассвета, грустя и веселясь, пока не проступила надпись на массивной кирпичной стене напротив окон: «Берлин бляйбт дойч».
Было утро 30 апреля.
Мы получили приказание направиться в город Штраусберг, где дислоцировался штаб фронта.
30 апреля для меня кончилась война.
…В Штраусберг дорога идет через холмы или невысокие живописные горы, поросшие лесом; она полукругами и змейками обегает склоны; видно, что местность чиста, обжита, устроена, и потому роскошный пейзаж несколько чужд сердцу.
Сам Штраусберг расположен при небольшом озере. Несколько домов на берегу было отведено разведроте.
Наша группа прибыла первой. Вскоре ожидались остальные. И мы, быстро устроившись, торчали под навесом у входа, посматривая на дорогу. Тут же расположилась компания офицеров разведотдела во главе с полковником Савицким, начальником следственной части. Они тоже чего-то ожидали.
Наконец. показались наши броневички, виллисы и мотоциклы. Колонна выглядела довольно необычно. Солдаты сидели в машинах, набитых барахлом, свесив ноги наружу. Командиры бронемашин оседлали башни, тоже, вероятно, переполненные. Кое-кто из них прикрывался зонтиками от мелкого дождичка.
Едва колонна остановилась, капитан Богомолов приказал выложить трофеи и построиться около них. Солдаты стали в две шеренги, сложив перед собой кучами добытые пальто, костюмы, белье, приемники и аккордеоны.
Богомолов скомандовал «нале-во!», потом «правое плечо вперед!», и роту увели в расположение.
Офицеры во главе с Савицким, долго не мешкая, ринулись на барахло и стали выбирать и увязывать в тючки то, что казалось им более подходящим. С тючками они вскоре и отбыли. Савицкий на прощание приказал прислать ему самый большой аккордеон. Ему пытались всучить другой – поменьше. Но он отослал его обратно, сказав, что сосчитал кнопки на своем аккордеоне – их было больше.
Так огорчительно для разведроты закончился день окончания военных действий.
И это огорчение окрасило все последующие дни ожидания официального объявления победы.
Я не помню, доносилась ли берлинская канонада до тихого Штраусберга. Может быть, это был звуковой фон, к которому мы уже привыкли.
Приятно было встретиться с Гончаровым, Кравцом, Бакулиным – со всеми добрыми друзьями. В нашу разлуку вместилось целое сражение, и мы возвратились друг к другу, как после долгого странствия возвращаются в семью.
Солдаты любят делиться эпизодами веселыми, всячески подшучивать друг над другом. Неиссякаемыми байками были наполнены вечера до второго мая.
Второго мая мы узнали, что Берлин пал.
В Штраусберге, где стоял штаб фронта, было тихо. С жителями городка мы не общались. Приходил только мальчуган лет двенадцати и пристраивался к очереди у солдатского котла. Повар наливал ему супу. Мальчик протягивал свой котелок еще раз и просил добавить для сестры и для матери. Солдаты хохотали. Давали хлеба и сахару. Говорили, что такой не пропадет. А мальчик уходил, предварительно осведомившись, когда у нас следующая раздача пищи, и никогда не запаздывал.
Мальчик этот был дитя поражения. Но символизировал нечто иное, чем старая лошадь на фольварке, – он был первый знак приспособления Германии к ее новому состоянию и некой дальней перспективы.
Война кончалась не так внезапно, как начиналась, и если можно было точно обозначить ее начало, то конец как бы расплывался на протяжении десятка дней, может, потому, что был предрешен и ожидаем.
После майских праздников мы ожидали победы. Это были томительные и скучные дни.
Седьмого мая под утро кто-то сказал, что объявлена победа. Мы выскочили из расположения и стали стрелять в воздух. Прибежали из штаба и велели уняться, потому что победа еще не объявлена.
Восьмого о Победе сообщило английское радио. Мы снова стреляли в воздух. Но уже без того азарта.
Наконец, девятого утром пришел майор из штаба фронта и сказал, что Германия капитулировала.
Тут уж мы достреляли в воздух оставшиеся патроны. Выпили за победу.
Наступали как будто новые дни.
Война окончилась.
Часть IV
Московская Албания
Переводчики бывают либо горбатенькие, вроде Г., либо жеманные, вроде Л. Других не бывает, другие – или еще или уже не переводчики…
Года через два после войны я шел по улице и встретил Льва Озерова. Это было на Страстном. Мы оба обрадовались, потому что ничего друг от друга не ожидали.
Орлиные носы иудеев под влиянием украинской природы слегка обмякли и вытянулись. У Льва Озерова – длинный нос, очки и готовый пожаловаться рот. Он затюкан всей семьей, от тещи до любовницы, но зато переписывается с Пастернаком. Кажется, еще в детстве переписывался с Брюсовым. Нет! В детстве он играл на скрипке. И потому обидчив, как все подросшие вундеркинды. Он незлобив и равнодушен. Озеров любит литературное горение. Он светит, как электрическая лампочка, только если подключен к сети. По его стихам, как по счетчику, всегда можно узнать, сколько его выгорело.
Минут пять он завидовал моему оптимизму и не знал, на что пожаловаться. Наконец пожаловался, что никак не получается перевод стихотворения «Горцы у Ленина» Расула Гамзатова.
У меня была стихийная тяга к переводу. Еще в ИФЛИ я перевел три строфы из Вийона, а в октябре 41-го года почему-то весь «Пьяный корабль» Рембо. Это и убеждало в том, что я истинный переводчик, ибо в критические дни истории проявился не как поэт, гражданин или солдат, а именно как переводчик.
В этом убеждении я принял предложение Льва Озерова пособить ему в переводе «Горцев у Ленина».
Перевод был принят и напечатан в «Новом мире».
Так я стал переводчиком.
Я подумывал, где бы достать еще перевод, и тут как раз пришел Борис Слуцкий. Ему дали китайскую поэму вполне юбилейного содержания. Перевести ее надо было за два дня.
Молодым поэтам всегда дают работу самую срочную, и они ее берут – отчасти потому, что терять им нечего, а еще потому, что не читали сборников «Мастерство перевода», где подробно доказывается, какое трудное и безнадежное это дело – художественный перевод.
Китайскую поэму мы разделили пополам и разошлись, полные творческого рвения. О чем мы не догадались – договориться о размере. Поэтому через два дня выяснилось, что Слуцкий перевел свою долю задумчивым амфибрахием, а я бодрым хореем.
Переводить заново не было ни времени, ни художественного смысла. Подумав, мы приняли мудрое решение: перед амфибрахием поставили римскую цифру I, а перед хореем – II. Поэма состояла как бы из двух частей. Она не была шедевром даже в подстрочнике, потому критика ее обошла и никто, включая редактора, не заметил самовольного разделения поэмы. Этот второй мой перевод тоже был напечатан.
…Вскоре я стал первым переводчиком с албанского. Второго, кажется, нет и до сих пор.
В Литературном институте тогда обучались несколько молодых албанцев. Им нравилась столица, где жило народу раз в десять больше, чем во всей Албании. Их привлекали студенческие пиры и юные подруги. Одна из них, приятельница моей жены, привела к нам темно-русого, с редеющими кудрями Фатмира Гяту. Русское начертание его фамилии весьма отдаленно передает ее истинное звучание. Молодой человек был приятен, обладал чувством юмора, прилично говорил по-русски и ни лицом, ни манерами не напоминал янычара, корсара или Али-пашу Тепеленского.
Это был паренек из деревни, разумный, способный к наукам и себе на уме. Из него одинаково мог получиться писатель вроде Солоухина, или, напротив, вроде Тендрякова.
Фатмир принес мне поэму, которой мы придумали название «Песнь о партизане Бенко».
Эту вещь я перевел, натурально, с подстрочника, и, уже не помню как, она тоже попала в «Новый мир» и даже была прочитана и одобрена Твардовским. Твардовский готов был напечатать «Песнь о Бенко», если автор припишет к ней третью часть, где бы говорилось о счастье албанцев, обретших свободу, о дружбе с Россией и о Сталине. Год был 1949-й. Семидесятилетие. И вся литература подтягивалась к этой дате.
Гята сдавал экзамены и третью часть написать не мог. Кроме того, он ухлопал героя поэмы во второй части и писать о нем в третьей было нелепо. Впрочем, он предлагал мне сперва перевести последнюю часть поэмы, ибо напечататься в «Новом мире» было заманчиво, а после сессии он обещался поэму дописать, а так как я хорошо постиг его творческую манеру, то больших расхождений между переводом и оригиналом не будет. Так он полагал. Так и вышло.
Не имея возможности воскресить Бенко, погибшего от руки Фатмира Гяты, я сделал счастливой его невесту Минуши, к счастью, уцелевшую. Я осчастливил ее, дав ей возможность в последних строках спеть песню о вожде. И Фатмир Гята, прослушав эту песню по телефону, сказал, что поэму можно печатать.
И Твардовский ее напечатал. А также велел дать мне перевести еще одну албанскую поэму – «Сталин с нами» Алекса Чачи – поэму уже специально юбилейную. Твардовский велел дать эту поэму мне, так как я становился первым переводчиком албанской поэзии.
В те годы я надолго не загадывал. Албанский перевод был тот плотик, на котором далеко не уплывешь, но держаться можно. Тогда я в стихах никуда не плыл, а держался. Держался за обломки.
Выходили албанские книжечки. Накапливались. Хватило их, чтобы стать членом группкома при Гослитиздате. И, значит, стал уже чем-то вроде писателя – получал свои справочки для домоуправления.
И постепенно привыкал к Албании. Обрастал своей московской Албанией.
Тогда все для Албании изготовлялось в Москве. Из Албании только горы не приезжали. Но горы я мог придумать сам. От приезжих албанцев узнавал об их истории. В пантеоне их числились Александр Македонский и Пирр, царь Эпира, автор пирровой победы, и Скандербег, будто бы спасший Европу от турок, и младотурок Талаат-паша, спасавший Турцию от Европы, и дикий Али-паша, наводивший страх на турок и албанцев. И наконец, великий актер Александр Моисси, ни на кого не наводивший страх. И даже Антонио Грамши будто бы был из албанцев.
Все это было. И не имело отношения к подлинной истории шкиптаров, засевших в своих горах в углу Европы с незапамятных времен, всех пересидевших – и эллинов, и римлян, и турок, и австрияков.
Есть еще угол Европы, где пересиживают историю. Пересидели албанцы и Москву.
Московская Албания тогда, при жизни Сталина, была велика и обильна. Я знал тогда множество писателей: от Димитра Шутеричи до Исмаила Кадаре, актера Наима Фрашери, композиторшу Дору Лexy. Самому Энверу Ходже пожимал руку на приеме в «Метрополе» и, знакомясь, представился.
Стал понемногу даже читать по-албански. И даже некоторое время изучал этот язык при помощи энергичной Розы Кочи, в девичестве Розы Казаковой, белокурой москвички, мечтавшей перенести московскую Албанию в албанскую Московию.
Перефразируя Гейне – албанский язык, который я не выучил, вероятно, похож на румынский, который я не изучал вовсе. Это не шутка. Где-то в базе языкового мышления Балкан лежит мощная древняя схема иллирийского мышления, схема, пережившая эллинов и латинян, утратившая и выветрившая чуть не весь свой словарный запас, заменившая его либо словами славян, либо обиходным словарем италийско-галльских солдатских таборов. Эта единая схема уцелела в основе языкового сознания румын, болгар и албанцев, может быть, в основе балканского характера, где нам трудно отличить болгарское от румынского и румынское от албанского.
…В те годы происходили декады литературы. На казахскую декаду приехал акын Нурлыбек Баймуратов. Он привез в столицу поэму «Пою тебя, Москва» или что-то в этом роде. Добрейший Игорь Базаров из «Литературки», рано умерший мой покровитель, велел поэму перевести, однако из 500 строк сделать штук восемьдесят. И главное – сроку давался день. Я довольно хорошо справился с задачей. В газете, прочитав перевод, попросили только приписать еще две строфы о дружбе русского и казахского народов. Эти две строфы и были процитированы в ближайшей передовице: «Как хорошо сказал акын Нурлыбек Баймуратов».
А вечером акын позвонил мне по телефону и позвал к себе в «Кырады Тел», как он выразился, и что по-русски значит «Гранд-отель».
На диване за столиком сидел бритоголовый мурза. Он сидел на диване, скрестив ноги. Налив мне водки, он сказал:
– Ты меня всегда переводи, Самойлович. У меня много разных стихов есть: политический, лирический, художественный.
Мы выпили. Он налил снова и вдруг произнес по-немецки:
– Их мус айн медхен хабен…
Нурлыбека я больше не встречал, но его классификацию поэзии навсегда запомнил.
Умный был мурза.
А деньги за перевод мне все никак не платили. Потом Паперный рассказывал, что он ради шутки звонил заместителю редактора, требовал деньги. И так надоел, что тот твердо решил меня помучить – деньги не давать подольше.
Посмеялись. А вообще-то за это морду бьют.
…Остался замечательный памятник. Книга «Поэты мира в борьбе за мир». Это энциклопедия переводческой халтуры и беззастенчивости. Я там тоже представлен. Создавал книгу Александр Иванович Палладин, довольно представительный человек еще нестарого возраста. Такие люди неизвестного происхождения часто тогда появлялись на горизонте издательского дела. И, на чем-то проворовавшись, вдруг исчезали. Исчезали беззвучно и бесследно, как и Александр Иванович Палладин, издатель-Чичиков, какой-то чин иностранной комиссии Союза писателей. Этот тоже проворовался, и какие-то чешские или югославские гарнитуры срочно были вывезены из коридоров иностранной комиссии. Александр Иванович ожидал квартиры и мебель покуда держал в учреждении, где албанские и болгарские делегации, а то и сам Говард Фаст с недоумением плутали между ящиками, откуда порой интимно высвечивал уголок серванта.
Большое было мероприятие «Поэты мира в борьбе за мир».
Как сказал самый вшивый переводчик в мире С. Т.: «С коровой, бывало, Ден горя не знал».
Да, бывало.
…А вот притча. Жил человек на Нижней Масловке. Звали его Аарон. Если Ал. Ив. был просто жулик, то Аарон был поставщик товара на литовскую поэзию. И сам же товар этот производил. Одно было плохо у Аарона. У других людей голова овальна снизу вверх или сверху вниз. А у Аарона она была овальна слева направо. Волосы его были редки и зачесаны, напротив, справа налево. Лоб был всегда потен. И руки тоже. И лишь глаза были круглы и сухи. И лишь порой увлажнялись от сладкой мечты поставить товар на всю литовскую поэзию, да еще и на белорусскую в придачу. Увлажнялись они также от мечты сыскать девицу, достойную его, Аарона. Но таковой девицы долго не сыскивалось.
На это Аарон часто жаловался, когда я приносил ему переводы для «Литовской антологии». Какова была литература, таков был и подрядчик. Потом вдруг оказалось, что Аароновы книжки все годятся только для отхожего места. Но он уже в ту пору был не Аарон, а Андрей. Смертельно заболевшему евреи меняют имя. Аарон смертельно заболел стремлением к славе, ибо был уже богат, и оттого нарек себя Андреем. А прежде его прозывали:
Вскормленный литфондом Арон молодой.Андрей стал славным лириком, издавшим множество славных книг, и живал в Коктебеле в генеральском корпусе. Но этот Андрей Второзванный не носил бога в душе. И попался на спекуляции библиями.
Бедный Андрей! Бедная литература!
Те, у кого тоже нет бога в душе, осудили Андрея за продажу священного писания. И восстал Андрей на своих недругов. И сбросил он имя Андрей, обретенное в болезни. И взял вновь имя Аарон, и в рубище отбыл в землю своих предков, где выдает себя за друга Пастернака.
…Во время восточного кризиса в 1852 году Бисмарк сказал про албанцев: такой нации нет. Между тем у меня было несколько друзей албанцев, в том числе поэт Лазар Силичи, сын Ристо Силичи, поэта и присяжного поверенного, албанский интеллигент. Он был тогда славный малый, похожий лицом на итальянца. В юности сидел в фашистском лагере Приштине и ничем не отличался от других юношей, пришедших в московскую Албанию, кроме интеллигентской привычки закрывать дверь комнаты, когда говорилось что-нибудь нелестное в адрес Энвера.
Так как я был уже обладателем двух переведенных с албанского поэм, мне оставалось подыскать третью, чтобы получилась целая книга переводов с албанского. Лазар Силичи предоставил мне свою поэму «Приштина». И так образовалась книжка «Албанские поэмы», первая целая книга албанских стихов на русском языке.
Рекомендовал эту книжку издательству «Иностранная литература» тот же Твардовский.
…Редактору Борису Всеволодовичу Шуплецову не понравился безвестный молодой человек с рекомендацией. Он решил, что я деляга. Мне же не понравился Борис Всеволодович, круглолицый, аккуратно зачесанный и опрятно одетый. Я подумал, что он обскурант и чинуша.
Борис Всеволодович и тогда был человеком не без честолюбивых амбиций, всегда умеряемых природной ленью, российской склонностью к колебательным размышлениям, быстрым вхождением в легкое отдаление и главное – природной нелюбовью к поступкам.
Испытав чувство неприязни к безвестному молодому человеку, он не стал препятствовать изданию книги и, впав в легкое отчаяние по поводу пронырливости молодого поколения, по обыкновению умыл руки.
Когда пришла корректура «Албанских поэм», Борис Всеволодович прибаливал и потому призвал меня делать поправки к себе домой, на Серебряный переулок, где проживал в двух крошечных комнатушках с женой Верой, двумя малолетними дочерьми и тещей – старой коммунисткой.
Видя болезненное состояние Бориса Всеволодовича, я предложил сходить за коньяком. На что Борис Всеволодович…
У врат Поэтограда
Я познакомился с Николаем Глазковым в 39-м году во дворе Литинститута. Был с ним в тот раз Юлиан Долгин. Они вместе составляли группу «небывалистов». Это было литературное направление, состоявшее, по сути, из двух человек. Но оно очень скоро раскололось на «небывалистов Востока» (Глазков) и «небывалистов Запада» (Долгин).
Я сразу же запомнил стихи Глазкова – те, которые он тогда читал.
Это самые ранние его стихи:
Там, где в северном сиянье Меркнут северные льды, Прилетели марсиане И поставили шатры. …Некий царь из тех династий, Что боятся гнева масс, Со своей царицей Настей Улететь решил на Марс.Здесь уже явственны глазковские черты – парадоксальность, естественность и ирония.
В раннюю пору, когда хочется скрыть в стихах швы ученичества, Николай Глазков (у которого швы эти не ощущались) во многом подчеркивает свою близость к Хлебникову. И парадоксальностью замыслов, и манерой держаться, и идеей Поэтограда – города поэтов, и названием «небывализм», придуманным им для обозначения избранного направления.
В конце 30-х годов мы вращались в каких-то смежных компаниях, и стихи Глазкова всегда были у меня, что называется, на слуху. И позднее, во время войны, не прерывалось мое соприкосновение с его поэзией. Сергей Наровчатов присылал мне стихи Глазкова, в том числе вот эти:
Я бродил по зоопарку, Сунул палку в клетку с львом. Лев набросился на палку. В озлобленье мировом. Он изгрыз ее на части В дикой ярости глупца. В том и есть людское счастье, Что у палки два конца.Потом:
Люблю тебя за то, что ты пустая, Но попусту не любят пустоту. Мальчишки так, бумажных змей пуская, Бессмысленную любят высоту.Я знал, что он был в эвакуации в Горьком, окончил там пединститут, работал учителем. Будучи в Горьком после ранения, пытался разыскать Глазкова, но, видимо, адрес был неверный, и я его не нашел.
Регулярно мы с ним начали встречаться уже после войны. Когда я жил в Москве, на улице Мархлевского, Глазков приходил ко мне очень часто, искал обычно партнера по шахматам (Коля считал себя великим шахматистом). Я сам в шахматы не играл, но среди моих гостей находились те, кто готов был сразиться с ним.
В то время, в начале 50-х годов, Коля писал поэму «По глазковским местам». Мою жену звали Ляля, и он приписал к поэме такую строфу:
В Москве есть переулок Лялин, На Курский он ведет вокзал. Глазков, который гениален, Его бы Лялиным назвал.Глазков очень долго жил на Арбате. Как и Окуджава, он был в общем-то арбатский человек, очень тактичный, мягкий, очень добрый. И очень хороший товарищ.
С середины 50-х годов Глазков начал печататься достаточно регулярно. В это время, однако, жизнь нас несколько развела. Но в 70-е годы мы все чаще и чаще вспоминали друг друга, начали постоянно переписываться. С тех пор, как я живу в Пярну, я, кажется, научился писать письма и считаю их одним из важнейших средств общения.
Последние пять лет его жизни мы много переписывались (самое последнее письмо Глазкова я получил, когда он уже умер). Я просил Колю, чтобы он присылал мне некоторые свои старые стихи. И он их регулярно присылал. Так составилась у меня «большая Глазковиана».
Трудно писать о Николае Глазкове, потому что и в поэзии редко встречаешься с необычным. Его стихи не просто известны двум поэтическим поколениям, но в творчестве многих он оставил свой след, много от него позаимствовали. Есть поэты, которые целиком происходят из Глазкова, из отходов Глазкова…
«Глазковское» всегда узнаваемо в чужих стихах. Впрочем, не назовешь прямых учеников и последователей Глазкова. Как трудно назвать и его учителей.
Он явился в конце 30-х годов «готовым поэтом». Значительная часть написанного им тогда еще не известна читателю. Между тем ранний Глазков необычайно важен для понимания его образа и пути, достаточно протяженного, отнюдь не однолинейного. Его творчество развивалось на протяжении более сорока лет, он издал при жизни двенадцать книг, хотя «самой его» книги он так и не выпустил.
Наверное, проще всего выводить Глазкова из Хлебникова, с которым сближают его словотворчество, полное отсутствие «усилий стиля» и постоянное устремление к новаторству. Но, идя по пути очевидного, легко впасть в ошибку.
Глазков рано впитал в себя многие слои русской поэтической культуры и является одним из законных ее наследников. Он создал стих естественный и органический.
«Небывализм» – игра, первая из литературных игр Глазкова. Он вообще склонен к игре в самых разных значениях этого слова (шахматы, актерство). Игра составляет одну из сущностей его поэтической натуры.
Первый, «игровой» образ Глазкова – «юродивый Поэтограда», поэт хлебниковского толка. Но этот образ недолговечен, ибо Глазков, в отличие от Хлебникова, – поэт быта, жизненной фактуры. Поэтому, незаметно отходя от «небывализма», образ героя приобретает на некоторое время черты литературной богемы.
Герой Глазкова выступает чаще всего от первого лица и, благодаря своей подлинности и высокой артистичности, накладывается на образ автора – для читателя и как будто для него самого. Но это только впечатление от естественной игры и ее поэтического воплощения.
О том, что поэт ощущает «зазор» между собой и своим созданием, свидетельствует его знаменитая ирония. Он всегда видит себя со стороны и «снимает» слишком пафосные или слишком самоуверенные утверждения.
За строкой «Я юродивый Поэтограда» следует «Я заплачу для оригинальности…».
Как великий поэт Современной эпохи, Я собою воспет…Но тут же:
Хоть дела мои плохи.Самоирония – одно из самых частых проявлений «всеобщей» иронии Глазкова.
Ирония – чуть ли не первое, что отмечают пишущие о нем. Она действительно и наглядна, и загадочна. Она многолика и всегда идет по какому-то опасному краю. Краю мудрости? Краю банальности?
Иронию часто определяют как вид насмешки, которой присущи спокойствие, сдержанность, видимость серьезности при несерьезном отношении к предмету. Спокойствие и сдержанность действительно присущи поэту, но дальше следует нечто противоположное: видимость насмешки при серьезности отношения. У Глазкова есть ирония пафосная, горькая, гневная, легкая, добрая. Назвать все ее оттенки – значит процитировать всего Глазкова.
Общая черта глазковской иронии – простодушие.
В рассуждениях о Глазкове любое определение может оказаться неполным. Он не только поэт-дитя, но и поэт-мудрец.
Он не только принадлежит себе, но и кровно связан с поколением. И для него важнейшей гранью жизни оказалось
Двадцать второе июня — Очень недобрый день.По особенностям биографии у него нет стихов батальных. Но стихи военных лет (хотя бы «Памяти Миши Кульчицкого») и поэма «Дорога далека» полны напряжения, глубокого переживания судьбы народа и Родины.
Образ жителя Поэтограда входит в противоречие с суровым бытом военных дней, и поэт с иронией (уже беспощадной) говорит о себе:
Я сам себе корежил жизнь, Валяя дурака. От моря лжи до поля ржи Дорога далека. Вся жизнь моя такое что? В какой тупик зашла? Она не то, не то, не то, Чем быть должна!Военные и ближайшие послевоенные годы были самыми трудными в жизни поэта. Но именно тогда созданы многие лучшие его вещи – поэмы «Одиночество» и «По глазковским местам».
Интересно, что поэт не настаивал на публикации стихов того периода. Почему?
К середине 50-х годов в творчестве Глазкова происходит заметный перелом, обозначенный его первой книгой «Моя эстрада» (1957 г.). В самом названии автор как бы объясняет принцип отбора стихов для этого сборника. Однако то, что было за гранью «эстрады», не вошло и в последующие книги. Эстрадный момент (шуточность) оттесняется не прежним, а новым Глазковым, новым образом, новой игрой.
Автор из «великого поэта» постепенно превращается в «великого путешественника». Страстью его становятся путешествия – от самых малых до самых больших, героем – землепроходец, геолог, охотник, житель тайги и тундры. Там располагается теперь Поэтоград. В его стихи входит Природа, не игравшая роли в начальные, «урбанистические» периоды творчества.
Его причудливые сюжеты заменяются притчами, баснями с немалой долей нравоучительности. (Не влияние ли путешествий по Востоку?) Парадоксалист становится певцом здравого смысла.
Как это объяснить? Поисками ли более широкого читателя? Поисками ли истины и «правильной» жизни? Поисками ли новых жанров? Наверное, все это плюс еще множество других факторов, действующих в таинственном сознании поэта.
Основой всего, как мне представляется, было следующее важнейшее свойство поэзии Глазкова. При всей условности своих поэтических игр Глазков – поэт «фактуры жизни». Он тесно связан с современностью, но не в сфере абстрактных обобщений, а «снизу», в сфере жизненных факторов, и по-своему чутко отражает изменения в самом фундаменте жизни общества и государства. Перемена героя и объекта творчества означает новое ощущение «фактуры жизни» у поэта, всегда избегавшего лобовых решений темы.
Стихи не всякий разумеет, Их проглотить не торопись. Бывает, что стихи имеют Еще второй и третий смысл.Не будем и мы торопиться, определяя смысл изменений, произошедших в Глазкове зрелом по сравнению с Глазковым ранним. На этом поиске завершился его жизненный путь, и уже нам предстоит свести воедино, в единый портрет поэта все противоречивое, но уже закончившееся в нем.
При всех изменениях Глазков по-особому остается верен себе. К примеру, его парадоксальность. Она не исчезает вовсе. Поэт ищет ее в сопоставлении банальных истин со здравым смыслом. Результаты бывают вполне неожиданные.
Обычному романтическому восхвалению донкихотства он противопоставляет необычную формулу: «Но ветряная мельница сильнее Дон Кихота».
Здесь нет видимой печали, нет осуждения цивилизации, нет и сетований по поводу судьбы мученика идеализма. Вывод, который делает Глазков, полон здравого смысла: машина сильнее человека, но не может быть благородной и возвышенной. А дальше:
Мы благородней и блаженней Останемся, покуда Компьютер самый совершенный Не причинит нам худа!Поэзия здравого смысла всегда менее эффектна, чем поэзия алогизма и самовольных ассоциаций. Поэтому стихи зрелого Глазкова порой проигрывают на фоне его раннего творчества. Заметнее его срывы, особенно тогда, когда ироническая мудрость притчи оборачивается поверхностной шутливостью фельетона.
Поздний Глазков иначе, чем прежде, обозначает свою эстетическую позицию соответственно новому поэтическому опыту.
«Небывалист» когда-то писал:
Славен, кто выламывает двери И сквозь них врывается в миры…Реалист пишет:
Авангардистов нынче многовато, Лавина их выходит на дорогу. Есть среди них толковые ребята, Которых, к сожалению, немного.Впрочем, поэт не навязывает никому своих точек зрения. Он сторонник разумного отношения к разным точкам зрения, предполагает возможность их сосуществования.
Андрей Рублев прекрасен и толков. Но не предатель Симон Ушаков: И тот, и тот достойны восхищенья!Диалектика разумного и умеренного всегда лежала в основе глазковского миропонимания. Теперь она становится одним из принципов его поэтики.
При всех существенных изменениях, происшедших в поэте за несколько десятилетий его творчества, остается все же нечто, позволяющее говорить о единстве его образа и непрерывности пути. Глазков всегда остается самим собой как нравственная личность. Меняется отношение поэта к социальной ситуации, к окружающему, меняется расположение его по отношению к жизненным ориентирам, меняется способ применения поэтических средств. Но Глазков остается поэтом веры в добро, в развитие, в разум человека, в разумные основания жизни.
Глазков – поэт не события, а глубинного процесса. Он ищет органику жизни и всегда ощущает ее образно. Главными своими достоинствами в ранних стихах он называет откровенность и неподдельность. Это приложимо и к поздним его стихам. Добавим: откровенность иронии и неподдельность поэтической игры.
Размышляя о Глазкове, ощущаешь незаурядный масштаб этого поэта, его многогранность и сложность.
Довольно много сказано о глазковской иронии и почти ничего – о его патетике. Точные слова о патриотизме Глазкова, о его ощущении истоков («Волгино Верховье») сказаны Николаем Старшиновым в его предисловии к прижизненной книге поэта «Избранные стихи». Но ничего пока не написано об историзме Глазкова. Много сказано о его любви к природе, но ничего – о его понимании цивилизации и культуры. Отмечены его автопортреты, но не оценены его портреты современников.
Много еще предстоит узнать и сказать о Глазкове.
У меня костер нетленной веры, И на нем сгорают все грехи. Я поэт неповторимой эры, Лучше всех пишу свои стихи.Он действительно был предан «нетленной вере». И действительно лучше всех писал свои, глазковские, стихи.
Несколько строк о Ландау
С Ландау я познакомился (если память не изменяет) в 1947 году на Рижском взморье. Не помню, как это произошло, скорей всего он сам обратил внимание на красоту моей жены и познакомился не столько со мной, сколько с ней. Он был экстравагантен по природе, держался «кавалером», болтал пустяки. Но в пустяки и в «кавалерство» как-то не верилось. А необычность была убедительна. Сразу чувствовалась его чистота, внутренняя скромность, скрытая от взора глубина. Он мне очень понравился. А за женой ухаживал так деликатно, так старался не обидеть меня, что и ревности никакой не было.
С этого лета мы встречались регулярно до того рокового случая, когда Ландау перестал быть Ландау.
Несколько раз ходили с ним (без жен) в ресторан. Он почти не ел и вовсе не пил. Ему хотелось понравиться официанткам. Их он почитал идеалом женщин. Классификация женщин, составленная им, достаточно хорошо известна. Дау (первое удивление в момент знакомства, что он просил называть его именно так) сокрушался, что не нравится официанткам, несмотря на все регалии, а вот физик М. К. нравится. Он завидовал этому физику.
Серьезных разговоров мы, как правило, не вели. В современной поэзии он не был начитан. (Это позже, у его учеников, к полному набору ландауских замашек присоединилась еще и мода на поэзию.) Нравился ему Симонов. Впрочем, он никогда не был категоричен в тех областях, где не считал себя специалистом.
Вообще, удивительно был воспитанный человек.
Иногда я его спрашивал. Например:
– Как вы работаете?
– Очень просто. Лежу на диване, а Женя Лифшиц записывает. (Он с Е. Лифшицем тогда писали свой учебник физики.)
На вопросы о коллегах отвечал обычно односложно и доброжелательно, в худшем случае – равнодушно.
Один раз я видел его рассерженным. Это было, когда Нобелевскую премию получили два американских китайца. Я спросил про их открытие.
– Я все это знал, – ответил Дау. – Просто не пошел по этому направлению.
Видно было, что он досадует.
Ученики его обожали и преклонялись перед ним. Он создал не только школу ученых, но и особую манеру поведения «под Дау», которую культивировали его ученики.
О «ландау-минимуме» ходили легенды. Один из учеников мне рассказывал. Ландау задали какой-то трудный вопрос. Он подумал и написал на доске формулу. Его спросили, как он вывел эту формулу.
– Ну, это каждый дурак понимает, – сказал он.
И ушел.
С Дау виделись мы не часто, но регулярно. Обычно он заранее звонил по телефону, спрашивал, может ли прийти.
Любил, когда у нас бывали гости, охотно слушал и рассказывал смешные истории и анекдоты. Смеялся характерным насморочным смехом. При всей своей экстравагантности он был всегда естествен, не было в нем зазнайства и наигрыша. От него веяло особым аристократизмом. Он был аристократически прост.
Однажды встретился у меня с Николаем Глазковым. Было это в начале 50-х годов. Как всегда, представился:
– Дау.
– А я был на могиле художника Доу, – сказал Глазков, предварительно сообщив Дау, что он Г. Г., что значит Гений Глазков.
– Доу это не я, – отозвался Ландау, ничуть не удивившись, что перед ним гений.
– Я самый сильный из интеллигентов, – заявил Глазков.
– Самый сильный из интеллигентов, – серьезно возразил Ландау, – профессор Виноградов. Он может сломать толстую палку.
– А я могу переломить полено.
Так произошло знакомство двух гениев. Они дико понравились друг другу и сели играть в шахматы. Стихи Глазкова, кажется, понравились Дау, как и их автор.
Последний раз Дау пришел к нам дней за десять до происшедшей с ним катастрофы.
Разговор шел о долголетии.
– Мне цыганка нагадала, что я буду жить сто лет, – сказал он.
Эта фраза вспомнилась, когда нам позвонил его ученик Юра Каган и сообщил о несчастии.
Больше Ландау я не видел.
Слава и Марьяна
Две старухи – Слава Борисовна и Марьяна Борисовна. Их брат – Давид Борисович – прообраз Ивана Бабичева, крупный работник пищевого министерства. Они племянники А. Горнфельда, критика из «Русского богатства».
«У Харитонья в переулке» – двухэтажный дом, бывший особнячок. Там – на втором этаже живут эти прекрасные старухи. Слава – бывшая красавица. В черном бархатном платье, скромные драгоценности немыслимой цены.
Приходить к ним – одно удовольствие. Не требуется ни этикета, ни благовоспитанности. Тебя охватывает атмосфера такой доброжелательности и непредубежденности, такая презумпция добра, что и впрямь становишься свободен, добр и мил, и как-то даже благовоспитан.
Слава рассеянна и забывчива.
Она всех когда-то знала и знанию этому не придает никакой цены.
– Бальмонт? Он был противный.
– Бунин любил красное вино.
Рассматривает фотографию в «Огоньке».
– Нет, это не двадцать четвертый год. Эту куртку Максим (сын Горького) купил в двадцать пятом.
Такие детали она помнит. И жаль, что я тогда ничего не записал.
Справляются дни рождения двух сестер.
Там все старомосковское, наверное не совсем старомосковское, но все же такое, что нам представляется старомосковским, – «У Харитонья». Но это без стилизации, без форса. Это естественно. Расстегаи, уха, пироги с визигой.
Лешка Гиссен, премянник, любимец и гордость старух, чемпион академической гребли, приводит толпу молодых приятелей.
Ожидают ее. Она – Екатерина Павловна Пешкова. И с ней, кажется, уже не упомню, тоже старуха – баронесса Будберг, Бенкендорф и прочая. Там все так естественно, что и баронессу можно не заметить.
Екатерина Павловна – маленькая старушка, в ней не то чтобы важность – значительность. Меня представляют – мол, такой-то, мол, поэт, мол, талантливый, мол, Вишневский сказал, что талантливый. Екатерина Павловна подает руку без любопытства.
Она сидит в кресле на торцовой стороне стола. Слава и Марьяна, не суетясь, расспрашивают ее о чем-то бытовом. Лешка и его приятели, гогоча, лопают пирог с визигой. А тетки Слава и Марьяна цветут улыбками.
Идет разговор о вдове Саввы Морозова. Вот, дескать, подарила комод XVIII века. Да, мол, инкрустация. А Давиду Борисовичу он не понравился. Пришлось поставить в спальню. Эта книга вам нравится? Возьмите. Это Горнфельда автограф. У вас лучше сохранится.
Хорошие были старухи.
Кирсанов
Семен Кирсанов. Открыватель, ничего не открывший. Политехнический музей ритмов, рифм, метафор и прочего. Инвентарь для восхождения на Эльбрус.
Познакомился с ним после войны. Наверное, в ЦДЛ. Малого роста, хорошо одетый, всегда в серых куцых пиджачках, жесткошерстый фокстерьер, открывающий пасть, говорящий в нос. За рюмочкой. Один. Поднимается бровь, мигает собачий глаз.
– Садитесь, друг мой. – Подливает себе коньячку. – У меня есть сюжет, – Он рассказывает гениальный сюжет. Подливает себе коньячку. Приносит себе кофейку.
– Хотите – прочту? – читает в нос, открывая собачью пасть. Гениальный сюжет – уже гениальность.
Мы были в Венгрии. Он, Мартынов, Николай Чуковский и я. В роскошной гостинице на острове Маргит переводили Аттилу Йожефа.
Профессионально заказывал пищу.
Однажды мы ели лягушку.
Пили бренди, поскольку бесплатно – вдвоем. Вечерами гуляли по аллеям острова Маргит, мимо развалин древнего монастыря, под вековыми деревьями.
Играли в рифмы. У него мгновенная реакция. Нас с Мартыновым он забивал. Слова исторгались из него без затруднения. Сочинял скороговорки для театральных училищ, для дикции, на темы французской литературы.
– Бодлер побрел в бордель и пободрел.
– Флобер нашел пробел и оробел.
– Мопассан нассал на мопса.
Писал о любви. Был беден душой.
– Его не любила ни одна женщина, – сказала как-то Лиля Юрьевна Брик.
Друзей не имел. Себе наливал коньячку. Себе приносил кофейку.
Бедный Колумб. Бедный Магеллан.
Люся – бледная красотка из провинции. Сперва с огромной прической, куда запихивают старые чулки. Потом – еще более бледная и совсем уже прекрасная после Парижа, после двух или трех Парижей, где Кирсанову вставляли пластмассовое горло. Рак.
Он курил, зажимая пальцами нос. Голос стал пластмассовый.
– Садитесь, друг мой, – наливает себе коньячку.
– Я несчастен.
Читает:
Эти летние дожди, Эти радуги и тучи, Мне от них как будто лучше, Все как будто впереди.Как проговариваются поэты: не – лучше, «как будто лучше». Все мнимое.
И за год до смерти прочитал:
Смерти больше нет.Опять гениальная оговорка. «Больше нет» – значит было. Значит, уже была смерть.
И опять наливает себе коньячку, приносит себе кофейку.
– Уезжайте на дачу.
– Там нет никого.
– Наймите кого-нибудь.
– Это дорого.
– Нет денег?
– Денег у меня до хера. Мне скучно. Послушайте, друг мой, сюжет.
Так и умер. Зарыли его рядом со Смеляковым.
Наброски к портрету
Я впервые увидел Марию Сергеевну через несколько лет после войны, в обстановке для нее необычной: в Литовском постпредстве нескольким переводчикам вручались грамоты Верховного Совета.
За банкетным столом напротив меня сидела хрупкая большеглазая женщина лет сорока, бледная и как будто отрешенная от всего происходящего. Впоследствии я узнал, как мучительны были для нее многословные чествования и официальные мероприятия. Она чувствовала себя здесь чужой.
Она была хороша, хотя почему-то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее были усталость, одухотворенность и тайна. Я попробовал с ней заговорить. Она ответила односложно.
Мне сказали, что это переводчица Мария Петровых. Больше о ней я тогда ничего не знал. Мало знали о ней и в литературных кругах, с которыми я соприкасался. Мы встречались иногда в Клубе писателей, раскланивались. Никогда не заговаривали друг с другом.
Однажды в Клубе Павел Григорьевич Антокольский подозвал меня к столику, где сидел с Марией Сергеевной. Она протянула мне руку, маленькую, сухую, легкую. Назвалась. Назвался и я.
Павел Григорьевич любил оживленное застолье. Еще кого-то подозвал, заказал вина. Возник какой-то веселый разговор.
Павел Григорьевич был особенно приподнят, остроумен, вдохновен. Мария Сергеевна говорила мало, негромко, мелодичным приятным голосом. Она была другая, чем в Литовском постпредстве. В ней чувствовалась внутренняя оживленность, внимание ко всему, что говорилось, особенное удовольствие доставляли ей речи и шутки Павла Григорьевича.
Деталь, которая мне вспомнилась и которая характеризует женственность Марии Сергеевны: она всегда была скромно (чаще в темном) и необычайно уместно одета.
С этого вечера мы встречались уже как знакомые. Она даже как-то высказалась по поводу одной из моих первых публикаций, передала мнение Ахматовой, с которой была близка. Ее слова помогли мне отважиться на встречу с Анной Андреевной. Но это уже другой сюжет.
Именно эти предварительные обстоятельства способствовали быстрому нашему сближению, когда Петровых, Звягинцева и я были назначены руководить семинаром молодых переводчиков во время одного из мероприятий Московского отделения Союза писателей. Петровых и Звягинцева давно дружили. Вероятно, именно Вера Клавдиевна «втянула» Марию Сергеевну в перевод с армянского.
Семинар был рассчитан на неделю, но так оказался интересен для участников и руководителей, что продолжался и дальше. Мы регулярно встречались раза два в месяц (потом реже) в продолжение двух лет, а может быть, и дольше.
На семинаре читались переводы и стихи. Порой приходили почитать молодые поэты, входившие в славу. Отношения были самые нелицеприятные. Хвалили друг друга гораздо реже, нежели ругали. Но все выступления были горячими, искренними, заинтересованными. Обижаться было не принято.
Мария Сергеевна и Вера Клавдиевна в резкой критике участия не принимали, часто брали обиженного автора под защиту.
Иногда, когда что-то им очень не нравилось, смущались, стыдились за того, кто написал нечто дурное или безвкусное.
Обычно первым подводил итоги обсуждения я. Тогда я был намного самоуверенней и задорней, чем сейчас. Рубил сплеча. Меня участники семинара между собой называли «Малютка Скуратов».
Вера Клавдиевна что-то растерянно гудела под нос, не то одобряя, не то осуждая меня. Мария Сергеевна, взволнованная, слушала молча. Изредка, если я слишком уж зарывался, осаживала:
– Ну что вы, Давид. Это уж слишком.
В заключение часто выступала она. Она была доброй, но не «добренькой». Умея не обидеть, достаточно твердо давала оценку тому, что ей не нравилось, но с большим удовольствием отмечала достоинства обсуждаемого. Сама очень ранимая, понимала всякую ранимость и умела сказать главное, не обижая автора. Впоследствии с ее твердостью столкнулся и я – она несколько раз была редактором моих переводов.
Когда постепенно семинар угас – отчасти потому, что некоторым не под силу был его накал, отчасти потому, что многие уже не нуждались в постоянном творческом руководстве, – многие из нас подружились.
Несколько верных друзей и учеников приобрела на семинаре и Мария Сергеевна.
Наши с ней отношения тоже сложились и укрепились благодаря совместным занятиям.
Не могу назвать нашу дружбу слишком тесной. Она основывалась на взаимной любви и уважении, общих вкусах и интересах и общем деле. Мария Сергеевна никогда не посвящала меня в тайны своей жизни, не делилась подробностями своего прошлого. Она вообще мало говорила о себе. Никогда не читала стихов. Только изредка жаловалась, что стихи не получаются. «Нелюбовь к признаньям скорым», – сказала она о себе. Не могу, однако, сказать, что у нашей дружбы были какие-то четкие пределы. Мы могли сказать друг другу многое или даже все, ибо мало было людей в моей жизни, к которым я относился бы с большим доверием, чем к Марии Сергеевне. Просто так сложилось, что о многом мы не говорили. Впрочем, скорей она, чем я. Мне случалось прибегать к ее душевному опыту в нескольких случаях, когда нравственные решения были для меня трудны.
Я бывал регулярно у Марии Сергеевны в доме со скрипучей лестницей на Хорошевском шоссе, в ее деревянной скромной квартирке. Мария Сергеевна кормила ужином, наливала мне водки. Сама только пригубливала. Просила читать стихи. Всегда очень эмоционально отзывалась на них.
Однажды навестил на Хорошевке Ахматову, кочевавшую в ту пору по Москве, потому что место ее у Ардовых на Ордынке было занято. Мария Сергеевна из деликатности при нашей беседе не присутствовала. Она знала, что Анна Андреевна больше любит разговоры с глазу на глаз.
Обихаживать Анну Андреевну в беспорядочной квартире и без всякого умения хозяйствовать ей было трудно. Да и вообще нелегко, наверное, было жить рядом с Ахматовой. Но Мария Сергеевна старалась и только как-то вскользь пожаловалась: трудно. Она относилась к Ахматовой с восхищением и громадной любовью. Та говорила о ней с нежностью. Называла: Маруся. Высоко ценила ее поэзию.
А я, представить сейчас трудно, не знал тогда стихов Петровых. Когда-то прочитал ее журнальную публикацию. Но она не запомнилась. И как поэта оценил Петровых, только прочитав ее маленькую книжку, вышедшую в Армении.
В Армении ее высоко почитали как переводчицу, и оригинальные ее стихи получили там признание раньше, чем в России.
Трудно писать о Марии Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней, – говорится впервые. Я рассказываю детали. А сам образ еще не намечен, хотя бы приблизительно. И возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Ну что ж, личность поэта – его стихи. А несовпадение земного облика с этим высоким образом, в сущности, случайность. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в отрыве от своих стихов, а только в единстве с ними.
У меня есть несколько писем от Марии Сергеевны. Написаны они по поводу посланных ей моих книг.
Там несколько признаний.
«А я совсем перестала писать, Давид. Для человечества от этого потери никакой, но душе моей очень больно. Беда, когда есть какие-то данные, но нет призвания».
«Я нелепый, нескладный, оцепеневший человек».
Так она думала о себе. Думала в прозе. А в поэзии другие слова: «пристальная душа», «невольная сила». Это вернее.
Менее чем за год до смерти переехала она в удобную квартиру на Ленинском проспекте. По этому поводу писала:
«Очень понятно мне ваше стихотворение про “ветры пятнадцатых этажей”. Я живу на 11-м, но это все равно что пятнадцатый… А я очень тоскую по тем низеньким ветрам – слишком привыкла к ним за всю жизнь.
Не уверена в том, что живу, но существую. Здесь много неба, которого в городе не видишь, не замечаешь и даже забываешь о нем. Вот небом и утешаюсь».
Это из последнего письма ко мне.
Еще детали. Первый посмертный цикл стихотворений Марии Сергеевны был опубликован в газете Тартуского университета.
Мария Сергеевна – редактор. Кто-то из переводчиков о ней, доброй и кроткой, выразился: «Зверь». По редакторской работе я понял ее отношение к переводу: страстное, личное. Пристальность души проявлялась и здесь. Она волновалась, огорчалась, когда чувство и мысль переводимого автора искажались своеволием переводчика. Она всегда любила того, кого переводила. Она болела за каждую строчку, словно сама ее написала. Редактируемые обижались. Им хотелось проявить поэтическую индивидуальность. Но в переводе она проявляется именно в страстном и бережном отношении к тексту. Свойства «пристальной души» проявились и здесь. А в редакторском деле – твердость и воля.
Впрочем, это все наброски к портрету. Я еще напишу о Марии Сергеевне Петровых.
Этот нежный, чистый голос, Голос ясный, как родник… Не стремилась, не боролась, А сияла, как ночник. Свет и ключ! Ну да, в пещере Эта смертная свеча Отражалась еле-еле В клокотании ключа. А она все пряла, пряла, Чтоб себе не изменить, Без конца и без начала Все тончающую нить. Ах, отшельница! Ты лета Не видала! Но струя Льется – свежести и света — Возле устья бытия. Той отшельницы не стало, Но по-прежнему живой Свет лампада льет устало Над водою ключевой.В поисках веры
В коротких словах не расскажешь об Алексее Эйснере. Это был человек яркого таланта, незаурядного характера, необычайной судьбы. Когда будет написана его биография, перед читателем предстанет образ истинного героя неприглаженной истории нашего века. Его личность формировалась в крутых ситуациях глобальной истории, которых он был свидетелем, участником, а порой и жертвой.
Тем, кому имя Алексея Эйснера покажется знакомым, напомню, что он был автором очерков «Писатели в интербригадах» и «Двенадцатая интернациональная», напечатанных в журнале «Новый мир» в конце 50-х годов, и книги «Человек с тремя именами» о генерале Лукаче (Мате Залке). Все эти публикации связаны с Гражданской войной в Испании (1936–1939 гг.), столь памятной нескольким поколениям советских людей. Принято считать, что это главная эпопея в жизни Алексея Владимировича. Исследователи в этом разберутся. В Испанию вел нелегкий путь, а к очеркам – еще более долгий и тяжкий.
Расскажу, как узнал об Алексее Эйснере и как познакомился с ним. В странах Европы, освобожденных Советской Армией от гитлеровского нашествия, попадались следы русской эмиграции – в разбитых, покинутых домах были книги и журналы. Читать их было некогда. Удавалось иногда перелистать страницы, наткнуться на знакомые имена: Бунин, Куприн, Бальмонт, Цветаева. Другие имена были вовсе не слышаны нами. Все это печатное слово было, конечно, обречено на уничтожение. Кажется, одному Борису Слуцкому, майору политотдела армии, пришло в голову вырезать из журнала стихи. Потом он переплел вырезки в книгу. (Да будет стыдно тому, кто ее у меня украл!)
В этом самодельном томе была небольшая поэма «Конница», напечатанная в пражском журнале «Воля России» за 1928 год. Автор – Алексей Эйснер.
«Конница» поразила нас яркостью, вещественностью своего стиха, невероятной энергией и какой-то необычной для эмигрантской поэзии нотой. Она была о победном походе красной конницы. В ней было восхищение и любование. Конечно, ощущалась там стихия блоковских «Скифов», но как-то самостоятельно претворенная. Строфы «Конницы» легко запоминались.
Толпа подавит вздох глубокий, И оборвется женский плач, Когда, надув сурово щеки, Поход сыграет штаб-трубач. Легко вонзятся в небо пики, Чуть заскрежещут стремена. И кто-то двинет жестом диким Твои, Россия, племена.Постарались узнать, кто такой Алексей Эйснер. От И. Г. Эренбурга стало известно, что он принадлежал к молодому поколению русской эмиграции, попал за рубеж подростком, в 30-е годы жил в Париже, работал мойщиком стекол, стал коммунистом, воевал в Испании в интербригадах, где был адъютантом генерала Лукача. На этом сведения прерываются. Трудно было предположить, что мы когда-нибудь встретимся.
Однако это произошло году в 1957-м (или на год раньше). Мы со Слуцким были приглашены на обед к Антонину Ладинскому, поэту, в ту пору вернувшемуся на родину из парижской эмиграции. Нас долго не звали к столу. Хозяин объяснил задержку: «Должен прийти Алеша Эйснер».
– Автор «Конницы»?
– Именно он.
Я так и ахнул. Антонин Петрович, видимо, специально задумал эту эффектную встречу.
Вскоре пришел Эйснер. Впечатление от него в те годы очень хорошо описано в статье Л. Ю. Слезкина «Памяти А. В. Эйснера» (в книге «Проблемы испанской истории». М., 1987): «Он выглядел молодо, двигался стремительно. Густые темные волосы, немного тронутые сединой, распадались…» Когда он говорил, «с его лица исчезали следы жизненных испытаний, которые угадывались в нескольких резких морщинах, чуть опущенных плечах, остром взгляде карих глаз. (…) Поражали феноменальная память, необыкновенная смелость суждений, истинный артистизм в передаче случившегося и зарисовке характеров, необъятный диапазон знакомств, в том числе с людьми, чьи имена известны всем».
В разговоре дошло до стихов, и я прочитал наизусть всю «Конницу». Случай был необычный. Вещь, напечатанная в Праге почти тридцать лет тому назад, неожиданно прозвучала в Москве. Поистине, что написано пером, того не вырубишь топором.
Алексей Владимирович довольно улыбался, а потом небрежно махнул рукой, сказал:
– Стишки, стишки. Я давно уже их не пишу.
Много было резких зигзагов в судьбе и взглядах Алексея Эйснера. Он всегда остро проживал время и менялся вместе с ним. В его раннем формировании трудно было предугадать будущего интербригадовца, любимца бойцов, адъютанта легендарного генерала.
Алексей Эйснер 1905 года рождения. Отец – киевский губернский архитектор, мать – из семьи черниговского губернатора. Раннее детство не было безмятежным. Родители расстались. Мать вторично вышла замуж за высокопоставленного петербургского чиновника и вскоре умерла. Отчим определил одиннадцатилетнего мальчика в Первый кадетский корпус в Петрограде. А через год пришла революция. Алеша с отчимом переехали в Москву. В голодухе и неразберихе он стал Гаврошем толкучки. Потом – тяжелый путь на юг России. Эвакуация из Новороссийска вместе с остатками Добровольческой армии. Константинополь. Югославия. В Сараево он поступает в русский кадетский корпус. В двадцать лет оканчивает его. Он не хочет быть офицером Сербохорватского королевства. Уезжает в Прагу.
Там он активно включается в литературную жизнь, печатается в русских периодических изданиях. Его публикации обращают на себя внимание М. Горького. «В “Воле России”, – пишет он одному из своих знакомых, – очень хорошие стихи Алексея Эйснера, не знаете, молодой?..» (Сорренто, 1927 г.).
Молодой поэт все меньше чувствует себя своим в эмигрантской среде. Его тянет на родину. В поисках единомышленников он уезжает в Париж, сближается с «Союзом возвращения на родину». Одновременно вступает в члены Французской компартии. Цветаева пишет об Эйснере тех лет, что он ей «решительно нравится. Смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично – скромен, что дороже дорогого» (из письма 1923 г.).
Жаль, что приходится лишь называть главные вехи его пути, не имея возможности рассказать, как мужественно, самобытно и ярко раскрывался он на каждом этапе жизни.
1936 год. Начало Гражданской войны в Испании. «Через Испанию на Родину», – формулирует для себя Эйснер.
В январе 1940 года он, наконец, приезжает в Советский Союз. В апреле его арестовывают. Сперва – Воркута, потом – вечная ссылка в Казахстан. Перед отправлением в ссылку он пишет свое последнее стихотворение (1948 г.).
Он возвращается из ссылки через пятнадцать лет, пятидесятилетним человеком.
Ему предстоят еще три десятка лет жизни. Он напишет книги, статьи, очерки, обретет семью, породит сына, возникнут новые дружбы, возродятся старые.
Алексей Владимирович умер в 1984 году. Как драгоценный подарок, храню я машинопись «Конницы» с дарственной надписью автора.
Алексей Эйснер всю жизнь искал формулу счастья. Он был человеком страстной веры, он искал и находил ее.
Глава с эпилогом
Вскоре после войны образовалась компания, которую по имени ее основателя называли «тимофеевской». Время было опасное, когда больше трех собираться не рекомендовалось. А еще говорили, что каждый третий – доносчик. Но беззаботна была молодость, слишком велика тяга к общению, к дружескому разговору, к застолью у бывших фронтовиков, их молодых жен, подруг, чтобы возобладала в нас унылая подозрительность, нараставшая вокруг год от года.
Квартира и ее хозяин как нельзя лучше подходили для молодежных сборищ.
Хозяин дома Юрий Павлович Тимофеев был ярким, одаренным, красноречивым человеком лет двадцати пяти, вдохновенно влюбленным в искусство и не умеющим жить в одиночестве. Он был весьма начитан, разносторонне эрудирован, хотя, кажется, не получил систематического образования. Таких, как он, называют «богатая натура».
У него был талант собирать вокруг себя таланты, вдохновлять их, служить катализатором творчества, первым ценителем и пропагандистом. Он умел на лету схватить зачаток творческого замысла, увлечься им и увлечь самого художника. Такие, как он, умеют создать среду, где формируется искусство. Сам ничего не создав ни в одном жанре, Тимофеев всего себя отдал сотворчеству. Он был человек типа дягилевского и в иных условиях мог бы осуществиться с большим размахом.
Юрий Тимофеев, вплоть до своей одинокой кончины, служил в нескольких издательствах и редакциях, откуда ему неизменно приходилось уходить из-за того, что вокруг образовывалась необычная, оживленная толчея талантов, нечто вроде тимофеевских клубов, что не соответствовало чинному духу творческих учреждений. Тимофеев уходил, а его идеями и кругом отысканных авторов долгие годы жили покинутые им ведомства.
Еще одно немаловажное достоинство Тимофеева состояло в том, что в пору коммуналок он владел помещением, удобным для сборищ в любой день и в любой час.
Он рано лишился родителей, оставивших ему жилье в первом этаже дома по Сытинскому переулку, близ Тверского бульвара. Сюда можно было постучаться в окно с улицы, не тревожа соседей звонком. Состояло оно из двух небольших комнат, где было много книг, бронзовые безделушки, старый ковер над диваном, где развешаны были старинные шпаги и рапиры. Мебель представляла собой остатки прежней роскоши: стулья и кресла красного дерева были изрядно просижены и разломаны, фортепиано разбито, покрывала и гардины пришли в ветхость.
Тимофеев работал тогда на Всесоюзном радио заместителем главного редактора вещания для детей.
Компания, регулярно собиравшаяся у него, состояла из нескольких его довоенных друзей, но главным образом из молодых литераторов, работавших для Детской редакции радиовещания. Все они приводили своих знакомых, кто-то заваливался сам без спросу. Таким образом у Тимофеева перебывала уйма народу. Но состав его постоянных друзей был вполне определенным.
Почти из всех впоследствии вышел толк. Назову некоторых. А. Зак и И. Кузнецов – драматурги; В. Коростылев и М. Львовский – тоже драматурги, тогда работавшие вместе; Борис Слуцкий, тоже постоянно появлявшийся у Тимофеева, называл эти две пары «полудраматургами», за что они несколько обижались. Бывала прекрасная певица Виктория Иванова, талантливая актриса Генриетта Островская; прозаик Николай Шахбазов; редактор и писатель Борис Грибанов.
Регулярно приходил Леон Тоом с женой своей Натальей Антокольской, именуемой в просторечии Кипсой, художницей.
Там я и познакомился с Тоомом.
Они с Тимофеевым были друзья по детским играм.
Одна из них окончилась трагически. Оружие, висевшее на стене в комнате Тимофеева, сработало уже в первом действии. Играя в мушкетеров, Леон в азарте смертельно ранил одного из своих товарищей.
Возможно, что эхо невольной вины отозвалось в последнем акте его жизни. Была в нем какая-то особая рисковость, какая-то открытость вине и потребность искупить ее физическим риском.
В детстве Леон жил в одном доме с Тимофеевым. Вернее, это был не один дом, а несколько малоэтажных строений давней постройки, с внутренними дворами и подворотнями, образовавшими ныне уже несуществующий квартал между Тверским бульваром, Большой Бронной, Страстной (Пушкинской) площадью и Сытинским переулком.
В этом четырехугольнике помещались хорошо знакомые москвичам киношка, старая аптека, столовая-шашлычная, где играло трио слепых, и пивной бар № 4, пристанище литинститутцев.
Таким образом, Тоом вырос в самой сердцевине Москвы. Сугубо столичной была его неторопливая речь с одним небольшим дефектом: «л» он произносил с оттенком «в», чуть на польский манер.
Вход в квартирку, где жил Леон со своей матерью Лидией Петровной, был самостоятельный – прямо из подворотни. Передняя служила одновременно и кухней. Жилье состояло из двух смежных комнаток, обставленных весьма скромно.
Здесь многие годы после женитьбы Леона и его переселения к Кипсе на улицу Вахтангова жила Лидия Петровна Тоом, известная переводчица драматургии и прозы с эстонского на русский.
В детские годы Леона его мать была замужем за Александром Беком, ныне хорошо известным писателем и журналистом. По отрывочным замечаниям Леона я понял, что отношения его с отчимом были непростые, но они сохранились и тогда, когда Лидия Петровна и Бек расстались. Тоом всегда тепло отзывался о дочери своего отчима Татьяне, своей названной сестре, ныне заметной поэтессе и критике.
Мне неоднократно случалось бывать в доме Лидии Петровны и при ней и без нее, когда Леон переселялся на Тверской, чтобы поработать, т. к. они с Кипсой жили весьма тесно.
Лидия Петровна всегда была ровна, доброжелательна, по-эстонски сдержанна, по-московски гостеприимна. Она основательно поварилась в московской рапповской среде 20 – начала 30-х годов, пережила и энтузиазм, и различные ломки и катаклизмы. Но в ней навсегда осталась умеренная ортодоксальность, свойственная многим из уцелевших литераторов ее поколения.
Леон нежно любил мать, не знаю, насколько повиновался ей. Отношения у них были самые товарищеские. Называл мать просто: Лида.
Дом Лидии Петровны был подлинным эстонским культурным представительством в Москве. Почти все творческие люди, приезжавшие в ту пору в столицу или обучавшиеся в литературных, киношных или театральных заведениях, перебывали там.
В этом доме впервые я увидел Дебору Вааранди с ее волосами островитянки, глазами цвета морской волны, красивую, загадочную и печальную. Тоом глубоко уважал и высоко ценил ее дарование и человеческие качества. Познакомился я и с Юханом Смуулом, тогда одним из немногих эстонских поэтов, которых можно было прочитать в переводе. Он был талантлив, но принадлежал к поэтам тогдашней формации, то есть писал в рамках установленной договоренности.
Несколько позже он был прочитан русской публикой как автор своеобразной прозы, чему немало способствовал блестящий перевод Леона Тоома.
Познакомился я с тогда еще молодыми режиссером Пансо и кинорежиссером Кийском. Были и другие лица, которых не удержала память.
Но вернусь к тимофеевской компании. Я уделяю ей столько места в своих коротких воспоминаниях, потому что в годы разобщения она была островом дружбы и доверительности и немало помогла каждому из нас сохраниться в атмосфере всеобщего страха, недоверия и фантастической непонятности происходящего.
Сборища наши носили название «присикак». Не упомню, откуда оно пошло.
Атмосферу «присикаков» я передал в поэме «Юлий Кломпус», откуда приведу несколько отрывков.
…В полуподвале возле Пушкинской (Владельцу двадцать пять годов), Как на вокзале и в закусочной, Бывали люди всех родов. Любым актрисе и актеру Был дом открыт в любую пору. . . . . . . . Как проходили вечера? Там не было заядлых пьяниц: На всю команду «поллитранец» И две бутылки «сухача», Почти без всякого харча. . . . . . . . . …Что пели мы в ту пору, бывшие Фронтовики, не позабывшие Свой фронтовой репертуар? Мы пели из солдатской лирики И величанье лейб-гусар — Что требует особой мимики, «Тирлим-бом-бом», потом – «по маленькой». Тогда опустошались шкалики; Мы пели из блатных баллад (Где про шапчонку и халат) И завершали тем домашним, Что было в собственной компании Полушутя сочинено. Тогда мы много пели. Но, Былым защитникам державы, Нам не хватало Окуджавы. . . . . . . Когда веселье шло на спад, Вставал с бокалом Юлий Кломпус. Наш тамада и меценат. И объявлялся новый опус, Что приготовил наш собрат. Или на ринг рвались союзники По жанру Мюр и Мерилиз. А иногда каскады музыки, Как влага свежая, лились…К слову сказать, поэма эта была поначалу без всякого восторга встречена бывшими участниками «присикаков». По отдельным чертам кое-кто узнавал себя, хотя в «Кломпусе» нет ни одного подлинного портрета. Тимофеев разразился негодующим письмом, где упрекал меня в том, что не передана возвышенная нота наших застолий с их философическими спорами, историческими экскурсами и рассуждениями об эстетике. Все мы становимся врагами реализма, когда дело касается нас.
От Тоома, впрочем, я не взял ни единой черты, ему посвящены другие стихи, которые процитирую ниже.
Леон и его жена Кипса были непременными участниками наших собраний.
Леона все любили за его ровный характер, ум, остроумие. За умение вставить веское слово в шумном споре, где все перепуталось и сбилось с панталыку.
Слуцкий как-то сказал мне о нем, что это образец собранного и всегда собой владеющего человека.
Внешне это действительно выглядело так. Истинная натура Леона раскрывалась не сразу, думаю, что не только для других, но и для него самого.
Несмотря на то, что он вырос в московской среде, в его характере было немало эстонского. Эстонский характер можно распознать, только долго его наблюдая. Принято считать, что эстонцы сдержанны, немногословны, несколько флегматичны, основательны. Это отчасти верно, если исходить лишь из внешнего поведения, идущего от веками сложившегося понимания приличий. На самом деле внешняя сдержанность часто прикрывает бурный темперамент, бушующие страсти, борения и разлады. Таким, по крайней мере в ту пору, был Леон. Позже в его поведении бывали прорывы «русского начала», победа стихий и невозможность скрыть их внутри себя.
Кипса – человек другого склада. Энергичная, шумная, эмоциональная, категорическая. По существу же добрая, отзывчивая, благородных понятий. Она верховодила в семье, и Тоом снисходительно признавал ее главенство. Наверное, он даже испытывал потребность в таком верховенстве. Наши ровесницы всегда старше нас. В интересах и способе жизни Леона было немало мальчишеского. О чем неоднократно говорила Наталья.
Как ни невинны были наши сборища, они были опасны. И тучи начали явно сгущаться над нашими головами после «дела врачей», когда взвинченность в обществе достигла предела. Начались неприятности на службе у Тимофеева, неясным образом связанные с существованием нашей компании, некоторым отказали в работе на Детском радио. Возникали темные слухи и предположения. Творилось нечто непонятное.
К счастью, Сталин умер раньше, чем гроза разразилась над нами.
Вскоре, когда начали возвращаться из лагерей невинно осужденные, обнаружилось, что и в нашей компании был «приставленный человек».
Разоблачение это вызвало среди нас многие разговоры. Тогда возникла проблема, как относиться к «лично виновным», как поступать с ними. Тимофеев, к примеру, встал на защиту «приставленного», доказывая, что у него есть чувство дружбы, поскольку он «продавал» не нас, а людей, отстоявших далеко от нашего круга, и, дескать, мы должны быть ему благодарны за то, что не «погорели».
Моральная слабость такой позиции была очевидна. Но мы уже тогда понимали, что многие из доносчиков – несчастные, сломленные люди, такие же жертвы, как и их жертвы, и что многих из них следует не только осудить, но и пожалеть. У некоторых из этих несчастных хватило мужества покаяться, перестрадать свой грех. Другие наглели в своеобразном суперменстве погрязших. «Наш» был из последних.
В середине 50-х годов тимофеевская компания, просуществовав лет десять, стала расползаться. На то было несколько внутренних и внешних причин.
Во-первых, все молодые компании не могут существовать до старости. Они распадаются, когда у каждого созревает внутренняя цель, требующая иного общения, а иногда и освобождения от прежнего. Ибо в каждой среде образуется как бы право собственности на личность, и чем ярче эта личность, тем неохотнее отпускает ее среда.
Так произошло с некоторыми из нас.
Во-вторых, времена настали иные. Стали печататься наши стихи, ставиться на сцене пьесы, выходить фильмы, книги. Открылись перспективы творческой жизни, требующей большей душевной отдачи и времени.
Наконец, Юрий Тимофеев женился на поэтессе Веронике Тушновой и переехал к ней. Не стало места для наших сидений.
С Вероникой все мы подружились, в том числе и Тоомы. Вероника – в ту пору весьма популярная среди читателей и особливо читательниц поэзии – была женственна, красива, обладала душой открытой и сочувствующей. Но в доме Тимофеева, где прежде хозяйничали все кому придется, появилась хозяйка. Мы стали бывать у Тимофеева уже не скопом, а врозь, и собирались только на дни рождения или по другим специальным поводам.
В первые годы знакомства наши отношения с Тоомом не выходили за рамки доброжелательного приятельства.
Я знал, что до войны он играл в знаменитой Арбузовской студии, из круга которой вышло несколько талантливых писателей и актеров, к примеру Александр Галич. Знал, что он воевал в Эстонском корпусе, что после войны окончил Литературный институт.
Но в компании, где все выказывали разнообразные дарования. Леон не сочинял стихов и песен, рассказов и пьес, не пел, не приглашал посмотреть режиссерские и актерские работы. Но несмотря на это «невыказывание», авторитет его был высок. С ним хотелось подружиться.
Началом нашей дружбы послужил малозначительный эпизод.
Получив небольшой гонорар (большие бывали крайне редко), я решил истратить его с особой пользой – купить вещь необычную, которую никогда не купил бы в обычных обстоятельствах. С этим намерением я шел по улице Горького, разглядывая витрины магазинов. Подходящая вещь не подворачивалась или была не по деньгам. И тут я встретил Тоома. Мы пошли вместе, обсуждая варианты покупки. Наконец пришла идея пойти в магазин на Неглинной и купить какой-нибудь музыкальный инструмент. Скрипки и контрабасы нам не подходили. Средств хватило лишь на пионерский барабан. Мы остановились на нем. Но возле кассы Тоома осенило. Он сказал, что барабаном обязательно овладеет мой малолетний сын и дома житья не будет. Идея рухнула.
– А не пойти ли нам посидеть в «Арарате»? – предложил я. И мы отправились в это близлежащее кафе.
В тот день впервые завязалась у нас многочасовая беседа. Разговор шел сперва о литературных делах, о перспективах того необычного времени, об еще свежей «нобелевской истории» Пастернака, в которой ярко очертились рамки хрущевского либерализма, сплоченность косности, привычка народа к подчинению, слабость и неготовность интеллигенции. Потом незаметно перешли на личное. Получилось нечто вроде двух неожиданных исповедей.
Мы успели многое сказать друг другу до того, как появились Тимофеев и Грибанов, работавшие тогда в Детгизе, расположенном неподалеку.
«Арарат» был в ту пору нашей штаб-квартирой. Там постоянно собирались молодые литераторы, собранные в Детгизе Тимофеевым и Грибановым, внесшими свежую струю в работу этого издательства.
После описанного разговора нас с Леоном потянуло друг к другу. Мы стали встречаться все чаще и уже приватно, вне привычной компании. Я начал нередко бывать дома у него и у Натальи, приглашался на семейные праздники.
Обычно присутствовал на них Павел Григорьевич Антокольский, прекрасный поэт, отец Кипсы. При шумной своей дочери он притихал. Его бурный характер, передавшийся дочери по наследству, выражался в ней, пожалуй, с более глубокими подтекстами и нуждался для вспышек в более основательных причинах. У Павла Григорьевича это часто бывало работой «на образ». Его все любили – друзья, ученики, он был умен, высоко одарен, высоко образован, открыт, щедр, прост.
Он являл собой удивительный тип интеллигента, уцелевшего в самые страшные годы, пытавшегося свести концы с концами и по бесполезности утерявшего эти концы так, что в наше время тем, кто попытается разгадать и описать этот тип, долго придется эти концы отыскивать.
Жили Тоомы в актерском доме Вахтанговского театра, с которым с основания был связан Павел Григорьевич как артист, режиссер и автор.
В маленькой квартире из трех небольших комнат одну занимала мать Кипсы Наталья Николаевна, математик. Она редко выходила к гостям. Другую комнату отдали Андрею, сыну, тогда еще школьнику младших классов. Ныне он ученый в области точных наук.
В конце 50-х родилась дочь Катерина, которую я видел только в раннем младенчестве. Третья комната оставалась для работы Кипсы, нуждавшейся в пространстве, и Леона, которому этого пространства почти не оставалось.
Гостей обычно принимали в кухне, тоже довольно мизерной.
Несколько лет в конце 50-х годов и в самом начале 60-х – время наиболее интенсивной моей дружбы с Леоном и его семьей. Естественно, что перезнакомились мы и с домашними друзьями и с некоторыми из них завязались свои отношения.
Одним из самых содержательных друзей Тоомов был историк-византинист Александр Каждан. Он занимался областью истории, мало тогда популярной, издал несколько серьезных книг. Он мог судить о современности с позиций хорошо образованного историка и высказывал много интересных суждений.
Каждан может быть занесен в список замечательных мозгов, которые мы безвозмездно отдали Западу в годы безвременья. Со своей стороны, я привел Леона в дом Бориса Всеволодовича Шуплецова, где он вскоре стал бывать уже независимо от меня.
Борис и его жена Вера отличались необычайным хлебосольством и радушием. В доме у них постоянно кто-нибудь гостевал. Жили они в том же Приарбатье, и вечером всегда можно было забрести к ним на огонек.
Мы все любили Бориса, добродушного, чуть ленивоватого, обстоятельного в застолье. Он был умным редактором, переводчиком, специалистом по чешской литературе. Но назначение его – Хранитель Дружбы, и сердился он, и обижался, когда, по его мнению, нарушался неписаный дружеский устав.
Нередко Леон находил приют в этом доме в дни своей неприкаянности.
Круг общения Тоома, как и у всех нас, был тогда необычайно широк. Как говорилось в XIX веке, это была «вся Москва». Все встречались со всеми в самых неожиданных местах и вариантах.
Москва переживала радость бесстрашного общения, одно из самых наглядных и достижимых благ после XX съезда. Уже шли разговоры и накаливались мысли о проблемах, которые томят и мучат нас с большей остротой через тридцать лет.
Леон занимался переводом с эстонского. При его участии и под его руководством, формальным или неформальным, выходили первые книги эстонских поэтов на русском языке. Он был фактическим создателем первой переводной антологии эстонской поэзии, вышедшей в Большой серии «Библиотеки поэта». Это было солидное издание, не потерявшее значения до наших дней. Впервые можно было познакомиться с произведениями классиков дотоле неизвестной литературы.
Тоом собрал для этого издания «команду» талантливых переводчиков. Несмотря на ряд изъянов и пробелов в составлении, обусловленных тогдашними рамками, книга удалась. Сам Леон переводил мастерски. Думаю, что у эстонской поэзии на русском языке не было переводчика такого уровня и масштаба ни до, ни после. Трудно переоценить вклад Леона Тоома в историю русско-эстонских культурных отношений.
Тогда впервые в русском интеллигентном обществе возник интерес к Прибалтике и к ее культуре. Прибалтика, притихшая, пригнетенная после трагических предвоенных, военных и послевоенных лет, постепенно оживала, обретала речь. Она раскрывалась как край особый, со своим пейзажем, архитектурой, историей, культурой, характером, стилем жизни.
Тоом впервые привез меня в Таллин. Я не стану описывать впечатления от Эстонии, тому посвящено немало стихов.
Радостным открытием было то, что в литературной среде, куда я попал, преобладали те же гуманные понятия, те же представления о назначении искусства и художника, что и в русской среде.
Разговаривать было легко. Подтверждалось, что поэт, приехавший в город, где живет хотя бы один поэт, не чувствует себя чужим.
Близкими друзьями Тоома в Таллине были Кроссы. Яан тогда еще не прославился как прозаик. У него только что вышла первая книга стихов. Привлекали его ум, солидные знания, добрый нрав. Ноту женственной мягкости и сердечности вносила его жена – Эллен Нийт.
Они снимали тогда жилье в предместье города, почти дачном. Вскоре переехали в писательский дом на Харью, где немало времени провели мы в разговорах в их маленькой квартире, уставленной книгами. С первого же приезда возникли дружеские отношения между ними и мной.
Познакомил меня Леон и с другими писателями: с Аугустом Сангом, Керсти Мерилаас, Уно Лахтом, Паулем Руммо.
Бывали мы в мастерской Виве Толли, прекрасной художницы, на выставках в художественных салонах, в театре. Тоом чувствовал себя как рыба в воде, хорошо был ориентирован в местных делах, знал заботы своих друзей. Эстонский он знал отлично, но признавался, что говорит с некоторым затруднением, стесняясь своего несовершенного произношения.
Не могу утверждать, что с ходу постиг все тенденции и устремления эстонской литературы и искусства. Я, может быть, впервые столкнулся с иным осуществлением в форме, чем в русском искусстве тех лет, с идеями, более близкими только-только вновь возникавшему русскому авангарду. Разница в том, что московский авангард боролся с закоснелыми формами искусства, призывал к их ломке и замене новым, а в эстонском художественном сознании «новая форма» была уже традицией и не вызывала ни сенсаций, ни споров.
Наши поездки в Прибалтику, ставшие регулярными с конца 50-х годов, не ограничивались Эстонией.
Неоднократно бывали мы и в Риге. Помню нашу первую совместную поездку, первое мое знакомство с городом, встречи с поэтами Визмой Белшевиц и Марисом Чаклайсом, своеобразную фигуру Анатола Имерманиса, посещение Дагмары Кимелис, чья семья была причастна к театру, и многое другое.
Тогда же познакомились мы и с Юрием Ивановичем Абызовым, глубоким знатоком Латвии и Риги, продолжателем традиций рижской русской культуры, переводчиком, писателем и ученым. С ним мы оба быстро сошлись. Несмотря на серьезность своих занятий, Абызов был в те годы человеком веселым и любящим общество. Он часто посещал Москву, перезнакомился с нашими знакомыми и стал непременным членом шуплецовской компании…
Жизнь Тоома текла гладко, все дела его были в порядке.
Но я уже достаточно хорошо разбирался в нем и не мог не заметить нараставшего томления духа. «Тоом томится».
В чем была причина? Время, хоть и спотыкаясь, шло как будто в благоприятном направлении. Казалось, что надолго открылась перспектива освобождения от горячечных сновидений предыдущей эпохи.
Может быть, Тоом своим глубоким умом раньше других прозревал тупики грядущего? Странно, что о будущем он никогда не говорил, не строил для себя никаких планов. Однажды сказал:
– Мы живем в эпоху невероятных слухов.
«Поздний реабилитанс» – едва ли не его острота.
Он со временем не спорил и со средой. Может быть, он не видел перспектив лично для себя? Может быть, томительно искал их?
Он был артистичен. Но его таланту не хватало воли к осуществлению. Он как будто не пытался сыграть первые роли, а может быть, осознавал тщетность такой попытки? В нем не было снобизма. Но возможно, что именно тогда он принял решение играть ни для кого, для самого себя. Играть соответственно своей природе. Играть, как природа.
Может быть, именно тогда он устал от спора с самим собой и отдался стихии разлада, циклону, в нем образовавшемуся, уверенный в том, что гармония не для него.
Тогда была первая эпоха увлечения автомобилизмом. Помню Леона за рулем старенького «Москвича» – он был полон азарта, отрешен, словно готовый к прыжку, пригибался над баранкой, летел, ему важна была скорость, а не цель.
Может быть, это наилучшая модель его состояния.
…В самом конце 1959 года он по телефону объявил мне, что ушел из семьи. Сообщение было неожиданным, а объяснения сбивчивыми.
– Она сама велела мне убираться, – несколько раз повторил он в качестве оправдания своего поступка.
После Нового года я поехал работать в домтвор в Переделкино, где находились Зак и Кузнецов. Им я сообщил неожиданную новость. Друзья были огорчены и растерянны. Свои разговоры на эту тему, привыкшие находить повод для юмора в любых ситуациях, мы назвали Конференцией друзей и написали Декларацию, главными пунктами которой были:
1. Поступок Тоома не одобрять.
2. Поступок Тоома не осуждать.
3. Оказать моральную поддержку Наталье, на отношения с которой не должно оказать влияния происшедшее.
Наталья тяжело пережила разрыв с Леоном. Она поначалу не верила, что это всерьез и надолго, считала выходкой и мальчишеством. Помню почти ежедневные наши нескончаемые телефонные разговоры, где дотошно анализировались поступки, слова и обстоятельства, по которым Наталья уверенно предсказывала скорое возвращение мужа.
Для меня эти разговоры были томительны, ибо я хорошо знал тогдашнее состояние своего друга. Испытывал я и некоторое чувство неловкости, потому что по случайности познакомил Тоома с его будущей женой.
Ирма была молодая, миловидная женщина, понятливая, восприимчивая, с какими-то своими семейными сломами, с потребностью выйти из круга своей жизни в какие-то иные пространства. Знакомство сперва было вполне незначащим и не сулило никакого развития. Но однажды Леон повез Ирму покататься за город. Машина застряла в осенней грязи. Они вдруг увидели себя вдвоем, поглядели друг на друга, и их отношения стремительно приобрели иной характер.
Наверное, и для Ирмы такой оборот дела был неожиданным.
Зиму они прожили в снятой комнате. А в мае мы втроем уехали в Ригу, не помню – то ли по делу, то ли просто так.
Зато хорошо помню окончание этой поездки.
31 мая мы узнали о смерти Пастернака. Сразу же решили ехать на похороны. Быстро собрались и уже вышли из гостиничных номеров в коридор, но тут со мной что-то приключилось – какая-то сердечная напасть. Пришлось вернуться, вызвать врача, который уложил меня в постель. На похороны Пастернака мы опоздали.
Попали мы в связи с задержкой и в финансовую пропасть. Выкрутиться помог литфонд. Вообще же тогда Леон часто бывал в финансовых нетях. Не знаю, выкарабкался ли он из них когда-либо.
Осенью 1960 года Леон и Ирма почти постоянно жили у меня на даче в Мамонтовке. Никогда мы так много времени не проводили вместе. Стояла осень с дождями и ветром. Днем работали, а вечером вели долгие беседы, обсуждали прочитанное или делились новостями, привезенными из Москвы, много слушали музыки.
Леон любил и хорошо знал музыкальную классику. Гораздо лучше меня разбирался в музыке современной. Читал он необычайно много не только на русском и эстонском, но и на французском и немецком. Пересказывал содержание книг, которые только в последние годы дождались русского перевода.
Иногда, темным дождливым вечером, топили печку и кто-то по жребию отправлялся по слякотной дороге на станцию за бутылкой водки. Наши полночные сидения бывали содержательными и веселыми.
Тогда Тоом впервые прочитал мне свои стихи. До этого он никогда не признавался, что они у него есть. Удивительным казалось, что, не сочиняя стихов, он так хорошо владеет формой в переводах.
Оригинальные произведения Леона Тоома были впервые опубликованы в таллинском сборнике его стихов и переводов, вышедшем посмертно, лет десять тому назад.
Стихи Тоома содержательны и своеобразны по манере, как содержателен и своеобразен их автор. В них не хватало какой-то последней волевой доводки, «устремленности к читателю», что ли, не хватало и предметности, вещественности образа, то есть восприятия мира не только в сфере интеллекта и эмоций, но еще и всеми пятью чувствами, что, в конечном счете, является тоже формой обращения к читателю через его чувственный аппарат.
Публиковать свои стихи Леон не намеревался.
В ближайшую зиму Тоом с женой снимали комнату в одном из приарбатских переулков. У них часто бывали московские знакомые и приезжие из Таллина. Настроение у Тоома как будто утрясалось. Ему нравилась почти свободная от бытовых подробностей студенческая жизнь. Планов на будущее, на устройство более стабильной жизни он не строил. Впрочем, это было в его характере.
…В начале лета мы вдвоем поехали в Таллин. Леон – на машине, я – поездом. Поселились в существовавших тогда комнатах для приезжих при Союзе писателей. Там уже находились московские поэты Сергей Поликарпов и Юнна Мориц. Вместе побывали у Кроссов, вместе пообедали в «Глории». Вчетвером отправились на Тоомовой машине выступать в Пярну. Неподалеку от города сломалась машина. (Опять сломалась машина! В этом было что-то роковое!) Пришлось заночевать в Пярну.
Я впервые увидел город, куда вернулся через пятнадцать лет, чтобы остаться в нем надолго. И только потом вспомнил, как далекий сон, его пустые пляжи, гладкое море, малолюдные улички, кирху и церковь Екатерины.
На следующий день вернулись в свою комнату для приезжих. А к вечеру Тоом пропал.
Здесь занавес закрывается.
Здесь в городе бродили мы с Леоном. И город становился павильоном Для съемки двух банальных кинодрам. Банальных, если бы не смерть артиста! Мы понимали, что судьба ветвиста, Когда входили в лютеранский храм…Из Таллина я вернулся один, получив приказание передать Ирме, что он задерживается по делам, и просьбу дать ей денег взаймы. К Ирме Леон уже не возвратился.
…С той поры мы виделись редко. Иногда у общих знакомых или на днях рождения у Тимофеева, иногда случайно встречались в Доме литераторов. Обычно он бывал не один.
«Тоом сорвался с якорей», – отмечено в моей записной книжке.
Были у нас и несколько разговоров с глазу на глаз. Но я уже мало что понимал в жизни Леона Тоома.
В его новом жилье я был, кажется, всего один раз.
…Прошло несколько лет. Однажды вечером я встретил Леона в ресторане ЦДЛ. Он был, как говорится, «в разобранном состоянии». Я решил его не оставлять. Отобрал его у какой-то робкой и странной девицы, которая пыталась его увезти домой. Уговорил поехать ко мне на дачу, в Опалиху. Я видел, что ему очень худо.
Утром он согласился на уговоры мои и моей жены пожить у нас неделю. Но к середине дня загрустил, заторопился и объявил, что ему обязательно надо повидать Лиду. Я пошел его провожать. Но он не уехал сразу. Мы несколько раз подходили к станции, возвращались к дому. Тоом откровенно рассказывал мне о себе. Тогда мне впервые представилась картина его жизни последних лет.
– Я никогда не был так несчастен… – несколько раз повторил он.
Наконец мы расстались, чтобы никогда больше не увидеться.
…Через несколько дней мне сообщили, что Тоом погиб. Это произошло 4 июня 1969 года.
Похороны его были немноголюдны. Помню только пустой двор перед анатомичкой какой-то больницы. Молчаливые кучки людей у забора. Долго ожидали выноса тела.
Тоом лежал в гробу с головой чуть повернутой, чтобы не видно было разбитого затылка.
Никто не произносил речей. Не было и поминок.
Погиб он, упав из окна своей квартиры, при неясных обстоятельствах. Слуцкий собирался опросить свидетелей его смерти. Но Наталья Павловна просила этого не делать…
В моей поэме «Последние каникулы» есть небольшая глава, посвященная Леону. Вот ее конец.
Прощай, мой добрый друг! Прощай, беспечный гений! Из всех твоих умений Остался дар разлук. Прощай, мой милый друг! Прощай, свободный гений! Отвергший из наук Науку возвращений! Прощай, мой вечный друг! Прощай, мой слабый гений! Как смысл твоих учений Осуществился вдруг!Похоронен он в Переделкино. Рядом – могилы Лидии Петровны Тоом и Натальи Антокольской.
Недавно один из моих друзей побывал на старом кладбище, где похоронен Леон Тоом, и посетил его могилу.
О нем и память уж почти мертва. Ушла с друзьями. Камень и могила Заросшая. А та, что хоронила, Его забыла. И еще жива. Земная память, в общем, пустяки. Когда-то, может, вспомнятся стихи Совсем в другом, нездешнем, пониманье. Да не стихи! Две-три строки, отнюдь Не лучшие. Их истинная суть Скорей всего не привлечет вниманья.Первое свидание
Помню ту блаженную осень 1955 года, когда впервые с Крестового перевала маршрутная машина спустилась в Грузию.
После остановки в Пассанаури, где давали в духане роскошный шашлык и местное вино, мы двинулись дальше и вскоре были в Тбилиси.
Я подготовлен был к ощущению этого города Пушкиным и Грибоедовым, «холмами Грузии» и «Смертью Вазир-Мухтара». Прекрасный город показался мне узнаваемым. Я только потом понял, что первое впечатление было и верным, и неверным. Но оно всегда преобладало даже при последующих посещениях Тбилиси.
Я попытался занять номер в какой-нибудь нешикарной гостинице, но равнодушные администраторы, не поглядев, отвечали: «Мэст нет».
Тогда я отправился в гостиницу «Тбилиси», вспомнив, что именно в эту пору в городе должен находиться Межиров, часто гостивший в Грузии. Натурально, квартировать он должен был в одной из лучших гостиниц.
После очередного «мэст нет» я неуверенно спросил, не проживает ли здесь поэт Александр Межиров.
– Саша всегда живет у нас, – ответил администратор. – А вы его товарищ? – спросил он уже менее официальным тоном.
– Я его друг! – гордо произнес я.
– А он не рассердится, если я дам вам ключи от его номера?
– Нет, не рассердится, – решил я за Межирова.
Кажется, это был единственный раз в жизни, когда мне помогло его имя.
В общем, мне пообещали к вечеру освободить номер. Я дождался Саши. Мы радостно встретились. Ибо сидел он в Тбилиси давно. По москвичам соскучился. Но вернуться туда не мог, как я вскоре понял, из-за одной из своих таинственных и лукавых историй. Расторопный официант Ласи быстро накрыл нам в номере ужин, пока я излагал московские новости, которых в ту пору было не меньше, чем сейчас.
Саша тогда был фантазер и мистификатор. Потом фантазия его иссякла. Осталась мистификация, то есть ложь и актерство.
Странно, что в поэзии Межирова почти нет ничего фантастического. Думаю, потому, что он фантазер и мистификатор высокого класса, он в этом талантлив. И, как это ни странно, – реалист. В стихах он излагает несуществующее как существующее, одни отношения вместо других. Это свойство высоко талантливого афериста: уснащать свои речи такими подробностями, которым нельзя не поверить.
О нем хорошо сказал какой-то пьяный в ЦДЛ: «Ты воров любишь, но сам воровать не пойдешь». Так оно и есть. Саша любит игроков. Но сам он не игрок. И однажды в Тбилиси, попав в компанию профессиональных картежников, продулся в пух. И Эммануил Фейгин, его друг, пошел выручать проигрыш. И выручил ту часть, которую не успели пропить игроки.
Вот и невольно быстро подошел я к Фейгину, о котором пойдет речь в этом очерке.
Но поскольку во время нашей дружеской трапезы с Сашей я еще не знал Эммануила, немного отложу встречу с ним, как было на самом деле. Я опишу еще несколько тбилисских встреч и происшествий, случившихся до нашего знакомства, ибо это важно для понимания той атмосферы, в которой оно произошло. И того вечного праздника, на фоне которого завязывалась наша дружба.
А празднование происходило на самом деле: пышно отмечалось двухсотпятидесятилетие со дня рождения Давида Гурамишвили, знаменитого грузинского поэта. Наутро в вестибюле гостиницы собрались гости и хозяева юбилейных торжеств. Саша представил меня обоим Абашидзе, Ираклию и Григолу, познакомил меня с Мишей Квливидзе, который увивался вокруг известной московской красавицы Инны, жены сценариста Блеймана. С Блейманами я был знаком. Впервые увидел я тогда Владимира Орлова, знатока поэзии Блока и издателя Библиотеки поэта. Из грузинских писателей знал я одного Иосифа Нонешвили, стихотворение которого «Снег в Гори» когда-то перевел. Не упомню, с кем еще я познакомился именно здесь в вестибюле. Когда подали машины, чтобы ехать на какое-то мероприятие, я собирался уйти. Но какие-то два дюжих молодца молча подхватили меня под руки и усадили в одну из машин. Тогда я понял смысл короткой фразы, произнесенной Ираклием Абашидзе, и кивка в мою сторону. Я механически был включен в состав московской делегации писателей, хотя еще и членом СП не был.
Я впервые почувствовал темп и увидел роскошество грузинских празднеств.
Может быть, от мелькания лиц и мест, заседаний и застолий у меня спуталась хронология первых встреч с маститым Иосифом Гришашвили, с Алио Мирцхулавой, Хутой Берулавой, с его недругом Гией Маргвелашвили, которого, по слухам, тот выбросил из окна редакции, и с незабвенным Гоги Мазуриным, легенды о котором, частично даже правдивые, усердно рассказывал Межиров.
А вот встречу с Фейгиными я очень хорошо помню. Мы с Сашей шли по улице Плеханова. Навстречу нам – Фейгины. Саша сказал, что это его ближайшие друзья.
Помню хорошо вылепленное лицо Эммануила, его кустистые брови, седеющие, но не редеющие волосы, доверчивый и вместе с тем собранный взгляд карих глаз, хорошо размещенных в глазницах, его крепкую коренастую фигуру. При внешней строгости облика – открытая улыбка и готовность добродушно засмеяться. Рядом невысокого роста жена Сима, с миловидным добрым лицом, прическа – пучок густых волос, рыжевато покрашенных (или естественных?), милые веснушки.
С первого взгляда было понятно, что эти два человека нерасторжимо привязаны друг к другу и расположены к людям.
В Эммануиле чувствовалась надежность и внутренняя серьезность, которые предрасполагают к дружбе. В Симе – радушие и добрый ум.
Оба они родом крымчане и потому легко вписывались в обстановку южного гостеприимства и готовности к дружбе.
Оба были тогда влюблены в Межирова, очарованы его обаянием и, видимо, никого не ставили рядом с ним по таланту. Особенности его натуры воспринимались как милые странности поэта. Меня они приняли сразу как Сашиного друга. И так же быстро у нас возникли дружеские отношения, вскоре научившие их отделять меня от Межирова.
Не помню, где жили они в тот мой приезд. Кажется, в какой-то скучной квартирке на Плехановской. Помню их квартиру на улице Гогебашвили, всегда полную гостей и приехавших к ним поселиться.
Гостеприимство – столь яркая черта грузинской нации, что порой нелегко разглядеть под ним истинного характера грузина. Порой под ним не замечаешь бедности или достатка, веселья или печали.
Напрасно предполагает русский обыватель, что грузины щедры в застолье, потому что богаты. Они щедры, когда и бедны.
– Не могу поехать в гости к брату, – жаловался мне Хута Берулава. – Порежет всю птицу и скотину.
Эммануил был моим первым поводырем по этому новому, небывалому миру и часто предостерегал меня от ошибок в понимании грузинских обычаев и следовании им.
Юбилейные торжества длились несколько дней. Но для меня праздник встречи с Грузией продолжался целый месяц.
В Тбилиси ожидало меня несколько приятных неожиданностей. Дело в том, что средства мои были довольно скудны и быстро иссякли в многолюдном общении. У меня образовалось множество знакомств. И в последующие дни меня постоянно звали в гости, возили по окрестностям, водили в духаны, утром будили, чтобы накормить хаши, днем показывали достопримечательности Тбилиси, а вечером порой заваливались ко мне в гостиницу, где тот же славный Ласи кормил нас и поил до полуночи.
Я лежал в номере на диване и прикидывал, на какой день брать обратный билет. Тут раздался телефонный звонок.
Вежливый голос попросил меня пересечь наискосок проспект Руставели и немедленно явиться в кассу издательства «Заря Востока». Мне посоветовали не мешкать, так как касса может закрыться.
Конечно, в том ошеломлении, в котором я находился тогда, нельзя было не влюбиться. И я тут же влюбился в приятельницу Фейгиных 3. Ш., высокую блондинку с карими глазами, полусербиянку-полурусскую, но из коренных тбилисцев, говорившую с приятным грузинским акцентом.
Было много ярких впечатлений. Но одно из самых ярких – поездка с Межировым по приглашению Нонешвили по Кахетии.
Мы выехали на машине рано утром. Иосиф и Саша наперебой рассказывали мне о местах, по которым мы ехали. Читали стихи. Так доехали до Сигнахи. Высота, с которой открывается Алазанская долина в осенних красках, – одно из самых прекрасных мест, которые мне случалось видеть. Потрясенный, я не мог наглядеться на открывшуюся взору красоту. Мы сели за столик на открытой террасе ресторанчика «Фантазия». Иосифа узнали, он был популярным поэтом, умевшим захватывать аудиторию и возбуждать ее эмоции. Кроме того, он был депутатом Верховного Совета из этих мест.
Пока мы ели большие грузинские пельмени, прибежал шеф-повар или директор ресторанчика, держа за шеи двух зарезанных индеек.
Он собирался устроить для нас пир. Нонешвили объяснил, что мы торопимся, и после длинных благодарностей нам удалось сесть в машину.
Повар долго что-то кричал нам вслед, размахивая индейками.
Иосиф сказал, что он заверяет, что нигде мы не съедим ничего подобного ресторану «Фантазия».
Мы спустились в Алазанскую долину. Мы ехали мимо сел, как вдоль прилавка винного магазина. Все названия были знакомы: «Телиани», «Гурджаани», «Цинандали». Иосиф каждый раз сокрушался, что не может заглянуть к родственникам или друзьям. Но если бы мы посетили всех родственников и знакомых, то не скоро вернулись бы из Алазанской долины, да и вообще не знаю, вернулись ли бы.
В Карданахи все же пришлось остановиться. Родственники Иосифа окружили нас шумной толпой. Потащили в верхние покои двухэтажного грузинского дома и усадили рядом с пожилым, степенным главой дома. Сами же они разбежались, чтобы побыстрее сготовить угощение. Снизу слышалось жалобное блеяние барашка и встревоженное клохтанье кур.
Вскоре накрыт был стол, явилось еще несколько степенных пожилых грузин. И начался пир с долгими тостами, кавказский пир, который можно описать, лишь имея талант и знания Фазиля Искандера.
Наконец мы распрощались с хозяевами, набившими багажник машины сочными чурчхелами и бочонком вина. У выезда из Карданахи пришлось остановиться у открытого сарая, где под навесом пожилые грузины сидели и наблюдали, как вытекает из аппарата теплая чача. На столбе висели полосы бараньего мяса. Нам пришлось выпить чачи и закусить свежим шашлыком.
Мы и так были уже в подпитии. Поэтому дальнейший путь не очень запомнился. Я читал стихи Тихонова о Грузии, подкреплявшие состояние возвышенного восторга. Ничто здесь не расходилось со стихами русских и грузинских поэтов, которые я знал.
До ночи пришлось еще несколько раз остановиться и отсидеть несколько застолий. Поздней ночью через Гомбори мы возвращались в Тбилиси.
Впоследствии мне еще приходилось бывать в Алазанской долине и видеть ее с сигнахских высот. Но уже не было с нами Иосифа Нонешвили, не привечала нас его родня. Хочется добрым словом помянуть здесь этого одаренного поэта.
Много раз мне еще придется поминать моих первых грузинских друзей. Ибо нету уже почти моей Грузии. Оттого скорей хочется сохранить ее в памяти, полной друзей, чем приехать и обнаружить, что их уже нет навеки.
Добрым словом хочется помянуть прекрасного поэта Иосифа Гришашвили. В ту пору я уже перевел несколько его стихов и особенно любил его сказки. «Коши Бабаджана» кажутся мне одним из лучших моих переводов.
Гришашвили уже подарил свой дом и богатейшую библиотеку в Харпухи народу Грузии. Он жил в большой квартире с огромной комнатой – библиотекой. На стеллажах у одержимого книголюба уже было порядочно книг. Гришашвили был уже в возрасте. Небольшого роста, худощавый, с мягкими манерами, негромким голосом – таким он запомнился мне. В доме властвовала Кето Джапаридзе, известная певица, его жена.
– Не зови меня Иосиф Григорьевич, зови просто Сосо, – попросил Гришашвили при первой же нашей встрече. Фейгин потом объяснил мне, что в Грузии уменьшительное имя не означает вовсе фамильярности.
В доме Гришашвили за столом сидел я рядом со знаменитой актрисой Верико Анджапаридзе, любезной, разговорчивой, старавшейся меня занять разговором. Блистал за столом Ираклий Андроников, которого впервые увидел не на эстраде, а дома. Более блестящего тамады нельзя было придумать.
Видел я и другие дома высшей грузинской интеллигенции, ощутил ее стиль, высокую культуру и манеру поведения. Особо запомнился первый визит к Григолу Абашидзе. И впечатление изысканной красоты, которое производила его жена Ламара. Вечер, где за столом читались стихи и шел разговор о поэзии. Застолье в доме поэта оставило впечатление вдохновенности и приподнятости духа. Грузинское застолье, как я понял, не визит и не гулянка, а традиционная форма духовного общения, где требуются собранность ума, находчивость и фантазия.
Понятно стало, что влечет в Грузию русских поэтов. Поэзия – важный элемент ее жизни, побеждающий житейскую прозу характера и быта.
В Грузии умеют отличать подлинную поэзию от мнимой, как хорошее вино от дурного. Недаром в русской поэзии с Пушкина звучит грузинская нота, недаром под крыло Грузии приходили русские поэты нашего века, попавшие в беду.
Часть V
Литература и общественное движение 50-60-х годов
Пятнадцать лет, прошедшие со смерти Сталина, составляют переходный период нашей истории. Он начался 5 марта 1953 года и продолжался 15 лет – до августа 68-го. Редкие периоды истории можно датировать с такой точностью, тем более что минувшие полтора десятилетия лишены внешнего драматизма и вершинных точек – не было больших войн, громких революций, не появились новые пророки и гении в политике, науке и искусстве, не возникли мощные идейные движения. Это был период малых исторических драм, дворцовых переворотов, подспудных нравственных движений. Драматизм его – внутренний. И тем не менее, значение этого периода для будущей нашей истории огромно. В нем переживали утробное развитие новые герои и новые идеи.
Наследникам Сталина досталась мощная империя, столпами которой были сила, единство и страх. Она простиралась от Южно-Китайского моря до Эльбы. У Советской империи была крепкая опора в послушных компартиях Франции, Италии, азиатских стран, Латинской Америки. Эти партии преданно обслуживали внешнюю политику русской державы. У нее были многочисленные союзники среди западной интеллигенции, ибо свеж еще был в памяти подвиг наших народов в борьбе с гитлеризмом и мало было известно о подлинной духовной жизни внутри страны. Как-никак – Сталин был масштабной фигурой, соответствующей размаху событий, недавно закончившихся.
Сталин был порождением среды, пришедшей к власти в ходе русской революции, среды, на которую неминуемо должна была опереться малочисленная революционная партия, захватившая власть. Это была аморфная среда российского мелкого буржуа, разоренного войной мужика, обнищавшего мастерового, всегда ожидавших выскочить в люди городского мещанина и полуинтеллигента. Эти пестрые общественные силы дореволюционной России сплачивались и переплавлялись в некое социальное единство, усваивая революционную фразеологию и террористические методы революционной партии. Представители этого, пошедшего на переплавку, социального слоя готовы были пережить много лишений, пролить море крови, пожертвовать всеми культурными ценностями России, лишь бы получить власть. Они стремились к власти и добились ее, хотя спервоначала власть была абстрактным понятием, – добились, чувствуя инстинктом, что только власть сулит им владение огромными материальными ценностями страны.
Социальный слой, формировавшийся в 20-е годы как правящая сила страны, впоследствии получил множество названий. Его называли партийной бюрократией, средним слоем, новым классом. Все эти названия по-разному пригодны.
Академик Сахаров оценивает численность этого слоя около 5 % населения, отмечая, что они «являются в той же мере привилегированными, как аналогичная группировка в США».
5% – это 10–12 миллионов хорошо организованных, сплоченных людей. И их достаточно, чтобы сформировать полицию, армию, аппарат власти. «Мы должны признать, что не имеется качественной разницы в структуре общества по признаку распределение – потребление».
Порождением нового класса и был Сталин. Он нужен был этому классу для окончательного утверждения власти, для выработки методов ее, для формирования аппарата и идеологии, для осуществления политики. Субъективно для представителей среднего слоя Сталин стал символом веры, непререкаемым авторитетом, полубожественным мистическим источником благодати, монументом мощи и торжества. В Сталине стопроцентно символизировался политический и нравственный идеал среднего слоя.
Сперва кажется странным, что начальные шаги наследников Сталина сделаны были в сторону ниспровержения его авторитета. Но это странно только на первый взгляд.
В империи Сталина были недостатки даже с точки зрения правящего слоя. Маразматическое состояние Сталина в последние годы его правления нанесло ряд чувствительных ударов по его престижу и по самой империи.
Естественно, что узкая группа лиц, пришедших к власти после смерти вождя, хотела улучшить структуру империи, избавить ее от одного из столпов – страха, ибо страх при всей его скрепляющей функции испробовали и они. Естественно, что психологически им надо было развенчать причину этого страха, его носителя, – внутренне расковаться, чтобы иметь возможность с большей или меньшей объективностью оценивать ситуацию. Забегая вперед, заметим, что сила и единство оказались в тесной связи со страхом. Подрывая основы страха, новые руководители России нарушали фундамент триады. Но тогда они об этом не думали.
Период «позднего реабилитанса», то есть осуждение методов 37-го года, был одним из первых инстинктивных действий новой власти. Уничтожение Берии было первым дворцовым переворотом, цель которого – окончательно отмежеваться от методов сталинской карательной политики, отнять ключевые позиции в государстве у органов безопасности, отнять у них функцию посредника между средним слоем и властью и передать власть в руки партийной бюрократии.
Путч 37-го года, утвердивший у власти новый правящий слой, им же был развенчан, когда власть непосредственно, а не через диктатора, стала принадлежать ей. Таков парадокс истории. В нем много поучительного, ибо в субъективных действиях лиц всегда вскрывается подлинная пружина истории.
Объективно развенчание 37-го года было признаком возросшего самосознания правящего слоя, потребностью демократизировать свою власть, то есть освободиться от пеленок диктатуры и непосредственно, без страха, распоряжаться страной. Они были людьми диктатора. И ниспровергли его. И вскоре пожалели об этом. Пожалели не потому, что убедились в своем неумении вести дело, жить без хозяина, – пожалели потому, что, подорвав основы страха, лишились мощного регулятора общественной жизни. Они бы хотели диктатора, но отнюдь не сталинского типа. Скорей диктатуры без диктатора. Мы помним, как легко свергли они неугодного им Хрущева, как только он превысил данные ему полномочия. Они прежде были людьми диктатора. Теперь диктатор должен быть их человеком. С этой точки зрения им Сталина не жаль. Им жаль страха. И поскольку Сталин был наиболее точным синонимом этого понятия, им жаль и Сталина.
Развенчание Сталина – издержка самосознания нового класса, болезнь его роста. Болезнь, которую хотят залечить, но излечить не в силах.
В первые же годы после смерти Сталина стало ясно, что, критикуя 37-й год, среда власти вовсе не намерена пересматривать основы строя. Она болезненно воспринимала критику в свой адрес, которая велась в обществе под знаком критики бюрократизма.
Бюрократизм – не искривление линии, не название отдельного недостатка, а суть государственной структуры. Хрущев, действия которого порой казались лишенными логики, поступил, однако, весьма логично, резко критикуя безобидный роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» и благословив печатание взрывчатого романа Солженицына. Единственное, чего он не учел, – что карательную политику нельзя отделить от государственной структуры, что критика сталинизма неминуемо должна перерасти в критику всего строя в целом. Общество может быть благодарно ему за этот его просчет.
Смерть Сталина, естественно, вызвала растерянность в его окружении, которое не было сплоченной единой группой. Прошло несколько лет, и никто из ближайшего окружения не остался у власти. Их разобщение, однако, не помешало, а может быть, помогло сплочению правящего слоя, оформлению его сословного самосознания. Растерянность эта, с другой стороны, привела и к нежелательному результату – некоторые клапаны, сдерживающие социальные страсти, приоткрылись. Джинн общественной критики и самокритики был выпущен из бутылки. Запрятать его обратно не оказалось возможным.
Было бы естественно, если бы начавшуюся борьбу общества за права человека возглавило поколение людей, прошедших войну, достаточно зрелых и достаточно молодых, чтобы выступить с новыми, конструктивными идеями. Этого не произошло. Энергия военного поколения была подорвана в послевоенное восьмилетие. Оказалось, что мужества, достаточного для самой героической войны, недостаточно для гражданского проявления. Оказалось, что поколение слишком обескровлено и устало, слишком выложилось нравственно и физически за войну и послевоенные годы. Оказалось, что революционный догматизм, в духе которого было воспитано поколение, был мертвым грузом, мешающим образованию новой реальной идеологии. Поколение в целом неверно оценивало возможность борьбы за права человека в рамках сложившегося государства. Воспитанное в обстановке своеволия власти, оно считало, что слишком многое зависит от персоналий, от мыслительного уровня и доброй воли людей, стоящих у власти. Многим рисовались в мечтах «умные» секретари обкомов и честные руководители ведомств, готовые прислушаться к голосу общественной критики. Сталинское «кадры решают все» оставалось узловым положением ортодоксальных мечтателей.
Можно сказать, что отсюда идет и современная идея усовершенствования и исправления недостатков существующего строя, популярная в наше время в технократических кругах. Разница лишь в том, что технократы хотят заменить бюрократов, а ортодоксальные идеалисты надеялись, что бюрократы сами естественно превратятся в технократов. Это оказалось невозможным. Сословные цели всегда оказывались слабее государственного разума.
Иллюзии ортодоксальных идеалистов на первых порах как будто были не лишены почвы. Действительно, мероприятия, вводившие «законность», казались при том уровне правосознания началом эры свободы. Идеалисты целиком полагались в этом на носителей власти, боясь «вспугнуть» их на пути либеральных реформ, и всячески удерживали общество от нетерпения. Как сформулировал в ту пору Слуцкий, один из поэтов добрых упований: «У нас нет спора о путях, а лишь спор о темпах».
Литература в условиях ослабления цензурного пресса стала главным выразителем упований общества и главным критиком недостатков предыдущей эпохи.
Сейчас есть тенденция у молодых максималистов полностью отрицать полезное воздействие литературы середины 50-х годов на общество. Принято преувеличивать «гапоновско-зубатовскую» сторону этой литературы и преуменьшать ее роль в развитии общественной критики и формировании новых идей.
Легко быть крепким задним умом. А литература была на уровне сознания того времени. Она с трудом вылечивалась от травм, нанесенных ей в конце 40-х – начале 50-х годов.
Наскоро провозглашенный некоторыми критиками «ренессанс» был, конечно, результатом интеллигентского прекраснодушия и неспособности к оценкам. Однако нужно было расправить затекшие члены. Просто довести до читателей накопленное тайно и под спудом, написанное робко, но с элементами вольного мышления. И это было важно в ту пору.
Первый, кто попытался оценить ситуацию, ее перспективы, был Илья Эренбург. Он обладал достаточным общественным авторитетом, накопленным в годы войны, опытом политиканства, умением найти ракурс, в котором его идеи, при видимой самостоятельности и свежести, по существу обслуживали определенную политическую кампанию.
Название романа «Оттепель» было намеком на то, что реформы общественной жизни являются лишь началом, что после оттепели нужно ожидать весны. Этот намек был понят и раздражил среду власти. Эренбург несколько просчитался. Несколько забежал вперед. Он пытался подтолкнуть на новые реформы, определить время как переходное. Власти же считали, что по линии общественных свобод сделано достаточно. Им ближе были авторы, провозгласившие не оттепель, а вечную весну, прямые идеологи нового класса, вроде Грибачева или Кочетова, которым нельзя отказать в точном сословном чутье и которые целой системой иносказаний старались одернуть и припугнуть деятелей либерализации. (Словечко «реванш».)
Старый слуга Эренбург просчитался. Он был переведен в состав официальной оппозиции и не раз подвергался критике. Будучи человеком казенным, он болезненно переживал свою отставку с места директора конторы либеральных идей. Он не годился для нового времени, где реальные идеи не сплачивались, а размежевывались. При первом же размежевании логикой событий он был отброшен влево, у него был слабый пункт с точки зрения официальных почвеннических вкусов. Он был западник, защитник культуры, сторонник современных ее форм. Он сыграл свою невольную роль зачинателя «бунта формы», о котором ниже.
Космополитический Эренбург был в истоках своих российским провинциалом. Он торопился приобщиться к новейшим формам искусства, был неравнодушен к сенсации и в душе благоговел перед официальной субординацией. Ему нельзя отказать в уме, но вкус его был причудливо искривлен и односторонне развит. В нем навсегда засел провинциал в Париже.
Официальным московским провинциалам его путь был чужд. Они не без оснований видели в нем некоторую опасность. Другим неприятным пунктом Оренбурга был его филосемитизм. Этим он, естественно, претил марксистским почвенникам.
Все же деятельность Эренбурга в начальные годы послесталинского периода оставила свой след. Он за руку ввел некоторых писателей, делавших в ту пору полезное дело.
Условия существования литературы сразу же после смерти Сталина оказались так непривычны, что несколько свежих публикаций вызвали необычайный восторг читателей и критики.
Наскоро был объявлен ренессанс. Обновлялся списочный состав литературы, и менялась табель о рангах. Вновь во главу угла ставилось творческое своеобразие, то есть известная свобода изложения. В сути излагаемого пока еще глубоко не разбирались. Эренбург ввел в литературный обиход двух провинциалов российских – Мартынова и Слуцкого. К ним впоследствии присоединились провинциалы полуевропейские и полуазиатские, вроде Межелайтиса и Хикмета.
Живые гении – Ахматова и Пастернак – как-то позабывались в перечислениях и казались старомодными и недостаточно гражданственными.
Леонид Мартынов до войны был известен лишь узкому кругу читателей. Он был автором любопытных исторических поэм с примечательным строем стиха, самостоятельностью интонации, оригинальным ходом поэтического повествования. Он, несомненно, начинался как высокоталантливый, многообещающий поэт. Книги «Эрцинский лес» и «Лукоморье» подтвердили эту репутацию.
Мартынов вступал в пору своей славы с ореолом незаслуженного страдания. Его поэтический и человеческий облик импонировал читателям. Неясность идей, многозначительность развернутых метафор, недоговоренность стихов – все это воспринималось как высокая интеллектуальность поэзии. Короткое время в глазах читателей и поэтов Мартынов был первым русским поэтом.
По существу, его поэзия была глубоко конформистской. Он утверждал порядочность личную вместо гражданской доблести. Поднимаясь все выше в космические высоты, он подменял понятие общественного прогресса понятием эволюции форм жизни. Своим космизмом он стяжал поэзии славу философской. На деле философия Мартынова оказывалась философией капитуляции перед грубой силой власти, уходом от подлинных проблем. Прячась за хорошо разработанной интонацией, Мартынов выражал лишь «хорошо продуманную манию преследования» (слова Ахматовой), подсовывая читателю успокоительную философию абстрактного прогресса.
Личность Мартынова была надломлена страхом предыдущей эпохи, он не смог стать учителем жизни. Он мог использовать свою поэзию лишь для самоутверждения, надувая ее шары легковесным глубокомыслием.
И все же несколько добротных стихов, написанных Мартыновым, и сама свежесть его поэтической формы были полезны в ту пору, когда каждое нарушение единообразия живо воспринималось истосковавшимся обществом, перетолковывалось и становилось поводом для размышлений.
У Мартынова были все возможности влиять на формирование общественных идей, у него на это не хватило ни гражданских, ни поэтических сил. Именно в этом проявился трагизм его личности, этим поучительна его судьба.
Совсем иной личностью является Борис Слуцкий, твердо отводивший себе второе место в объявленном ренессансе поэзии.
Слуцкий выступил от имени поколения, прошедшего и выигравшего войну. Этот факт должен был послужить для отпущения всех грехов и прощения всех ошибок поколения. Слуцкий поднимал значение поколения в собственных глазах, внушал ему гордость, убеждал каждого, что тот уже совершил гражданский подвиг и имеет право на уважение общества. Поколение радостно и благодарно прислушивалось к голосу своего идеолога. Слуцкий как бы открывал ему перспективу достойной жизни после недостойного существования. Четыре года войны списывали (год за два) восемь послевоенных лет. Слуцкий внушал надежду на то, что дальнейшая жизнь в рамках улучшающегося государства сулит радостные перспективы.
В его стихах о войне были высокие чувства, подлинный трагизм, истинный патриотизм и яркие формулировки. Он был мастером формулировок – гражданским поэтом. Казалось, он видит дальше и знает больше других. Эренбург ставил его рядом с Некрасовым. Слуцкий выступил с резкой и отважной критикой Сталина в стихах «Хозяин» и «Бог», разошедшихся в списках, напечатанных в зарубежных изданиях задолго до их официального опубликования. Эти стихи были одними из первых публикаций самиздата. Политический ум Слуцкого, его идея отпущения грехов и оптимистический взгляд на современную ситуацию делали его главным гражданским поэтом времени.
Вопросы об ответственности поколения, о личной ответственности каждого он не ставил. У каждого человека есть его главная эпопея, для Слуцкого главная эпопея была война. Она осталась исходным пунктом его поэзии.
Ренессанс для бедных с глубокомыслием Мартынова и витийством Слуцкого был под стать времени. Теперь нам кажется наивной и пустоватой хлесткая формула о физиках и лириках. Всем уже ясно, что размежевываются не физика с лирикой, не разум с чувством, не искусство с наукой. Задиристый тон врагов искусства был только детским лепетом технократизма. Впрочем, пустоватые формулы в то время нравились и не были лишены известного содержания.
Нельзя забывать, что в краткие годы всеобщих упований размежевания были неточны, самосознание первоначально, а восторг первого лепета свободы – всеобщий. Общество грубо разделилось на либералов и ретроградов. Из семи пар нечистых пять старались примкнуть к чистым, по крайней мере на словах.
Симонов, который в марте 53-го года писал прочувствованнейший некролог, явно сочувствовал «чистым». Официальные старики, сохранившие под пеплом страха и усталости божьи искры таланта, тоже подались влево.
Слабым и неясным был слух о «русситах».
Общество, разъединенное страхом, искало единения, училось азбуке откровенности, доверия, училось нормальному человеческому языку. Училось разговору. Общению. И научилось. И отучить можно только мерами 37-го года. Да и можно ли? Можно заставить говорить шепотом. Но от шепота уже не отучить. Грозный шепот, откровенный шепот, страшный шепот – вот оно, завоевание нашего времени.
Первые годы после смерти Сталина были порой необычайного единства. Правящий слой пребывал в растерянности. В нем тоже бродили неясные иллюзии. Биологические ретрограды притихли. Привычка к послушанию понуждала и их – кисло, с оговорками – похваливать либерализацию. Хотя наиболее дальновидные пророки нового класса предчувствовали беду и, возможно, предостерегали.
Заслуга Мартынова и Слуцкого в том, что они говорили на языке упований, изобретали этот язык. Они выразили надежду, питали ее и тем укрепляли. Их нравственный потенциал не был объемен, как не имел объема их ренессанс.
Но они были неизмеримо богаче духовно, чем идеологические ремесленники и метрдотели предыдущей эпохи.
История отпустила им краткий срок. При первом же испытании им пришлось расписаться в духовном банкротстве. Они оказались близорукими, слишком опутанными предрассудками предыдущей эпохи, слишком подвластными химерам власти. Ортодоксальный идеализм оказался исторически бесперспективным. Через несколько лет выявилось, что истинными носителями гражданского духа, подлинными нравственными авторитетами явились наименее «политические» фигуры нашей литературы – Пастернак и Ахматова. Фигуры эти глубоко знаменательные. Сам их выбор наиболее чуткими слоями общества свидетельствовал о поисках нового, неполитического направления в борьбе за человеческие права.
Чем более развенчивались идеи государства, власти, партии, тем внимательнее прислушивалось общество к чистому голосу совести, к голосу силы и слабости, к голосу нравственности – к Ахматовой и Пастернаку. Не случайно события, связанные с последним, стали решительным испытанием «ренессанса» на прочность. В результате погиб ренессанс.
О начальных шагах общественного самосознания (как оно выразилось в литературе) свидетельствовали приметные издания той поры – первый сборник «Дня поэзии» и альманах «Тарусские страницы».
«День поэзии» по замыслу должен был показать, что в пороховницах поэзии есть еще порох. Он был построен по поколениям с забавными описками, свидетельствующими, что понятие возраста порой не совпадает с понятием исторического поколения. «Взрослая» часть сборника показала, что порох еще есть, но что это старый порох. В «Дне поэзии» печатались стихи, написанные в предыдущую эпоху и не опубликованные по цензурным соображениям. Цензура новых времен, будучи, конечно, намного либеральней, все же внимательно прошлась по страницам сборника.
«Молодая» часть «Дня поэзии» заявляла о наличии в литературе целой плеяды свежих имен. В этой части уже намечались черты свежей поэзии, которой предстояло господствовать в умах читателей целое десятилетие и завоевать эстраду с многотысячной аудиторией. Именно этим молодым, а не выморочному ренессансу Эренбурга и Мартынова суждено было выразить важные стороны духовной жизни переходной эпохи. Как мы увидим, у этого литературного поколения тоже оказалось спринтерское дыхание. Слишком тяжелы, неимоверно сложны были задачи, стоявшие перед ним. Эти задачи шаг за шагом решали сотни людей и, продвинув решение на шаг, отставали, сходили с круга, надорвавшись. Мы прошли период спринтерского дыхания.
Не нужно думать, что исторический процесс при всей его неумолимой логике протекает очень наглядно и последовательно. Что одно поколение сменяет другое, привнося свои идеи и вкусы, как свежая дивизия сменяет потрепанную. Наиболее масштабные фигуры истории принадлежат не одному поколению, а целой эпохе, целому периоду времени. Они развиваются во времени. И, собственно, эта способность к развитию определяет масштаб личности.
В наш период жили и действовали не только такие могучие таланты, как Пастернак и Ахматова, рядом с ними проявлялись и другие творческие личности. Одна из важнейших – Александр Твардовский.
Он принадлежит к младшей ветви поэтов, вошедших в литературу в 30-е годы. Его поэтическая генерация пережила то же, что и последующая, плюс опустошительные события и катаклизмы 30-х годов. Это поколение первых пятилеток, их голодного энтузиазма, поколение поры коллективизации и разгрома деревни, политических процессов, кампаний и лагерей 37-го года.
Они были вскормлены и воспитаны сталинизмом, подняты или разгромлены им. К убитым принадлежали Павел Васильев и Борис Корнилов, к разгромленным – Смеляков, Берггольц, Тарковский, Липкин, Петровых. Убитые не восстанут. А разгромленные по-разному оправлялись от разгрома и все же до конца оправиться не могли. В них не было мощного духа Ахматовой. Они были менее талантливы.
Военная поэзия Берггольц была криком боли, взрывом истерии человека, надломленного несчастьями. Эта поэзия трогала и впечатляла, потому что не может не трогать крик боли. Боль – других признаков поэзии нет в Берггольц. Но этого много. Ибо ее боль – боль почти нравственная, почти внеличная. В истории поэзии нашего времени Берггольц останется как пример силы чувства, прилегающего к искусству и слишком замкнутого в себе, чтобы стать искусством. Это мир до предела сжатый, стиснутый, а не беспредельно раскрывающийся в страдании.
Жестокость времени непоправимо изуродовала и огромный поэтический дар Ярослава Смелякова. Мы с восхищенным изумлением порой наблюдаем в нем живучесть истинного таланта. Дарование его – природное. Его распев состоит всего из нескольких нот, но чистых, ясных и подлинных. Лагеря не убили его напева. Но они лишили этот напев тугого наполнения.
«Туго налившийся свист» раннего Смелякова потерял упругость, обеднел и сбился. Смеляков не стал выразителем времени, а лишь пассивным его атрибутом. В его стихах, бедных по содержанию, есть небанальные детали, превосходные строфы, пленительные строки. Но поэтический организм безнадежно распался.
Значительная часть поэтического поколения 30-х годов, физически уцелевшая, была надолго загнана в перевод. Эти люди талантом своим способствовали расцвету русской переводческой школы. Этот расцвет дорого нам стоил. Увял талант превосходной поэтессы Марии Петровых. Обызвестковался крепкий стих Семена Липкина, поэта с явным даром повествования. Сохранился лучше других, пожалуй, несколько жеманный и изысканный Арсений Тарковский, трансформирующий в поэзию нечто реальное – комплекс неполноценности.
Не случайно в некоторых кругах интеллигенции Тарковский в последние годы принимается как первый поэт времени. Его осеняет еще и благословение Ахматовой. Ей нравился этот поэт.
Качество стиха – это, в сущности, его гражданское качество. А высшие гражданские качества – полнота личности, иммунитет против догм и неподвластная никакой силе способность осуществлять волю к свободе. Вот этой-то полноты и недостает Тарковскому, как и Смелякову, и, может быть, один и тот же комплекс, выраженный диаметрально противоположными методами, выдает их принадлежность к одному поколению.
Твардовский – других кровей, другого замеса. Будучи официально прославленным автором «Страны Муравии» и «Василия Теркина», он не стал певцом среды власти, он сохранил известную независимость в суждениях и чувство чести.
Многих поставили в тупик его стихи к годовщине смерти Сталина. Он сравнивал себя с сыном, потерявшим отца. Это было в пору, когда иные поспешно отмежевывались от родства со Сталиным. Чувство чести побудило Твардовского написать эти стихи. Он не отрекался от Сталина-отца. Он просто не принимал его духовного наследства, как не приняла его дочь Сталина. Он сумел принадлежать не только прежнему, но и новому времени, и блестяще доказал это на посту редактора «Нового мира». Этот журнал, направляемый и спасаемый Твардовским, сыграл огромную роль в литературном движении нашего времени. В истории русской журналистики его место рядом с «Современником» и «Отечественными записками», порой даже рядом с «Полярной звездой».
Александр Твардовский стал выдающейся личностью нашего времени. Он принадлежит истории.
Действия Хрущева и самое главное его действие – разоблачение карательной политики Сталина – кажутся некоторым случайными, непродуманными, а представителям бюрократии – и вредными. Конечно, сравнительно легко оценивать историческое деяние после того, как проявились его последствия. Однако у истории есть ее неумолимая скрытая логика. Разгадка этой логики в прошлом порой помогает разобраться в настоящем и будущем.
Хрущев отнюдь не развенчивал сталинизм. Он развенчивал лишь карательную политику Сталина и большего делать не собирался. Развенчивание продолжалось несколько лет и развивалось противоречиво. В нем можно разглядеть и субъективные, чисто психологические моменты. Но можно смело утверждать, что Хрущев и его единомышленники планировали критику лишь одного, как им казалось, личного недостатка Сталина – его политику 37-го года.
Планирование, однако, и здесь не удалось. Любопытно, что власть, которая более всего настаивает на планировании, чрезвычайно слаба именно в этом. Неумение планировать во всех областях нашей жизни – одна из характерных черт системы. И для этого есть все основания. Ибо для серьезного планирования необходимо развитие наук – социологии, статистики, политической экономии – необходимо привлечение интеллигенции к управлению. Серьезное же развитие этих наук, то есть изучение подлинной структуры общества, детальные знания о нем, разоблачило бы сущность нового класса, его истинное место в распределении, способствовало бы подрыву его власти. Всякого рода знание враждебно среде власти. Но без знания и без некоторых форм планирования не может обойтись не только цивилизованное общество, но и сам новый класс – хотя бы в областях, связанных с военной мощью государства. В этом – одно из главных противоречий идеологии партийной бюрократии. В этом – одна из причин будущего ее падения.
То же противоречие лежало и в основе критики карательной политики Сталина при сохранении системы сталинизма. Страх, внушаемый карательными органами, был не случайной примесью, а одной из главных основ сложившегося бюрократического общества. Критикуя карательную политику Сталина, Хрущев открывал многочисленные клапаны, снимал запрет с других форм критики. Это происходило в атмосфере общества, уже очнувшегося от шока и одурения предыдущей эпохи, в котором возникло неодолимое желание знать правду о своем состоянии. Критика лагерей и 37-го года неминуемо и помимо воли развивала критическую мысль во всех слоях общества и во всех сферах его деятельности. Стихийный процесс критики и самокритики трудно было сдержать и ввести в режим. Для этого неизбежно было бы снова вернуться к методам 37-го года. Это оказывалось в тот период невозможным.
Почему же все-таки среда власти была вынуждена критиковать 37-й год?
Карательная политика сталинизма – и ее апогей – 37-й год – была методом утверждения у власти нового класса в его чистом виде. Он еще не имел столь мощных позиций в государстве, недавно только он разгромил крестьянство, огромную стихийную силу, способную в известных обстоятельствах (война) противостоять новому классу. Процесс омещанивания рабочего класса только начинался. Партийный аппарат насчитывал еще многочисленные кадры, выдвинутые революцией, к тому времени сильно коррумпированные и переродившиеся, но еще помнившие эпоху внутрипартийной борьбы и фракционных дискуссий. Этот слой тоже представлял известную опасность, ибо его демагогия несколько отличалась от новой формирующейся демагогии великодержавного сталинизма. Известные позиции занимала в государстве и часть старой интеллигенции, ненавидимой и как интеллигенция, и как старая (были на это и чисто психологические причины у Сталина). 37-й год необходим был для окончательного утверждения новой советской партийной бюрократии у власти. Но – характерная особенность! – методы утверждения этого класса у власти носили форму уродливой революции. Сталин, как один из деятелей революции, прибег к революционным методам на завершающем этапе революции. Массовость, уродливый подъем духа, личная заинтересованность, жестокость и пренебрежение к законам – таковы черты революционного метода карательной политики Сталина. Новый класс, делая последние героические усилия перед завоеванием власти, вручал свою судьбу диктатору и шел даже на то, что каждый из его представителей не был гарантирован, что удар карающего меча не настигнет и его. Класс, добивающийся власти, пренебрегал своей личной безопасностью и соглашался на методы, в целом ему чуждые. В новую эпоху, после смерти Сталина, правящий слой, уже утвердившийся у власти, должен был обезопасить себя от случайной воли диктатора. Поэтому он вводил понятие законности и «ленинских норм». (Общество на первых порах поверило этому, а разуверившись, поняв, что законность вводится только лишь для внутреннего употребления, пыталось использовать понятие законности и ленинских норм в борьбе за права человека. Но безуспешно.) Кроме того, новому классу в хрущевскую пору уже были чужды по существу революционные методы. Массовый размах 37-го года был и психологически невозможен. Существовало ощущение опасности стихийного процесса.
Лишь приобретя известный исторический опыт в новых условиях, среда власти не без сочувствия стала вспоминать 37-й год. Но это мечта о 37-м годе небольшом, упорядоченном, рубке леса, где щепки не летят и где подрубаются лишь корни оппозиции.
Любопытно заметить здесь, что многие жертвы 37-го года, дожившие до хрущевщины и реабилитированные ею, готовы были признать целесообразность репрессий. Можно порой удивляться бескорыстию их классовой солидарности. Они поистине люди героической революционной поры нового класса, его эпохи бури и натиска.
Правящий слой вынужден был отказаться от карательных методов сталинизма, ибо хотел властвовать через «своего» диктатора, а может быть, и без него. Сама суть хрущевской политики устраивала среду власти. Не устраивала ее форма – слишком грубая, быстрая, внезапная, несдержанное ниспровержение недавнего незыблемого авторитета. Новый класс не мог простить и не простил Хрущеву форм критики, его личных свойств, диктаторских претензий, с которыми он осуществлял критику, и главное – то, что критика Сталина неминуемо повлекла за собой стихийное отрицание всей сложившейся государственной системы.
Сталин не давал гарантий никому. В новую эпоху в среде власти нужны гарантии безопасности, поэтому она против 37-го года. Но и нужны средства подавления, потому она за 37-й год.
Трудно узнать, была ли у Хрущева и его соратников потребность знать истинное состояние общества. Многие слои этого общества поняли XX съезд и предшествующие ему мероприятия как желание власти знать правду о своем государстве. Желание знать правду, потребность разделаться с ложными представлениями были основным стимулом общественного развития первых лет хрущевизма.
На путь изображения «правды», действительного состояния дел постепенно вставала литература. Был изобретен термин «лакировка действительности», прилагавшийся к большинству произведений сталинского времени. Реальная борьба с лакировкой никогда не осуществлялась сверху. Это был один из опрометчиво брошенных терминов. Власть стремилась заменить одну лакировку другой. Величественную и громогласную более сентиментальной и сердечной. Вскоре многие лакировочные произведения были реабилитированы. «Лакировка» стала ироническим термином. К тому же в ней содержалось лишь отрицательное определение нужного искусства.
Положительным определением задач искусства, особенно литературы, на том начальном этапе была «искренность» – термин вполне в духе хрущевизма, но так же не понравившийся Хрущеву, как и «оттепель».
В. Померанцев написал свою известную статью об искренности в литературе. Статья немедленно была разгромлена А. Сурковым.
Одной из первых попыток изобразить истинное положение дел, хотя и в узкой сфере, была повесть Дудинцева «Не хлебом единым». Литературные достоинства этого произведения невысоки. Оно изобилует штампами, банальными схемами и т. д. Однако общественный отклик на его появление придает ему значение, намного превосходящее его достоинства. Повесть, хотя и весьма робко, посягала на основы. Именно поэтому она вызвала столь ожесточенный отпор. Идея консолидации сил искусства подверглась своему первому испытанию.
Некоторое время Хрущев сам возглавлял общественную критику. Увидев первые ее результаты, поняв направленность этого процесса и неминуемость цепной реакции, он быстро забил отбой. Общественная критика быстро начала расслаиваться и распадаться по социальному признаку.
Первыми, кто остановился на пути критики, были писатели-сталинисты. За ними последовали официальные либералы.
Дискуссия, развернувшаяся в Союзе писателей по поводу романа Дудинцева, показала истинное лицо официального либерализма. Привычка действовать за страх, а не за совесть, сказалась и тут. С разоблачением Дудинцева (видимо, с некоторыми колебаниями) выступил Симонов.
Он – ровесник Твардовского. По официальным позициям он всегда чуть не дотягивал до Твардовского. По читательскому успеху порой сильно превосходил. Однако каждый из его успехов был кратковременным. Твардовский завоевывал свое место в литературе раз и навсегда. Симонов, как спортсмен, должен был постоянно подтверждать свои рекорды. Его романы, поэмы, пьесы, стихи быстро запоминались, но и быстро выводились из читательского организма. Симонов – любимец и идеолог советской полуинтеллигенции. В нем есть все, что нравится полуинтеллигенту, – и молодецкий патриотизм, и умеренный национализм, и воспевание тихих радостей бытия, и достойное уважение к власти, и сентиментальность, и офицерская закваска дивизионного Киплинга. И даже известный шик ума. Поскольку советский полуинтеллигент во время войны был советским офицером, воевал, и воевал хорошо, война и для Симонова, его певца и идеолога, была периодом подъема духа. Несколько его военных стихотворений действительно отвечали настроению широкой массы. Популярность Симонова во время войны была реальная.
Любопытно, что в известные исторические периоды даже самые прозаические слои общества способны на героизм и подъем духа. Прозаический французский буржуа вместе с бывшим санкюлотом дошел до Москвы. Весьма прозаический новый класс в пору своего становления способен был на самоотверженную эпопею 30-х годов, на подлинную войну с русским мужиком, на голодный энтузиазм пятилеток, на уродливую революцию 37-го года.
Вместе со всем народом свой героический период пережила и полуинтеллигенция во время войны, с ней ее идеолог Симонов.
В истории идеологи нового класса, а Симонов является идеологом умеренного, среднего его слоя, всегда выделяли значение именно своей социальной группы, игнорируя участие в событиях других социальных слоев, выстраивая свой пантеон.
Сталин создал твердые схемы революции и гражданской войны, составил реестровые списки ее героев.
Хрущев не отказался от этих схем и списков, он лишь несколько перестроил схемы согласно своим представлениям и несколько расширил списки. Так же было и со схемой Отечественной войны.
Но есть и отличие в идеологии хрущевского времени от идеологии сталинского. Сталин настаивал на постоянном поступательном ходе развития государства. Каждый шаг его был взлетом, каждый этап – абсолютным достижением. Сегодняшнее было всегда вернее вчерашнего. Хотя с некоторого времени постоянно шла речь о традициях, они должны были лишь подтверждать правильность, закономерность, органичность сталинских решений. Сегодняшний день стоял во главе угла реалистической сталинской пропаганды.
Система Хрущева не лишена особого романтизма. Чувствуя, что прозаическая практика бюрократической системы дает мало пищи для идеалов, он поворачивал их вспять. Многие формулы начинались словом «возврат». «Возврат к ленинским нормам».
Возврат – не очень хорошее понятие для развивающегося общества. Традиция – куда лучше. Возврат свидетельствует, что развитие пошло не в ту сторону. Слово разоблачает тайную мысль.
Однако идея возврата многими слоями общества была воспринята как конструктивная. Воспринял ее, например, Симонов. А позже и Евтушенко – типичный романтик хрущевского времени.
Возврат к ленинским нормам, однако, был теорией. На деле он означал возврат целой группы ортодоксальных либералов на прежние позиции в вопросе об отношении художника и власти. Этот возврат и произошел на дискуссии о книге Дудинцева. Новым в этой дискуссии было то, что она происходила не совсем так гладко, как все предыдущие дискуссии, предписанные сверху. Здесь впервые прозвучал честный протестующий голос К. Г. Паустовского.
С этой дискуссии началось новое значение этого небольшого писателя, умелого беллетриста, никогда не блиставшего серьезными идеями. Несколько гражданских выступлений и нравственное поведение этого тяжелобольного человека в последние годы его жизни осветили новым светом весь его путь в литературе, придали ему небывалый гражданский авторитет. Именно этот гражданский авторитет и послужил причиной огромной читательской популярности Паустовского в те годы. Его имя не будет забыто. Он стал учителем жизни для некоторых молодых литераторов. Он показал, как важен нравственный облик писателя и как высоко оценивает общество любой пример гражданского поведения.
Первые годы после смерти Сталина, годы становления Хрущева, были относительно безмятежными. Идеи еще смутны и неопределенны, перспективы туманны. Но свободы было больше. Начинала просыпаться критическая мысль, постепенно забывался страх. Можно было ожидать, что общество пойдет по пути демократизации.
Для Хрущева же лично это были годы драматической борьбы за власть, добиваясь которой он последовательно вступал в конфликт с разными ответвлениями породившей его среды. Социально-исторические и психологические причины его мероприятий были лишь подтекстом. О них он не думал, занятый практикой своего становления. Последствий своих действий не предвидел. Его действия диктовались реальной логикой борьбы за власть.
Власть является высшей и священной категорией новой бюрократии. Не обладая ни духовным превосходством, ни правом рождения, ни правом частной собственности, ни историческими заслугами – единственным средством к самосохранению она признает власть. Власть представляется ей порой обожествленной, абсолютизированной категорией. Она паразитирует на власти.
В борьбе за власть «коллегия», сложившаяся над гробом Сталина по принципу непрочного равновесия и взаимного недоверия, сперва нанесла удар силам, способным в тот момент серьезно претендовать на руководство государством. Ряд трагикомических перипетий привел к аресту Берии, к его расстрелу. За этим последовало несколько процессов, где осуждению и уничтожению подверглось окружение Берии. Кадры ГБ были в значительной мере новыми партийными кадрами, власть ГБ урезана.
Реальная логика борьбы привела к ослаблению и развенчиванию одного из главных рычагов власти – тайной полиции.
Следующим этапом борьбы Хрущева было сокрушение «коллегии». Здесь Хрущев проявил колоссальную выдержку, показал невероятную изворотливость и знание движущих пружин аппарата. Ему удалось представить «фракционеров» врагами нового класса, сторонниками устаревшего метода управления.
Важной чертой переворота, устранившего Берию, было участие в нем армии. Но перспектива военной диктатуры не улыбалась «коллегии» и, возможно, всей партийной верхушке.
Жуков был смещен, некоторые привилегии армии отменены.
Логика борьбы за власть привела к ослаблению позиций и армии, второго важнейшего рычага власти.
Но пока за Хрущевым шел партийный аппарат, чувствовавший себя уверенней при ослаблении ГБ и армии, его дело было перспективным. При помощи аппарата он устранил «коллегию».
XX съезд означал политическую победу Хрущева. Пафос ретроспективной критики должен был стать частью восхваления политики победителя. Хрущев отмежевывался от Сталина, чтобы подорвать позиции его соратников. Их часы были сочтены. Направив все силы на завоевание власти, Хрущев упустил рычаги управления процессом идейного развития общества. Утвердившись у власти, он убедился, что его безошибочные ходы в матче с Берией и с «коллегией» привели к непредвиденным результатам внутри страны и внутри стран-сателлитов. (Берлинские события, познанские события, восстание в Венгрии, события в Чехословакии.) Хрущев сразу же встал перед необходимостью подавить движение стран-сателлитов и завинтить гайки внутри страны.
Поэзия Пастернака и его выдающийся талант были высоко ценимы интеллигенцией и литературными кругами три десятилетия. Но истинно гражданское значение его творчество приобрело лишь в новую эпоху – в середине 50-х годов. Проделав обычный для его поколения путь увлечений и разочарований, страхов и надежд, он в 20-е годы числился в футуристической группе «Центрифуга», прикасался к «Лефу», ходил в попутчиках и наконец был признан соцреалистом. Однако все колебания его творческого компаса всегда выправлялись некоей магнитной аномалией. В конечном счете стрелка оказывалась направленной в одну сторону. Аномалия прощалась Пастернаку, потому что он не был поэтом политического склада и порой искренно пытался постичь ситуацию с официальных позиций. Все же магнитная аномалия сказывалась и тут. Касаясь революционной темы, он описывал 905-й год. Выбирая героя, воспел лейтенанта Шмидта, интеллигента, идеалиста, человека чести и жертвенности. Понимание революции у Пастернака близко блоковскому. Он, как и Блок, ценит в революции прежде всего крушение норм быта, состояние освобожденности от государства и общества, погруженность в стихию, высокое одиночество, когда поведение управляется лишь внутренними нравственными стимулами. Пастернак рассматривает революцию как идеальное условие для религиозного самопознания, ему, как никому, понятен Христос, шествующий перед Двенадцатью в белом венчике из роз. Для него это та же священная и исполненная священного смысла аллегория, что и для Блока. В «Докторе Живаго», которому суждено было сыграть столь важную роль в нашем литературном движении, излагается эта концепция революции. Революция как нравственное состояние нации, а не как борьба за корыстные интересы класса.
Постановка нравственных критериев в качестве главных в истории была чрезвычайно важна для нынешнего времени, когда, утратив критерии социальные, нравственные и политические, запутавшись в критериях экономических, общество, естественно, обратилось к нравственным, ища ориентиров в лесу релятивистских понятий.
Пастернаковское понимание революции, при всем сходстве с блоковским, имеет ряд существенных отличий. У Блока оно формировалось под влиянием стихии, «музыки» и было связано с поэтическим ощущением соборности. В его понимании были кратковременный восторг, соединение со свободой и страшной стихией, некое приятие дикости революции, способность залюбоваться ею. Блоковская революция была стихия и любовь. Чуть стихия упорядочилась в военное государство – любовь угасла. И Блок умер.
Пастернаковская идея формировалась в пору государства. Тем удивительнее, что в свои поздние годы он видит революцию не с точки зрения ее результатов, а с точки зрения ее нравственных перспектив. Он не обманывается соборным духом, не увлекается игрой дикости. Он осуждает дикость. И вместе с тем утверждает веру в то, что нравственный идеал сильнее, победительней диких и жестоких стихий, которые неминуемо сойдутся в государство – он это знает по опыту, – что нравственные начала независимы и неодолимы, что они есть подлинная цель человеческого бытия и главное средство в достижении свободы. Эта вот концепция «Доктора Живаго» и стихов позднего Пастернака является цельной, высокоценной и перспективной для развития общественного сознания нашего времени. Это концепция оптимистическая.
Вот почему поздний Пастернак стал одной из важнейших фигур в идейном движении. А вовсе не потому, что волею случайных обстоятельств имя его стало известно всему миру.
Впрочем, история с присуждением Нобелевской премии тоже сыграла свою роль в размежевании сил литературных. Она явилась тем оселком, на котором проверялось идейное оружие разных групп в литературном движении. Эта бессмысленная история имела свой смысл хотя бы потому, что в ходе ее пропагандировалось творчество Пастернака. Бесспорно, она стоила многих переживаний и нелегко далась самому поэту. Возможно, что гнусная возня вокруг Нобелевской премии, поток брани и угроз, обрушившийся на поэта, нервный реагаж его окружения и привычная еще подверженность физическому страху сыграли свою роковую роль в последние годы жизни Пастернака, провоцировали и стимулировали его смертельную болезнь. Он вынужден был отречься от премии, но это было отречение Галилея. Слабое тело отрекалось от духа, потому что духу телесная оболочка была уже не нужна. Дело было сделано. Идея приобрела самостоятельное существование.
Еще не настало время жертвенности. Уже настало время нравственных проблем. Общество простило Пастернаку его отречение, оно не простило никому отречения от Пастернака.
Знаменитое собрание в Союзе писателей, где Пастернак был исключен из членов, было одновременно самоосуждением целой группы писателей. Естественными казались выступления обскуранта Софронова или официального либерала С. С. Смирнова, уже выделившихся из смутной толпы «взыскующих града». Выступления официальных радикалов (Слуцкий, Мартынов) оказались неожиданными и показались непростительными. Объективно они не так виноваты, как это кажется. Люди схемы, несколько отличающейся от официальной, но тем не менее – люди схемы, они в своей расстановке сил современной литературы, в ее субординационных реестрах не нашли места для Пастернака и Ахматовой.
А намерения у них были наилучшие. Пастернак и Ахматова казались вчерашним днем литературы. Ренессанс сулил будущее. Стоило отказаться от прошлого во имя будущего. Нужно было не «пугать» власти радикализмом, а искать примирительных позиций, не размежевываться, а объединяться во имя спасения нового ренессанса. Идея эта жалкая, многократно опробованная всеми видами конформистов и всегда приводившая литературу к потере нравственного авторитета и к новым зажимам.
Чем меньше противятся – тем беззастенчивей насилие. Горький исторический опыт просто и ясно отвечает на все доводы конформизма. Слуцкий и Мартынов, наверно, поняли, какую ошибку совершили они, спасая свой ренессанс. Но было уже поздно. Их позиция отодвинула их на третий план литературно-общественного процесса.
Похороны Пастернака были первой торжественной демонстрацией демократических литературных сил. Тысячное шествие от его дома до деревенского кладбища, речи, стихи, прочитанные на его могиле, были заслуженной данью великому поэту и подлинной оценкой его значения. Эти похороны показали, что много воды утекло с марта 1953 года, что в обществе уже начали накапливаться новые гражданские понятия и что есть ситуации, когда эти понятия сильнее привычного страха.
С трудом добившись власти, Хрущев не знал, что с ней делать. У него не было собственной экономической и политической программы. Не было идеологии. Хрущевизм состоял из нескольких десятков стертых политических формул, экономической маниловщины, романтических идей о «возврате» и преклонения перед формами власти. Ставленник правящей среды, пытавшийся с наилучшими намерениями стать над классами общества, он не мог выдвинуть содержательной программы. Хрущевизм был бессодержателен с точки зрения всех социальных слоев. Идеализм, романтизм Хрущева привели его к падению, ибо происходило резкое размежевание реальных интересов. Новый класс с циническим реализмом хотел сформулировать свои права и претензии. С его точки зрения Хрущев не мог выполнять свою социальную функцию. С точки зрения «оппозиции» его время было благоприятным, хотя бессодержательность хрущевизма отразилась на идейной практике целого поколения в искусстве и идеологии.
Все же стихийный процесс развития общественных идей был на время выпущен из рук, вырвался из-под строгого контроля и, несмотря на неоднократные попытки Хрущева обуздать его, продолжался.
Бессодержательность хрущевизма как официальной идеологии была обусловлена историческими причинами. По существу принудительное единство сталинских официальных идей рухнуло. Должны были родиться новые идеи, отвечающие реальным интересам разных общественных групп. Они и рождались – как справа, так и слева. Они рождались более четкими, реальными и откровенными, чем когда-либо.
Хрущев заполнял паузу. Он был наседкой, сидящей на яйцах неведомых птиц. Как только вылупились птенцы, они прежде всего начали клевать наседку. Пока же на поверхности общественной жизни шла борьба за формы и против форм. Формы всегда содержательны, но есть периоды в политической истории и в истории искусства, когда форма как бы отделяется от существа, от сути и приобретает некое абсолютное значение. Происходит фетишизация формы. И следовательно, неспособность постичь ее значение.
Это бывает именно в переходные периоды, когда одно содержание уже обветшало и сохраняется лишь в формах, а другое еще не созрело и выдвигает еще не контрсодержание, а контрформу.
Административный метод, единственный, которым пользовался Хрущев, и был «борьбой формы». Реформы Хрущева были формами, а не содержанием. Он управлял лишь формальной стороной развития. Содержание развивалось помимо него и было неуправляемым.
Одним из примеров «борьбы формы» можно назвать организацию совнархозов, которые ничего не дали для решения назревших экономических проблем. Демократизация управления производством оказалась формой, проформой.
В эту пору наиболее поверхностным и, как казалось Хрущеву, не понимавшему подлинного процесса, наиболее опасным для него явлением в искусстве был «бунт формы», начатый новым поколением. По существу, «революционеры формы» были чрезвычайно близки хрущевизму, наиболее полно выражали его суть и исторический смысл. Даже сама их непонятность знаменательна.
Хрущев уже неоднократно отвергал формулы, хорошо выражавшие форму его времени: «оттепель», «искренность». Он не привык к откровенности. По его понятиям, форма, фразеология играла слишком большую роль. Он начал яростно подавлять «бунт формы», придавая ему тем самым некое содержательное значение. «Бунт формы» приобретал содержание, становился элементом общественной борьбы (абстракционизм, музыка, форма одежды).
Не надо думать, что поколение, пришедшее в искусство десять лет тому назад, пришло с готовой тактикой и с готовыми идеями, что деятельность его с самого начала протекала сознательно. Как и для каждого поколения, самооценка и подлинная историческая функция не совпали. Этому поколению нельзя отказать ни в искренности, ни в энергии, ни в таланте, ни в энтузиазме. Оно не пришло с готовыми идеями только потому, что идеи еще не были готовы. Оно толком не знало, какое варево получится из того, что они заварили.
Хрущевизм был политикой переходного времени, евтушенковщина – его искусством.
От значения Евтушенко и его ровесников в современной литературе и самосознании нельзя скептически отмахнуться. Было бы глупо всерьез исследовать эстетику Евтушенко или пытаться изложить его философскую систему. Однако исследование идей и намерений его круга, его влияния на читателей, его вкусов и пристрастий может много дать для понимания физиологии нашего общества предыдущего периода.
Евтушенко – наиболее характерная фигура того времени. Он среднее арифметическое искусства. Он, если угодно, целый тип человека. Если сами по себе Плюшкин или Собакевич не представляют интереса, то в системе общества они представляют первостепенный интерес. То же и Евтушенко. Его можно употреблять как имя условное, как название явления и типа.
Но он существует также и как реальный деятель, и как поэт.
Говорить о нем как о типе легче, ибо он довольно полно представляет явление жизни. А индивидуальные черты его как бы расплываются и не складываются в личность. Видимо, возможен яркий тип, который не является яркой личностью.
Евтушенко – поэт массовый. Он легко возбудим и способен улавливать и запечатлевать в хлестких формулах токи общественного возбуждения, массового настроения, мысли, растворенные в атмосфере. К этому важному свойству присоединяется его артистизм, актерское обаяние и умение передавать свое возбуждение почти любой аудитории.
Он не умеет, а может быть, и не стремится познать истину в целом, ибо истинным ему кажется только его состояние. Но какие-то части истины, проблески в туманах времени доступны и ему. И свои частные прозрения он переживает остро, с заразительной эмоциональностью. Эмоциональность Евтушенко сродни инфантилизму. Он, как дитя, путает причину со следствием. Как дитя, склонен к быстрой смене настроений. Но вместе с тем в действиях и стихах его если и есть испорченность, то нет умысла, нет сознательного стремления совершить зло, свойственного развращенному уму взрослого.
Заразительный стих Евтушенко почти всегда лишен чувства композиции, высшего свойства зрелой поэзии, ибо весь он как характер и как поэт «не готов», не завершен.
Остросовременным делает Евтушенко его «чувство системы» и его принадлежности к ней. Ему кажется, что он принадлежит современности, потому что изображает ее предметный мир, выражает ее конфликты, воплощает ее вкусы. На самом деле он принадлежит всего лишь системе, выражает и отражает ее, ибо не способен постичь истинный смысл современного движения, глубину конфликтов и разнобой вкусов.
Но принадлежа системе, он принадлежит к наименее отмершей ее части, к той части, из которой может отпочковаться нечто другое. Он и Хрущев стоят на разных полюсах системы и, одинаково к ней привязанные, по-разному ее выражают, лишь изредка сходясь, как две крайности. Политический выразитель системы не мог понять поэтического ее выразителя.
Главная черта сходства Хрущева и Евтушенко состоит в том, что оба они романтики. Они оба формулируют ретроспективный идеал (Хрущев – «возврат», Евтушенко – романтику гражданской войны и первых лет революции). Но идеал этот в обоих случаях – отговорка. Роднит их идеалистическое представление о возможности исправить систему и превратить ее (по Хрущеву) в патриархально-административный рай или (по Евтушенко) в салон современного вкуса. Тут-то, в вопросах вкуса, в вопросах формы они не могут понять друг друга.
Как более молодой, Евтушенко стремится не только узнать истину о мире в тех пределах, в каких способен, но и стремится утвердить новые, современные формы жизни, утвердить современный вкус.
Положительные идеи рождаются медленнее и труднее, чем вкусы. И в наше время вкус нового поколения формируется раньше, чем идеи. В некоторые времена вкусы заменяют идеи и, может быть, стимулируют их рождение.
Евтушенко, не сформулировав нового содержания, явился одним из самых эмоциональных проповедников нового вкуса и много сделал для его утверждения. Как проповедник нового вкуса он привлек к себе внимание и любовь целого поколения молодежи, стал его знаменем и чем-то вроде идеолога.
Хрущев всерьез принял борьбу вкусов за борьбу идей. Стоит вспомнить смехотворную кампанию борьбы с узкими брюками и пестрыми рубахами, которыми всерьез занималась наша идеологическая пропаганда. Пропаганда дискредитированного в глазах общества официального вкуса вызвала ответную реакцию. Молодежь стала бороться за свой вкус.
Начался «бунт формы», одним из лидеров которого стал Евтушенко. Спор шел о формах. Хрущев полагал, что следует вернуть старые формы, он с трудом вспоминал обрывки доморощенных стихов, застрявших в его памяти. Молодые, находясь еще в самом начале пробуждения сознания, едва оправившись от тяжести сброшенных предрассудков, хотели хотя бы новых форм жизни и искусства, чтобы хотя бы физически ощутить новую общественную атмосферу. Хрущев не понял, что новые формы могут прикрыть внутреннюю бессодержательность хрущевизма. Он объявил идейную борьбу новому поколению.
Знаменитая статья Лифшица о модернизме была запоздалым обоснованием хрущевского взгляда на искусство. В ней слишком жестоко и зло разоблачались недостатки «позиции молодых». Статья была плохо понята и яростно, хотя и дурно, раскритикована либералами.
Евтушенко сумел вынести борьбу на эстраду, привлечь к поэзии массовый интерес молодежи. В этом его гражданское значение. Он искренно верил, что борется со злом. Он никогда не защищал дурное, он лишь останавливался на полдороге. Но и полпути к правде – немалая дистанция в наше время.
Евтушенко и его поколение сделали в целом огромное дело. Они вернули поэзии значение общественного явления. Сотни тысяч людей стали читать стихи.
Правда, «молодые» не сумели научить народ читать хорошие стихи. Вслед за Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной на эстраду вышли Асадов, Фирсов и иже с ними. Но этот факт не должен служить к умалению заслуг Евтушенко. Здесь сыграла роль незрелость общества и естественная пестрота тенденций. Евтушенко привлек внимание к стихам вообще, ибо не являлся представителем идеи, но лишь представителем вкуса. Он давал расплывчатые нравственно-политические оценки, а не утверждал определенный круг воззрений. Футуристы, придя на эстраду, сбрасывали с парохода современности все, что не соответствовало их вкусам и взглядам. Евтушенковцы, того не желая, прокладывали сходни на пароход современности всей портовой швали.
Сам Евтушенко безусловно талантливый поэт. Недостатки его таланта выражены в недостатках его жизненной позиции. Он талант эклектический. Его учителя – Мартынов, Слуцкий, Пастернак, отчасти Сельвинский и Кирсанов. От большинства своих учителей он усвоил идею, что черты творческой индивидуальности прежде всего выражаются в форме. Его восприимчивость привела к выработке свежей и чрезвычайно удобной для подражания поэтической интонации, в образовании которой немалую роль сыграли рифма и редкие вариации размеров.
Забравшаяся на его пароход шушера растащила почти весь его поэтический багаж. У Евтушенко больше подражателей, чем у любого поэта после Маяковского и Блока.
В популяризации Евтушенко немалую роль сыграла наша официальная печать. Она порой загоняла этого ортодоксального поэта в самиздат, придавая ему ореол пострадавшего от политических гонений. На самом деле никто меньше не пострадал от этих гонений. Чувство принадлежности к системе всегда выручало Евтушенко. Его необычайное тщеславие снабжено верными датчиками пределов дозволенного.
У читателя же сложился твердый рефлекс принимать все, чего не принимает официальная критика. Критический шум и читательский успех далеко перешагнули границы нашей страны и сделали Евтушенко в глазах Запада первым нашим поэтом и виднейшим идеологом. Каким его увидели – таким он и сделался. Он – друг президентов и сенаторов, идеолог и поэт советской полуфронды.
К Евтушенко трудно предъявлять какие-либо претензии. В период «короткого дыхания» он все же выделяется своей энергией и многократными фактами, приковывавшими внимание к нему.
Он не создал новых идей, сыграл малую роль в складывании нового мировоззрения, но зато он много сделал для создания атмосферы, в которой рождаются идеи, для пропаганды поэтического слова, для выявления чувства единства поколения, для утверждения сознания необратимости процесса политического развития.
Если не по содержанию, то функционально некоторые его произведения сыграли роль в размежевании мнений и сил в нашем обществе. Одним из таких произведений была знаменитая «Автобиография», апология хрущевщины, в очередной раз непонятая и отвергнутая Хрущевым по формальным причинам и потому ставшая антиправительственным документом. Несколько политических выступлений Евтушенко, вроде «Наследников Сталина», «Бабьего Яра», «Памяти Есенина», можно отметить с полным сочувствием к мыслям, в них высказанным. Популярность Евтушенко придала этим стихам значение воззваний.
Эмоциональная оппозиция, которой политические мизантропы приписывают роль современной зубатовщины, никогда не была субъективно ни фальшивой, ни провокационной. Она была исторически органична. В ней был существенный недостаток положительного идеала. Но какая из аморфных общественных групп десять лет тому назад могла выступить с новой программой?
Почти все интеллигентские группы, так же как и все подразделения правящей среды – либералы и радикалы, технократы и русситы, сталинисты и демократы, – по существу, сходились в одном пункте – все они не доверяли народной стихии, боялись новой пугачевщины, справедливо опасаясь, что стихия разрушения обрушится прежде всего на них. По-разному оценивая недостатки современного государства, все эти группы полагали, что они могут быть исправлены методами реформ. Речь шла лишь о том, какие общественные группы и каким способом (диктаториальным или демократическим) могут исправить систему, не разрушая ее. Так или иначе расплывчатые и нереальные идеи совершенствования государства вращались вокруг понятия власти, важнейшей политической категории нашего времени. Ей противостояли еще более расплывчатые понятия нравственной эволюции общества либо понятие личного совершенствования современного толстовства. Общественная практика еще исключала возможность народного движения вне государственной регламентации или вне пугачевщины. Лишь к концу переходного периода начали возникать практические формы поведения, открываться новые формы народного движения.
Современная пугачевщина невозможна прежде всего потому, что изменилась социальная структура народа. Уже не более четверти населения – крестьяне. Крестьянская стихия бесплодна и бесперспективна в смысле конструкции общественного идеала. Да и нет в крестьянстве, быстро урбанизирующемся, социальной энергии для самостоятельного бунта. Возможен бунт еще более бессмысленный – бунт городских люмпенов.
Невозможна и пугачевщина «среднего» слоя, потому что он слишком связан с властью, не способен поставить перед собой самостоятельные социальные цели. Пугачевщина «среднего» слоя – фашизм. Этой стихии инстинктивно боятся представители эмоциональной оппозиции, «бунта формы». Их творчество оттого и является антифашистским, что они более всего опасаются политической самодеятельности среднего слоя. Большинство представителей «бунта формы» во всех видах искусства не стараются быть общедоступными или общепонятыми. В их эстетике есть пункт о необходимости высокой квалификации тех, кто воспринимает искусство. Они обращаются к знатокам. То есть к технократической интеллигенции, утверждая необходимость эстетического воспитания этого слоя в их духе. Они, правда, не утверждают, что искусство существует для избранных. Они приглашают в круг поклонников искусства любое количество людей, но требуют известной «посвященности», знания правил современной художественной игры, требуют (идея технократов!) квалификации от тех, кто судит об искусстве.
Самым ярким представителем этой эстетической идеи является Андрей Вознесенский, вторая после Евтушенко фигура новой поэзии.
«Бунт формы» у Андрея Вознесенского предстает в более чистом виде. Он наименее идеологический из всех молодых поэтов хрущевского времени. Зато он самый резкий утвердитель нового вкуса.
«Бунт формы» не был явлением, исключительно присущим поэзии. Он начался почти одновременно во всех жанрах литературы и в большинстве видов искусства. Скульпторы Неизвестный, Сидур, Лемперт и Силис, художники Васильев, Рабин, Биргер, Андронов, прозаики Аксенов, Гладилин и весь мовизм, композиторы Денисов, Шнитке, режиссеры кино и театра – все они, по-разному талантливые художники, широким фронтом провозглашали «бунт формы». А Вознесенский – самый яркий из них.
Молодежь, разочаровавшись в прошлом, не приобретала надежд на будущее. Оптимизм иссякал уже к порогу 60-х годов. Никто не хотел возвращения к старому, но никто не видел более или менее ясно, какие формы примет жизнь ближайшего будущего. Хотелось демократизации и свободы, неясно было, с чего они начинаются. Не видно было сил, которые будут активно за них бороться. Несмотря на ослабление карающей десницы, несмотря на то, что новое поколение не испытало на себе «повального страха», общественная борьба проявлялась наиболее явно в виде «бунта формы».
Сказывалась, видимо, усталость общества, а скорее всего – скомпрометированность идеи обществ, партий. Молодежь не хотела партий, даже тайных и оппозиционных.
Тайные общества не возникали, или деятельность их была неприметна. Росло ощущение, что возможны иные, новые, современные методы борьбы за права человека. Было правильное ощущение, что борьба за свободу начинается с борьбы за свободу мнений. Мнения же были в основном отрицательные. Современность представала запутанной, мглистой. В этой обстановке подспудного развития, разъединенных поисков пестрым пятном выглядела шумная борьба искусства за свободу «формы»: первый шаг борьбы за свободу мысли.
В этой борьбе Вознесенский играл заметную роль. Хотя имя его повторялось почти так же часто, как имя Евтушенко, круг его подлинных поклонников значительно уже; демократизм Евтушенко и хлесткость его формулировок чужды Вознесенскому. Он вообще тщательно избегает ясности, может быть, зная про себя, что чем он ясней, тем менее интересен. Вознесенский нравится по непонятности. В нем предполагается некий скрытый смысл, зашифрованная мудрость. Евтушенко – поэт признаний, поэт искренности; Вознесенский – поэт заклинаний. Евтушенко – вождь краснокожих, Вознесенский – шаман. Шаманство не существует без фетишизма. Вознесенский фетишизирует предметный мир современности, ее жаргон, ее брань. Он запихивает метафоры и впрягает в строки далековатые предметы – «Фордзон и трепетную лань». Он искусно имитирует экстаз. Это экстаз рациональный. Вознесенский – соглядатай, притворяющийся пьяным. У него броня под пиджаком, он имитирует незащищенность. Одна из его книг называется «Ахиллесово сердце». Наиболее уязвимое у Вознесенского – ум. «Ахиллесов ум». Ибо весь этот экстаз прикрывает банальность мысли. В сущности, это старо – человек, ошеломленный неоновыми огнями современной цивилизации, разрастанием предметов, коктейлями и джазом. Вознесенский смело кидается в это месиво, ибо чувствует, что там безопасно. Он оглушает шумом. Он имитирует власть личности над грохотом цивилизации, имитирует свободу. Когда-то купцы били в ресторанах зеркала, предварительно спросив цену. Вознесенский разбивает строки, ломает грамматику. Это мистификация. Может быть, на самом деле он испуган и оттого пугает? Не следует пугаться цивилизации. Следует бояться дикости. Поэт Алексей Марков страшней, чем робот. Мильон роботов освободит человечество для творчества, культуры, мильон Марковых культуру уничтожат.
Впрочем, под всем этим видимым алогизмом, под всем современным камланием Вознесенского кроется вполне рациональный, до глупого разумный идеал. Вознесенский ценит человека-мастера, специалиста, умельца: Петра I, Рублева, Рубенса, себя. Умелец имеет право на особое положение в обществе. Умельцу общество платит славой или властью за его умение. Умельцы – каста. К ней с гордостью причисляет себя Вознесенский. К ней обращается. Ее мистифицирует трюками. В сущности, эта каста и поклоняется Вознесенскому. Он любимый поэт Дубны. «Умельцы-водородщики» имеют «умельца-стихотворщика».
В этом суть. Но сути обнажаются в ходе истории. Сути, как луковицы, прикрыты многими слоями шелухи. И шелуха эта, вываренная в событиях, придает им свою окраску.
Эпатирующая форма Вознесенского, не будучи официально признана и будучи официально охаяна, тоже стала фактором общественной борьбы за свободу вкусов. Официальная критика против воли строила поэту пьедестал. Он представал антиподом хрущевскому пониманию искусства. Слово «анти» придавало его мирам форму неприятия. Угловатость придавала грушам вид несъедобности. В «анти» оппозиционная молодежь вкладывала свое содержание.
В наше время внешние события – продолжение внутренних. Как бы мы ни хотели нас изолировать – мы часть мирового процесса. Наша уникальность не спасает нас от мировых законов развития, общих для всех наций. Официальная идеология десятилетиями воспитывала в нас убеждение, что наше хозяйство развивается по особым законам, наша политика основана на особых принципах, наша мораль покоится на иных постулатах, наше искусство – на особой эстетике.
Бесспорно, мы страна особая. Бесспорно, есть у нас свои политические традиции. Есть особенности экономики. Есть свои национальные черты психологии. Есть свое искусство. Но от общих законов мирового прогресса мы зависим так же, как Люксембург. Человек, идущий по кювету, движется в ту же сторону, что и шагающий по шоссе. Направление одно. Только силы растрачиваются разные.
Одна из наших исторических особенностей – непомерная затрата сил, безумная расточительность. Может, это потому, что мы огромны, богаты и сил у нас немерено.
Борьбой с космополитизмом хотели уверить народ в особом пути России, в том, что мировой опыт нам не указ, а понятия вредны, что мировой цивилизации не существует.
Сталин, числя себя марксистом, немало внес в идеологию элементов народнических и эсеровских. Его вариант коллективизации был явным использованием идеи социалистических черт деревенской общины с ее круговой порукой и самосудом.
По мере выхолащивания официальной идеологии общество все более сознает свою связь с мировым процессом, свою причастность к мировым идеям. «Бунт формы» с этой точки зрения – инстинктивное стремление юных сил приобщиться к мировому стандарту вкусов, к современным формам жизни. Это своеобразный протест против изоляции, чаадаевщина недорослей. Пусть поверхностное, пусть невежественное, но западничество проникает в огромные слои молодежи. Твист, шейк, узкие брюки, гитара, магнитофон – геральдические знаки этого повсеместного движения. Именно начинающееся осознание себя частью мирового процесса является причиной того, что история переходного периода разделяется не только по внутренним, но и по внешним событиям: смерть Сталина, венгерские события, падение Хрущева, оккупация Чехословакии. Все стороны этого четырехугольника обусловлены друг другом и взаимозависимы.
Эта роковая зависимость не сразу была осознана и понята даже наиболее чуткой к нравственности частью общества.
Оппозиция только на самом последнем этапе выступила с критикой внешней политики государства, связывая ее с явлениями внутренней жизни. Этот шаг еще не был сделан во время польских и венгерских событий 56—57-го годов.
Можно объяснить позицию левой части общества по отношению к этим событиям недостаточной зрелостью политической мысли, отсутствием единства, распыленностью сил. Но вспоминая конец 56-го – начало 57-го года, нельзя не сказать, что наша интеллигенция упустила благоприятный момент, не воспользовалась превосходной ситуацией для действия, для закрепления хотя бы того, что достигнуто было в период либерализации.
Именно тогда наблюдалось наибольшее расшатывание официальной идеологии, слабость органов подавления, острая борьба за власть в верхах, возможность реальной критики. Пределы свободы были еще не известны обществу и не определены властью. Интеллигенция не попыталась эмпирически определить эти пределы. Интеллектуальная часть общества беспечно проиграла и проморгала удобный момент для зачинания массового движения. Боясь «вспугнуть» официальную либерализацию, по существу дали возможность сплотиться ядру нового класса и нанести сокрушительные удары вовне и внутри. Ни один голос не поднялся в защиту Венгрии и Польши. Это пятно долго не смоется с нашей совести, о Венгрии и Польше промолчала и наша литература.
Наша государственная доктрина все еще называется марксизмом. Так именуется мировоззрение, давно уже переставшее быть диалектическим. Только отсутствие интереса к гносеологии – причина того, что эта верхняя часть философии осталась сравнительно нетронутой со времен Маркса и Энгельса. Недооценка духовных потребностей общества привела к тому, что новейшие достижения наук никак не связаны с общей теорией познания, не привели к попыткам ее официального обновления. Вся «практическая» часть марксизма давно уже повергнута и много раз переиначена на потребу государственной власти. В экономических проблемах Сталин давал произвольные толкования объективных законов экономики, сверху предписывая истории свои законы. В области науки произвол приводил к трагическим курьезам вроде отмены генетики, теории произвольного самозарождения или непризнанию кибернетики.
Практические потребности заставили отказаться от этих крайностей. Но у «чистой» науки нет никаких гарантий, что подобное не может повториться. Сталинская доктрина полностью отменила социологию, социальную психологию и статистику. В частности, мы ничего не знаем о структуре общества, в котором живем.
Эстетика фактически заменена постановлениями и высказываниями. Категория партийности означала полное подчинение художника очередной практической задаче. Народность означала ориентацию искусства на уровень посредственности.
Особенно тяжелый ущерб самосознанию нации принесла этическая догма Сталина. Признание классовости морали и относительности моральных норм было оправданием политической безнравственности, лагерей, взаимной слежки, убийства.
Естественно, что с началом критики сталинизма сверху появились попытки критики его снизу, с позиций марксизма. Появились попытки докопаться до истинного смысла марксизма и сравнить этот смысл с системой наличной фразеологии. Надо сказать, что редко встречается в истории подобное расхождение официальной фразеологии с идеологическими понятиями. Православие, самодержавие, народность весьма точно выражали систему взглядов правящего слоя дореволюционной России. Наши официальные формулы давно уже ничего не выражают. Их не мешало бы заменить какой-нибудь триадой типа: партия, нация, субординация. Марксизм настолько заменился системой фразеологии, что не исключена возможность, что какой-нибудь лихой генерал, дорвавшись до власти, отменит его приказом № 1. И все же марксизм имеет своих сторонников и, надо полагать, немалое количество. Среди них есть сильные умы, люди, искренно верящие в возможность возрождения популярности марксизма и в плодотворность диалектики.
К таким сторонникам марксизма принадлежала группа Краснопевцева.
После смерти Сталина несколько студентов и аспирантов Московского университета начали самостоятельное и непредубежденное изучение трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Выводы, которые делали эти молодые энтузиасты, резко не совпадали, да и не могли совпасть с официальными толкованиями.
Краснопевцев и его группа надеялись пропагандировать подлинный марксизм среди молодежи и тем самым создавать новые кадры руководящих работников государства, способных исправить ошибки и заблуждения и добиться расцвета общества, согласно предсказаниям Маркса.
Политическая программа Краснопевцева не предполагала смены основ власти, а лишь кадровую смену государственного руководства. Себе группа Краснопевцева отводила, видимо, значительную роль в этом руководстве.
Идея «внедрения», несмотря на всю ее бесплодность, вызвала решительные действия госбезопасности. В отличие от большинства современных стран, у нас государственными преступниками становятся люди, не посягающие на структуру власти, на ее основы, а критикующие всего лишь персональных носителей власти.
Группа Краснопевцева была арестована и судима. Члены ее получили разные сроки лагерного заключения. Процесс Краснопевцева не имел широкого отзвука в обществе, не вызвал в нем новых настроений. Кружковый вид неомарксизма не оказался перспективным, ибо слишком прямо ставил вопрос о власти.
Однако это не означает, что пересмотр марксизма с целью его обновления не ведется вовсе. Марксизм имеет своих искренних сторонников среди философов, ученых, партийных функционеров новой формации. Его сторонники в «молодом аппарате» связаны с верхами технической интеллигенции и являются наиболее живой частью партийно-государственного аппарата.
В этом плане нельзя считать марксизм окончательно и бесповоротно утратившим свои позиции. Новым в положении марксизма является следующее. Во-первых, намечается его отделение от системы официальной фразеологии. Одна из статей Маркса была запрещена цензурой в «Новом мире». Ряд его произведений у нас вообще не публикуются, в частности известные «Конспекты русской истории». Во-вторых, марксизм перестал быть единственным активно разрабатываемым учением, в наше время неомарксизм – лишь одно из течений мысли и по реальному счету – не господствующее, хотя, может быть, и наиболее сформулированное.
После ряда судебных процессов, связанных с борьбой за власть внутри правящего слоя, процесс Краснопевцева был первым, где судились идеи.
В этом его историческое значение, он, видимо, будет еще подробно изучен, и тогда смысл и значение дела Краснопевцева и все психологические особенности его личности станут более ясными и обретут свое место в современной истории.
«Бунт формы» был самым заметным, самым массовым, но отнюдь не единственным течением в искусстве. Значение его в формировании идей скорее косвенное, чем прямое. С ходом времени картина, вероятно, предстанет совсем иной, ибо большинство молодых – рыцари на час. С ростом вкуса и углублением ума общество с удивлением убедится, что от многих весьма популярных художников не остается именно художества.
В наше время «бунт формы», как явление срединное, компромиссное, наиболее удобен для отсчета влево и вправо, вверх и вниз…
Предпоследний гений
Ранние влюбленности – Брюсов, Северянин, Есенин. Первая любовь – Пастернак. Лет семнадцати влюбился в него и года два бредил только его стихами. Однотомник с портретом Яр-Кравченко – до сих пор помню особое чувство к этой книге – читаный-перечитаный, вытверженный на память от первой до последней строки.
Образцом поэтической прозы казалась «Охранная грамота».
Эренбург писал когда-то: «Пастернак – изумленное О! перед открывшимся миром».
Пастернак на том уровне нашего понимания учил приятию мира. А мы тогда жадно искали доказательств приемлемости этого мира, возможности честно прожить в нем.
Натура Пастернака столь ярко проявляется в его поэзии, устройство его зрения, слуха, осязания столь ощутимо в их непосредственной полноценности – а это значит в радости, – что трагическое содержание его поэзии доходит позже. Особенно в раннем Пастернаке.
В довоенную пору мы скорее любили поэтическую натуру Пастернака, чем понимали его поэзию.
37-й год, задавив все виды политического инакомыслия, не мог все же добиться унификации в поэзии. Это произошло позже, в не менее страшные послевоенные годы жизни Сталина, после того, как поэзия приучилась к строевому шагу военной службы.
Пастернак был дозволен свыше, хоть порой и критикуем за «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Его ласково называли «гениальный дачник». Что ж, все-таки – гениальный.
На выпускных экзаменах в школе наш учитель словесности Сергей Андреевич Смирнов, чтобы погордиться перед присутствующим начальством, специально задал мне дополнительный вопрос о творчестве Пастернака.
В ИФЛИ знание Пастернака было обязательным признаком интеллигентности. Помню, как издевались мы над маленьким и курчавым, как овечка, Симой Г., утверждавшим, что Некрасов выше Пастернака. Я специально сочинил стихи под Некрасова, и мы долго потешались, слушая, как расхваливает их Сима Г. На демонстрациях в дни революционных праздников колонна ифлийцев дружно скандировала стихи Пастернака.
В ИФЛИ же, однако, я стал несколько остывать от первой влюбленности. Отчасти потому, что увлекся Хлебниковым; отчасти же ввиду расхождения с кругом ифлийских «пастернакианцев».
Кажется, до войны я Пастернака не слышал, а видел один раз.
Мы со Слуцким ожидали в приемной главного редактора Гослитиздата О. Резника. Может быть, так это освещено в моей памяти: свет щедро падал из окна, и вдруг отворилась дверь кабинета, и в полосу света вступил Пастернак. Мы сразу узнали его и смотрели во все глаза. Я не успел разглядеть женщину, которая была с ним и вся к нему устремлена, оттого показалась красивой и молодой.
– Знаете, кто это, – спросил Резник, впуская нас в кабинет. – Это Цветаева.
Ее больше мне не довелось увидеть…
…Во время войны я мало думал о Пастернаке и о поэзии вообще. Но отношение к нему, может быть, после вечера в Колонном зале, вылилось в стихотворение, где Пастернака я именовал «марбургским девятиклассником» и пенял на то, что он не приемлет, дескать, простого деления мира «на белых и на красных» и того, что «злоба дня священной стала злобой». И, гордясь своими военными трудами, утверждал, что видел лед, пулеметы, трупы, но не слышал его «музыки во льду». «Так где же ваша музыка во льду?» – задиристо спрашивал я. И не мог я понять тогда, о какой музыке и о каком льде говорил Пастернак. О том самом льде, о вечном полюсе Тютчева, который растопить не хватит нашей крови скудной. А Пастернак писал о музыке во льду. И значит, о том, что не скудна кровь. Он говорил про целую среду:
Я говорю про всю среду, С которой я имел в виду Сойти со сцены, и сойду. Здесь места нет стыду.Он говорил о музыке среды. И счастлив поэт, который может воскликнуть о своей среде: «Мы были музыкой во льду».
Есть ли сейчас та среда, от имени которой можно сказать: «Мы – музыка во льду»?
Я ничего этого тогда не понимал и предложил стихи Всеволоду Вишневскому в журнал «Знамя». Стихи тогда, сразу после войны, к счастью, не были напечатаны.
После постановления о ленинградцах Вишневский позвонил мне и предложил стихи опубликовать.
– Теперь поздно, – сказал я ему.
– Как знаете, – ответил он и не стал уговаривать. Мне показалось, что он доволен.
В начале зимы 1946 года я еще раз слушал Пастернака в битком набитом зале Политехнического музея, где со всех сторон подсказывали строчки, когда он кокетливо их забывал.
Кажется, только в России поэты умеют читать стихи с эстрады. Пастернак в черном, похожий на музыканта, распевал стихи всей носоглоткой. Чтение его было изумительно. Вперед выдвинутые губы полно и скульптурно обрисовывали звук. И происходила редчайшая зримость звучания пастернаковского стиха. Так бы, наверное, читали стихи гуигнгнмы, изысканные кони свифтовского «Гулливера».
Он и говорил так же. Мне довелось несколько раз прислушиваться к его речи в доме Ивановых, его соседей по переделкинской даче. Я дружил с сыном Всеволода Иванова Комой – Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Там я и познакомился с Пастернаком и говорил с ним о незначащем, не вызвав его интереса, хотя и удостоившись однажды необязательного приглашения: да, надо бы встретиться, поговорить.
Пастернак, я знаю, общался с некоторыми поэтами. Но учеников не держал. Один Андрей Вознесенский ко мне пришел года за два до славы, рекомендуясь учеником Пастернака. Мы у него учились заочно.
Речь Пастернака шла каким-то причудливым течением. Передать можно только отдаленный ее смысл.
Он медленно старел и за шестьдесят сохранял без всякой деформации характерные черты своего удивительного облика. Я видел его последний раз в феврале 60-го года, за полгода до смерти, и он был так же моложав, подтянут и красив своей пастернаковой красотой, только, пожалуй, скорее утомился и ушел, извинившись именно утомлением.
Поздние стихи и особенно стихи из «Доктора Живаго» вновь пробудили мою безоговорочную любовь к этому замечательному поэту.
«Доктор Живаго» в ту пору не был понят ни читателями, ни властью. Нобелевская премия и вся ушлая возня вокруг нее, может быть, ускорившая смерть Пастернака, сбила и затемнила истинный смысл романа. Эта книга привлекла внимание именно шумихой, вокруг нее поднятой. И тогда, помню, мало кому понравилась. Пастернака упрекали за бледность образа героини и за язык народных персонажей, который, действительно, не просторечие, а представление о просторечии, почерпнутое не из разговоров народа между собой, а из бесед интеллигента с дворником. Хвалили пейзажи, действительно великолепные, как вставные стихи. Хвалили и стихи.
Мы тогда мыслили о нравственности на уровне политики. И потому романы Солженицына были ближе и оттеснили замечательный роман Пастернака.
Он предвосхитил понимание нравственности на уровне исторических категорий, он историчен в лучшем смысле этого слова, ибо представляет историю живым и конкретным проживанием времени, дарованного нам судьбой. В нем рассуждается не о том, что было бы, если бы ничего не было, а о необходимости понять свое время. И, не устраивая суда над ним (кто имеет на это право!), жить достойно и полноценно, то есть быть «музыкой во льду».
Это тема нашего века. Тема, порожденная Блоком, – интеллигенция и революция. И Пастернак подходит к ней по-блоковски, но развивает на основе другого характера, возраста и исторического опыта. Разочаровался ли Блок именно в революции, как любят это доказывать антиреволюционисты, то есть волюнтаристы заднего ума? Блок просто понял, что революция окончилась и настала пора власти, всегда ужасной в России, всегда более ужасной, чем в ее разбушевавшейся русской стихии. Блок воспринял революцию как падение всех государственных культов. И его загадочный Христос в белом венчике из роз – Христос не евангельский, не мистический, не с торжественных соборных фресок, а домашний, из дворницкой, с бумажными розами, гонимый волной потопа, но не тонущий, детский, слабый, но непотопляемостью внушающий надежду и веру, что человека среди уличного одичания спасает домашнее, детское воспоминание о нравственности.
Христос в «Двенадцати» не только странен, но и нелеп, как рождественская открытка на ночном дозоре. Как странен и нелеп сам Блок у красногвардейского костра. Между тем, этот образ – необходимая часть поэмы. В нем выражено блоковское понимание нравственной веры как домашнего, интимного, исконного. Христос Блока, несмотря на надвьюжную поступь, не жилец на этом свете. Блок, вдохнувший воздух революции, умер не оттого, что разочаровался, а оттого, что иссяк. Он умер бы, даже если бы был поселен в 19-м году в Виндзорском замке.
То же интимное, домашнее понимание нравственной веры в «Докторе Живаго» Пастернака. Но у него ангелы шли в гуще толпы, не отличаясь от толпы. У Пастернака 17, 18, 19-х годов – юное дыхание. Он дышит воздухом революции не для того, чтобы задохнуться, а для того, чтобы продышаться и продолжаться, чтобы стать «музыкой во льду».
Разница между Блоком и Пастернаком не в принципах, а в судьбе. Они оба понимают, что нравственная вера дается средой, воспитанием, а не приобретается опытом. То, что Пастернак поздно крестился, не имеет никакого значения. Его среда дала ему христианское понимание нравственности. Чем позже приобретается вера, тем меньше она имеет цены. Правда, никогда не поздно обновиться, очиститься. Но ядро, нутро формируется вместе с натурой. Приобрести это нельзя.
<О Мартынове>
Первая весть о Мартынове – году, наверное, в 1939-м. До нашей компании дошли его поэмы. Понравились, запали в память. Знали, что он где-то в Сибири. И оттого, может быть, какая-то была в нем отдаленность, непринадлежность к определенному поэтическому поколению.
Потом – война. О нем не вспоминалось.
А после войны оказалось, что он в Москве. Но тоже в отдалении. То ли пьет, то ли бирюком сидит, стихи пишет.
Появился «Эрцинский лес», в нем «Царь природы». Тоже нравилось. Известность его как-то медленно, но росла.
Познакомился с ним в самом начале 50-х годов, до начала большой славы. Мои переводы заметила Агнесса Кун и позвала переводить венгров. У Гидашей впервые и увидел Леонида Николаевича.
Рыжеватый, лицо крупной лепки. Но словно скульптору не понравилась работа и он ее не довел до отделки. Голос глуховатый. Говорит прерывисто. Странный. К Гидашам он тогда ходил чуть не каждый день. И, казалось мне, влюблен был в Агнессу. Я его заставал там каждый раз, как приходил.
Я Агнессе сказал:
– Да Мартынов же в вас влюблен.
Она отмахнулась:
– Да ну вас.
Но из стола вынула «Первый снег».
Но позвонил он с площади: «Ты спишь?» – «Нет, я не сплю». — «Не спишь? А что ты делаешь?» Ответила: «Люблю».Строфа эта всегда трогает. А стихотворение – наверное, самое «открытое» и подлинно лирическое стихотворение Мартынова.
По какому-то переводческому делу впервые пришел к нему. Жил он на окраинной 11-й Сокольнической в ветхом деревянном домишке. Помню маленькие комнатки, переполненные книгами. Жена Нина Анатольевна. Милая, с добрым правильным лицом, с небольшим оканьем в речи. Старушка – мать Нины Анатольевны, очень дряхлая. И огромный холеный кот.
Помню еще, что чай пили. А разговоров не запомнил.
Заметил чудачество. Не любит, когда при нем зажигают спички. Достает зажигалку и дает прикурить.
Это относилось к какому-то из его медицинских воззрений, вроде того, что от серы бывает рак. О здоровье своем он тщательно заботился. Боялся заразы. Ел по особой системе. Спиртного в рот не брал (говорили, впрочем, что был у него целый период жизни запойный). Если видел, что собеседник простужен, тут же его покидал.
С заботой о здоровье, видимо, связан интерес Мартынова к погоде. «Космизм» этого рода заметен и в его стихах. Он читал труды Чижевского о влиянии солнечного излучения на жизнь человека. Оттого не любил солнечных вспышек. Кажется, собирал прогнозы погоды.
Интерес к камням. В доме его множество было камней. Он собирал не ценные и редкие камни, как коктебельские любители, а камни обыкновенные, но причудливой формы. В природе искал прообраз левого искусства.
Поначалу казалось мне, что он одет дурно и небрежно. Именно такая одежда подходила к его необычному угрюмоватому облику. Но оказалось, что он следит за модой и носит брюки по ширине последней моды. И все же франтом его не назовешь, ибо ничего в нем не было лощеного и образ подавлял одежду.
Переводы Мартынова высоко ценила Агнесса. Она ставила мне в образец и его владение стихом, и его умение работать.
Первые варианты перевода он писал на полях подстрочника, карандашом. Многочисленные замечания Агнессы переносил кротко, возражал редко. Венгров, когда создавался Петефи и первая антология, переводил весь цвет тогдашней поэзии – Пастернак, Тихонов. У Гидашей считалось, что лучше всех переводит Мартынов.
Переводы Мартынова многие хороши. Но не чета все же пастернаковским. Взять хотя бы «Ревность» Петефи, переведенную Пастернаком.
Оттуда ли, с той поры и с того поприща, началось соперничество Мартынова с Пастернаком. Он явно ревновал к его славе.
Соперничество было одностороннее. Пастернак его не замечал.
Жизнь его, мне кажется, опутана была множеством страхов. Боялся фрондеров, вирусов, протуберанцев, врагов. Но самым главным был страх смерти, небытия. От него причудливо разрастались и другие страхи.
Отсюда у несуетного, в общем, Мартынова любовь к славе, к ее внешним проявлениям – к наградам, премиям, газетным статьям. Это были как бы знаки существования, ими мостилась дорога в бессмертие. Ибо, как у истинного поэта, путались в нем понятия о бессмертии физическом и о бессмертии стиха.
В Венгрии, где мы бывали вместе, рано утром покупал все газеты и выискивал в непонятном тексте свое имя. А отыскав, вырезывал статью и хранил. Из-за этой привычки (как рассказывал Слуцкий) в Италии с ним поссорился Твардовский. А. Т. досадовал, что о нем пишут мало, больше о Мартынове и Заболоцком.
С Мартыновым я разговаривал много раз – у Гидашей, во время поездок в Венгрию, у него дома. Говорили о поэзии, об истории. Историю он хорошо знал, порой знания его были оригинальны и неожиданны.
А разговоры о поэзии были «вообще», о категориях. Не помню ни одной оценки современного поэта, ни одного пристрастия. Кажется, нравился ему Вознесенский за «новизну». И уж определенно не нравилась Ахматова за «старомодность».
В середине 50-х годов имя Мартынова все чаще стало поминаться в статьях о поэзии, интеллигенция признала его своим поэтом. Владимир Огнев, тоже тогда модный, поставил его номером первым в списке поэтов «позднего реабилитанса».
У всех на устах были мартыновский «След», «Вода благоволила литься», «Богатый нищий ест мороженое».
Первоначально заключительные строки «Нищего» звучали так:
Пусть жрет. Пусть сдохнет. Мы враги.Мало кто заметил, что это басни. И в том оригинальность этих басен и новизна Мартынова, что написаны они не по-басенному, а как лирические стихотворения.
Мартынов оказался на уровне внутренних требований тогдашнего момента. Хотелось поэта не утилитарного, не казенного, не банального, не рутинного. Всем этим «не» соответствовал Мартынов. Его слово звучало свежо. Мысль казалась глубокой. Было время первых размышлений и первых переоценок. Пожалуй, тогда не был бы услышан поэт более глубокий и дальше прозревающий. Хотелось отдыха и иллюзий. Поэзия Мартынова питала иллюзию о разумном устройстве мира и надежду, что все к лучшему в этом лучшем из миров. И действительно, все как будто шло к лучшему.
Среднее поколение, прошедшее войну и так и не отдохнувшее от нее в послевоенное восьмилетие сталинизма, искало отдохновения в несуетных, но и не жгучих формулах Мартынова. Еще не были расчленены мнения, не выросли они и не столкнулись. Энергия молодого поколения еще не сконцентрировалась и не вырвалась наружу.
До истории с «Доктором Живаго» оставалось несколько лет.
Тогда, конечно, никто не мог подозревать, что все в нашей литературе движется к этой истории. Не подозревают и сейчас, что она была концом короткого царствования Мартынова в умах и вкусах.
Пастернак впервые в жизни совершил поступок. И поступок этот оказался новаторским, достойным его гения. Поведение Пастернака еще соответствовало старым нашим нормам. Но поступок был началом нового поведения литератора в нашей стране.
Здесь и окончилось одностороннее соперничество Мартынова с Пастернаком. Мартынов пошел под склон.
«Лукоморье» вышло в 1945 году. Я купил его много позже. Значит, лежало на полках.
Мартынов десять лет совершал свой неприметный подвиг неприсоединения к славословной литературе. За это ему воздалось в середине 50-х. Но этого благого воздания он не выдержал. Не выдержал испытания славой и благополучием.
– Мартынов гораздо выше Пастернака, – уверенно сказал мне Слуцкий.
И Мартынов сам в это поверил. Его соперничество с Пастернаком как будто завершалось победно.
Но в этом внутреннем ощущении победы и скрывалось основное поражение Мартынова.
Когда «Доктор Живаго» был напечатан на Западе и начался вой по поводу Нобелевской премии, Мартынов мог высоко вознести свой моральный авторитет и высоко поднять авторитет поэтической личности. Этого не произошло. Сыграли роль, видимо, и болезни Мартынова, его страхи и успешно возраставшая мания величия.
Мартынов даже не промолчал, что ему тоже бы зачлось. Он пролепетал нечто, осуждающее Пастернака. Тогда, помню, рассказывали, что он говорил мягче всех, то есть благородней. Но важны были не слова, а тоже список – уже другой, список выступавших, где Мартынов значился уже не на первом месте… Первое место было безнадежно утрачено.
Ахматова и та не поняла значение поступка Пастернака. Она судила по тому, что с ним может произойти, а произошло бы гораздо меньшее, чем было и могло быть с Ахматовой всю ее жизнь. Где уж Мартынову.
Не знаю, сожалел ли он о своем поступке. В стихах это не проглянуло.
Знаю только вот какой эпизод. Мои друзья, ехавшие на машине хоронить Пастернака, увидели в центре Москвы Мартынова. Остановились, предложили ему место в машине. Он отказался…
Анна Андреевна
Анна Андреевна Ахматова пережила две славы – славу поэта и славу выдающейся личности в литературе. Это не значит, как думают иные, что было две Ахматовых. «Ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России», – писал Мандельштам еще в 1916 году.
Я знал Ахматову в период второй славы и несколько лет пользовался ее доброжелательством и доверием.
Между двумя славами лежала пора полузабвения. Ахматова была отторгнута от читающей публики (помню, говорила, что собраны десять сигнальных экземпляров невышедших книг).
Мы, молодые поэты довоенной поры, конечно, прочли то, что было когда-то издано. И даже хранили на книжных полках «Четки» и «Anno Domini» рядом с «Верстами» Цветаевой, «Камнем» Мандельштама и «Тяжелой лирой» Ходасевича. Казалось, это поэты ушедших времен.
Ахматова казалась традиционной, и легко познаваемой, и сразу знакомой. Много позже я понял, что это не так. «Знакомость» Ахматовой оттого, что она предельно естественна, как явление природы.
Ахматова виделась еще и сквозь призму Маяковского.
Впервые я увидел ее на послевоенном вечере в Колонном зале. И не очень разглядел из последнего ряда. В памяти только классическая белая шаль и низковатый медленный голос. А что читала – не помню. На этом вечере председательствовал Сурков, выступало множество поэтов. Все выпали из памяти, кроме Ахматовой и Пастернака. Именно с ними связалось чувство возбуждения и странной неудовлетворенности.
Для этого было несколько перемешавшихся причин.
Во-первых, неприятно было видеть Ахматову и Пастернака рядом и как бы на равных с тогдашними официальными, казенными поэтами. Их официализация казалась порчей качества и заглушала вещие голоса печали, предостережения.
Во-вторых, была уверенность, что только мы, фронтовики, видели и поняли трагедию войны. И что именно это есть главная тема поэзии. И что для выражения ее нужны грубые, заскорузлые слова, особый наш новый поэтический язык.
«Не про то» и «не так», казалось, писали Ахматова и Пастернак.
Непонятно было мне тогда, что на этот вечер привели их высокие чаяния, надежда, что мы, прошедшие войну, вернулись оттуда преображенными и в сознании своего достоинства сумеем осуществить порыв к свободе. Так понимали они порыв к освобождению Родины от врага.
И если мы, к кому была обращена их поэзия, в ту пору ничего не поняли, смысл ее хорошо был понят теми, против кого она была обращена. Вскоре знаменитые постановления и печальные кампании нанесли решительный удар по интеллигентским чаяниям военной поры.
Сталин знал, куда бить, он бил по мечте о свободе. То, что едва начало звучать в музыке и поэзии, было пресечено. И мы, юноши 40-х годов, рассуждали о разумности и своевременности пресечения…
Познакомился я с Ахматовой лет через тринадцать, когда образ ее был освещен иным уже светом.
К ней почтительно потянулись поэты младших поколений, от Наровчатова до Вознесенского. Все спешили получить лиру из ее собственных рук. Андрей Вознесенский написал ей на своей книжке: «Анна Андреевна! Вы мой бог». И, подумав, добавил: «Единственный». Анна Андреевна много смеялась, вспоминала из Достоевского: «и цыпленочку».
Но, лиру приберегая, рукополагала в поэты довольно охотно. Молодые ей нравились. Она говорила, что интерес к поэзии в России был в 10-е годы, в 20-е и теперь, с конца 50-х. Понимала, что интерес к поэзии, к ее в том числе, пришел через молодых, потому и была благосклонна.
Я идти «прикладываться» к Ахматовой медлил. Коллекционерской жилки во мне нет, праздного любопытства тоже. Думал, что паломничество ей изрядно надоело. Однако кто-то какие-то слова от нее передал. И я решился позвонить.
Анну Андреевну нескоро позвали к телефону, и я, назвавшись, просил разрешения явиться.
– Да-да. Только сейчас я не могу, – сказала Ахматова. В голосе мне послышалось недовольство. С облегчением подумал: «Откладывается».
– Приходите в шесть.
С Маршаком было так же. Сперва сказал, что занят, а потом велел приходить к вечеру. Старые люди не любят откладывать, у них другой счет времени.
Анна Андреевна не похожа на известные портреты и на ту, какую видел в Колонном. Пополнела. Волосы серой седины. Руки не бездельные, но не деловые, тоже пополневшие, стареющие. Одета в серое или темное… Лицо ее – словно с портрета русского XVIII века. Изысканно и сильно вылеплен нос, так живы глаза, в которых ум, достоинство, пристальность, умудренность одолевают положенную эту скорбь и отрешенность.
О чем именно говорили в тот первый раз – не помню. Помню только комнатку, келью на Ордынке с окном во двор. В нем небольшое дерево. Ощущение чего-то монастырского, ссыльного.
Она как-то потом мне сказала, что здесь написано было стихотворение «Стрелецкая луна». Видимо, с переменой времени появилось и ощущение резиденции.
В 62-м году она мне подарила книжку стихов с надписью: «Д. Самойлову в память московских встреч и бесед. Анна Ахматова. 17 июля. Ордынка». Надпись сделана прямо поперек страницы. Как-то сказала, что любит надписи наискосок. Может, поэтому взяла эпиграф к одному из стихотворений – из Бродского: «Вы напишете о нас наискосок».
Ордынка была уже московская резиденция. Там образовывался небольшой двор и происходили чаепития.
Хотя это относится к более позднему времени, дорасскажу о книжке, раз к слову пришлось. Весь тираж ее был в зеленой обложке, которая Ахматовой не понравилась («зеленая, как лягушка»), и ей штук сто сделали в черном переплете. Одну из этих книжек она и подарила мне с приведенной надписью.
На другое утро – телефонный звонок Ахматовой. Без предисловия сказала:
– Там есть один лишний мягкий знак. Уничтожьте его.
Вспомнила, что «встречь» написала с мягким знаком.
Итак, я сидел напротив Ахматовой. Разговаривать с ней неожиданно легко. Расспрашивала. Переспрашивала. Немного туга была на ухо. Неожиданно смеялась. Негромко, но вся отдаваясь смеху, всем телом.
Голос ее, славу богу, уцелел. Есть пластинки, есть записи у Ники Глен и у Ивана Рожанского. Наверное, и у других. Но своеобразие ее речи передать трудно.
Анна Андреевна говорит не торопясь, как бы размышляя. Фраза ее ясно и точно построена. Суждения никогда не кажутся импровизацией. В них пережитое и продуманное. За ними чувствуется база содержательной памяти. Она говорит как бы не впервые, а вновь.
Собеседник она блестящий. Но не монологист. Часто спрашивает: как вы думаете? Выслушивает. Подумав, соглашается. Или не соглашается.
Однажды мы говорили о передаче прямой речи в мемуарах. Кажется, поводом для этого были записки Паустовского. Там Бабель, имевший репутацию блестящего ума, разговаривает, как Паустовский. Анна Андреевна говорила, что в «Воспоминаниях о Мандельштаме» избегает прямой речи. Одна поклонница пыталась записывать разговоры Пастернака. Записывала при нем. Прямо за ним. А получалось все равно глупо.
Передать речь Ахматовой может только один человек – Лидия Корнеевна Чуковская. Ее дневник – самое важное, что написано об Ахматовой.
В моих записках прямой речью передано лишь то, что дословно запомнено. От встреч с Ахматовой всегда оставалось нечто доподлинно ею произнесенное, потому что лучше и иначе не скажешь.
После первого знакомства виделись с Ахматовой не то что очень часто, но регулярно во все ее приезды в Москву. И дальше по возможности о встречах с ней буду писать в том порядке, в каком они отразились в тогдашних моих коротких записях.
Мы много беседовали о поэзии и о поэтах. Кое-что из суждений Анны Андреевны я сохранил.
О Брюсове говорила, что он купчик, прочитавший в тридцать лет Буало, известного любому гимназисту. Его дневник – приходная книга успехов. В 1908 году, когда успехи кончились, Брюсов дневник бросил.
О Северянине. Гумилев в нем ошибся. Он думал, что все это – причуды большого таланта. А Северянин – дубина.
Сказала как-то, что Маяковский до революции писал хорошо, а после плохо. А Хлебников наоборот.
Пастернака называла Борис. О нем говорила как о близком человеке, который несколько раздражает. И всегда очень хорошо и очень сердечно о Мандельштаме, чья судьба, а может быть, и поэзия были ей ближе всего.
О Гумилеве я не решался расспрашивать. С ним чудился какой-то внутренний спор. Рассказывала: когда впервые прочитала стихи Гумилеву, тот посоветовал пойти в балерины. Потом уехал в Африку, а она написала «Вечер». Вернулся и признал поэтом.
Однажды показала мне первый том из собрания Гумилева, изданного в Америке. С равнодушием, как мне показалось.
За собой она числила поэтическую школу. Гумилев, она считала, поэтической школы не создал. Это, пожалуй, неверно. Гумилевская школа идет от Тихонова к нашим дням.
Несколько раз расспрашивал я о Цветаевой. Вспоминала стихи Цветаевой, ей посвященные, где видно, как Цветаева ее любила. О последней их встрече:
– Она была сухая, как стрекоза.
Однажды назвала ее великим поэтом. Какой-то шальной юноша пробился к ней в больницу, когда лежала с третьим инфарктом. Специально пришел спросить, кто лучше – Пастернак, Мандельштам или Цветаева. Анна Андреевна ему ответила:
– Мы должны быть счастливы, что жили в одно время с тремя великими поэтами. Не надо делать чучело из одного, чтобы побивать других.
Ахматову интересовали поэты и поэзия 60-х годов. Ей многие читали стихи. Однажды сказала, что за последние пятьдесят лет у русской поэзии не было одновременно такого количества талантов.
Из старших отличала Тарковского. Хвалила Липкина.
Выше всех она ставила Иосифа Бродского, которому такое признание, по-видимому, помогло рано выработать высокую самооценку, столь необходимую для его поэтической личности.
В ту пору вакансию первого поэта занимал в глазах многих Леонид Мартынов. О нем она как-то отозвалась: «Хорошо продуманная мания преследования». И, кажется, по его же поводу, что поэту вредно часто печататься, ибо он утрачивает независимость.
Мартыновский круг, впрочем, не почитал Анну Андреевну. Агнесса Кун однажды упрекнула меня в том, что я ношу шлейф Ахматовой. На что я ответил, что лучше носить шлейф Ахматовой, чем анализы мочи Мартынова.
Помню отдельные, ни с чем не связанные характеристики. О Кудинове: это оглобля. О Коме Иванове: они, из ваты, – все умные. Дело в том, что Кома Иванов вследствие тяжелой болезни все детство провел в постели с загипсованными ногами…
Начало 60-х годов казалось Ахматовой временем, благоприятствующим поэзии. Во всяком случае, время благоприятствовало ее поздней славе.
Издавались стихи. Нарастало паломничество молодых поэтов, писали об Ахматовой и у нас, и за рубежом. Итальянская премия и оксфордская мантия были знаками мирового признания. А место в президиуме Съезда писателей – признанием начальственного благоволения, непрочно являемого до публикации «Реквиема».
Как президент поэтической державы посетил Ахматову престарелый Фрост. На вопрос о нем она ответила: «Очень милый прадедушка, а может быть, уже прабабушка. Что-то от фермера». И, посмеявшись, добавила: «У него столько наград и отличий, сколько у меня несчастий».
Тогда модно было ходить «поглядеть на Ахматову». И я к ней как-то привел Наталью Галчинскую, как-то – знаменитого польского актера Войтеха Семена. Семен – замечательный чтец – читал программу польских народных баллад. Анна Андреевна важно ему внимала. Потом сама читала стихи. А Войтех, сидя на ковре, восклицал: «Я раб поэтов!».
На прощание Анна Андреевна сказала мне: «Когда вы один придете?». Больше я к ней никого не водил.
Слава Анне Андреевне нравилась, а скорее – развлекала. Любила она показывать вырезки из прессы – статьи, стихи в переводе на иностранные языки, все, что окружает славу.
Володя Корнилов, один из любимцев Ахматовой, с губастой своей откровенностью при мне как-то ляпнул:
– Любите вы хвалиться, Анна Андреевна!
На это не ответила.
А когда в другой раз я пришел, долго про успехи не поминала, а потом, засмеявшись, сказала:
– Сейчас будет жанр: Ахматова хвалится.
И стала показывать вырезки из газет.
Нравилось, нравилось ей это. Но и цену такому успеху она знала точно.
Из Рима, из Парижа приехавши, говорила:
– Нигде нет читателей стихов, кроме как в России. Там тиражи поэзии – триста штук. А читателей – тысяч пять.
Понравился ей Лондон: очаровательно провинциален. Париж – холодно красив. Об Италии: не видела там ни одного интересного человека. А Вигорелли обманул: денег не дал.
Книжки Ахматовой в итальянском издании с параллельным переводом лежали на книжных полках.
Про Италию рассказывала как-то загадочно, будто что-то про себя вспоминая. Ехала в поезде. Ночь. Странные огни. Словно навстречу друг другу идут две похоронные процессии. Мосты. Вода. Какие-то людские тени. Оказалось – это Венеция. Потом это стало стихотворением.
Говорила: в Италии жила, как американские миллионеры. Могла бы купить машину. И коммунисты ее хвалили в прессе.
Париж не понравился. Показался холодным. Кого-то встретила из тех, с кем не виделась чуть не полста лет.
– Одни так изменились, что страшно. А другие совсем не изменились. Это еще страшней.
Показывала мне портрет, сделанный Анненковым по памяти. Испанистая дама с гребнем. Сказала: «Какая провинция!».
Над официальным признанием посмеивалась. Сказала, что на съезде писателей ее обманули два раза: не сказали, что придется подняться пешком на третий этаж и что будет сидеть рядом с Ильичевым.
Тогда впервые как делегат съезда Ахматова жила в гостинице «Москва». При ней находилась дочь Ирины Пуниной, с которой Ахматова ездила в Италию.
Я вляпался. Сказал: «Внучка на вас похожа». «Может быть», – отвечала Ахматова.
Незадолго до первого напечатания «Ивана Денисовича» пришел к ней Солженицын (называла его – Рязанский), видимо, под этим именем прочитала повесть, – повесть эту высоко ценила. Однако Солженицын пришел читать стихи. Стихи не понравились. С этого, может быть, и пошла холодноватость Солженицына к Ахматовой обратная.
Стоял октябрь 1962 года. «Один день Ивана Денисовича» был на выходе и в писательских кругах уже прочитан и превознесен.
Солженицыну сказала: «Через два месяца вам предстоит всемирная слава. Это трудно выдержать». Ответил: «Я знаю. У меня нервы крепкие».
В быту характер Анны Андреевны, видно, был не очень легок. Мне иногда казалось, что «двор» порой ей тяготится.
Последние годы она все чаще жила не на Ордынке, а то у Ники Глен, то у Марии Сергеевны Петровых, то у Западовых, то у Алигер. Какая-то неприкаянность была во всем этом.
Но в Москве ей, видно, интересней жилось, чем в Ленинграде, хотя часто называла себя жительницей петербургской и поэтом немосковским.
С теми, с кем дружила, Анна Андреевна всегда была проста в обращении и внимательна. Прибыв в Москву, всегда звонила. Соскучившись, сама к себе звала. Стихи читала часто и охотно. Всегда о стихах спрашивала мнение. Однажды позвала к себе, сказала: «Сегодня буду вас эксплуатировать». Дала прочитать «Реквием». Долго потом разговаривали, можно ли это напечатать.
Отношения у нас сложились дружеские, чуть ли даже не без легкого кокетства. Всегда увлекательны были беседы, особенно когда они происходили с глазу на глаз.
Пришел к ней однажды. Спрашивает:
– Вы что сегодня печальный?
– Стихи не пишутся.
– О, я это знаю! После каждого стихотворения кажется, что оно последнее.
Однажды сидели у Западовых, ужинали вдвоем. Хозяева были в отъезде. Попивали немножко водку. На прощание сказала:
– Вы сегодня хороший, а я нет.
Почему – так и не понял.
Принес ей «Меншикова». Прочитал до половины. Вижу – устала слушать. Говорю: «Остальное в другой раз дочитаю». Согласилась. Думаю – не нравится. А через несколько дней Ахматова позвонила:
– Что ж не идете читать?
Много говорили о книгах, посвященных восемнадцатому веку. Сказала: «Белые ночи не в мае, а в июне. Но эта ошибка и у Пушкина. Камзол – это жилетка. Я тоже думала, что это верхняя одежда, а Гуковский объяснил: камиза – рубашка».
Я переправил камзол на кафтан.
Стихи о Пушкине и Пестеле слушала очень внимательно. Сказала задумчиво: «Здесь много сказано. Это вам дано».
Вообще же несколько раз корила за приверженность к сюжету. Ей сюжет в стихах не был нужен. Да и правда, сюжет в стихах – не самая высокая форма построения. Я много об этом думал. Но, видимо, у меня не столько приверженность к сюжету, сколько стремление к драматургии. Однажды сказала: «Вас скоро откроют».
Стихи Ахматова читала превосходно. Это, к счастью, можно услышать. А я слышал, как читает она прозу. Читала свою отличную работу о Пушкине на невском взморье.
Ахматова и Пушкин – целая огромная тема.
Лучше всего сказать, что Ахматова – поэт пушкинской школы. Но от Пушкина идет вся наша поэзия. От него отсчет, как в Италии от Данте, а в Англии – от Шекспира. Мандельштам сказал, что Ахматова ниоткуда, скорей всего от классической русской прозы, Толстого и Достоевского. Удивительный ум нужен, чтобы сказать такое.
Ахматова, как весь русский стих, от Пушкина. Но такие понятия, как гармония, школой не даются. У Ахматовой игры и сюжета нет. Только яркость памяти, восстанавливающей и возвращающей чувство в спертое, условно поэтическое время.
Для Ахматовой Пушкин не схема и не норма, а «равный государь». Она читает и стихи Пушкина, и все написанное им, что окружает стихи, с исключительной свежестью восприятия, свежестью личной памяти.
Потому так и переполошились ученые-пушкиногрызы, что исторические документы с почтенной желтизной и выцветшими чернилами, с запахом архивного тлена вдруг заговорили языком сегодняшней почты, и сукины сыны, и сукины дочери без пудры и портретной стилизации оказались тут же рядом и в том же ряду с современными сукиными сынами и дочерьми. И архивная челядь оказалась голенькой. Пушкинистов Ахматова раздражает, потому что они дворня и способны либо раболепствовать, либо сплетничать, – Ахматова же способна любить и судить.
Прочитала однажды стихи Новеллы Матвеевой «Солнечный зайчик». Одобрила. И вдруг спросила: «А Пушкин мог бы о себе написать: я – зайчик?». И засмеялась. Все время думала, что бы сказал Пушкин. С ним советовалась. Она была мастерица изобретать диалоги, вроде воображаемого разговора Пушкина с Александром, с царем.
Наверное, такой диалог не раз и для себя придумывала: она и Сталин. К Сталину у нее был интерес великий. И даже ощущение диалога. Ощущение, что Сталин с ней тягался. Несколько раз при мне рассказывала, как Сталин, узнав, что зал поднялся, приветствуя Ахматову, спросил: «Кто организовал вставание?».
Постановление о ленинградцах воспринимала как следствие личного раздражения.
Однажды спросила меня: «Было ли то, что делал Сталин, следствием давнего умысла или серией импровизаций?». Склонялась к первому.
После смерти Пастернака больше всех нужна была русской поэзии Ахматова. Поэзия падает, когда в ней не присутствует гений.
И все же к середине 60-х годов мода на Ахматову стала проходить. На вечере, посвященном ей, в мае 1964 года публики было мало, а писателей почти вовсе не было – пошли смотреть Марлен Дитрих.
Ахматова умерла в конце зимы 1966 года, в неуютную пору.
Мы с трудом отыскали двор анатомички института Склифосовского. В небольшой комнатенке при морге должна была состояться гражданская панихида. Тело Ахматовой не было допущено в Центральный Дом литераторов.
Две сотни людей, знакомых друг с другом, прошли мимо ее гроба. Тарковский, волнуясь, произнес короткую речь с крыльца больничного морга. Говорил Ефим Эткинд.
Ахматова была названа великим русским поэтом.
Гроб с ее телом повезли на аэродром, чтобы отправить в Ленинград. Кучка людей медленно разошлась.
Небольшой официальный некролог известил население России о кончине последнего великого поэта.
Скоро ли явится новый гений? Сила поэзии иссякла и в прошлом веке к последней его трети. Недаром, к тому времени примериваясь, думают нынешние поэты не о том, что повториться не может, – не о юной свежести пушкинской поры, – а о том, чему подражать легче: о выморочных идеях несвободы, о замерзании, об одиноком Фете.
День с Заболоцким
По Дубовому залу старого Дома литераторов шел человек степенный и респектабельный, с большим портфелем. Шел Павел Иванович Чичиков с аккуратным пробором, с редкими волосами, зачесанными набок до блеска. Мне сказали, что это Заболоцкий.
Первое впечатление от него было неожиданно – такой он был степенный, респектабельный и аккуратный. Какой-нибудь главбух солидного учреждения, неизвестно почему затесавшийся в ресторан Дома литераторов. Но все же это был Заболоцкий, и к нему хотелось присмотреться, хотелось отделить от него Павла Ивановича и главбуха, потому что были стихи не главбуха, не Павла Ивановича, и, значит, внешность была загадкой, или причудой, или хитростью.
Заболоцкий сидел, поставив на пол рядом с собой громадный портфель, и слушал кого-то из секции переводчиков. И вдруг понималось: ничего сладостного и умилительного в лице. Черты его правильны и строги. Поздний римлянин сидел перед нами и был отрешен, отчужден от всего, что происходит вокруг. Нет, тут не было позы, ничего задуманного, ничего для внешнего эффекта.
Одиночество не показное, гордость скромная. И портфель – талисман, бутафория, соломинка, броня. Он стоял рядом на полу, такой же отчужденный от всего, как и его владелец. Он лежал на полу, как сторожевая собака, готовый в любую секунду очутиться в руке. Нет, не в руке Павла Ивановича, может быть, в руке Каренина, – когда отбрасывался главбух, проступал Каренин, и это было ближе и точнее, но опять-таки не точно и не близко.
Точна посмертная маска: классик, мастер, мыслитель.
Заболоцкий – характер баховский. Конечно, баховский, с поправкой на XX век. Уже с простодушием изверившимся, гармонией сломанной. Где «баховское», пантеистическое – лишь форма, лишь противодействие ложному «бетховианству» и насмешка над дурашливым Моцартом. И – разрыв между «важной», спокойной, старомодной манерой и пытливой, современной, острой мыслью. И отсюда – гротеск. В раннем Заболоцком – явный, подчеркнутый. А потом – с кристаллизацией «баховской» формы – гротеск, ушедший в глубь стиха.
Я встречал Николая Алексеевича на разных обсуждениях и заседаниях.
А однажды провел с ним целый день. Это было в Тарусе в середине июля 1958 года. Я приехал к Гидашам. Ночевал у них. А утром пришел он.
Был он в сером полотняном костюме, в летней соломенной шляпе. Опрятный, сдержанный, как всегда. Уже не главбух, а милый чеховский, очень российский интеллигент. Добрый, шутливый.
Они играли с Гидашем в какую-то поэтическую игру и именовали друг друга «герцог», «барон». Игра была обоим приятна и забавна.
Мы спустились по крутой улочке к Оке – он, его дочь, тоненькая большеглазая девочка, Гидаш и Агнесса.
Гидаш и девочка пошли кататься на лодке. А мы сели в районном парке на скамейку, сидели долго и переговаривались неторопливо.
– Про меня пишут – вторая молодость, – говорил Заболоцкий. – Какая там молодость! Стихи, которые я печатаю, писаны тому назад лет двадцать… Когда поэта не печатают, в этом тоже есть польза. Вылеживается, а лишнее уходит…
Он медленно закуривал длинные папиросы и глядел на Оку, где в лодке, казавшейся уже очень маленькой, плыли Гидаш и его дочь.
Потом поглядел на меня и сказал:
– Отчего у вас лицо такое… впечатлительное? Сразу видно, что кукситесь. А вам работать надо. Работать – и все.
Он, наверное, и о себе так думал всю жизнь: работать – и все. И работой называл это вечное отчуждение от себя мыслей, чувств и тревог. Как работой называют рубку деревьев, то есть отчуждение деревьев от леса и превращение его в дома или дрова. И если бы лес умел сам себя уничтожать и еще думать об этом, то он так же просто назвал бы это работой. Настоящий поэт всегда вырубает больше, чем может вырасти. И он вырубал себя и запросто называл это работой, потому что не умел назвать это «горением», «творчеством», «самоотдачей» или еще каким-нибудь красивым словом, как это любит делать большинство поэтов, говоря о себе и называя работу таинством – правы они или не правы.
А потом он еще раз глянул на меня и добродушно произнес:
– Вы – чудак. – Помолчал и добавил: – А я – нет.
Он, видимо, гордился тем, что не чудак, и думал, что это отличает его от других поэтов.
Одна литературная дама там же, в Тарусе, сказала мне с раздражением и с некоторым недоумением:
– Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин.
Бедная дама привыкла к тому, что поэты стараются говорить не то, что другие, и вести себя как-то особенно.
А ему самоутверждаться не нужно было. Он был гордый, и если и суетный, то не в этом, не в том, что он называл – работа.
Я, может быть, поэтому и мало запомнил, о чем мы говорили. Наверное, он мало высказывал оригинальных и необычных мыслей. Их бы я запомнил. И вместе с тем впечатление от него было огромное. И тогда же я торопливо и кратко записал в тетрадке, что он мудр, добр, собран, несуетен и прекрасен. Это шло не от умозрения, а от другого – от зрения сердцем. И помню тогдашнее ощущение тайного восторга, когда мы сидели с ним на лавочке над Окой несколько часов и переговаривались неторопливо.
Почему-то весь день этот мы не расставались. Не читали друг другу стихов, не вели очень умных разговоров. Но время текло быстро и важно, если так можно сказать о течении времени.
Жил он в маленьком домике с высокой терраской. Почему-то теперь мне кажется, что домик был пестро раскрашен. От улицы отделен он был высоким забором с тесовыми воротами.
С терраски, поверх забора, видна была Ока. Мы сидели и пили «Телиани», любимое его вино. Пить ему было нельзя и курить тоже.
Помню, тогда он читал стихи Мандельштама об Армении. И рассказывал о том, как переводит грузин.
Потом он говорил, что поэтов нынешнего века губит отсутствие культуры, даже первостепенно талантливых, вроде Есенина. Он назвал именно Есенина.
– Вы знаете, что я читаю? – спросил он.
И я думал, что после разговора о культуре он покажет мне какого-нибудь грека или римлянина или редкую историческую книгу, но он вынес растрепанный комплект журнала «Огонек», не нашего «Огонька», а того, что издавался до революции, в 10-е годы.
Лишь много позже я подумал, что «Огонек» 10-х годов был его способом снятия противоречий, противоречий между убогим реквизитом и высокими словами пьесы.
Тогда я вспомнил, что внутри раскрашенного домика висели мещанские картинки, и хозяйка была старая карга, и в ухоженном саду под яблоней дымился самовар. И конечно, здесь был уместен «Огонек», а не Гораций или Гесиод. И «Огонек» был тем же портфелем – бутафория, соломинка, броня.
Пришел писатель N и что-то рассказывал, улыбаясь большим ртом. Но скоро почувствовал, что не нужен, и ушел. И мы снова сидели вместе, и чем больше пили вина, тем становилось мне грустнее. И тут я понял отчего: я понял, что он умирает. И понял, что он сам знает об этом.
Наверное, это самое удивительное свойство поэтов – они знают, что умирают. И им самим кажется, что это вовремя.
Заболоцкий знал и готовился заранее. Готовился так, как все люди, которые свой способ жить называют: работа.
Один старый плотник, настоящий мастер, сказал мне: «Вот дострою этот дом и помру». И Заболоцкий достраивал свой дом. Собрал все стихи в большой том и все, что ему было не нужно, все, что казалось ему лишним, отбросил. Достраивал дом и готов был умереть.
Я думаю, что живые в этом вопросе не должны полностью считаться с поэтом. Когда он умер, нужно издавать все, что осталось. Насколько меньше было бы Пушкина, если бы пропали для нас его заметки, строки, неоконченные стихи – все, что осталось помимо «достроенного дома».
Но достоинство поэта в том и заключается, что он желает оставить дом достроенным, таким, как он его задумал сам. А потомки из оставшегося материала пусть построят еще один дом или пристройку. И поэт в целом есть эти два дома. А вот Блок построил один дом. И на этот дом ушло все. И ни на что больше не осталось. Это редкий поэт – Блок, поэт, который о себе знал все.
Заболоцкий умер той же осенью. Мне позвонила Агнесса и сказала, что Заболоцкий умер. Мы тут же поехали к нему.
Он лежал еще без гроба, на столе. И лицо было важное, белое и спокойное. Опять – римлянин. И потому, что прикрыт он был простыней, как тогой, уже вовсе не осталось Павла Ивановича и Каренина. Было важное, серьезное, скульптурное.
И маленькая женщина, большеглазая и не плачущая, – вот на кого была похожа дочь, – маленькая женщина, его жена, сидела в уголочке и не знала, куда деть руки.
Так мне это запомнилось, что главное для нее – незнание, куда деть руки. Рассказывала, что он пошел в ванну побриться. И упал. И умер через десять минут.
Пришел Слуцкий и привел трех скульпторов. Они сразу заполнили комнату делом – готовились снять маску.
На похоронах было много народу. Не так много, как на «знатных» похоронах. Но много. И все было как следует – большой зал, и музыка, и речи, и почетный караул. Я в почетный караул не встал. Потому что казалось, что он попал в какие-то чужие руки и не может встать и, забрав портфель, уйти. А должен лежать и слушать речи.
Впрочем, один человек говорил хорошо. Это был Вадим Шефнер. А потом попросили, чтобы все посторонние вышли из зала и остались одни близкие.
Я подождал, пока вынесли тело и погрузились в машины, на кладбище не поехал. Мне казалось, что это уже ему не нужно, вернее, не нужно было раньше, когда он умирал и когда думал об этом. И поэтому долг мой исполнен.
Из третьего воспоминания
Первое воспоминание – облик, второе – слова и поступки. Но все это отрывочно, разбросанно, и с чем-то перемешано, и принадлежит тебе одному, как дневник, пока не сложится в третье воспоминание – воспоминание о нравственном значении личности. И тогда внешние черты, слова и поступки, как стальные опилки в магнитном поле, вдруг расположатся по силовым линиям в некий чертеж. И тогда же вдруг обнаружится бедность первого и второго воспоминаний. Потому что они принадлежат лишь тебе одному, как дневник. А там, в силовом поле, другие совсем единицы измерения – масштабы общественные. И твои дневниковые воспоминания – лишь крупицы, обозначающие очертания чего-то более важного, того, что сразу и не прояснишь для себя, потому что память накапливает непроизвольно и случайно. А если с самого начала – произвольно и предвзято, то такому дневнику не хочется верить…
Третье воспоминание еще только рождается, потому что оно – дело коллективное, не то, что составляет память современников, а то, что отстаивается в памяти Современности. Это порой и не совпадает.
…И все же начать хочется с облика.
Круглое лицо, круглые очки в толстой оправе на мешковатом носу, волосы цвета, унифицированного сединой, причесаны на косой пробор. Набежит ветер и легко взбадривает их в веселый хохолок. И к сему – свободная блуза, и просторные штаны, и большие башмаки на толстой подошве. И в руке толстая палка. Все это округло, добродушно и свободно.
Свободно? Кажется, да, но так ли уж добродушно и так ли округло?
А глаза, узко прорезанные, за бликами очковых линз, – острая черточка монгольского Востока. И резко вдруг сошедшиеся брови, и поперечные складки на лбу. И хохолок уже не веселый, а колеблется задорным перышком.
Округло? Камень ведь тоже округлый, если его долго обтачивать водой. Но это его форма, а не состояние. А важно в камне, что он весом и надежен.
О камне Всеволод Иванов много мог бы порассказать. Он любил камни, привозил отовсюду, где бывал, и собрал огромное множество. Красоту камня он понимал, умел ею любоваться. Лежали на его рабочем столе зеленоватые и черные глыбы и белые полупрозрачные кристаллы. Он, однако, собирал, а не коллекционировал. Порой выбирал диковинный камень и дарил. Дарил, как дарят сюжеты. Наверное, с каждым камнем и был связан сюжет. А дарение – тема уже не такая простая. Ибо иные дарят то, что им не нужно. А иные (как Пушкин Гоголю сюжет «Ревизора») – то, что другому нужней.
Расточительство обаятельно, но бесплодно. Расточитель все профукает, потому что ничего не может обратить в свое дело. А в том, чтобы дарить то, что другому нужней, есть и самоотверженность, и ясный взгляд на себя, и проникновенный взгляд в глубь другого. И разочарование есть, и надежда.
Когда-нибудь, может быть, напишут, как Всеволод Иванов своего «Ревизора» дарил другому…
Умение дарить осмысленно есть часть таланта и потому глубоко свойственно было Всеволоду Иванову.
Он и мне однажды подарил небольшую гравюрку, она оказалась старинной и редкой. Я написал о Меншикове и прочитал ему. Тогда он и достал эту гравюрку. (И ведь среди множества всего помнил, где лежала, наверное, много лет!) Там изображен был гравером XVIII века Меншиков в Березове – дальний прообраз суриковской картины. Сам Всеволод Вячеславович Меншиковым интересовался и написал о нем рассказ фантастический и лукавый. Но тут он решил, что гравюрка нужней мне, или хотел, чтобы она натолкнула меня на что-нибудь, чего объяснять не хотел.
Но возвратимся к камню. Мы однажды ходили за камнями в Коктебеле – он, его сын Миша и я. Не то чтобы специально пошли искать сердолики или те, что хлесткие камнелюбы зовут «лягушки» или «фернампиксы». Я думаю, Всеволод Вячеславович специально за камнями не охотился, просто они придавали внешнюю и наглядную цель путешествию, обоснованному целями внутренними и тайными.
Он, с фляжкой на боку, с крепкой палкой, шел не торопясь, но упорно, неутомимо и обстоятельно. Взошли на Карадаг и стали спускаться в бухту. Знал он здесь каждую тропку и был по-домашнему радушен и безмятежен. И не казалось странным, что человек, коему больше шести десятков годов, цепляясь за выступы, спускается с крутого склона и, с виду грузноватый, ползком пробирается по узкой пещерке и вброд по скользким камням обходит скалу. Казалось, дело это для него обычное, домашнее. Просто гуляем, переговариваемся и натыкаемся на камешки – на розовые, сиреневые, зеленоватые. Ко мне они не шли, а к нему шли, наверное, потому, что он их знал по именам.
Потом вдруг разразилась гроза. Мы поднимались по склону, совсем близко струилась туча. Мы быстро промокли и, оскальзываясь, медленно карабкались по горе, а вниз сыпались из-под ног камни и маленькие лавины земли. Впрочем, и это было по-домашнему просто и не казалось опасным. А в поселке было волнение, хотели уже звонить пограничникам.
Я года через два с моря узнал место, где мы спускались и где поднимались. Там двое альпинистов погибли в шестьдесят третьем году.
Но, конечно, Карадаг – гора невысокая и обжитая. Я бы не стал о ней писать, если бы не знал другого. Я краем глаза тогда подглядел, каков Всеволод Вячеславович бывал в тех обстоятельствах, в каких мы его не знали.
Мне рассказывал писатель Никонов, из Читы прилетевший с женой и маленькой дочкой на похороны Иванова, как путешествовали они с Всеволодом Вячеславовичем по сумасшедшей таежной реке. Река вздулась от дождей, а надо было плыть через пороги, на что и старожилы не отваживались. А он вышел на рассвете из избы, поглядел на реку, послушал и на вопрос, что делать, сказал: «Поплывем». И поплыли. Едва выплыли.
Я на фронте думал порой, что такое смелость. Иногда казалось, что это фатализм, иногда – безумная отрешенность от смерти. А сейчас мне кажется, что смелость – это умение быть самим собой во всяких обстоятельствах. Такая смелость кажется мне самой достойной. Такая и была во Всеволоде Иванове. И, неосознанно, мы именно это ценили в нем, может быть, более всего.
Когда я его узнал, обстоятельства его как будто давно уже сложились. Он жил как бы на покое. И виртуозно отточенные карандаши на его столе казались музейными пиками. И листочки исписанной бумаги – привычно заполняемым досугом.
Но – ах, это «но», ожидаемое и часто принуждаемое! – в нем уже более четверти века происходил процесс складывания нового писателя Всеволода Иванова. Процесс, так и не завершившийся, прерванный смертью. Процесс этот был не вулканический, а геологический и потому приметный только при внимательном наблюдении. Но и тогда о характере глубинных реакций судить можно было лишь косвенно, потому что в глубину мало кто был допущен; может быть, не только из-за сдержанности или скрытности, а и потому, что сам Всеволод Иванов полагал или чувствовал, что еще далеко до итога, и суть происшедшего с ним в целом обозревать начал, только когда уверился в том, что умирает, – с весны 1963 года. Доказательств вышесказанному у меня мало, так мне казалось и кажется сейчас. И лишь третье воспоминание это подтвердит или опровергнет.
Он был незаурядный характер, необычный талант и человек нашего времени, где история духовного становления мало еще изучена.
Облик Всеволода Иванова, его манера держаться и разговаривать, отрицавшие все внешнеромантическое и форсированное, часто заставляли забывать о том, что в нем постоянно работала фантазия. Мне казалось, что мощь этой фантазии (порой, впрочем, лукавой и спасительной) более всего придавала своеобразия его человеческой личности.
Мир этой фантазии, где вовсе не отрицался, а лишь преображался реальный опыт, был той писательской лабораторией, где ставился эксперимент психологический и социальный, где порой отыскивалась мера происходящему и вырабатывались нравственные понятия, отнюдь не фантастические.
В сфере фантазии Всеволод Иванов жил так же спокойно и органично, как в горах и на таежных реках. Фантастичность его была естественна, и донкихотские ее начала глубоко скрыты.
В каждом фантасте живет и Дон Кихот, и Санчо Панса. Особенности личности и даже эпохи выражаются в различии взаимоотношений между первым и вторым. Понятия сервантесовского Дон Кихота те же, что и у Санчо Пансы. Они верят в одно и то же – в высокое назначение Дон Кихота. Их понятия – идеальные.
В донкихотстве Тартарена из Тараскона есть большая доля маниловщины, а в его Санчо сидит Собакевич. Это уже не трагедия, а фарс, где действует не вера, а самообман и где, в сущности, все кончается самообманом. Кончается тем, что действительность приспосабливает миф. Мифический подвиг начинает служить реальной прозе.
Дон Кихот нашего века по-современному стыдится идеальных порывов своей фантазии. Он по-своему умудрен и лукав. Он не надевает доспехов. Он по форме предпочитает быть Санчо Пансой. И так вот, уже не един в двух лицах, а Дон Кихот и Санчо в одном лице, думает о кибернетике и о покорении космоса и неторопливо шагает с палкой по горной тропе, все еще надеясь встретить снежного человека. Он думает, может быть, о необычайной действенности фантазии, о реальности фантастического в наше время – от Тура Хейердала до атомного реактора. Но он все же не отдается целиком на волю фантазии, потому что опыт ему подсказывает, как опасны фантастические понятия в области социальной или нравственной, где лучше сперва проверить их практикой и рассудком, иначе они – предрассудок.
Я спросил однажды Всеволода Вячеславовича, прочитав его роман «Мы идем в Индию», есть ли книги, поминаемые и цитируемые там.
– Конечно, есть, – ответил он убежденно. И, помолчав, добавил: – А может быть, и нет.
Я очень хорошо запомнил интонацию этого ответа. Мы шли полем в Переделкине (тем полем, что зовется Неясной поляной). Он, наверное, думал о другом, смотрел куда-то вдаль. И оба его ответа были машинальны и естественны, словно не противоречили друг другу.
Я не помню, что подумал тогда. Сейчас мне кажется, что вновь приоткрылась для меня важная грань его существования. Это всем детским существом фантаста утверждаемое:
– Конечно, есть!
И отвергаемое зрелым опытом:
– А может быть, и нет…
Но в отрицании есть еще – «может быть». Есть место надежде. Может быть…
Александр Исаевич
Вопросы
Солженицын по своей единственности в литературе нашего времени казался порой не от мира сего.
А он с самого начала от сего мира. Казалось случайной прихотью Никиты Хрущева, что напечатан был «Иван Денисович». Прихоть была, но не случайной. Солженицын сокрушал, сокрушал и Никита. И на одно время удары их пришлись по одному месту.
Хрущев, правда, в сокрушении остановился, ибо дальше пошло бы уже самосокрушение. А Солженицын крушить продолжал и в «Раковом корпусе», и в «Круге первом», да и еще, наверно, немало в недошедшем до нас.
Крушил он карательную часть, пыточное заведение и продолжает с ним отважную войну, почти в одиночку, с беспримерным мужеством одинокого солдата из арьергарда, оставленного выполнять свой воинский долг.
Не для этой только войны изострил свое сильное перо Солженицын. Изобразил он и другие основания современной жизни, свой как бы идеал, как бы сродственный Толстому, – Матрену из «Матренина двора», изобразил и любование исчезнувшим духовным построением России в своих миниатюрах, уже не как бы, а прямо и наверняка – религиозное любование.
И то и другое – Иван Денисович и Матрена – складывались в единое ясное видение мира – по ясности своей, по независимости и непривычности восторженно принятое читающей Россией. Тем более что в ясном зрении еще не прояснилось воззрение – могло толковаться по удобству. Тем более что воззрение не прояснилось и у самих читающих. Тем более что подкреплено оно было гражданским мужеством редкого для наших времен масштаба; и само подкрепляло значение этого мужества силой таланта, как бы умножало его.
Но на этом не остановился Солженицын. Ясного видения, зрения мира мало его таланту и размаху. Он замыслил выразить мировоззрение, проявить ясновидение. Для этого – как предваряет он в послесловии «Узла 1» – и задумана эпопея, которой предстоит еще развиваться двадцать лет.
Невозможно сказать, к чему придет Солженицын по пути к концу эпопеи. Однако направление этого пути, видимо, определено в первом романе. И на первых порах ошеломляет тем, что путь этот прилегает к нашему современному миру с вовсе неожиданной для многих стороны. Для некоторых, впрочем, с ожиданной. Ибо издавна вкрадывалось опасение, что по прояснении воззрений, рассеивании тумана позиции окажутся на разных холмах, что одной позиции ясного видения действительности не существует. А есть несколько позиций, чуть ли не взаимоисключающих.
В романе масштаб Солженицына не умаляется. Он и сам как бы расширяет свой писательский круг, поднимается на вышку для обозрения современности и истории. И оттуда – с вышки – излагает увиденное в поучение нам.
Роман Солженицына – традиционный русский роман, то есть роман гражданственный и учительский, с жгучими проблемами. И редкий среди современных романов ввиду содержащегося в нем ответа на вопрос: как жить.
Русский читатель всегда, в сущности, ищет в литературе ответа на этот трудный вопрос. И современная литература либо вовсе на него не отвечает, зная только, как не надо жить, как надо – не ведая, либо же дает такие ложные ответы, что жить по ним вовсе невозможно.
Солженицын же – подлинный и большой русский писатель. И к ответу приступает с сознанием миссии, с точным пониманием потребностей времени, сам весь проживая наше время, и потому ответ его практический. По нему можно и жить, и поступать, и действовать в современности.
Если на время отставить вопросы о духовных началах бытия, для Солженицына, несомненно, первостепенно важные, то и обнаружится тот конец нити, с которого легче, на мой взгляд, распутывать сложный круг его мыслей и практического учения о жизни.
Какая-то тоска есть в вопросах, которые вынужден задавать читатель Солженицыну после нового его романа – после «Узла 1». Нет в этих вопросах ни бодрой радости, ни любопытства, а сомнение и истязание ума, ибо в разделении пребывают высший, посредственный и низший слой нашей жизни. То есть разделены они по сути, а в ежедневном существовании перепутаны: слой гражданского поведения со слоем высших понятий о смысле человеческой жизни. Практически и по чувству гражданское поведение мы ценим выше, чем мировоззрение, хотя Гражданин встречается так же редко, как и Искатель Смысла. Мы еще только дозреваем до искания смысла, и потому нам часто кажется, что Гражданин и Искатель неминуемо существуют в одном лице.
Мы так долго живем в мире субординации, что даже в духовную область переносим понятие иерархии, на манер средневековой церковной иерархии или, скорей, по образцу российской табели о рангах, где такому-то чину гражданскому соответствует чин военной службы. Потому и робеем задавать вопросы Искателю, что приравниваем его искание к гражданскому служению. Хотя именно Искателю и должны задавать вопросы, ибо он предназначает себя отвечать и за нашу духовную жизнь.
Искатель, выдержавший допросы, выдержит и вопросы. Тут прежде всего нужно отбросить сомнения в праве задавать вопросы. Такое сомнение прежде всего обидно для Искателя, ибо это сомнение в крепости его духа, в твердости убеждения, сомнение в принадлежности его к кругу чести. А коли от вопросов может распасться круг чести, то мало, значит, стоит этот круг, значит, это круг ложной чести.
Итак, вопросы по поводу романа Солженицына «Август четырнадцатого». И попытка прочитать в его тексте ответы. И никаких сомнений нет у меня, как важны эти ответы. Ведь Солженицын истинно русский писатель, учитель жизни. И как будто впервые принялся излагать учение и распутывать узлы, хотя бы первый узел. Первый, по-русски, еще и главный. Но на этот счет указаний в романе нет, потому и будем считать его как первый по порядку. Хотя и в самом порядке есть идея строения, «композиция идей».
Об этом, однако, ниже.
Стараясь уяснить себе содержание и смысл «Августа», я исходил из следующих соображений.
Первое. Роман, как явствует из авторского предисловия, является лишь частью еще не написанной эпопеи. По части нельзя судить о целом. Однако в литературе часть в какой-то мере является и целым. Конечно, по первой части «Мертвых душ» трудно судить о второй. Но это не значит, что мы не можем вообще ничего сказать о понятиях и воззрениях Гоголя, будучи читателями только первой части «Мертвых душ». Наверное, и Солженицын не стал бы публиковать свой роман, если бы не думал о нем и как об отдельном художественном произведении, о полноценной части целого.
Второе. Мнения и высказывания героев и персонажей произведения не следует принимать сразу за идеи автора. Однако в каждом романе есть герои положительные, и двойственные, и отрицательные. Разве что в первой части «Мертвых душ» нет положительных, и то с какой стороны посмотреть. Собакевич, например, умен, проницателен и в деле порядочен. У него и крестьяне живут добротно. И в доме висят портреты вождей греческого восстания. Но Гоголь взял такой ракурс, что никак невозможно подставить его под Собакевича. А есть такой ракурс, что возможно и поставить автора на место героя. Ведь прямо пишут: «Мы еще увидим небо в алмазах!» (Чехов). Либо: «Человек – это звучит гордо!» (Горький). Да и на место Чацкого мы прямо ставим Грибоедова.
Возможно ли такое у Солженицына? Не знаю. Вот и первый вопрос к нему.
А для себя следует сопоставить исторический роман «Август четырнадцатого», соотнести его с другими произведениями Солженицына, чтобы ответить на этот вопрос без его помощи.
Думаю все же, что военный роман Солженицына не является полным изложением его учения о жизни. Но некоторые мысли там упорно повторяются и проворачиваются, вкладываются в уста героев, милых автору, хотя метода его объективная и симпатии даны без нажима.
Все любимые Солженицыным лица, в просторечии именуемые положительными героями, – люди дела.
Так уж вычитывается из романа, что люди дела – это Захар Томчак, владелец латифундии, толковый инженер Архангородский и ставший технократом анархист-отступник Ободовский. Этот последний как бы сочинитель пятилетних планов:
«На Россию надо, батенька, смотреть издали-издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго-западе этого туловища. А все, что в России есть объемного, богатого, надежда всего нашего будущего – это северо-восток! Не проливы в Средиземном море, это просто тупоумие, а именно северо-восток! Это – от Печоры до Камчатки, весь север, Сибирь. Ах, что можно с ним сделать! Пустить по нему кольцевые и диагональные дороги, железные и автомобильные, отеплить и высушить тундру. Сколько там можно из недр выгрести, сколько можно посадить, вырастить, построить, сколько людей расселить!.. Центр тяжести России сместится на северо-восток, это – пророчество, этого не переступить».
Пророчество поистине замечательное, да и во многом осуществленное. Каким трудом, правда! Да может, Архангородский с Ободовским и получше бы это осуществили. Но дело делается, и то слава богу. А про то, как его делать, пока речи нет.
Люди дела в романе, конечно, не только Архангородский и Ободовский, по-нашему – технократы[20]. Люди дела – еще и народ, который состоит из собственно народа, говорящего по четырем томам Даля. По составленному плану народ творит дело. Творит свое мирное дело приумножения богатства. На этом бы и окончиться роману, но с этого он только начинается.
Не люди дела, а следовательно, балласт общества – бюрократия и гуманитарная интеллигенция, болтуны-адвокаты.
Схема, на первый взгляд, технократическая. Мало чем отличающаяся от схемы ученого академика Сахарова, схема, где как бы за образец взято развитие стран Запада, где преобладают люди дела и производство обеспечивает всех или большинство, а прибавочная стоимость в наибольшей своей массе идет обратно в производство, то есть в дело.
В романе есть еще одно важное для России дело – война. И Томчак, и Архангородский, и Ободовский, при всех наших симпатиях к ним, вовсе не лучшие и не любимые герои романа. Солженицын не был бы истинно русским писателем, если бы ограничился прозаическим делом построения и умножения богатства, столь прозаической схемой жизни.
Он говорит о всенародном деле иного рода. И о героях иного рода дела. На перегоне от жизни чисто материальной к жизни как бы духовной располагается война, всенародное дело. И герои, связанные с войной, в романе выше и духовнее симпатичных и толковых производителей благ. Не война ли – первый узел?
Войной заняты и дельный аристократ Воротынцев, и честный генерал Самсонов, и Мартос, честный же генерал, и военный доктор, и сестра милосердия Татьяна. У каждого из них есть своя «сквозная линия», каждому уделено больше или меньше страниц. В решении пойти на войну обретает ясность духа Саня Лаженицын, то ли ипостась автора, то ли корень его, что можно предположить из имени, но уж во всяком случае один из самых милых героев романа, Саня Лаженицын, которому «жалко Россию», потому он и идет за нее воевать. И рядом с Саней задушевный друг его, второе «я» – Котя.
Война для всех этих людей – национальное дело. Но смысл этого дела они понимают неотчетливо и неясно, скорей душой, чем разумом. Правда, обронены кем-то из второстепенных персонажей слова, что от долгого мира расслабляется нация, но, пожалуй, никто из названных выше героев романа не принял бы войну только ради тренировки национальных бицепсов.
Скорей всего «мыслящие» герои романа отказываются от понимания исторического процесса и такого его проявления, как война. «История – ИРРАЦИОНАЛЬНА… У нее своя органическая, а для нас, может быть, непостижимая ткань».
«Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну».
Рассуждать, следовательно, о смысле войны не стоит, лишь по наитию сообразуясь с непостижимыми законами истории, выбирать себе дело, которое не повредило бы ее ткань. И это дело – победа.
Почему же в иррациональном ходе истории победа, а не поражение выполняет некую положительную, конструктивную функцию? И чья победа?
Ведь победа одной стороны означает поражение другой. Значит, есть именно у России специальная миссия побеждать. Как понять эту миссию? Является ли она всего лишь формулой национального эгоцентризма или действительным извечным предназначением России, отличным от других предназначений?
А если так, то в чем все-таки суть этого предназначения, где его высшая цель?
«Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет…» Ну а если Россия перешибет кому-то хребет, к примеру, подавляя восстания в Царстве Польском, завоевывая Кавказ или Среднюю Азию? Что же должен тогда делать молодой человек Солженицына? Или вдруг «непостижимая ткань» истории открывается перед ним в переплетениях теории наименьшего зла и он идет воевать за то, чтобы тевтоны не перешибли хребет полякам, а турки или персы – кавказцам или киргизам?
«Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет…»
Ох уж этот неозначенный враг, злой дух, мечтающий перешибить хребет России! Покопаться в истории, то врагом этим оборачивался и монгол, и татарин, и турок, и лях, и германец, и француз, и китаец, а к ним и румын, и финн, и венгр, и бог знает кто. Но лишь историческое злопамятство может собрать их всех воедино. Когда-то и кто-то из них, может, и мечтал перешибить хребет России. А порой и рядом стояли с Россией те же татары, поляки, французы. История, пусть хоть иррациональна, но конкретна. И нет у нее вневременной цели перешибать хребет России, как нет у России бесцельного права побеждать…
Есть и для России войны справедливые и несправедливые. И есть это понятие в русском сознании. Есть у нас исконно чувство стыда и совести. Совесть одно из высших понятий русского именно духа. И значит, есть потребность судить и войну, и историю. Стоит перечитать того же «Хаджи Мурата» того же Льва Николаевича Толстого, от которого прямую линию ведут к Солженицыну многие верные его читатели.
Бывали войны и по совести, и против совести. В романе «Август» этой категории нет. Она заменена деловым понятием порядочности. Но что порядочность рядом с совестью! Порядочность всего лишь следование правилам или взятым на себя обязательствам. Она возможна и в бездуховной области – в картежной игре или в торговой сделке.
Порядочный человек, конечно, старушек убивать не станет. Ибо это вне гуманных правил. Ну а в случае надобности, в случае, если ему представится, что убийство старушек необходимо из высших соображений, например исходя из военной целесообразности. Для этого, мол, надо спалить город, где живут десять тысяч старушек. Как тогда должен поступать порядочный человек? Из порядочности, из взятых на себя обязательств так последовательно и истребить старушек? Может, и не легко будет так поступать порядочному человеку, ибо и в романе сказано: «Что в жизни всего труднее? Проводить линию в чистом виде».
Да. Линию порядочности – трудно. Но еще труднее – линию совести. Об этой линии, кстати, и написан известный роман Достоевского, где происходит убиение старушки.
Порядочность – понятие деловое, но промежуточное по дороге к нравственности. Нравственность решает: быть или не быть, убить или не убить. А порядочность рассматривает лишь процедуру убиения.
Потому-то порядочным ханжой выглядит светлый офицерик Харитонов в сцене разграбления пустого немецкого города. Так ли уж достоин осуждения голодный и безмерно усталый солдат, которого гоняют без смысла взад-вперед несколько суток бездарные генералы и еды не доставляют нерадивые интенданты, – так ли виноват этот солдат, если взял банку консервов, чтобы поесть и дальше осуществлять свое высшее предназначение спасения родины? Да и что эта банка или какая-нибудь шмотка по сравнению с пожаром города, зажженного артиллерией, по сравнению с невзгодами его мирных граждан, с погибелью старушек и детей?
Конечно, не простая порядочность является для Солженицына мерилом нравственности.
Казалось бы, его людей дела следовало бы судить прежде всего по успеху их дела. Но это была бы слишком прозаическая, слишком бездуховная схема. Дело в «Августе» оканчивается провалом. Но не нравственным провалом для многих участников данного дела. Ясно, что Воротынцев и небесный поручик (припахивающий Петенькой Ростовым), и военный доктор, и сестра Татьяна, и генерал Мартос, и солдаты не виноваты в провале операции в Восточной Пруссии. Все они свое дело делают с полной отдачей и с полной целесообразностью.
В провале дела виновны генералы из штаба фронта, командующие армиями Рененкампф и Самсонов.
И тут-то вот Солженицын – истинно русский писатель. Самый, пожалуй, русский писатель. Весь технократизм его, весь практицизм, оказывается, второстепенное дело. Как всегда, дело у нас на втором месте. То есть западный практицизм на втором месте. А на первом – азиатские, скифские наши начала – вера и жертва. Средневековые наши начала и совсем недавние – вера и жертва. По-русски у нас совмещается несовместимое – цель практическая с самым непрактичным ее выражением. Пугачевщина с идеей царизма, русская идея самозванства и мужицкого бунта. Бунт и власть в одном лице. Недаром Пушкин, самый великий наш гений, всю жизнь занимался историей пугачевщины, которая и есть история русского идеализма. В которой и содержится вся несовместимость русского идеализма с русским практицизмом. Русский бунт в форме веры и жертвы – вот что интересовало Пушкина. А Гоголь – второй наш гений!
Пушкин со страстным приятием жизни, Гоголь со столь же страстным неприятием исследуют один и тот же вопрос. В «Истории пугачевского бунта» и в «Мертвых душах» Пугачев и Манилов оказываются явлениями одного и того же порядка!
Маниловщина и есть мирная пугачевщина. Практическая идея всегда на втором плане, всегда – мечта. А на деле – азиатская идея веры и жертвы.
Тут, вероятно, и есть главный пункт романа. С большим подъемом описана кульминационная сцена прощания Самсонова с войсками. Побитый генерал Самсонов, все сделавший, чтобы «России переломили хребет», генерал нерадивый, хотя и все понимающий (что толку в таком понимании!), генерал, который из-за одного «труса», сказанного вышестоящими сукиными сынами, способен не совершить целесообразные с военной точки зрения действия, а пребывать в преступном бездействии, генерал, который пренебрег своим долгом перед родиной и перед армией и тем обрек армию на поражение, а десятки тысяч вверенных ему солдат и офицеров – на погибель или позорный плен, генерал, который убоялся мирского бесчестия, крестной, может быть, муки во имя спасения своих солдат, генерал этот вдруг воспаряет к богу, отрешается от мирских забот именно тогда, когда мирское его дело есть дело спасения людей, приносит свою многотысячную кровавую языческую жертву христианскому богу любви, и в этот момент представлен нам на высочайшей высоте духовного самоуглубления и, в сущности, оправдан, оправдан за то, что после кровавой жертвы принес и себя в жертву. Оправдан даже за нехристианское самоубиение, то есть за уход от подвига страдания и искупления. И все искупление его состоит в том, что он покончил с собой в бозе.
Вполне современный вариант христианства, без подвига самопожертвования, без сострадания и любви. Вариант христианства фадеевского, а не толстовского. Фадеев ведь тоже в момент самоубиения сопричастился богу. И значит, мирской подвиг самоубиения из раскаяния или от страха перед судом человеческим есть подвиг, угодный богу? И вина перед людьми, вина нелюбви, незаботы, неспасения, несбережения людей искупается нелюбовью к собственному физическому существованию? Достаточно ли одной предсмертной молитвы для искупления пролитой крови? Уж слишком легким было бы искупление, слишком проста амнистия.
Самсонов спасает душу верой. Верой, а не любовью. Вера для него – главное содержание нравственности. Его бог – не источник любви, а сверхпредмет веры.
Тут в романе прямая полемика с Толстым. Она прямо и запечатлена.
– Какая жизненная цель человека на земле? – спрашивает Толстого Саня Лаженицын. И Толстой отвечает:
– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.
– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить чем? Любовью? Непременно – любовью?
– Конечно. Только любовью.
– …Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке?.. А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех и не возьмет верха, – ведь тогда ваше учение окажется без… очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием – сперва на нем пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?..
Саня, а вместе с ним, видимо, и сам Солженицын ищут как бы практического варианта морали, как бы хотят высшую нравственную идею воплотить в практическую форму поведения. Нравственная идея христианства – это как бы стратегия, а нужна еще и тактика, при помощи которой можно осуществить божественный стратегический замысел морали.
Солженицын как учитель жизни, то есть как истинно русский писатель, хочет дать практическое указание, как жить, как пускать в оборот помаленьку накопленные нравственные ценности, чтобы они прикладывались, приращивались, покуда не дорастут до подлинной всеобщей нравственной идеи.
Но можно ли вообще прикапливать нравственные идеи мелкими ассигнациями, сперва, предположим, порядочность, потом благожелательство, а там это все сложится в единое – в любовь?
У иррациональной истории есть свой рациональный опыт, который гласит, что стратегия и тактика в вопросах нравственности неизбежно приводят к различению цели и средств, то есть к иезуитизму всех религиозных и антирелигиозных мастей.
Не напрасно (по Солженицыну – несколько механически и заученно) великий старик твердит свое: «Любовь. Любовь».
Но ответ этот Саню не удовлетворяет. И читателя Солженицына, обладающего огромным даром убеждения, тоже не удовлетворяет ответ Толстого.
Остается ли все же вопрос о промежуточной стадии открытым?
Я думаю, что концепция романа дает на него ответ.
К Царству Божьему на земле идти надо через дело, поскольку мало еще любви в сердцах человеческих и долго ждать ее возобладания.
Люди дела – Захар Томчак и Воротынцев, и иудей Архангородский, и анархист-отступник Ободовский – практически осуществляют построение Царства Божьего. А эсер Ленартович либо грабители-экспроприаторы, которые на словах заботятся о справедливом устройстве жизни, те только изымают средства из дела и, может, прокучивают, но уж наверняка проедают заработанное людьми дела. Они не люди дела, а эгоисты, трусы, предатели. В чистых помыслах им отказано. Темные, мутные люди.
Только строй один и мешает им развернуть во всю ширь своекорыстную злонамеренность.
А делу строй не помеха, а если помеха, то не страшная. Страшней поражение и смута – истинные помехи. И толковое это дело, рациональное дело творит и в наши дни иррациональная история. Значит, и сейчас понемногу продвигаемся мы к Царству Божьему, если не повсеместно на земле, то, по крайней мере, у нас, в России.
Да, собственно, героям Солженицына безразлично, где что еще творится. Промежуточное построение времени Царства Божьего предназначено России.
На нее именно пало его избрание. Иначе в чем же исключительность России, в чем одухотворенность в деле?
Об этом можно только догадываться, ибо нигде у Солженицына не говорится о высших целях русского дела, то ли в силу иррациональности истории, то ли в силу иных каких-нибудь причин.
Не вселенское, а русское дело призваны творить герои романа, не задаваясь вопросом, где же цели этого дела. Можно лишь догадываться, додумывая, дописывая в уме, распутывая первый узел, что покуда цель в улучшении жизни России, в построении ее согласно законам… Каким?
Нет, не человеческим законам, не законам общежития, законам благополучия, безопасности, свободы, народоправства. Слишком проста и бездуховна эта цель. Слишком приземленным было бы промежуточное дело России. Поскольку не новый строй должны создать ее лучшие люди, а новый строй души. Кажется так, ибо прямо сказано: «Важен не строй, а строй души». Значит, ради строя души должна идти промежуточная работа.
А может, она вовсе и не промежуточная, а в ходе ее и образуется строй души? И высший строй души – это строй души христианской, души, воплотившей вселенскую любовь, которая и есть Царство Божие на земле?
Не тут ли распутывается узел и нить его снова приводит к великому старцу, упрямо повторявшему: любовью спасемся?
Но нет. Не туда покатился клубок, не к вселенской любви, не к Христовой муке, а к Христовой церкви.
В другую сторону от Толстого покатился клубок.
К русской церкви, к русской вере, к русскому богу прикатывается клубок. И здесь новый узел, важный узел. Совсем не тот, который сперва полагал читатель главным узлом. Это узел уже не надмирный, не сверхдуховный, сверхчувственный и непостижимый. А самый что ни на есть современный узел. Узел, который затянут на горле каждого, кто живет в современном мире. Узел, который Россия, распутать стараясь, все туже затягивает на горле, не видя, не желая видеть, что сама затягивает, а считая, что кому-то нужно его затягивать, кому-то нужно ломать России шейные позвонки. И проклинает Россия своего мнимого, внешнего врага, ищет его, хочет ответно схватить за горло, и кричит от боли, и ищет виновника этой боли; и вокруг никого, ни виновника, ни друга. Одиночество. Ибо утрачена идея вселенская, идея присоединения. И в разобщении, в отъединении, в действительном одиночестве Россия борется сама с собой, сама на себе затягивая узел.
С утрачиванием вселенской идеи утрачивается первоначальная суть христианства, для которого нет ни иудея, ни эллина. Остается церковь и вера, credo ad absurdum, то есть та самая духовная жизнь средневековья, о которой сожалеет профессорша в романе Солженицына. Но в средние века была хотя бы идея вселенской церкви. А сейчас и она утрачена, заменена практикой автокефальной церкви, со своим автокефальным Христом, осеняющим лишь данное христолюбивое воинство. И это уже не христианство и не Иисус, а в форме христианства проповедуемое язычество – поклонение идолу племени.
Так в современном разобщении истинные идеи заменяются ложными, и бог, единый в трех лицах, распадается в языческое многобожие, и вера в многоликих богов служит закреплению всемирного разобщения. Христианство становится религией национального одиночества, религией ненависти, эгоизма и избранности.
Нет! Нет! Ни к чему такому не призывает Солженицын! Вовремя остановился его клубок. И это лишь я сам, уже по собственной воле, по закону логики покатил его дальше и вот к чему прикатил.
И не знаю, к чему прикатил бы его Солженицын. Может, к чему-нибудь иному? Или есть железный закон логики, по которому сказавший А неминуемо скажет Б?..
Неверно поймут меня те, которые решат, что я вселенскую идею противополагаю родине. «Россию… жалко…» – говорит Саня Лаженицын в романе. И правда: жалко Россию. Ибо не может не жалеть родину русское сердце, как не может не жалеть мать солдат, уходящий на войну. Но он встает и идет, унося болящее сердце. И если верно, что начинается родина с матери, с дома, с леса, с облака, с птицы, со звука, с запаха, со зрения, то продолжается родина далеко вдаль, дальше Туркестана и Сибири, дальше Камчатки и Курил – дальше не вдаль, а ввысь, к парению мыслей, к тем трубным оркестрам свободного духа, от которых падают стены Иерихона.
Да, важен строй души, строй души свободной, не отделенной от человечества, а соединенной с ним любовью и состраданием. И любовь к родине, к России, к ее народу состоит в том, чтобы именно в русском сердце, в сердце близком, дорогом и знаемом выпестовалась прежде других идея любви и свободы. В том и гордость наша. В том и мука, в том и стремление наших гениев, ошибавшихся и споривших между собой, но всегда радевших не об отпущении грехов русской совести, а о высоте ее парения, о высоте, откуда обозрим весь простор человечества и видны вместе с тем и дом, и лес, и облако, и птица[21].
Однако сам народ находится еще в промежуточном состоянии, он только складывается в новом социальном составе. И потому идеология его промежуточная. Это не идеология народа-труженика и не идеология народа – творца культуры. Это идеология промежутка – идеология черни.
Промежуточное состояние народа С. и выдает за действительное.
Однако что ж это я взялся защищать христианство от Солженицына, я, воспринимающий его лишь как нравственное учение, то есть со стороны высшей практики поведения, а не со стороны веры, благодати, обряда и церкви.
К тому же, словно и забыл я, что роман Солженицына – исторический. И взгляд на русское православие в нем, возможно, тоже исторический. То есть автор хочет воспроизвести в своих героях отношение к русскому православию того времени, начала XX века и той аристократической среды, к которой принадлежал Воротынцев, или той высшей служилой, к которой принадлежал Самсонов?
Может быть. Ибо нечто разоблачающее есть в картине парящего над войсками Самсонова. Его молитва так же неправедна, как донесения в вышестоящий штаб об истинном положении войск, его молитва после преступной жертвы тысяч человеческих жизней не молитва раскаяния и самоосуждения, а донесение о вере в вышестоящую инстанцию. Так бы можно рассматривать эту, одну из центральных сцен романа, если бы яснее прочувствовалось в ней некоторое отстранение автора, хотя бы небольшая черточка авторского отношения. Но с другой стороны, бывают моменты, когда автор не хочет судить своего героя, а лишь старается воспроизвести его состояние, достигает временного слияния с героем, будучи уверен, что в общей музыкальной композиции произведения из пения в унисон в нужное время выделятся разные голоса и темы, в том числе и ведущая тема автора.
Возможно, и так.
Но тут разговор может пойти и по другой линии. Правильно ли с точки зрения истории воспроизвел Солженицын отношение к русскому православию, к национальной церкви той или иной среды описываемого времени, ну хотя бы среды аристократической, к которой принадлежит Воротынцев.
Для этой среды, разнообразно перемешанной с инославием, вопрос о русском православии был одним из важнейших в духовной жизни.
Вот что, к примеру, пишет об этом князь Сергей Волконский, внук декабриста, сын товарища министра просвещения, бывший директор императорских театров, тамбовский помещик.
Князь этот не демократ и не республиканец. Пишет он в затхлой каморке, в Марьиной роще, в 1921 году, после разорения его имения, после уничтожения всего, что он почитал накопленным богатством русской культуры (именно это накопление он признавал главной миссией аристократии); пишет, подводя некий исторический итог – именно о том времени и о той среде, ощущения которой хочет воспроизвести Солженицын, изображая Воротынцева.
Князь Сергей Волконский типичный порядочный человек. Он, кстати, в одном месте своих воспоминаний спорит с людьми, которые делят «род людской на консерваторов и либералов», предлагая «более естественное деление на порядочных и непорядочных». Вот что он говорит: <…>[22].
По поводу нового романа С. одна дама острого ума и высокой опытности в литературных делах выразилась с опасной краткостью: «Утрата гуманизма».
Краткие определения такого рода легко прививаются в наиболее широком круге читателей С. – в круге десятом. С одной стороны, в этом круге тайно любят разочарования, с другой стороны – эти разочарования в главном утешительны.
Ведь если С. позволил себе утратить гуманизм, то X, Y, Z тоже могут позволить себе утратить нечто существенное. А вот гуманизм они как раз не утрачивают. И их запечный гуманизм вдруг вырастает в их глазах. И запечность его становится как бы положительным качеством неутрачиваемости, а запечье – лучшим местом для хранения гуманизма.
– Уж если С. дает индульгенцию X, Y, Z, – без всякой логики подумал я, ибо утрата гуманизма скорей означает утрату его и по отношению к X, Y, Z, – уж если С., – быстро поправился я, – перестает быть указателем гуманного направления, то дело швах. – И потому поспешил прочитать роман.
…Вопросы, которые следует задать себе по прочтении романа и исходя из опасной формулы «утраты гуманизма», таковы:
Можно ли где-нибудь в авторском тексте усмотреть нечто похожее на антигуманизм? Можно ли найти хоть одно высказывание С. антигуманного свойства?
На этот первый вопрос можно решительно ответить: нет.
Однако, как мы знаем, этого мало… Для полного прочитывания концепции мало одних высказываний персонажей романа, даже соотнесенных с личностью автора.
Полный смысл произведения заложен во всей его ткани, в его строении, в его словесном материале.
Для такого прочитывания требуются уже большие усилия, требуется проникновение в тайну, в загадку творения – в загадку, присущую каждому истинному явлению литературы. Порой автор способствует, а порой и мешает на пути к разгадыванию.
«Важен не строй. А строй души», – говорит старик Варсонофьев.
В этой формуле та же опасная краткость, о которой я уже упоминал.
На первый взгляд простая и ясная, эта формула таит множество загадок, не раскрытых прямо ни самим Варсонофьевым, ни авторским комментарием.
Первый вопрос: можно ли сравнивать строй души со строем, божий дар с яичницей? Одного ли порядка эти явления, чтобы можно было сказать, что в каком-то одном ряду содержание души сопоставимо с общественным устройством? По этому типу можно сказать, что важен овес, а не холера. В этом даже можно усмотреть некую глубокомысленность, ибо человеческое воображение неистощимо в сопряжении далековатых понятий.
Впрочем, наша материалистическая наука утверждает, что в устройстве души отражено общественное устройство, и посему постоянно сопоставляет эти два устройства. Однако наша наука решительно бы не согласилась с тем, что устройство души важнее общественного. По ней в устройстве души лишь отражено, да и то несовершенно, общественное устройство, и вся полнота не может быть отражена в одной душе, разве что в исключительных, из ряда вон выходящих случаях – в единичных гениях человечества.
По нашей науке устройство души вторично. Это азы науки.
Возможно сопоставление строя души со строем и в обратном случае: если предположить, что в его устройстве отражено устройство души.
Но тогда какой души? Чьей конкретно?
Видимо, тогда уже не одной конкретной души, а души всеобщей, некой одной народной души, в которой слиянны отдельные личные души. Какие же свойства этой души были точно отражены в российском самодержавии, в крепостном строе, в бюрократической иерархии российской державы?
Или, может быть, устройство души всея Руси потому и выше строя, что отражено в нем неполно или искаженно?
В этом смысле только и можно понимать, что строй души важнее строя.
И тут опять вопрос.
Как всеобщая душа, а особенно ее личностные явления, должна относиться к своему искаженному в облике строю? Игнорировать с высот свой искаженный образ? Или стараться его исправить, подчистить? Или сломать свое ложное отображение и воссоздать заново?
Это уже вопрос не абстрактный, а практический. Поскольку ценит С. людей дела, то им и следует дать практическое указание, как, каким способом и с какой стороны прилагать дело к строю. Ибо дело уже происходит в конкретных условиях строя. И даже лучшие представители души – люди дела – действуют не в абстрактных сферах, а в конкретных обстоятельствах исторического существования своего народа.
На этот вопрос прямо не отвечают ни герои С., ни он сам.
Только по косвенным данным, по тому, как изображены «разрушители» строя, худшая эманация всеобщей души, а может, и вовсе отринутые ею бездуховные существа, – только по этому изображению разрушителей можно предположить, что разрушение строя не признается делом, способным довести строй до кондиций души.
Не будем гадать о свойствах коллективной души Солженицына. Об этом в романе нет достаточных указаний.
Мы знаем только, что положительные лица в романе – это порядочные люди дела. В том числе и военного дела.
Проблема сопряжения строя души со строем не новая и, возможно, будет прояснена в последующих «Узлах» Солженицына.
В наше время ее глубоко решает Генрих Бёлль, писатель, сходный с С. по личному мужеству и по некоторым исходным пунктам мировоззрения.
Бёлль, однако, не ставит вопроса о том, что важнее – душа или общество. Для него эти понятия взаимоисключающие. Он предлагает выбор – или душа, или общество. А отнюдь не предлагает душе пересоздать общество по своему образу и подобию.
Он просто изымает душу из общества. Душу данную, личностную, индивидуальную, со своей свободной волей, и по закону свободной воли добровольно и без насилия над другими, принимая всю ответственность на себя, изымающуюся из общества.
Бёлль прямо ставит вопрос о добровольном изъятии, о самоизъятии из общества, где душа не может осуществляться согласно своему назначению. В этом он видит высшую индивидуальную ответственность, которую берет на себя душа в лучшем своем земном проявлении.
У Бёлля душа равна личности. У С. – равна лишь коллективу. У Бёлля единица души – человек. У С. – нация.
Но изымая себя из строя, душа-личность Бёлля никак не тягается с ним[23]. Она изымает себя как духовное начало из недуховной среды, не испытывая при этом ни гордыни, ни презрения. В ней нет ничего сверхчеловеческого. Ее человеческое содержание выявляется как жалость и сострадание к оставшимся в строе, как любовь самого малого, младшего, слабого в мире к сильному мира сего. То есть как любовь истинно христианская, как любовь младшего сына вселенской церкви к тем, кто заблудился в сословных, имущественных, национальных лабиринтах строя.
К Исаичу
Литературная жилка у него была всегда. Он еще до войны собирал материал и намеревался написать роман о первой мировой. Это, конечно, не был даже по замыслу роман-учение, потому что у самого С. никакого учения еще не было. Появилось оно много позднее, уже после мировой славы, и собрано было наскоро, как явствует из «Августа четырнадцатого». В романе этом чувствуется скороспелость учения и видны остатки прежнего замысла – патриотическо-семейный роман, вроде «Порт-Артура», хотя и поддался Солженицын современной моде и ввел в свой роман экранные страницы по придумке под Дос-Пасоса, а по исполнению – под Артема Веселого. Таким он и был бы, может быть, получше и поумней.
«Август» – роман идей и концепций. В нем нет высшего достижения прозы – характеров. Есть персонажи – схемы идей. В романе, сопоставляемом с «Войной и миром», нет телесного, органического начала личности, начала, у Толстого овеянного духовностью, где страдание родов, смерти, боли одухотворено и выравнено духовным началом любви.
Телесное начало Толстого заменено мужицким сексом, разлитым в романе, – сексуальностью без любви и уважения к женщине, однообразно проявляемой в разных персонажах.
Это если и «Война и мир», то мужицкие, без ленинского «перехода на позиции», а исконно с мужицких позиций. Грубый секс.
Семья С., разгромленная историей, должна была быть восстановлена и путь ее осмыслен, тогда еще с позиций ортодоксальных, как это часто бывало в нашей литературе, где люди прошлое свое социальное состояние пытались сомкнуть в нечто целое с нынешним на базе исконных понятий вне классов и в романе – на базе патриотизма, русского национального самосознания и (тайно, в подтексте) православия.
В романах этого рода, удавшихся и неудавшихся, живет мысль о неизменности основ России, о выстраданности этих основ теми, кто составлял по существу эти основы, – русским дворянством, интеллигенцией или торговым классом, – о примирении с нынешней властью – властью русской и патриотической.
Таков бы и был роман «Август» (таким он в значительной степени и остался), если бы не новые амбиции С., его нежелание «мириться» и замах на учение.
Непримиримость в роман наскоро вставлена, потому что в лелеемом замысле вовсе отсутствовала. Это задиристое послесловие и несколько условных фигур «революционеров». Они роли не играют и так же легко (в угоду цензуре) могли бы стать «положительными».
Особенность «Августа» по сравнению с другими известными нам произведениями С. в том, что он замыслен задолго до, а написан после его звездного часа.
Александр Исаевич
Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский характер, которому счастливится быть осуществленным в России раз лет в 300. Ближайший к нему пример – протопоп Аввакум. Это не значит, что вообще таких характеров в России не было[24]. Дело здесь не только в характере, выразившемся в безупречном гражданском поведении, а именно в его осуществлении в гражданской жизни, в том умении подчинить своей цели обстоятельства, умело проплыть между айсбергами, не быть ими раздавленному; нарастить в себе или достичь известности, привлечь всеобщий интерес, обеспечить себя писательской славой – и потом встать, полному свежих сил, бесстрашия и несгибаемой воли, и бросить в лицо власти правду о ней.
Против Солженицына стоят миллионные ряды бюрократии, армии и государственной безопасности.
За него только – характер, талант, слава и бесстрашие.
Солженицын один в России. И, может быть, второй не нужен. Ибо в драке скопом не жалеют кулаков, ибо в драке стена на стену пропадает личность, а есть две стены, а в той борьбе, которую ведет Солженицын, самое важное – не мысли, не проповедь, не содержание проповеди, а личность. Силу личности прежде всего показал Солженицын, а это в нынешней России – дело первостепенное.
Проповедь Солженицына ниже, чем его личность. С проповедью его можно и нужно спорить. Личность его с проповедью никак нельзя путать. Но спор с Солженицыным по существу его проповеди никак не снижает значения этой великой исторической личности, чьим именем может быть назван целый период борьбы России за гражданские права.
Общество, где мало зрелых личностей, остро чувствует потребность в них, потому высоко ценит и возносит любые проявления личности или нечто похожее на эти проявления. И по справедливости Солженицын вознесен и награжден восхищением выше и больше всех.
Его позиция гражданина понятна и ясна многим. Он предлагает рубить все гордиевы узлы современности. И потому является сыном нашего времени. Потому и понятен обществу, еще не доросшему до распутывания узлов, не постигшему, что живые узлы рубить нельзя, что рубить надо мертвые, а живые распутывать. И что дело распутывания требует терпения и увлеченности, углубленности и понимания и смелости внутренней, то есть умения внутренне противопоставить себя не просто власти, то есть грубой силе, а целому незрелому обществу, конформистскому, поэтому более всего боящемуся конформизма.
Незрелое общество так же безоговорочно возносит, как и отрицает. Справедливо вознося Солженицына-гражданина, характер, волю и отвагу, оно готово принять проповедь Солженицына, которая совсем другое дело.
У нас нет питательной среды для выдающейся личности. В своем противостоянии грубой демагогической силе эта личность вынужденно приобретает черты и замашки унитаризма и тоталитаризма, непререкаемости и нетерпимости.
Это происходит оттого, что личность эта не чувствует реальной нравственной поддержки, а лишь атмосферу инфантильного приятия, стыдливого конформистского восхищения и привычной робости и помыслить о критике, на которую решается герой.
Вопрос о нравственной оценке чрезвычайно остро стоит в нашем так называемом «мыслящем» обществе. По существу, оно отказывается от оценок, не берется оценивать действующую личность и ее проповедь, полагая, что бездействующие не смеют оценивать действующих, не совершившие – свершивших. Это настоящая чепуха. Нравственная оценка – тоже действие, и немаловажное. Отказ от оценки по существу – еще раз отказ от действия. Своеволие действующих в атмосфере отказа общества от нравственной оценки приводит к такому уродству, как процесс Якира, утверждающий безнравственность как норму. Мыслящее общество обязано взять на себя тяжесть нравственной оценки. Высокая среда в России всегда была склонна к объяснению личности, в силу интеллигентской традиции и чувства внутренней вины за бездействие. Среда эта склонна к объяснениям и оправданиям. Оценка же отдается на волю низшей среды, с ее неумением и нежеланием ничто объяснять, с ее низкими нравственными критериями. Отдавая оценку на волю низшей среды – высшая совершает великое общественное преступление, в частности преступление перед действующей личностью, лишая ее нравственных ориентиров, превращая в оракула.
Солженицын совершил для нашего общества великое дело. Наше общество не помогло ему своей нелицеприятной оценкой.
Так оформился Солженицын-проповедник, качество которого ниже его гражданских качеств. И виноваты в этом и мы, его современники.
Имя Солженицына промелькнуло мимо меня году в 60-м, летом в Коктебеле. Большой и жадный до общения и жаждущий новостей Копелев давал тогда почитать небольшую рукопись. По виду я и сейчас ее помню: в обтрепанной папочке, бледно напечатанная через один интервал. Это была одна из копелевских новостей и потому и воспринята мной была в их ряду как явление новое, но невысокого класса. Рукопись эта была «День ЗК», позднее ставшая прогремевшей книгой «Один день Ивана Денисовича». Имя ее автора – Солженицын – никому не было известно и потому промелькнуло и до времени забылось.
В то лето коктебельский пляж, уже слегка всколыханный в атмосфере либерализма и одновременно легко будоражимый всяческими чаяниями, довольно равнодушно отреагировал на скромную рукопись в сиреневой папочке. Удивительна была настойчивость Льва Копелева, не разочарованного относительным равнодушием читающей элиты.
Ее реалии были скромны; ее философия не задевала. Ее функция вершинного всплеска антисталинского либерализма еще была впереди. И всплеск этот не виделся еще мощной, всесметающей волной.
Нет сомнения, что высшую точку хрущевщины могло бы обозначить и другое литературное произведение, кроме «Ивана Денисовича», например рассказы Шаламова. Но до этого высший гребень волны не дошел. Нужно было произведение менее правдивое, с чертами конформизма и вуалирования, с советским положительным героем.
Как раз таким и оказался «Иван Денисович» с его идеей труда, очищающего и спасающего, с его антиинтеллигентской тенденцией.
Более всего пострадал народ. Но он и лучше всего сохранился. Интеллигенция же сумела пристроиться потеплее и жила лучше в лагерях, а сохранилась хуже.
Это тогда устраивало. Устраивало и интеллигенцию, еще раз доказавшую свое социальное бескорыстие, не поставив свое лыко в строку Солженицыну.
Но та, чисто литературная функция, которую могло бы выполнить другое произведение, кроме «Ивана Денисовича», на том бы и окончилась.
В литературу вступил не «Иван Денисович», а новая личность автора, функция которого оказалась выше и мощней чистой литературы.
В этом еще разберутся.
Личность С. выше и сильнее его литературного таланта, в целом подражательного, натужного, исчерпывающегося содержанием сегодняшним и способного воспроизвести только одну личность – личность автора.
На сегодняшний день это много. Но России жить и завтра. И не дай бог, если ей придется жить личностью Александра Исаевича.
Тот народ, о котором пишет А. И., сегодня – фикция, мечта, прошедший день. К нему не вернется Россия, даже если сядут все за прялки, за резных медведей и за палехскую роспись. Мужик нынешний производить без корысти не станет. В этом, извращенно, правда, выражается новое его достоинство. Он спекулировать и шабашить готов и станет делать это даже под малиновый звон, перекрестившись. Он делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он научится уважать духовное начало России, то есть ее интеллигенцию, столь не любезную А. И. Ему бы первому и надо положить первый камень в здание нового народа – научиться уважать слой хранителей культуры, слой его собственных читателей и почитателей.
Когда поулягутся страсти (лет через пятьдесят), А. И. уготовано место в официальном пантеоне хрущевских времен. Место это на том же пьедестале почета и, может быть, первое, ибо никто, даже сам Хрущев, так точно не выразил идеологию и тенденцию хрущевского времени с ее критикой предыдущей эпохи, почвенничеством, волюнтаризмом, грубостью, тягой к свободе и к многоговорению, остаточной потребностью «культа», если не Сталина, то самого себя и т. д.
Принципиальных расхождений нет. А. И. выразил высшую точку хрущевизма, то есть целой эпохи нашей жизни.
Тем и велик.
Он сделал то, что надлежало бы сделать хилому ренессансу после «оттепели» и чего ренессанс, естественно, сделать не мог. Нужна была свежая, яркая, внелитературная личность, Пугачев из средней школы.
И он явился со своими пугачевскими претензиями, со своим самозванством и ощущением стихии.
К Исаичу
Извечный спор о путях. Спор славянофилов и западников, почвенников и космополитов, русситов и гуманистов.
Россия для русских – русские для России. Или Россия для мира, русские для человечества.
Мещанское: «Что нам об людей думать, нам об себе надо думать». Или вселенское: «Несть эллина и иудея». «За други своя».
Россия предназначена для второго. Никакие попытки загнать русское сознание в рамки самобережения и самоспасения малой нации исторически не оправдаются. У России достаточно сил, чтобы взять на себя ответственность за человечество, достаточно идеализма, бескорыстия, бесстрашия, благородства.
Почвенническая пропаганда пользуется моментом неустроенности народа и нации, разбродом, начальным состоянием становления.
Народ и нация строятся заново. И от начальных идей многое зависит в их будущем устроении.
Особенность момента в том, что народ перестал быть хранителем нравственного и культурного достояния нации. Народ, утратив понятия, живет сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы. Инстинкт без понятий.
Носителем культурного и нравственного потенциала является сейчас интеллигенция. Никогда значение ее не было так велико, назначение так высоко.
Строение новой нации может начаться только со знания.
История доказывает, что просвещение – единственный результативный путь развития народного самосознания.
Народ жаждет знания. Но знания без понятий – всего лишь образование, «образованщина», как любит говорить А. И.
Тягу к образованию превратить в тягу к знанию – такова первая задача нового русского просвещения.
Прежде всего это знание о себе, о своей истории, о значении нравственности в жизни нации.
Нужны правдознатцы.
И А. И. нужен тоже как правдознатец. Правда, сказанная в «Архипелаге», – часть великого просветительского дела. Вот тот реальный вклад, который внес А. И. в строение новой нации. А не его прожекты, отторгающие Россию от человечества.
Главная черта любого идеологического общества – нетерпимость. Качество идеологии здесь не играет роли. Любое идеологическое общество – марксистское, православное или фашистское – прежде всего нетерпимо.
Нетерпимость порождает множество следствий, из которых важнейшие следующие:
1. Смешение критериев оценки личности. Личность оценивается не по духовному качеству, а по принадлежности к идеологии. «Кто не ссыт, тот баба».
2. Неминуемая замена идеологии фразеологией. Ибо всеобщая идеология порождает всеобщую фразеологию, которая необходима и достаточна для принадлежности к идеологическому обществу. Навязывая идеологию всеобщую, это общество лишает человека идей приватных, личного мировоззрения.
Идеологическое общество обычно имеет лишь идеологическую форму, а не содержание. Это общество формы, а не сути. Общество всеобщей формы без индивидуального содержания.
3. Индивидуальное содержание каждой личности, входящей в общество, – свобода.
Идеологическое общество искажает само понятие свободы. Понятие личной свободы – продукт идеологического общества. Личность пытается добиться свободы, отчуждаясь от общества.
Одна из современных форм отчуждения – отъезд.
Отъезд от общества, в сущности, уродливая форма достижения свободы. Эта форма подходит лишь рабам идеологического общества, которые свободой называют освобождение от обязанностей перед обществом.
Понятие «личной свободы» есть в обществе, где личной свободы нет. В терпимом обществе есть понятие всеобщей свободы, потому и нет проблемы бегства от общества.
В терпимом обществе никто не путает идеологию с правами и обязанностями Гражданина.
Попытка заменить одно идеологическое общество другим – главная роковая ошибка А. И.
А. И. верит в слова, в названия и в своей одержимой ненависти к словам путает факты.
Ему кажется, что идет тотальное наступление коммунистической империи на мир. Если даже назвать нашу империю коммунистической, все равно никакого ее наступления нет. Оно невозможно по экономическим, военным, политическим, идеологическим, национальным и психологическим причинам, то есть по всем причинам.
Военные хунты в Африке к нам касательства не имеют. Они принимают нашу фразеологию – фразеологию социализма, – потому что это очень удобная и хорошо разработанная система, позволяющая оправдать любой режим насилия. Это режимы национальной консолидации, чисто политические, порой лишенные еще даже национальной основы.
Такого же рода режим – Куба, промежуточно ориентирующийся тоже то на нас, то на Китай, режим, который вынужден будет слиться с остальной Америкой и идти по ее пути.
Вопреки Исаичу мы больше потеряли в послевоенное время в своем политическом влиянии, чем обрели:
1. Мы потеряли Китай, который сам вырос в империю, чья потенция направлена теперь против нас.
2. Потеряли Корею.
3. Потеряли великую перспективу в Индокитае с уходом американцев, с их мудрейшей стратегической примочкой нам.
4. Под угрозой Индия, которая, конечно, качнется к Западу, страшась Китая и понимая, что мы не заручка.
5. Потеряли Иран (история с Иранским Азербайджаном. Даже Сталин проморгал).
6. Потеряли Югославию. Наголову потеряли Румынию. Потеряли базу в Адриатике – Албанию.
Балканы почти не наши.
7. Потеряли Крит.
8. Потеряли базы в арабских странах – ушли из Средиземного моря.
Кажется, довольно.
Мир советской империи сузился. Существовать она может только в контексте с Западом, а следовательно, с его политическими понятиями и правовыми нормами.
Ошибается А. И., говоря о нашей угрозе, о том, что с нами можно говорить только языком силы.
Силы у нас нет. Поэтому лучше не вынуждать их из последних сил защищать моменты политического престижа.
Контакты – единственный реальный путь демократизации России. Остальное – убийство или самоубийство.
Другого пути нет.
К Исаичу (после «Августа»)
Как надо бы понимать, современное неохристианство от Исаича и Максимова до Шифферса и Светова является из потребности любви после засилья ненависти.
Так понимал христианство неудобный старец Лев Толстой и так понимает его и сейчас прекрасный отец Сергий, Сергей Александрович Желудков, заштатный священник из Пскова, замечательный поп.
Видел я Желудкова раза три, и то мельком, но слова его слышал. И удивлялся подлинному приятию и прощению. Удивлялся нежеланию чего-то чему-то противопоставлять и что-то осудить, кроме одного – возлюбить или понять, что одно и то же.
Если и возможна религия в наше время, то только такая: полюбить, понять и простить.
Остальное – либо метафизика – до чего она сложна! – либо политика – до чего она пуста!
Метафизика – для избранных; политика – для подлых.
А религия вроде как бы для всех.
Понятно, однако, что интеллигент или полуинтеллигент, вроде Исаича, хочет официальную, навязшую в зубах идеологию отринуть. Это функция его совести, барьер его отвращения. Он ведь повязан этим был (и Светов, и Светов!). Он ищет «анти». А это «анти» – христианство.
Христианство для него знак разрыва с прошлым, знак нового состояния.
Но возлюбить он не может.
Как можно возлюбить ближнего, который так слаб, гнусен и бездуховен! Ближнего, который готов того же Исаича распнуть! Нет, любить невозможно!
Как возлюбишь вертухаев, конвойных, сук, прокуроров, судей, чекистов; как возлюбишь Сталина и Берию, и всю клику, и всю партию? И все человечество, и всю систему? И все на свете?
Возлюби, попробуй!
И возникает христианство без любви.
Христианство веры, а не прощения.
Христианство церкви, а не веры.
А мы-то ведь еще и того воспитания.
Мы всю жизнь боролись. Мы всю жизнь отрекались, поносили и разоблачали.
С разоблачения и начинается «неохристианство». С разоблачения инакомыслящих.
Ну и, конечно, спектакли любит наша интеллигенция. Надо повыламываться, пококетничать, покрасоваться, покреститься, причаститься, помолиться.
Что вы знаете об этом? Что знаете об этом вы, прочитавшие десяток непонятых вами церковных трактатов?
Вы хотите ввести в России новое безбожие, крещение без благодати, венчание без святости, отпевание без прощения!
Новое идолопоклонство.
Религию без бога.
Идеологию без смысла.
Забавляйтесь, неохристиане, бывшие комсомольцы, бывшие ортодоксы, дети бывших комиссаров, нынешние ломаки и актеры!
Не отмолите грехов своих во храмах нынешнего синода.
Веруйте! Я не верю вам.
Бог Солженицына
С., может быть, и деист, но не христианин.
Месть, бунт и неподчинение власти, непомерная гордость – разве это подходит для религии кротости, смирения и подчинения.
С. призывает к насилию. Христианство – к ненасилию. С. и Толстой – антиподы.
Бог С. нечто вроде ЦК партии, спускающего директивы, право толкования которых взял на себя С.
Противоречия А. И.
Они ясны:
1. Он по темпераменту, по натуре – кулачный боец, мятежник, Пугачев; его стремление – месть, расправа; он откровенно всем этим любуется: насилие против насилия. А революцию отрицает.
2. Он за свободу. Но считает, что свобода еще не по росту русскому народу. Следовательно – против свободы, против демократизации.
А за что же? За мягкую диктатуру? За падение свободы сверху?
3. Он христианин. Но без терпимости, без любви, без свободы совести.
Это все очень заметно «элитарному» читателю. И он готов спорить с А. И., даже отказаться от него, осудить. Так спокойнее.
А надо принимать его не как учение (учение не годится), а как личность, то есть как писателя. И тут уже измерять его размахи и масштаб…
Часть VI Эссе
Литература и стихотворство
Лишь на пороге пятидесяти лет понял я, что занимался половину прожитой почти жизни стихотворством, иногда – поэзией, а о подлинном занятии литературой имел лишь общие абстрактные понятия.
Между тем литература – это не стихотворство, даже не поэзия (это лишь ее части и формы выражения), даже не самовитое, пусть хоть точнейшее и тончайшее, раскрытие личности, а служение, жертва и постоянное обновление соборного духа, обновление его в форме личного опыта мысли и чувствования.
Я понял, что усилия этого обновления радостны; что ничтожна застойная идея о сложившемся мире и о бесплодности единичного усилия к его обновлению. Литература и есть единичное усилие обновления. И коллективное усилие, то есть социальное действие, часто гораздо бесплодней единичного усилия литературы, ибо разнонаправлено и лишь внешне кажется устремленным к одной цели.
Я понял также – и не менее радостна эта мысль, – что никогда не поздно подвергнуть свое духовное существо этому усилию, ибо бессознательно все мы, снабженные дарованием к писанию, к поэзии или к прозе, все мы всю жизнь дозреваем до литературы. Иные рано вызревают, другие поздно, а кто и совсем не дозревает; но это вызревание – внутренняя цель дарования. Счастливы дозревшие – и рано, и поздно.
Дарование – даровано. Но нельзя всю жизнь тешиться дарованным. Дарованное, но не обновленное, ветшает.
Здесь можно привести целый мартиролог нашей литературы – Тихонова, Сельвинского, Федина, Леонова, Фадеева – несть им числа, те, что не сделали единичного усилия обновления.
О реальности нашей юношеской идеологии
Сейчас модно писать, что наша идеология быстро выхолащивалась и становилась бессодержательной, а то и вовсе всегда была бессодержательной, то есть ложной.
Может быть, и так, хотя, видимо, не совсем так.
Но дело-то не в том, что идеология была ложной и бессодержательной для идеологов, – она была реальной и содержательной для нас.
К примеру – если даже интернационализм к 30-м годам стал псевдонимом сталинского державного эгоизма, то в нас он оставался чистым элементом воспитания и реальным взглядом на проблемы взаимоотношений наций: неважно, что его нет в недрах официальной идеологии, важно, что он остался признаком идеологии моего поколения, его мыслящей части.
Важны не те, для кого идеи были ложью, а те, для кого они были правдой.
Отталкивание от среды
Отталкивание от среды – исконная ситуация. Это история таланта. Наблюдая разворачивание таланта, мы с увлечением следим, как «из этого» получается «не это».
Но отталкивание от среды – это в новое время и история личности, а потом, как снежный ком нарастая, и история целых сословий. Из отталкивания рождается распадение среды.
История сама по себе оказывается и талантом, и наблюдателем. И творит свою волю с истинным перехлестом темного гения. И не дай нам бог бесконечно идти по стопам гениальных перехлестов истории в сторону «отталкивания». Гений человеческий должен остановиться и оглядеться вокруг, с величайшим трудом остановив себя в беге, пока история еще бежит по инерции куда-то за грань нашего горизонта.
Из «этого» должно получиться не просто «не это», но новое «это».
О презрении к народу власти и интеллигенции
Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страждущей интеллектуальной эссенцией, чем презрение к народу.
Не знаю, достоин ли каждый народ своего правительства, но уж наша уксусная эссенция вполне достойна именно нашего правительства.
Ибо хамско-элитарный взгляд на народ вполне соответствует хамски-элитарному устройству власти.
Что, дескать, за народ, и кто он, и где он есть, если как бы вовсе и не существует, если можно с ним и так и эдак?
Взгляд элитарный и уксусный имеют свои посильные вариации и мелкие различия. В хамско-элитарном есть элементы подловатой сентиментальности. В эссенциальном – некая даже умственная беспощадность и разрыв с иллюзиями. Но вариации это несущественные. Главный взгляд происходит от несложенности среды власти, не успевшей породить у нас аристократическое понятие, в том числе и аристократическое понятие о народе.
Российская среда власти с Петра I по наши дни менялась в своем составе раз шесть и все порывами, не успев или едва успев породить аристократию.
Успевало поспешно и жадно порождаться барство, как и сейчас поспешно и жадно порождается. Оттого у нас и высших демократических понятий нет, что нет аристократизма, то есть встроенной в общество среды власти, успевшей не только обокрасть и обожраться, но и уже понять вред и безнравственность жратвы и воровства и почувствовать существование народа, свое отличие от него, свою благодарность к нему, выстроить свою концепцию нации и ее истории.
Бедный переходный период! Как подумаешь, то внезапно спадает раздражение против уксусников, а только уксусная унылость охватывает душу.
О мемуарах
Главная цель воспоминательной прозы – правдивость. Но это правдивость «личная», правда с точки зрения одного человека.
В такой правде субъективный момент умеряется вкусом. «Личная правда», не будучи ложью, может быть безвкусицей. Присутствие вкуса особенно важно в изображении отношений интимных и отношений с вышестоящими людьми.
Вкус – это способность соизмерения своих пристрастий и антипатий, своей манеры видеть – с посторонним взглядом. Вкус – часть ума и сродни чувству юмора.
О добре и зле
Отвечать злом на зло нельзя. Ибо у зла есть свойство возрастать. Каждое последующее зло хуже предыдущего. Но и добром на зло отвечать нельзя, ибо это значит попустительствовать злу, уступить ему. Зла добром не растрогаешь (добро индивидуально, имеет индивидуальность).
Так как же все-таки поступать?
Бороться со злом можно только стойкостью против зла, неподверженностью злу, вытравливанием его из себя.
Бороться со злом можно только созданием атмосферы, где зло задыхается, где не может существовать.
Один на один со злом не поборешься, потому что оно множественно. Добро может существовать как единичная личность. Зло возможно только как коллективное проявление, ибо у зла нет своей воли, а только воля множественная.
Стойкость против зла разбивает это множество, лишает его воли.
О «маленьком человеке»
Нет маленького человека, нет этой темы. Маленький человек – это тот, кто на это решился, решился быть маленьким. Он либо хитрый сукин сын, либо недоумок.
Жалеть его нечего, как правильно сказала А. А. об Акакии Акакиевиче.
О результативности творчества
Кажется, что для достижения художественного результата достаточно совмещения внутренней потребности художника с пониманием потребностей среды. И в этом случае чем шире среда, тем шире и художник.
Дело же обстоит так, что широта среды (человечество, нация) мало что дает. Художник просто расплескивается на большей площади. Важна глубина постижения истинных потребностей пусть даже небольшой среды (социальная группа – дворянство, интеллигенция, даже сельская община).
Расхождение между самопониманием среды и пониманием художника не имеет значения. Художник независим. Он тем выше, чем менее «продукт среды», «выразитель» и т. д.
В сущности, должно произойти не одиночное совмещение (художник – среда), а двойное.
1) Истинные жизненные потребности данной среды; 2) истинные внутренние потребности художника; 3) жизненные потребности среды так, как их понимает художник, и 4) потребности художника, как он их понимает сам.
Здесь три субъективных ракурса. И лишь один объект – среда.
Следовательно, вопрос результативности искусства – вопрос оценки. В ней, видимо, самый гвоздь.
О сытости и нравственности
Только неотъевшиеся нации боятся, что сытость и комфорт погубят их. Поскорей бы отъесться, отмыться, расселиться, чтобы перейти к духовным интересам!
Заблуждение о том, что сытость ведет к безнравственности, сытые поддерживают в голодных.
Об удовольствии
Удовольствие самое острое доставляет нам тщеславие или просто нечто физическое – еда, выпивка, женщины. Это удовольствие острей, чем интеллектуальные пиры. Но потом все становится на свои места. Низменные удовольствия отходят. Остается главное.
О фашистах
Фашист – это националист, презирающий культуру.
Поэтому Марцинкявичус или Яан Кросс – просто люди, болеющие за свой народ, а Кожинов, написавший подлую статью об ОПОЯЗе, – фашист.
Об аристократизме и преемственности власти
Аристократия не сословие. Аристократизм – понятие высшей элитарности, порожденной, однако, средой власти.
Потому и путается порой аристократизм с принадлежностью к среде власти. (В России путалось барство с аристократизмом.)
Эта среда, неминуемо просвещаясь и приобретая высшие понятия, порождает нечто противоположное своей необходимой грубости – аристократизм.
У нас еще аристократизма мало, его почти нет, ибо среда власти еще только формируется, еще не отграничена, еще происходит постоянная диффузия между народом и этой средой.
Аристократизм, то есть высшее понятие о человеческом достоинстве, – необходимый фундамент демократизма. Демократия появится у нас только вместе с аристократизмом.
Главное историческое понятие сталинизма – преемственность власти. В этом его антиреволюционная сущность. Сталин выстраивал эту преемственность от Ивана Грозного до Петра Великого. Дальше, до себя, достроить не успел.
У него было плебейское уважение к дворянству. Ради чего и держал графа Игнатьева и сомнительного графа Толстого. Наше начальство графьев не знало и потому полагало, что таковы и должны быть графья. Все графы и дворяне в нашей среде власти – мнимые либо уж совсем подлые.
Алексей Толстой – граф сомнительный, а аристократ никакой. По недоразумению его числили аристократом. А он певец власти, он, если и дворянин, то времен петровских, когда аристократизмом в России и не пахло.
Оттого с таким смаком писал о петровском насилии. У него все герои насильники – от царей до акцизных чиновников. О насильничанье он писал с грубым удовольствием.
Самый точный его портрет у Кончаловского: толстый жизнерадостный человек, полный сил и вожделений, жрет мясо.
Жил Алексей Толстой с грубым удовольствием. Талант его от чресел. Однако подлинный.
Эренбург себя выдумывал. Алексей Толстой – нет. Он таким и был – воспеватель насилия и сам насильник. И в этом был талантлив.
В нем ни сентиментальности, ничего святого – нет.
Он ни помещикам из ранних своих вещей, ни мужикам, которые жгут помещиков, не сочувствует.
Сильный, жизнерадостный, талантливый. Креста на нем нет.
Русский аристократизм начинался с Пушкина, окончился Ахматовой.
Из русских царей аристократами были два первых Александра. Первый тоже с небольшой оговоркой – участвовал, хоть и без желания, в убийстве собственного отца.
О «семи днях творения» В. Максимова
Роман В. Максимова «Семь дней творения» принадлежит к новому периоду русской литературы, может быть, впервые так четко и полно обозначает его начало.
Истоки этого романа лежат в предыдущем периоде нашей литературы – в произведениях Солженицына и «Докторе Живаго» Пастернака.
Но Максимову удалось соединить эти две важнейшие струи предшествующей прозы в нечто единое, мощное и стройное и впервые выразить практическую потребность современной души в обновлении, утвердить веру в возможность этого обновления и наметить пути к нему.
Пастернак жил в верхнем этаже духовной сферы, о практическом приложении своего идеала он не мыслил, заботясь, скорее, о построении личной кельи духовного спасения и воспаряя из нее лишь в высоту, в беспредельность, а не выращивая свой идеал вширь; не видя возможности беспредельно выращивать его вширь, ибо обстали его слепые души, которые (по ощущению Пастернака) неминуемо воспрепятствуют этому расширению.
Солженицын, напротив, воспаряя ввысь, постоянно думал и об обширности народной потребности духовного обновления и с ней сообразовывал возможность расширения сферы своего идеала. Однако эта сообразованность идеала со слепотой душ, эта боязнь натыкания на слепоту невольно сужала сам идеал Солженицына, придавала ему вид промежуточной организации. Кроме того, Солженицын, в отличие от Пастернака, взыскующего града, – учитель жизни, проповедник и много лучших сил положил на обличение, на расчистку места для будущего храма. Он предлагает практическое начало обновления в понятной массам работе построения храма, где потом только прозвучит истинный призыв к обновлению.
Сужение сферы идеала у Солженицына существенным образом деформирует сам идеал. Промежуточное дело построения храма требует некой промежуточной организации, которая для Солженицына есть церковь, нация, государство – земное триединство на пути к внеземному.
Солженицын считает, по Ветхому завету, по слову Моисея, что поколениям рабов не завоевать землю Ханаанскую, не возродить духовное существо нации. Поколение рабов способно лишь к промежуточному делу строения храма, не зная, может быть, об истинном назначении храма («история иррациональна»). Поколение рабов может построить и языческое капище, ибо не знает, что строит. Ему нужна вера в непогрешимость вождя и пророка. И себя вождем и пророком предлагает Солженицын, смело принимая на себя показательный для несвободных подвиг гражданского поведения.
Мысль Солженицына: одним еще рано идти к высотам духовного обновления, другим – поздно.
Максимов – и в том его сегодняшнее значение – с полной силой художественной убежденности утверждает, что никогда не поздно. У него нет ни снисходительности к народу, ни неверия в силы нации. То, что Солженицыну кажется концом дела, Максимов утверждает в качестве начала.
Сперва построение духа, потом построение храма, церкви, нации, общества.
Максимов предлагает сообщество в духе при равной индивидуальной ответственности, при равных способностях к постижению истины, без вождя и пророка.
При посредстве мысли и искусства, не учительском посредстве, а при свете искусства и мысли, в атмосфере искусства и мысли.
Высоту Пастернака он полагает возможным раздать беспредельно вширь.
Искусство наших дней с подобной задачей – задачей человеческой, демократической, путеводной – требует особой эстетики. Требует нового определения литературы.
Литература – это не стихотворство, даже не поэзия, не художество (это лишь ее части и формы), даже не самовитое, пусть хоть тончайшее и точнейшее раскрытие личности – а служение и жертва и постоянное радостное обновление духа, обновление его в форме опыта мысли и чувствования, и создание атмосферы обновления вокруг самой толщи народа, нации, человечества.
Не было (ли) это всегда сутью нашего искусства с его рождения – с Пушкина?
Современное суперменство (О мафиозном сознании)
Суперменская идейка наличествует у нас не в форме философской абстракции, а как бы в виде социальной альтернативы – быть или не быть, альтернативы субординационного, бюрократическо-технократического общества.
Суть же современного суперменства в том, что оно не природное, как, скажем, у Наполеона, а по принадлежности. По принадлежности к касте, к слою, к вере или к мафии.
Современное суперменство – мафиозное. Его даже и называть лучше мафиозностью.
Супермен природный силен именно своим выделением из массы, из некоего сообщества. Он законы любого сообщества презирает и становится выше любого закона.
Мафиозник сам по себе слаб. Он становится силен, лишь присоединяясь к некоему множеству, принимая закон этого множества, более того – становясь рабом этого закона.
Мафиозность – глубочайшая черта современного самосознания. Править миром, или идеями мира, или его богатствами через мафию, через организацию слабых суперменов.
Мафиозностью отдает современная философия технократизма, любая идеология партии, нации или церкви.
В «Карантине» Максимова «прозрение», «духовное возрождение», в сущности, приход к духовной мафии.
Есть даже особая круговая порука, которая должна связать членов духовно-церковной мафии и Максимова, – круговая порука греха. К очищению можно прийти только посредством греха. Это попросту сказано в русской поговорке: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься.
Грех для последующего спасения, то есть искус для приема в мафию веры, – такова генеральная идея «Карантина».
«Карантин» как бы подтверждает мысль о недоверии к «прозревающим слишком поздно».
В «Семи днях творения» им – прозревающим – хотелось верить. Хотелось верить, что живая душа рано или поздно придет к прозрению. И что грех, то есть преступление против человеческого закона, обязательная составная часть прозрения. Оказывается, что преступление – нечто вроде вступительных экзаменов в духовную мафию.
Такой вывод напрашивается по прочтении «Карантина».
«Деревенская проза»
«Деревенская проза» образовалась из нескольких потребностей и по одной причине.
Потребности эти – потребность правды, потребность критики и потребность реальной идеологии.
Причина та, что деревня переехала в город и стала писать о себе, научившись писать.
Деревня истинной литературы никогда не порождала. Былины и то – порождение Киева, дружинного города. Литературе нужна среда. А среда эта в городе.
«Деревенская проза» – свидетельство того, что деревни нет.
Потребность правды всегда живет в русской литературе. «Деревенская проза» сумела найти тот ракурс, в котором правда возможна, – ретроспекция.
«Деревенская проза» – одно из свидетельств, что прежней деревни уже нет. А о тех недостатках, которых нет, писать можно и в подцензурной литературе.
Потребность критики так сильна в литературе и обществе, что власть вынуждена разрешить и ее – тоже в ретроспективном плане: бывший бюрократизм, бывший волюнтаризм, даже бывшее раскулачивание. Нынешняя власть как бы к этому непричастна. Да она и сама социально близка авторам «деревенской прозы».
Идеология «деревенской прозы» тоже ретроспективна – это почвенничество; в «Новом мире» горькое, очень перемешанное с официальной идеологией – почвенничество либеральное, «культурное», в других печатных органах – агрессивное, замкнутое, русситское.
Авторы «деревенской прозы» – горожане из крестьян. Из них формируется власть. Из них же и литература.
Литература эта порой выше среды, как дворянская литература была выше дворянства. И все же это литература власти. Это единственная реальная литература нашего времени, вернее, реальная проза, о поэзии – другая речь.
Характерная черта ее – бесперспективность, потому что дети «деревенских прозаиков» – уже городские пижоны, на что сами прозаики жалуются. Да и они уже люди городского склада.
«Деревенская проза» бывает талантлива, но сутью она бедна.
Любой идеал, обращенный в прошлое, а особенно этот, лишенный существующей основы, – фикция.
Думая о России, «деревенские прозаики» не умеют думать о ее будущем.
И все же – чем важна «деревенская проза»? Она художественна и потому выполняет задачу, которую сама понимает смутно.
Эта задача – в лучших образцах «деревенской прозы» – сохранение народа как нравственного целого. В пору разлома народной нравственности «деревенская проза» проповедует преемственность народных нравственных правил. И поэтому она выше и реальней прозы городской. У нее и есть высшая художественная функция.
Как и вся наша лучшая проза – это проза воспоминательная, мемуарная. И в этом тоже важное ее значение. Народ не может жить без памяти. Память великой нации – великая память.
За память многое можно простить «деревенской прозе». Память – стиль «деревенской прозы».
Чем она больше запомнит – тем лучше, потому что это уже ушло.
«Деревенская проза» идет не от Тургенева, не от Бунина – от Шолохова. Идет от него, но далеко уже ушла. Шолохов написал, сколько крови стоила крестьянству революция (Твардовский), «деревенщики» – сколько стоила крови коллективизация, война, послевоенное десятилетие.
Они обращаются к материнскому, к отцовскому началу, к тому, что живет в каждом человеке, – к истокам детства, к памяти детства, к его звукам, запахам, к его радостям; они стараются навеки запечатлеть деревенское утро и вечер, зиму и лето, лес и поле, коня и корову – все, что ушло, что уходит, что скоро уйдет навсегда, – и в этой памяти хотят замкнуться, спастись от наступающих на горло проблем, спасти то, что на глазах разваливается, дичает, мещанеет, – спасти нацию, народ и державу.
А можно ли спасти? Это ли способ спасти?
О «деревенской прозе»
Не случайно «деревенская проза» оказалась лучшей, наиболее серьезной частью нашей послевоенной литературы – она отобразила главную трагедию русской жизни – разрушение деревни, ее быта, уклада, нравственного идеала.
Не случайно «городская проза» оказалась небольшим эпизодом литературы 50—70-х годов. Город принципиально не изменился, принципиально изменилась деревня. Война и трагедия деревни слились в одну трагическую эпопею, которая до сих пор питает литературу.
Наша литература оказалась достаточно сильна, чтобы воплотить эту эпопею. Она оказалась слишком слаба, чтобы увидеть и отобразить новую перспективу, складывание нового народа.
Может быть, эта задача пока еще выше задач литературы.
«Деревенщики» и «русситы»
«Деревенщики» – одно, «русситы» – другое. Деревенщики – из деревни, русситы из города, может быть, из провинциального, захолустного и скорей всего из захолустного, но из города.
Одни – из крестьян, другие – из мелкого служилого люда, из мещан.
Первые – трагедию претерпели, вторые – пересидели. В первых – хлеборобская закваска, у вторых – сшибка мелочной торговли, мелкого домовладения, трактира или вонючих номеров.
Первые – тело, вторые – паразиты на теле. Палиевщина.
И роднит их одно – недостаток культуры. У первых – надрывный, пьяный, озлобленный; у других – торжествующий, хитрый, агрессивный, формулировочный.
Первые страдают от незнания; вторые – утверждают незнание. Первым – страшно, вторым – удобно. Это спекулянты, спекулирующие народной трагедией, сволота.
Первых любить и понять надо.
Вторых – только презирать можно.
Тендряков и Палиевский.
Об утопизме русской нации
Тендряков правильно пишет об утопизме русского сознания – утопизме народа и утопизме власти.
Утопизм – черта старого народа. Его грань – 50-е годы.
Можно проследить утопические идеи русского народа со времен колонизации Зауралья, Сибири, Алтая. Утопизм народных восстаний и исторических легенд.
Утопизм революции, коллективизации, индустриализации, 37-го года. Все это великие темы.
Утопизм в Европе окончился с крестовыми походами. Колумб открыл новую эру реального осуществления мечтаний.
В России утопизм продержался до середины нашего века.
Победа в Отечественной войне – его последняя эпопея.
Новая, складывающаяся нация – реалистична, прагматична, недоверчива к идеализму.
Россия складывается в европейскую нацию, где реальные потребности перевешивают идеальные.
Она сама еще не привыкла к новому сознанию. И где-то тоскует по прежнему, уже невозвратимому.
Эта тоска – реальное содержание «деревенской прозы» и причина интереса читателей к ней.
О Шукшине
Не случайно такой талант, как Шукшин – злой, завистливый, хитрый, не обремененный культурой, исполненный лишь неясной самому тоски, – способен стать героем «солоухинской школы» русской литературы и быть принятым многими читателями – от блатных до прекраснодушных докторов наук.
В известной мере его тоска – тоска по утраченному идеалу и неумение нащупать пути к новому идеалу. И отсюда злость не по назначению.
Это типичная литература полугорожан, отрезавших себе путь в деревню, уже опутанных и закупленных благами города и главным раздатчиком благ – державой. Они и городские, и державные, утопленные по горло в комфорте, любующиеся своим положением и все же злящиеся и неистовствующие по поводу утраты духовного, ощущающие, что комфорт не заменяет духовности, и не умеющие по бескультурью присоединиться к высшей духовной среде города.
Их злость и беспокойство привлекают современного читателя, ибо являются контрастом к литературе подлых идиллий, никого уже не удовлетворяющей.
«Калина красная» – американский сценарий.
О Бродском
Не знаю, откуда усвоил он этот стиль определенной группы молодых ленинградских поэтов – эпатирующую бесцеремонность, интеллигентскую грубость, в которой одновременно и некий момент субординации, и желание выразиться, и кокетство прямотой, куча комплексов чисто ленинградских – от столичной провинции – перед Москвой выпендреж и, конечно, желание расшевелить, попугать пуганую ленинградскую элиту, так гордящуюся своей выдержкой, сдержанностью, воспитанием.
Не знаю, кто придумал этот стиль, от кого был перенят. Думаю, что от обериутов, но без их игры и остроумия, без прелести мистификации. И наверное, не Бродский, а его старшие приятели – Рейн, Бобышев и еще те, кого я не знаю, все это ввели в моду. А Бродский лишь воспринял и усовершенствовал. А теперь уже более молодые «работают» под Бродского.
Оттуда истоки его манеры чтения, тоже имеющей сотни подражателей в Ленинграде. Но манера эта, конечно, его собственная. Выбрано было лишь направление – тоже эпатирующее, выказывающее неуважение, а скорее – показное безразличие к слушателю стихов.
Бродский по всем канонам читает плохо – прерывисто, картаво, гнусаво, зацепляя строчку за строчку, мотая головой, – но так убедительно, что получается лучше лучшего и запоминается навсегда.
О терпимости
Пора уже определить – что есть терпимость, что она такое в терпимом и в идеологическом или, лучше сказать, в догматическом обществе.
Терпимость, по мне, означает только одно: признание права за любым думать и говорить любое, исключение уголовного наказания за высказывание мысли. Сугубое разделение, отделение слова от дела.
Слово есть дело – принцип догматического общества. Судят за слово и по словам.
В терпимом обществе оно не саморегулирующееся, слово есть всего лишь проект дела. Но отнюдь не любое дело принимает.
В терпимом обществе есть веками выработанное понятие общественной пользы, есть историческая память. В догматическом – сплошная беспамятность (как стараются не помнить о том, что была революция, о ее причинах и уроках некоторые идеологи диссидентства), стремление вытравить из памяти реальный опыт, боязнь ассоциативной силы памяти – аллюзий – в догматическом обществе не память, а злопамятство.
По непривычке к терпимости, по любви к одной догме мы путаем понятие терпимости либо с притерпелостью ко злу (пассивный вариант), либо с приверженностью к одной из догм, как бы противопоставленной официальной догме (активный вариант).
В обоих вариантах – лень мысли, непривычка к исследованию, отсутствие внутреннего достоинства и самостоятельности – робость.
Пассивные терпимцы в нетерпимом обществе любят говорить о неподготовленности общества к свободе мнений и к терпимости, что на деле означает уход с поля сражения, отказ от борьбы за свои понятия и представления, капитуляцию перед идеологическим обществом. Уступая поле боя, довольствуясь сознанием своего внутреннего превосходства, этого рода терпимцы дают возможность нетерпимцам безнаказанно делать свое черное дело, утверждать нетерпимость в народном сознании, и поскольку первые молчат, кажется, что сильнее вторые, что – введи у нас терпимость – победят те, черномыслящие.
Терпимцы вторые, в сущности, те же нетерпимцы. У них нетерпимость только получше – христианская, технократическая, исаичевская или еще какая-нибудь другая.
Эти так же стоят за неприкосновенность догмы, как черномыслящие.
А что такое догма, даже самая лучшая, когда она побеждает, – мы хорошо знаем.
Люди одного мнения, на переходе к терпимому обществу мы должны прежде всего научиться уважать любое другое мнение, даже не нравящееся нам. Мы должны привыкнуть к идее множественности мнений как нормальному состоянию общества.
Это вовсе не исключает права на борьбу за собственное мнение, на полемику с любым другим мнением.
Нужно забыть идиотскую субординационную формулу, формулу мыслительной робости: а кто я такой или кто ты такой, чтобы осмелиться подвергнуть сомнению идеи такого-то авторитета.
Истинная терпимость требует непредубежденности.
Сколько лишних сил потратили мы, терпимцы, с предубежденным приятием относясь к такому, например, явлению, как отъезды. По нашему догматизму мы спутали право личности на свободу с ее обязанностями перед обществом, права поставили выше обязанностей.
И долго все это не могло стать на свои места. Слава богу, стало, потому что истинная терпимость, то есть терпимость непредубежденная, – неминуемый путь, если мы хотим достичь истинной свободы мысли.
По французской схеме между абсолютизмом и демократией лежала эпоха Просвещения. Это было время разработки понятия истинной терпимости.
В эту же эпоху входим и мы.
О фанатизме и терпимости
Два типа характеров – фанатический и эгоистический.
Фанатик – человек ирреальной цели, человек дедукции; цели этой он добивается любыми средствами, и поскольку цель ирреальна, он неминуемо должен уничтожить реальность, противоречащую цели. Эта реальность – и его собственное существование в реальном мире, и существование других, тоже реальных. Поэтому фанатик создан убивать, уничтожать – себя или других.
Эгоистическая натура терпима, потому что располагается в реальном мире, старается войти с ним в согласие и гармонию, не уничтожить, а приспособить к своему удовольствию. Эгоист понимает, что уничтожение мира прежде всего ведет и к самоуничтожению. Он группирует реальные факты жизни и творит их. Он человек индукции.
В широком смысле терпимость и гуманизм относятся к сфере эгоистического характера.
Эгоист – художник.
Фанатик – политический деятель.
Фанатизм и эгоизм в чистом виде встречаются редко. Это лишь главные типы.
В реальности степени, переходы, смещения и условия осуществления бесконечно разнообразны.
Фанатизм и терпимость также и главные типы общественной психологии и даже организации общества. Не будем решать, что здесь первично и какие именно условия порождают тот или иной тип общественной психологии.
В развитой Германии и отсталой России возможны были одинаково фанатические устройства – с теми же ирреальными целями и с тем же кровавым способом осуществления. Сходство, впрочем, только этим и ограничивается. Я бы не стал сравнивать сталинизм и гитлеризм по другим параметрам, кроме их убийственности.
Может быть, в фанатизме бог или история создают первый противовес своим объективным законам, давая своему инобытию, своему порождению и исторжению – человеку – проявить волю, равную силе творения, – волю к разрушению. (Подумать об этом.)
Нет пропасти между индивидуальной и общественной психологией. Личность сильна в истории и порождает характерные формы жизни.
Наука ближе к фанатизму, искусство ему противопоказано.
Наука теряется и путается в обилии фактов. Ей нужна ирреальная модель мира (общества?), чтобы справиться с фактами. Поэтому цель науки сродни фанатизму – она ирреальна. Есть тип ученого-фанатика. Фанатик в искусстве невозможен, ибо фанатик не воспринимает пластики мира.
Искусство лучше, чем наука, справляется с жизненным материалом и легче постигает истинное состояние мира. Поэтому научные истины временны, а достижения искусства не подвержены времени.
Наука может служить безнравственной цели. Искусство – никогда, тогда оно перестает быть самим собой, становится имитацией искусства.
Искусство нужно для науки вовсе не для ублажения и отдохновения научной элиты и не для направления научной мысли на путь служения добру, то есть устроения человечества в наиболее комфортном состоянии. Нет! Искусство дает науке в особой форме указание об истинном состоянии мира! Искусство не подспорье, а равная науке область жизни.
Неизвестно, что кому больше дает.
Страсть сама по себе не подлежит нравственной оценке и не относится к области нравственного. Если искусство целиком, во всех своих отправных точках, в материале, в течении и в результате, относится к нравственности, то страсть сама по себе, то есть как материя и протекание, не имеет нравственного определителя. Поэтому нет хороших и плохих страстей, а есть возвышенные и пагубные – то есть определителем их является направление и результат. (Тоже подумать подробнее.)
Догматизм – фанатизм без фанатика. Оставляя ирреальную цель, догматизм изменяет средства, отказывается от фанатических, то есть убийственных, средств к достижению цели. Но фанатическая цель требует фанатических средств. В догматизме цель постепенно выхолащивается, остаются только средства. А средства без цели – форма. Догматизм – господство формы.
Фанатизм свежее и одушевленнее. Он относится к сфере эмоций.
Догматизм – мертвая форма, форма, умерщвляющая эмоции.
Тридцать седьмой
Тридцать седьмой год загадочен.
После якобинской расправы с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, священством, после кровавой революции сверху (был страх, не было жалости), произошедшей в 30—32-х годах в русской деревне, террор начисто скосил правящий слой 20—30-х годов.
Загадка 37-го в том, кто и ради кого скосили прежний правящий слой. В чьих интересах совершился всеобщий самосуд, в котором сейчас можно усмотреть некий оттенок исторического возмездия. Тех, кто вершил самосуд, постиг самосуд.
Казалось прежде, что самое загадочное – знаменитые процессы, где бывшие революционеры и каторжане, стойкие и гордые перед царским судом, без лишнего слова разыгрывали жалкий и подлый фарс, признавались в предательстве и шпионстве, предавали себя и своих товарищей.
Перед самосудом все бессильны. Самый худой суд – ничто перед всесильным сапогом, отбивающим внутренности, бьющим не до смерти, а до потери человеческого облика. Не жизнь себе зарабатывали подсудимые страшных процессов, а право поскорей умереть. Они-то знали, искушенные политики, что дело их – хана.
И разыгрывали свои роли только потому, что сапог сильнее человека, что геройство перед сапогом возможно один раз – смерть принять, а ежедневная жизнь под сапогом невозможна, есть предел боли, есть тот предел, когда вопиющее человеческое мясо молит только об одном – о смерти – и готово на любое унижение, лишь бы смерть принять.
Психологические основы самосуда мог понять и возвести в государственную практику только трус, сам в уме носящий призрак самосуда и понимающий неукоснительную действенность расправы и преимущество его над судом.
Покушение – вид расправы, вид самосуда. Сталин всегда боялся расправы, покушения, террора.
И самосуду противопоставил самосуд. Видимо, играл роль и предрассудок партийности, но – я убежден – не он определял поведение подсудимых 30-х годов. Потому что были разочаровавшиеся и просто умные и сильные, а вели себя одинаково – признавались в несодеянном и предавали.
Загадки процессов в наше время во многом уже разгаданы и объяснены. (Реабилитация Бухарина лишь по государственной линии означает неотказ от сталинизма.) Историки, конечно, еще долго будут раскапывать всю закулисную механику, все хитросплетения, все сложности взаимоотношений между судимыми и судьями – все это уже детали.
Тридцать седьмой год загадочен по своему социальному смыслу.
Как мы ни привыкли, проживая русскую историю, к кровавым ситуациям (мероприятиям), все же они, в некотором отдалении, обнаруживают некую цель или хотя бы направление. Такова, например, опричнина Ивана Грозного, чьи картины нередко проглядываются в действительности 30-х годов.
Некую цель можно усмотреть во всех волнах террора за двадцать лет советской власти – уничтожение социально опасных, социально чуждых, социально вредных.
Потому и запомнилась более других волна 37-го года, что она наименее понятна, смысл ее до сих пор не прояснен.
Надо быть полным индетерминистом, чтобы поверить, что укрепление власти Сталина было единственной исторической целью 37-го года, что он один мощью своего честолюбия, тщеславия, жестокости мог поворачивать русскую историю, куда хотел, и единолично сотворить чудовищный феномен 37-го года.
Если весь 37-й год произошел ради Сталина, то нет бога, нет идеального начала истории. Или – вернее – бог это Сталин, ибо кто еще достигал возможности управлять самолично историей!
Какие же предначертания высшей воли диким образом выполнил Сталин в 1937 году?
Равенство и хамы
В 37-м к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ. Он пер к власти, всех расталкивая, уничтожая чужих, но и своих, кто прилег во время красного наваждения, – через других, через себя, через крыс, – топча себе подобных – своих и чужих.
У него еще не было сословного чувства солидарности – оно образовалось потом, теперь, в наше время. Дворяне дворян так бы не уничтожали. А хаму все равно. Во имя хамской идеи равенства уничтожить – сладострастно и жестоко – всех, кто не равен.
Хамы призваны уничтожать. И только благодетельная и благотворная история, поставив хама у власти, даст ему и идею самобережения, вместе с сословными привилегиями, то есть первый зачаток идеи гуманизма и права.
В 30-е годы пер голодный хам, хам с одной привилегией – убивать. А теперь уже хам с комфортом, то есть с тем, что он ценит превыше всего.
С этого прозаического момента и начинается падение хама, его уродливое и нелепое, как полет археоптерикса, движение к правосознанию. Ибо комфортный хам начинает уже бояться бескомфортного. Ему нужно право для самозащиты.
А с самозащиты сословий и начинается идея вселенской самозащиты – гуманизм.
Еще о равенстве
Равенство всех в очереди за молоком – не есть равенство. Без очереди лезут худшие. Развитое общество не должно ставить в очередь за молоком Льва Толстого. Ему молоко надо приносить на дом. А в троллейбус пропускать без очереди, подсаживать и уступать место.
Единственное равенство, о котором стоит говорить всерьез, – равенство перед законом.
О методе исследования действительности
В сущности, у нас нет истинного метода исследования действительности. Истинным методом я называю такой, который на основании знания о настоящем дает знание о будущем.
У нас же нет и желания познать настоящее. Ни у «тех» – у власти, ни у «других» – у оппозиции. Ни те, ни другие по разным причинам не желают знать, что же происходит в фундаменте общества, в его почве, какие факты и идеи вырастают внутри и к чему приведет все это.
И «те», и «другие» живут в мире аналогий. «Те» – марксистских схем, выхолощенных и догматических; «эти» – другими схемами, опрокидыванием в современность «Избранных мест из переписки» или «Бесов», или истории русского провокаторства, или русского насилия.
Все это – «ебля слепых в крапиве», как говаривал Твардовский.
«Те» оттого так боятся аналогий и «аллюзий», что сами живут аналогиями; «другие» также хватаются за аналогии, ибо презирают знание, непредубежденный взгляд на действительность, свежее восприятие процесса.
Дети времени хотят выйти за рамки времени, не познав его уникальной природы, физической неповторимости и уникальности процесса, великой детерминированности происходящего.
Оттого так неверны выборы пути у «тех» и у «других», что выбираются они по аналогии, а не в живом мире явлений. И выбранные по аналогии, приложенные к миру явлений, они оказываются путями «никуда», в мир кафкианского абсурда. И у «тех», и у «других».
Об эволюции государственных систем
Экономические формации и социальные структуры, видимо, подвижнее и эволюционируют быстрее, чем государственные системы и строение власти.
В государственных системах нет факторов, стимулирующих эволюцию, в самой их основе содержатся колоссальные инерционные силы, силы сохранения власти, территории, военной мощи, распределения благ, порядка, доминирующих наций. В поле действия этих сил находится и культура, вырабатывается общественное сознание.
Промышленным революциям сопутствуют порой революции политические и войны…
О социальной детерминированности
Многие наши человеческие разочарования кажутся нам неожиданными и непредвиденными только потому, что мы часто забываем о социальной детерминированности каждой личности. Идея социального детерминизма так исплощена и опошлена вульгарной социологией, так мало симпатична, что в наше время выглядит отжившей свой век. Кажется, что она отвергает идею свободы, между тем (как верно говорил Эйнштейн) цель духовного развития личности состоит в размыкании причинных связей, в том числе (и особенно) социальной обусловленности человеческого бытия.
Освобождение от цепей социальной причинности действительно цель и процесс существования человеческой личности. Освобождение от них, но не отрицание их.
В конечном счете каждая личность размыкает целые ряды причинных связей (в том числе и социальных) в наивысший момент бытия – в смерти, в момент перехода в условия бессмертия.
Однако детерминированность бытия не рушится окончательно и в этот момент. А лишь заменяется другими цепями причинности, может быть, причинности обратной, как можно предположить – причинной зависимостью состояния души, потерявшей телесную оболочку, от телесного бытия родственных душ.
Нет оснований считать, что бытие духа после смерти телесной в какой-либо мере выше и значительней, чем бытие земное, что признание внетелесного существования означает отрицание причинности, что в смерти обретается полная свобода души.
Мы вообще об этом ничего не знаем. Но можно предположить, что дух попадает в другие цепи причинных связей, может быть, тоже временных, и смерть тела отнюдь не ведет к последней и высшей стадии существования души. Вне причинных связей и особого пространственно-временного состояния нет блаженства и нет индивидуального, вариантного состояния души. Хотя эти пространственно-временные состояния, возможно, и непостижимы, непредставимы для нас.
Причинности «высшие» и «низшие» объединены в жизни духовно-телесного существа. В момент смерти происходит, прежде всего, разрыв этого единства. Материальная часть существа остается во власти «низших» закономерностей – химии, физики, биологии. Дух же продолжает свое существование в сфере закономерностей воли, добра и зла, времени и пространства.
Преимущества телесного существования духа, может быть, и состоят в полноте и разнообразии детерминирующих моментов и, следовательно, в большей яркости и интенсивности переживания (боль, роды и т. д.).
Художественные способности, ремесленное дарование – один и не главный признак лишь одной категории талантов – художников. Как бы ни была сильна эта сторона в художниках, социальная детерминированность, если она мощней порыва личности к свободе, в конечном счете заглушает «чистое дарование». Тому пример – Шолохов.
Но есть мощные души, освобождающиеся от социальной детерминированности и при жизни. Этот процесс и есть процесс становления таланта. Звенья социальных цепей тем слабей, чем мощней проявление таланта, его способности игнорирования этих цепей и психологической саморегуляции.
В сущности, наши разочарования в отдельных личностях означают лишь то, что это личности посредственные и скорее воображаемые, чем сущные.
Впрочем, сила самого переживания отнюдь не уменьшается от подобного мудрого сознания.
Содержание исторического процесса
Сотворенное, «исторгнутое», материальное, в силу своей вторичности – детерминировано.
Исторический процесс – часть и форма мирового познания и самопознания, поэтому и в нем противопоставлены и сопоставлены материальные и духовные начала, объект и субъект как необходимые компоненты познания.
Материальные начала – природа (среда, географический фактор), производство и его преемственность; духовные начала – человек с его нравственными критериями и целями познания и преемственность этих начал – культура.
Общественное устройство – некая зона, где конкретно происходит взаимодействие детерминированных факторов с человеком, с его духовным началом, зона, где проявляется и прилагается свобода воли, где она осуществляется или не осуществляется.
Ибо потребность осуществиться или не осуществиться есть первичное, начальное проявление свободы воли.
Назначение государства – быть точным регулятором во взаимодействии двух сфер. Но в настоящее время оно не может идеально выполнять эту функцию по ряду причин.
Выделенное в промежуточную сферу потребностью познания, оно осознается своим же собственным аппаратом как сфера самостоятельная, сверхсфера, стоящая над необходимостью и свободой.
Недостаточное знание и умение владеть «исторгнутым» и свободным порождают такой болезненный нарост, как среда власти, которая как представитель материального начала противостоит духовному, а как духовное тоже противостоит духовному и, следовательно, неспособна к самопознанию.
Среда власти на данном этапе развития противостоит обоим началам, тормозит и препятствует нормальному взаимодействию в сфере познания и неминуемо должна использовать силу, чтобы как-то сдерживать оба начала.
Среда власти постоянно подвергнута ударам и расшатыванию с двух сторон, находится в постоянной самообороне и необходимо должна уступить место среде более способной к общественной регуляции по мере увеличения наших знаний о себе и о мире.
«Исторжение» – условие познания
Акт творения – ступень самосознания духа. Дух в момент творения «исторгает» противоположное.
Для познания необходимы субъект и объект – две противоположности: дух – субъект – исторгает материальный мир – объект.
Законы демиурга и мира – противоположны, неприложимы друг к другу.
В мире – вещество, время, пространство и т. д. В духе – ни вещества, ни времени, ни пространства и т. д.
Дух, познавая себя, до конца не может себя познать, потому что «исторгнутое» не абсолютно ему противоположно (не до конца) и носит на себе печать духа.
Дух познает себя лишь постольку, поскольку «исторгнутое» ему не соответствует.
Материальное, нося в себе печать творения, неминуемо порождает вновь духовное (человека), и здесь кончается круг самопознания духа!!! Духовное, противопоставленное духовному, нейтрализует поле познания. Поэтому частная духовность (человек), являясь препятствием к всеобщему самопознанию духа и являясь его производным, должен умереть, то есть возвратиться в материю.
Смерть – как форма «исторжения», отделения объекта от субъекта. Видимо, этот процесс связан с огромным усилием, с выделением энергии. Но об этом мы еще ничего не знаем, ибо сам момент неуловим. Мы знаем, что происходит до смерти и после, но не во время.
Ленин и философия «конца века»
Кажется, еще мало думано о связи ленинизма с идеями философии «конца века», с ее антигуманизмом, идеей избранности личностей и сообществ.
Ленина выводили из классической философии немцев XIX века (да и там многое заложено) и из русского народовольства (нечаевщины). Этого мало.
Исторические обстоятельства и их оценка
Исторические обстоятельства, если предположить, что человечество развивается, не являются предметом оценки. Оценке подлежит лишь то, что позволяет выбор.
Человек не настолько детерминирован обстоятельствами, чтобы не иметь возможности выбора. Его выбор обставлен обстоятельствами, и тем важнее и самостоятельнее акт свободной воли. Предметом оценки является поступок человека (поведение).
Каждая часть духовного целого вселенной обладает свободой воли, ибо это уникальное целое состоит из уникальных частей.
Свобода воли – главный признак уникальности духовного и духовности уникального.
Личность, сознательно отдающаяся в плен детерминизму, пропорционально лишается духовности.
Копелев об эмиграции
У него полно эрудиции. И полное отсутствие мысли. Человек нравственного чувства, он совершенно не умеет прилагать его вовне. Он может только жить нравственным чувством и всегда путает название с предметом, одно с другим.
Начав об эмиграции, он путает эмиграцию социально-экономическую с культурной и политической.
Вместо вопроса о нравственном значении нашей именно, неповторимой эмиграции, он повторяет банальности о взаимном обогащении культур.
Культура культурой. А эмиграция эмиграцией.
Миллионы итальянцев или югославов, живущих за границей, – не эмигранты. Ромен Роллан, живший в Швейцарии, – не эмигрант.
Это люди, свободно решающие вопрос о том, где и ради чего они хотят жить.
У русской эмиграции нашего времени совсем другое положение.
Эмиграция в Израиль – результат геноцида. И здесь можно поставить вопрос: что же вы больше любите – себя или родину, или культуру, к которой принадлежите?
Ахматова однажды уже ответила на этот вопрос гениальным стихотворением.
Но еврейская эмиграция разнородна. В ней есть только элемент интеллигентской эмиграции.
Суть вопроса вот в чем.
Государство нашло новый способ борьбы с инакомыслием – выживание его за границу. Если бы политическая эмиграция не была выгодна государству, ее бы не было.
Диссиденты, демократы и борцы, в сущности, признали этот способ. Они пошли на поводу у ГБ. И сперва провозгласив борьбу за права человека, воспользовались приобретенным авторитетом, чтобы уйти, снять с себя ответственность и т. д.
Только страдание – плата за борьбу за права человека. На это не все решаются. Но кто решился, должен стоять твердо и не идти в щель, открытую для них.
Оттуда нас не спасешь.
Мандель, писавший о любви к России, хорош был здесь, а не там.
Вот в чем суть вопроса.
Еврейский вопрос
Среди множества других трудноразрешимых вопросов существует у нас и пресловутый «еврейский вопрос». Существует ли? Скорей не вопрос, а ответ – еврейский ответ на другие, истинно существующие вопросы: кто виноват в экономических, политических, разведывательных провалах? в сложностях национальных взаимоотношений? в диспропорциях присвоения благ?
На это существует ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ.
Об отъездах
В России особое отношение к отъездам, потому что – с глаз долой – из сердца вон.
Уехавшие очень хотят остаться в сердце, да не удается (Якобсон).
Двоих только не удалось из сердца вынуть – князя Курбского и Герцена. Обоим удалось затеять с русской властью спор, полемику. Всех других власть не удостоила полемики, потому что разбередить власть, пробудить в ней совесть и желание спорить может только личность выдающейся силы, личность, которую нельзя упрекнуть в самоспасении.
Современное общество еще не выработало нравственной квалификации для отъезда. А нравственное отношение к этому – один из необходимых элементов современной жизни.
Задержка в решении этого вопроса понятна. Очень трудно разобраться в чувствах необычных. Отъезд – явление недавнее, и многое в нем спутано и переплетено. Спутано стремление к свободе с «выбыванием из игры», с самоспасением.
Спутаны, во-первых, разные мотивы и категории отъездов. Происходит как будто нечто нелогичное и странное. Одной из наций России разрешено покинуть родину и отправиться на прародину. Почему бы тогда не разрешить немцам, живущим в России с времен Екатерины, отправиться в Германию? Или калмыкам разрешить откочевать в степи Монголии? Или татарам разрешить возвратиться в Крым?
Логики здесь нет. Одна из наций поставлена в особое положение. Ей разрешено то, что запрещено другим. Почему, спрашивается?
Да потому, что у нас всегда совершается не по логике, а по чувству. И чувства власти здесь разнородны. Власть, чувствуя неприязнь к евреям, вместо того чтобы сохранить их как извечного козла отпущения, чувствует еще более явно, что евреи не обычная нация, а скорее социальный элемент общества, от которого лучше всего избавиться. То, что евреи не сеют, не пашут, а являются сильным и динамичным отрядом интеллигенции, то, что интеллигенция сращена с евреями, то, что евреи не нация, а каста, – вот что побуждает власть избавиться от них, вот что является важным в оценке отъездов.
Отъезжают националисты – и бог с ними. Хотя я не верю в существование русского сионизма. Националисты – ущемленная часть народности, чьи амбиции превышают возможности. Еврею, как и интеллигенту, всегда путь труден. Убоявшиеся трудности пути или неспособные трудности преодолеть – и есть националисты. Националисты – слабая, самоспасающаяся часть общества, однако наиболее откровенная и понятная.
Те, кто хочет спасать шкуру, называя себя патриотами Израиля, – бог с ними. Извечное наше представление о загранице как о земле обетованной владеет самыми посредственными кругами интеллигенции, спецами, считающими, что им недоплачено, или общественными мещанами, жаждущими хорошей жизни.
Таких среди евреев и среди русских можно найти сколько угодно.
Отпусти русских – и они поедут в любой западный Израиль продавать свое умение программировать, или логарифмировать, или говорить на санскритском языке.
Дело, конечно, не в номинальных национальностях. Дело в интеллигентской элите, которая покидает Россию из идейных соображений.
Пишут, дескать, Царство Божие внутри нас, а потому «покидать Россию или не покидать решается почти на бытовом уровне – в зависимости от личного долга перед близкими тебе.
Если есть хотя бы собачка, которой ты нужен и увезти которую с собой ты не можешь, оставайся.
Если нет живой души, которой необходимо исключительно твое присутствие в России, беги из мертвецкой скуки».
А народ – это не «живая душа»? А культура – хуже собаки? Писать так – значит чувствовать долг только перед мирком, а не миром. Где же Царство Божие?
О современных христианах
Россия все еще не доросла до христианства. Современные наши христиане – «крещеные бундовцы» (иудеи), включая Солженицына.
У нас нет покаяния без обсирания. Кающийся современный интеллигент начинает и кончает свое покаяние не любовью и самоосуждением, а злобой и осуждением. Чтобы не быть ничтожным в своих собственных глазах, он обсирает прежде всего ненавистников власти от народовольцев до красногвардейцев. Ненавидя власть, он вместе с тем оправдывает свое бездействие якобы историческим опытом. Методами зла, дескать, не исправишь зла. Но исправишь ли его огульной злобой и твердым нежеланием понять психологию массы, ее интересы и взаимоотношения с властью?
М. Харитонов. Ирония у Манна
М. Харитонов. Понятие иронии в эстетике Т. Манна. (Вопросы философии, № 5, 1972)
«Иронический подход исчерпывается противопоставлением, рассматривает контрасты в их отношениях и заявляет о позиции промежуточной, посреднической».
«Жизнь и дух остаются противоположностями, но противоположностями, тяготеющими друг к другу».
Отсюда – искусство «как творчески посредствующая и созидающая ирония» (Манн).
«Подлинно гуманная жизнь невозможна без иронии» (Кьеркегор).
Можно понимать и учение Христа как иронию, выхолощенную последующим христианством.
В Христе нет фанатизма и отрицательства. Он – примиряющее начало, одновременно приемлющее и отвергающее традиционные идеи – единобожия (но триединства) и мессианства. Мессианской идее он иронически противополагает идею себя – мессии. И с этого начинает действенную христианскую иронию, стоившую ему крестной муки от мало склонного к иронии синедриона.
С тех пор внутри христианства борется истинное его ироническое содержание (как в христианском искусстве средневековья или в романтической иронии XIX в.) с освобожденным от иронии буквализмом, то есть с тем же синедрионом, не приемлющим иронии и поэтому возжигающим костры инквизиции.
О современной церкви
Сама потребность веры еще не создает верующих. Потребность осознаваемая, «духовная жажда», создает часто «неразборчивость» веры, ибо уровни этой потребности разные, соответственно уровню личности. Жажда требует удовлетворения и тем скорей, чем слабее личность. Терпеть жажду умеют лишь сильные.
Средняя статистическая «духовной жажды» и выражается в среднем предмете веры. Жажда эта порождает чаще не людей религии, а людей церкви. По нашему времени это естественно, ибо исходит из сложившегося годами и уже поколениями мышления субординационно-коллективистского.
Слабые верой приходят к церкви, забыв, что в России церковь веками подрывала веру и немало сделала сама, чтобы народное возмездие постигло ее в начале нашего времени. Сейчас она исподволь возрождается. Приток людей веры несколько ее оживляет.
Невольная ошибка людей веры в том, что они, став людьми церкви, полагают, что стали верующими христианами. Божья благодать кажется им легко достижимой посредством омовения, помазания и причастия.
Если бы было так! Истинная религиозность, вера в бога дается с трудом: либо собственным глубоким прозрением в бога, либо принятой безропотно мукой, либо строем и направлением жизни, воспринятым с детства как данность, то есть в конечном счете – той же выстраданностью, но исторической, семейно-традиционной.
Глубокое же прозрение – явление редчайшее. Оно порождает пророков и апостолов, то есть не приводит к вере, лишь вскрывает заложенное.
О знании и сознании
Мистико-интуитивистская философия утверждает, что новорожденное дитя знает гораздо больше, чем мы предполагаем. Мистико-позитивизм утверждает то же самое, называя знание заложенной в нас информацией.
В сфере нравственности знание не имеет цены без сознания. Любой пехотный солдат знает не меньше, чем Виктор Некрасов. Важно, как он осознает это знание, к каким нравственным высотам это его приводит.
Критик Дымшиц много знает о немецкой литературе. Его знание не является нравственным сознанием.
Дерево знает, куда тянуть ветки и куда пустить корни. Человек знает свою единственность. Сверхчеловек – это знание о себе без сознания.
Со-знание – это co-измерение, знание связей. «Со» означает присоединение к знанию чего-то иного, необходимость этого присоединения. «Со» это со-имение, то есть семья, со-поставление, то есть поставление себя в ряд, co-юз, то есть взаимное распределение обуз, со-противление – то есть совместное противление и дальнейшее со-поставление, со-ображение, со-отношение, со-прикосновение, то есть взаимное прикосновение и т. д. То есть всегда в знании учет объекта, учет «другого».
Только из этого учета рождаются нравственные понятия, нравственные оценки. А это и есть сознание.
Сознание не заложено в нас и является высшим результатом и достижением познания действительности, то есть результатом активного процесса, рядом с которым меркнет значение пассивного знания, заложенного в дитяти.
«Сухая злоба нигилизма»
«Сухая злоба нигилизма» (по выражению Леонтьева) в наше время превосходно переходит в потребность слепой церковной веры. Все что угодно – злобствовать или верить, лишь бы оправдать бездействие. Вера – наилучшее оправдание бездействия и, в сущности, свидетельство безысходности «сухой злобы».
Современный идеализм
Любовь, или приятие и терпимость. Первый принцип современного идеализма, как бы он ни назывался – христианство или просто демократизм.
Соборность – второй принцип, так же, как бы он ни назывался – церковь, партия или профсоюзная организация.
Все остальное – вера, партия или что угодно.
Об уникальности духовного
Все духовное уникально, потому что не детерминировано. Уникален акт творения, уникальна вселенная, уникален гений, уникальна история как история духовного творчества человека.
Все, что может быть моделировано, относится к области природы (материального)…
О современной философии жизни
Философии жизни, которая эмпирически вырабатывается нашей духовной элитой, недостает метафизики. Исаич это почувствовал и понял, что нельзя строить учение без метафизики. В качестве таковой он принял ортодоксальную христианскую доктрину, тем только отметив место метафизики, но не пытаясь ее продумать.
Пока в качестве метафизики предлагается лишь это, в качестве вариантов – Соловьев, Бердяев, Флоренский.
Видимо, настало время выстраивать и метафизические представления, иначе философия жизни зайдет в тупик, упрется в серию нравственных догм, не одухотворенных понятием о их высшем значении.
Интерес к метафизике в значительной степени утрачен, потому что мы жили преимущественно насущными политическими проблемами, а в качестве философии исповедовали диалектический материализм, который является странной смесью гегельянства с наивным реализмом.
Размышления о смысле жизни и необычайные достижения теоретических наук толкают на поиски общего метафизического построения.
(Без названия)
Я не хочу никакого христианства, иудаизма, мусульманства или буддизма. Я против любых названий, религий или идеологий.
Я хочу одного – любви, терпимости и вселенской идеи. И уверен, что все это возможно и в пределах благородного сознания интеллигента нашего века. Верьте, но не перевирайте, любите, но не перелюбливайте, терпите, но не перетерпливайте.
Хотите бога – имейте его. Не хотите – все равно – будьте терпимы и принадлежите вселенской идее добра. Все остальное – словеса, пустота, безобразие.
Приложения
Из записей 50-х годов
Съезд писателей окончился. Я был на нескольких заседаниях. В вестибюле Колонного (зала. – Г. М.) – кучки народа. Студенты, молодежь. У дверей офицеры в форме ГБ проверяют билеты и паспорта. Внизу, где гардеробная, книжные прилавки. Впрочем, книгами торгуют только в перерывах, иначе многие покинули бы зал заседаний. И так слишком много народу шляется в кулуарах. Большинство знакомы друг с другом. Это «средний» московский литератор или «молодые». Все жалуются: чертовская скука. Но не уходят. Бродят по коридорам, едят бутерброды, курят, передают очередные анекдоты и сплетни. «Сперва съезд шел гладковато, а теперь шолоховато…»; «…И весь “Кавалер Золотой звезды” не стоит хвоста “Золотого теленка”; “Его не выбрали на съезд, а Васька слушает, да ест…”» (это про Грибачева).
Худо ли, хорошо ли, но съезд идет. И это, конечно, большая сенсация. Все ждут. Чего? Что-то должно произойти, что-то, от чего литература вздохнет, воспрянет. Под всеми шуточками и брюзжанием проскальзывает эдакая надежда. Но пока ничего не происходит.
В зале нет оживления, но нет и тишины. Бесчисленные ораторы сменяют друг друга, провожаемые жидкими аплодисментами. Стоит легкое жужжание. Когда объявляют интересного оратора, происходит движение, зал наполняется. Слушают с интересом – Михалкова, Овечкина, Федина. Любая острота или критика в адрес руководства Союза (писателей. – Г. М.) находит отклик. Вообще аплодисменты сорвать легко – нужно ругаться. Но выступления забавные или любопытные тонут в официальных речах «националов». Жадное ожидание ничем не вознаграждается.
Президиум редко полон. Опершись головой на ладонь, сидит Катаев. Сонно помаргивает Маршак. Он старый и усталый. Симонов водит карандашом по бумаге, может быть, картинки рисует. Лицо у него одутловатое, нездоровое, хотя и не лишенное энергии и ума. При желании его внешность можно считать благородной. Приходит Сурков. Чем больше он стареет, тем больше становится похож на волка из сказки про Красную Шапочку. Седой, в очках и якобы добродушный. Шепчется с Фадеевым. Тот сидит, моложавый, подтянутый, востроносый. Явно недоволен. Порой суживает глаза, лицо становится злым. Нервно поигрывает желваками на скулах. Регулярное пьянство не сказывается на его наружности, в лице видны острота, недобрый прищур. Передают его слова: «Ну и скуку вы развели у себя на съезде».
Он как будто держится в тени, но невидимые силы притяжения, ощутимые в президиуме, явно тянутся к нему. Зря он ругает скуку, в ней немало и он виноват. Сидит в президиуме Корнейчук, человек внешне ничем не примечательный. Идут разговоры о его новой пьесе. Ходит слух, что она одобрена «наверху». Понимает ли он сам, что написал страшную картину?
Честно сидят в президиуме национальные писатели. Имен их не знаю, кроме милейшего Расула Гамзатова. Он добросовестно слушает.
Нужен ли съезд? Об этом спрашивают себя и друг друга. Ждали каких-то новых слов, новых принципиальных решений. Их не было. Другие ожидали официального парада. Этого тоже не вышло. Разыгралась кое-какая драчка, размежевались какие-то группы, наметились какие-то мнения.
Никого сильно не били, не уничтожали. И это благо. Тон царил если не благородный, то сдержанный. Даже Софронов (каков!) и тот требовал дружеской критики. Но свежее, мощное слово не прозвучало. Кто мог произнести его? Фадеев? Слишком много грязных дел так или иначе связано с ним. Есть мнение, что без него было бы хуже. Может быть. Но на роль героя он не годится. Симонов? И он потерял право на свежее слово. А ведь сколько времени держался в рамках порядочности. Не выдержал, испугался, кишка тонка оказалась. Либерал – он всегда либерал. Он делает добро, покуда это ему ничем не грозит, фрондирует до первого окрика. Федин? Он не борец, тихий интеллигент. Не ему формулировать политические идеи, не ему вести за собой. Эренбург? За него многие из читателей. Но смог бы он говорить от имени литературы, когда такие люди, как Шолохов, говорят о нем с пренебрежением и враждой. Леонов?..
Один Шолохов обладает достаточным авторитетом, силой гения, бесспорностью содеянного. Но великий писатель не сумел быть великим человеком. Может быть, и его скрутило время, измельчило натуру, одаренную от природы могучим талантом. Вместо того чтобы развиться, стать судьею и арбитром, провозгласить принципы, без которых невозможно развитие нашей литературы, он опустился до степени мелкого сутяги, опозорил свой талант и звание русского писателя. Чехов по капле выдавливал из себя раба. Чехов проделал великий путь от мелких юмористических безделушек, от мелкого критиканства до большой думы о времени. Шолохов проделал путь обратный. Может быть, время, среда виноваты в этом. Кто еще из великих русских писателей вел бы себя так мелко и недостойно?!
Итак, простое, откровенное и смелое слово не было сказано. Значит ли это, что съезд вовсе не удался, вовсе не сыграл положительной роли? Нет. Наше общество очень медленно просыпается от гипноза. Слишком трудные годы лежат за спиной нашей литературы. Любые, даже небольшие проявления проснувшегося самосознания, общественной самооценки нужно приветствовать.
На съезде ясно выявилось, пусть не сформулированное словами, но ощутимое всеми неблагополучие в нашей литературе, а значит, и во всей идеологии. На съезде стало ясно, что группе мракобесов, реставраторов, выразителей вонючих идей противостоит сильный отряд честных, порядочных людей, не совсем растративших свой идеологический багаж. Фактически эти люди и победили. Эта победа не закрепилась в организационных формах, но она была достаточно явной. Они могли стать хозяевами положения, если бы не таинственная поддержка, которую получала «извне» «казачья группа». У власти в Союзе писателей оказалась группа промежуточная, «либералы», которые в душе скорее недолюбливают «казаков», чем сочувствуют им. На данном этапе и это хорошо.
Тезисы о современном состоянии литературы
Как ни глубок упадок нашей литературы, как ни ничтожна ее общественная функция и ее способность осмыслить действительные жизненные процессы, но и она пассивно, против воли или поневоле по-своему эти процессы отражает. Сами ее недостатки, а еще более причины этих недостатков свидетельствуют об определенных сложившихся общественных отношениях.
Внутренним противоречием самой нашей литературы является тот факт, что перед ней всегда ставились общественные задачи, и образцом для нее служили писатели с острой социальной проблематикой, но для решения этих задач она не могла воспользоваться реальным жизненным материалом и выразить его в форме реального человеческого характера, следовательно, лишилась содержания.
Энергия таланта и ума амортизировалась в бесплодных попытках вдохнуть жизнь в мнимые характеры или, наоборот, выхолостить содержание из реальных ситуаций и реальных характеров. Эта жестокая противоестественная работа обескровила и литературную форму. Деградировало литературное мастерство.
За немногими исключениями, любой роман, пьеса или поэма последнего десятилетия почти ничего не говорят о действительной жизни нашего общества и безнадежно устаревают, едва выйдя из-под печатного станка. Однако все вместе, сгруппированные в неком порядке, они создают (отнюдь не для читателя) любопытную картину литературного процесса и даже развития нашей жизни.
Нынешнее состояние литературы – результат тридцатилетнего пути, проделанного нашим обществом.
Историческая периодизация литературы не совсем совпадает с периодизацией политической истории, но с некоторыми сдвигами соответствует ей.
Литература есть общественное самопознание и, следовательно, общественная самокритика. Вне общественной самокритики нет общественного самопознания. Огосударствление литературы менее всего способствует выполнению ею общественных функций, ибо государство, как одно из порождений общественного процесса, обладает свойством приписывать себе некую самодовлеющую роль, роль безгрешного руководителя этого процесса, слугой которого на деле оно является. Усвоив эту точку зрения государства, трактуя свою политическую роль как прямое отражение государственной политики, литература теряет реалистический взгляд на жизнь общества, теряет предпосылки для подлинного общественного самопознания как общественной самокритики.
Классовость литературы и классовость научного познания означают, что и та и другая обслуживают интересы того или иного класса, что ради того или иного класса художественное или научное познание отказывается от своих специфических методов, отрекается от ценностей, завоеванных художественным или научным познанием. Можно сказать, что изобретение рычага обслуживало родовой строй, но как специфическое достижение научного познания рычаг не может быть отменен никаким другим строем, никаким другим классом и т. д.
Подлинный конфликт в литературе есть конфликт социальный. Таков был конфликт в литературе 20-х годов.
Идеология «культа», заменяя подлинные категории мнимыми, породила в литературе мнимый конфликт, изживая из нее конфликт социальный. Этот мнимый конфликт можно назвать конфликтом «шельмования». В мнимой литературе – мнимая литературная борьба между бесконфликтностью и конфликтом «шельмования» (Панферов).
Сентиментальный конфликт нашего времени. «Виноватых нет. Дурных нет» (поэма Грибачева, С. Антонов).
Истинность, верность познания проверяется практикой. Это относится и к художественному познанию, истинность, глубина которого проверяется общественной практикой.
Измельчание поэзии 30—40-х годов выражается прежде всего в ее общественной практике, в активной поддержке «культа» или, в лучшем случае, в пассивном неприятии его. Иллюзии «культа» так или иначе владели всей нашей поэзией. Ничто в ней не поднималось до прямого общественного протеста.
Одной из причин «измельчания», хотя и не главной, можно считать физическое истребление таланта.
Поэзия должна принять на себя всю меру ответственности за «культ». История нашего общественного развития может лишь объяснить нынешнее состояние поэзии, но вовсе не должна вести к оправданию ее.
* * *
У нас много говорят в последнее время о засилье «среднего уровня» в поэзии. И даже некоторые утверждают, что в некоторых отношениях этот уровень довольно высок, например, в области рифм и метафор. Есть мнение, что средний уровень в некотором смысле полезен, ибо разжевывает для «среднего» же читателя высшие достижения современной поэзии, делает их удобоваримыми и приуготовляет неискушенного читателя к восприятию истинных ценностей. Другие от среднего уровня приходят в ужас. Ибо по нему пытаются судить об уровне нашей поэзии вообще.
Я думаю, что оба суждения неправильны. О состоянии искусства судить по среднему уровню нельзя. Судить надо по высшим образцам. Ведь в искусстве, в отличие от науки, средний уровень не отражает общего состояния. Средний физик, решающий частную проблему, должен вместе с тем находиться на высшем уровне современного знания. Его малый успех в частной области, рядом с другими такими же успехами, может стать основанием для неожиданного взлета мысли, стать материалом для гениального обобщения.
В искусстве же для среднего уровня можно почти ничего не знать. В науке средний уровень – это высшие знания и средние способности. В искусстве – никаких знаний и никаких способностей. Хорошо сказал один великий скульптор: «Искусство – место неогороженное, всяк в него лезет, кто хочет».
Я не говорю о злостных невеждах и шарлатанах. Такие бывают и в науке, и в искусстве. Я говорю о честном среднем, о скромном среднем, о том, каких большинство.
Об искусстве надо судить по высшим образцам. Просветительская польза «среднего уровня» в искусстве для широкой публики тоже весьма относительна. Да, действительно, неискушенный читатель осваивает некоторые формальные достижения поэзии, учится преодолевать трудности чтения современного стиха, но вместе с тем он усваивает и посредственные мысли, а порой принимает эти посредственные мысли за истинный смысл поэзии. Ведь суть средней поэзии в том, что она питается посредственными идеями и выражает посредственные чувства. Она не помогает освоить высокое, а уводит от него. Блестящая форма, которая часто доступна и среднему поэту, обманывает читателя относительно мысли. Средняя поэзия – это прежде всего победа формы над содержанием, выхолащивание содержания из искусства.
Именно в кругах средней поэзии бытует мнение, что главное в поэзии – не смысл, а «пластика», «полифония», «артистичность». Но что такое эти понятия, если они взяты в отрыве от идей! Пластика в искусстве – это форма проявления мысли и чувства, совпадение их со способами выражения. Все другое – пустой разговор и шевеление пальцами. Можно привести примеры того, что и крупные поэты, теряя интенсивность мысли и чувства, не могут спастись никакой пластикой и со страшной последовательностью «осереднячиваются», то есть начинают выполнять убаюкивающую или одурачивающую читателя функцию средней поэзии. Крупные становятся средними. Бывает и наоборот.
Как некогда принадлежность к высокому, посредственному и низкому штилю ничего не говорила о таланте последователя одного из этих штилей, так и сейчас среди «посредственных» есть талантливые. В этой аналогии есть свой смысл. Ибо «средний» – это не просто уровень одаренности, а уровень идей и уровень стиля.
* * *
Вторая мировая война окончилась не в мае 1945-го, а в марте 1953-го. И только через десять лет после того, как отсвистали пули, стало ясно, что фашизм побежден.
Наступает время восстановления человеческих ценностей. Если они не будут восстановлены, человечество погибнет, погибнет нравственно и физически.
Человеческий смысл победы над фашизмом состоит в том, что разрушился миф о давящей, тиранической власти долга; человек возвращается к истинному человеческому понятию долга перед себе подобными.
Нет изолированных социальных систем, политических догм, моральных норм. Революция, происходящая в данной стране, не оторвана, не отделена стеной от того, что происходит во всем прочем мире. Мы живем в рамках мировой социальной системы, мировой культуры, общечеловеческой морали.
При всех различиях существуют идеи века, существует цивилизация XX столетия, развивающаяся противоречиво и бурно, как мировая система, все части которой отражают по-своему общие, единые процессы.
Классовая идеология вырастает из этой почвы, по-своему, согласно своим потребностям, формируя материал, представленный ей мировой цивилизацией XX века.
Ученый историк, социолог и экономист еще разберутся в том, почему первая половина XX века была временем уничтожения человеческой личности во имя долга, государства, нации. Этот процесс происходил по-разному, под разными флагами, в рамках разных социальных систем, он сложнейше переплетался с общественными преобразованиями, революциями, национально-освободительными войнами, явлениями прогресса общества, техники, культуры.
Был ли этот процесс исторически необходим, был ли он формой выявления величайшего напряжения сил всего человечества на пути прогресса? Был ли он величайшим тормозом на этом пути? Разобраться в этом нужно, но потом, когда утвердится главное. А главное состоит в том, что человечество отказывается жертвовать подлинными ценностями свободы, культуры и морали во имя мнимых ценностей внешнего долга.
Человека убеждали, и он сам убеждал себя в том, что счастье возможно, если он отречется от самого себя во имя государства или нации. Государство поставило себя выше морали, выше свободы, выше человека. Якобы служа ему, оно уничтожало его как личность. Оно оправдывало отцеубийство, предательство, ложь, совершенные ради него. Все моральные ценности были опосредованы в государстве и вознесены на недосягаемую божественную высоту.
В великих страданиях Второй мировой войны разрушился этот миф. Люди хотят непосредственной свободы, не «высшей» мертвенно-холодной идеи свободы, существующей в эмпиреях государства и бросающей на человека тень тюремной решетки. Люди хотят непосредственной демократии, не «буржуазной» и не «социалистической», а той, в которой ничем не оправдываются пытки, ложь, зажатые рты, угнетенная совесть, не той, которая существует в эмпиреях государства для полубогов, а истинной, очеловеченной, домашней, городской, повседневной.
Люди хотят непосредственной морали, тех десяти заповедей, которые ничем не оправдывают убийство, предательство, подлость, а не той «возвышенной» морали государства, которая разрешает все во имя своего абстрактного эгоцентризма.
Люди хотят любви к человечеству, истинной, правдивой, не пышной и не сентиментальной, ибо пышная жестока, а сентиментальная подла.
Люди хотят подлинного искусства. Не снисходительного и геройского, не дидактического и барабанного, не чувствительного, а полного скромного мужества и доброты, способного сказать правду о простом человеке, не унижая его.
Искусство делает первые шаги на этом пути. Это итальянское кино, это проза Хемингуэя, это музыка Шостаковича.
Довольно уже морочила нам голову эстетика, утверждая, что прекрасное есть жизнь, что прекрасное есть действительное, что прекрасное есть истина и т. д. Слишком далека от прекрасного была жизнь человечества, а прекрасная абстракция жизни была той почвой, на которой вырождалось искусство.
* * *
Новый тип человека еще не оформился, есть только его зачатки, общий абрис, несовершенное подобие. И это естественно. Ибо новый тип рождается из нового образа действий. И после того, как прояснился новый образ действий. Тип рождается из образа действий, а не наоборот.
Нет этого типа и в литературе, хотя намечаются его отдельные черты. Литература может помочь оформиться новому типу человека, помочь ему осознать себя. Но не может его придумать. Отдельные черты этого человека существуют в обществе и проявляются в литературе, но еще не целостно, не в форме особого характера. Эти черты чаще всего проявляются преувеличенно и изолированно и, являясь по сути положительными чертами, в реальных проявлениях несовершенного характера искажаются под влиянием старых критериев самооценки или закосневших черт, не изжитых человеком, вросшим всеми корнями в предыдущую эпоху. Преувеличенные качества в несовершенном и надорванном противоречиями характере выявляются либо как агрессия, либо как рефлексия. На попытки сочетать положительные свойства с общим фоном личности уходит слишком много сил и обеспложивает сами положительные свойства. Преувеличенные достоинства чаще всего настолько обесценивают личность, что уводят ее от самого главного – от образа действий. Положительные качества без образа действий – наиболее общее определение «честного» интеллигента нашего времени. Его совесть, его честность, его всепонимание, его негодование – все это существует вне образа действий и, следовательно, относится к предыдущей эпохе, к эпохе оценки и самооценки, а не к будущей эпохе – эпохе образа действий. Для справедливости следует сказать, что достоинства современной личности являются базой для образа действий. И возможны обстоятельства, когда образ действий неминуем.
Рождающийся новый тип человека ниоткуда не может ждать помощи в процессе своего формирования. Его может поддерживать сочувствие, но организатором своего «я» может быть только он сам. Поэтому тем, кто прикоснулся к образу действий и, следовательно, ближе к новому типу, чем другие, следует скрупулезно следить за явлениями собственного формирования. Ибо сам образ действия, преломляясь в несовершенной личности, может стушевать и исказить ее неустойчивые положительные свойства и проглядеть укрепление отрицательных. Образ действий не может служить оправданием для формирующегося нового типа, ибо опыт истории показывает, к чему приводят двойное понимание нравственности, релятивизм нравственных норм у активной личности.
Основное определение нового типа человека – нравственная личность без изъятий. Любое изъятие обесценивает эту личность и сводит ее к уже существовавшим образцам, потерпевшим историческое крушение.
Образ действий проявился в современности гораздо ярче, чем новый тип человека. Есть основания предполагать, что новый образ действий может быть массовой идеологией.
Диалектика этого образа действий такова, что он, доведя до логического конца недостаточный принцип, например, принцип национальной свободы, может преобразоваться в нечто более важное. Личность не может, чтобы стать новой, базироваться на старых критериях. Она должна порвать со всеми способами прежних оценок и самооценок. Образ действия, наоборот, органически связан с бытием массы, нации, народа, с его историческим самосознанием. Он может вырасти, только развивая органическое самоощущение массы. А это ощущение в наше время неминуемо связано с национальным ощущением. Это самоощущение, разделяя человечество, вместе с тем создает сферу конкретизации понятий нравственности и свободы и через страдание возвращает народ к идее человечества. Ряд примеров этому дает наша современность.
* * *
Проблема преодоления одиночества, о которой так много говорится в XX веке, отнюдь не нова. Были эпохи, когда она стояла не менее остро. Можно сказать, что преодоление одиночества как главная потребность социальной психологии существовало всегда. И основные законы социальной психологии здесь совпадают с законами личности. Ибо именно в процессе преодоления одиночества личность выступает как социальное явление.
На первый взгляд кажется, что для преодоления социального одиночества личность должна присоединиться к множеству. На самом деле наоборот. Преодоление одиночества состоит в выделении из множества. Одиночество – категория эмоциональная, в нем не столько осознается, сколько ощущается ущербность времени и неполноценность соотношения человека с явлениями социальной жизни общества. А эмоция есть нечто конкретное, нечто наличное и потому либо, расплываясь, уводит личность от образа действия, либо требует самоопределения путем выделения из множества, то есть конкретизации в действии. «Лишние люди» Чайльд-Гарольд, Онегин или Печорин – лишние не потому, что они выделены из множества, а именно в силу непреодолимой погруженности во множество, бесплодности выделиться из множества в любовь, войну, в религию или в политику. Они люди множества и потому неспособны к действию или любви. Любовь – самый простой пример преодоления одиночества путем выделения из множества. Здесь из множества выделяются двое.
На этом простом примере видно, что процесс выделения является естественным законом психологии. То же относится и к психологии социальной.
История знает огромное количество форм выделения из множества: каста, класс, религия. Сам процесс этого выделения есть нечто активное, требующее эмоциональных усилий, и порой проявляется в самом жестоком и кровавом виде.
Таким процессом было выделение пролетариата и его классовой идеи интернационализма. Выделение революционных партий и их путь к власти – всегда болезненный, жертвенный и жестокий процесс.
Социальное выделение часто предполагает нетерпимость и жестокость. Но результаты нетерпимости и жестокости как методов преодоления социального одиночества и достижения психологического равновесия общества ничтожны. Это доказано всем ходом истории.
В наше время процесс классового выделения из множества закончен. В обществе происходит перемещение и смешение классовых групп, их разрушение и замена новыми, еще не вполне осознавшими свою потребность выделения. Сложные связи современного государства затемняют, порой умышленно, этот процесс.
Поэтому главный способ преодоления социального одиночества в наше время – национализм. Это самый естественный процесс в пору крушения иллюзий по поводу возможности преодоления социального одиночества посредством выделения в класс или государство. Идея общества совпала с идеей нации.
До известного времени казалось, что нация – явление устаревшее. Исторически это неверно. Никогда категория нации не была способом столь категорического обособления. Нация как форма преодоления одиночества – явление, исключительно присущее XX веку.
Варианты национализма XX века, еще смешанные в сознании с прежними формами выделения – классовыми (национал-социализм), принимали и принимают столь отвратительные формы (выделение вплоть до уничтожения других множеств), что национализм казался чем-то противоположным гуманизму, чем-то несовместимым с жизнью человечества. Между тем невозможно не считаться с тем, что он является в наше время наиболее живой идеей, идеей наиболее массовой.
К этой идее надо присмотреться. Может быть, в основе ее лежит не только идея самоутверждения за счет других множеств, но и содержатся некие перспективы, некие способы действий, более эффективные в будущем, чем способы действий классов и партий.
Есть громадная разница между выделением сильных и выделением слабых. Национализм присущ и сильным, и слабым нациям. Мы видим в наше время, сколь различны эти два вида национализма. Но это лишь поверхность явления. В сильных нациях тоже происходит процесс очищения национализма от идеи власти. Здесь заложены огромные перспективы, которые, возможно, изменят все наши представления о национальном осознании. Видимо, главная борьба за права человека развернется именно на этой почве, когда «выделение в нацию» закончится и начнется новое выделение из уже неудовлетворительного множества – «выделение в свободу». На этом этапе неминуемо родятся новые, необычные способы действия, в которых будет учтен печальный опыт человечества, выделявшегося в классы и партии. Черты этого нового способа, способа активного нравственного выделения, уже проявляются в нашей истории и становятся формой массовых действий целых народов.
Из прозаических тетрадей
О поколениях советской поэзии
Странная у нас периодизация поэзии. Не по возрастам, а по территориальной принадлежности. К первому поколению советских поэтов причисляют тех, кто жил или, на худой конец, умер (как Цветаева) на территории Советского Союза.
Можно ли считать первым поколением советских поэтов Блока, Брюсова, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Есенина, Хлебникова, даже Маяковского – гениев, родившихся в конце прошлого века и уже вступивших на стезю поэзии до 17-го года? Они формировались иным временем и по-своему проживали наши времена, с трудом их выдерживая, не умея сдержаться и погибая от нашего времени, как Есенин, Маяковский, Цветаева, Мандельштам.
Твердые гении, впрочем, дожили до старости – Ахматова, Пастернак. Доказав, что не счастье прочно, а характер. Счастливый Пастернак и несчастливая Ахматова, нетрадиционный Пастернак и традиционная Ахматова; Пастернак приемлющий и Ахматова неприемлющая; Пастернак сперва нетвердый, а потом твердый, Ахматова сперва твердая, а потом нетвердая перед славой; Пастернак, вкусивший сперва, Ахматова, вкусившая потом; Пастернак первых иллюзий, Ахматова последних; Пастернак счастливый сперва, Ахматова – потом; Пастернак страдающий, Ахматова сострадающая; Пастернак неконтактный, Ахматова общительная – это два характера, принадлежавших не территории, а времени, скорей не нашему, а предыдущему.
Наше время долго рожало свою поэзию. Первое поколение – это Тихонов, Сельвинский, Кирсанов, Заболоцкий; второе – Твардовский, Павел Васильев, Б. Корнилов, Тарковский, Мартынов, Липкин, Петровых, Симонов – и все алигер. И конечно, Смеляков. Поколение несчастное, полуубитое поколение.
Третье – наше. Неполучившееся военное поколение. Луконин, Наровчатов, Слуцкий. Убитые на войне: Кульчицкий, Коган, Майоров.
Особо – Глазков.
Сюда же – Гудзенко, Межиров, Окуджава, Винокуров, Коржавин.
Четвертое – Евтушенко, Ахмадулина, Корнилов, Мориц, Вознесенский и иже с ним.
Особо – Бродский. Самый большой поэт четвертого поколения. И так же отрицающий поколение, как Глазков свое поколение и как, может (подумать!), Тарковский – Петровых – свое.
Пятое приходит еще дольше и мучительней.
Пока это только Ефремов.
Есть еще полупоколение, которое следа не оставит: Куняев, Шкляревский и им подобные.
Наш учитель
Начал писать стихи, когда все было можно, и от того, что «не можно», умел отказываться всю жизнь, потому что «не можно» не хотел и боялся. На том и загубил себя. Самый бездуховный поэт России, самый большой из бездуховных – наш учитель Илья Сельвинский. Не знаю, у кого бы нам еще учиться. Кто бы взялся нас учить тогда, в довоенную пору, когда Ахматова пребывала в долгом изгнании, когда Пастернак в трагическом благополучии выкапывал метафоры в огороде переделкинской дачи, пугаясь растекающихся по поэзии учеников, предвидя самовитый доплеск своей интонации куда угодно – хоть до подлости, – и посему ответственность с себя снимал. Плевал он в уникальности своей – что будет дальше с поэзией российской. Кто еще? Антокольский Павел Григорьевич? На «Павлик» выпивавший с учеником. Уже тогда, в довоенную пору, он был милый смешной дуралей. Багрицкий умер. Заболоцкого не было. Тихонов пребывал бог знает где. Луговской в учениках не нуждался – тогда молод был и смел, только сейчас понятно – бровастый красавец – на кой ему ученики – и слава богу – чему он мог научить, когда и сам мало что умел. Луговской – враль, герой, а по правде – трус. Слава богу – учитель был тот, кто единственно хотел и мог быть учителем, – Илья Сельвинский.
Счастье нам выпало, что он был учителем. И сам нас избрал. Каков бы ни был Сельвинский, он учитель наш. И хотел бы, чтобы ученики, превзошедшие нас, той же вечной любовью – а в поэзии нет любви невечной – отплатили нам, как мы – редкие уже, один-два, – вспомнили нас и простили.
Недавно прочитал том стихов Сельвинского в «Большой серии». Читал порой с волнением, вспоминал давнее впечатление от нравившихся строк, потом с раздражением, когда натыкался на переделки и подчистки. Том большой и Сельвинского представляет. Он сам подчищал и подправлял свой портрет. Таким он хотел предстать перед потомством. Замах у него был достаточный для гения. Ума хватало для таланта. Таланта хватало для хлестких строк, для запоминающихся метафор, для необычных рифм и ритмических перебоев. Не хватало – для «распева», для вольного чувства. И, ощущая это чутьем таланта, он имитировал в поэзии страсть, и музыку, и задыхание. Для страсти вздыбливал стих, а распев имитировал «эст»-ами, тире, «гайдаларами», «тара-тинами», наконец, чудесным подчиненным голосом – баритон, бас, фагот. Поэзия его – манифест для фагота и барабана.
Читал стихи он блистательно. Откуда-то изнутри, расширяя грудь, шел басовый мягкий звук, прохождение которого было видно, как прохождение кролика во чреве удава. Это зрелище или слухалище завораживало. «Белый песец» переставал быть мадригалом и слышался гениальным стихотворением.
Он нравился нам, великий имитатор. Ибо в ту пору, когда всю литературу выжимало в имитацию литературы, он один имитировал с удовольствием, с артистизмом, без натуги – имитировал лирику, эпос, трагедию, философию.
Придумывал себя-гения, себя-школу, направление искусства. И мы, им обласканные и обольщенные, мастерством его увлеченные, с почтением, если не с восторгом, приближались к его муляжам, наивно поражаясь их сходству с подлинными предметами поэзии.
Было у него чему поучиться!
…Поэты нередко про себя выдумывают, изображают позу, но беззащитно себя раскрывают; если вдуматься, вчувствоваться в стих, в нем всегда ощутишь подлинное душевное устройство и порой посмеешься или поплачешь, обнаружив беспомощный механизм горькой или утешительной выдумки.
У Сельвинского – иное. Он выдуман весь, от точки до точки. От характера до биографии, от чувств до мыслей, от любви до ненависти, от друзей до врагов. И в какую-то пору выдумка эта соответствовала духу времени, жаждавшего воплотиться в формы «монументальной пропаганды», когда Охотный ряд разлиновывали гигантскими фигурами пролетариев и красноармейцев со знаками новой символики.
Но для монументального искусства нужен подходящий материал. Иначе оно быстро линяет. Слинял и Сельвинский. Давно стал крошиться его искусственный мрамор.
Сельвинского, до того как однажды осенью 38-го года решились мы – Коган, Наровчатов и я – явиться к нему, видел я уж не помню где. Лет ему было сорок. Седина еще не пробивалась в шатенисто-волнистых волосах украинского еврея (нацию свою он тогда именовал – крымчак). Очки в толстой оправе. Прищуренные глаза. Одет в спортивный костюм, в бриджи, бывшие тогда признаком технократизма. Широкоплечий, крепкий, уверенный в себе человек, рано познавший славу.
Этот человек, может быть, и вовсе недостоин воспоминания, не то что целой главы, хотя бы и самой маленькой.
Все же я посвящу ему несколько страниц – не потому, что он сыграл какую-то роль в нашей литературе, а скорее потому, что повлиял известным образом на формирование моего взгляда – каким должен быть писатель. Точнее сказать, он был для меня ранним образцом того, каким писатель быть не должен.
За эту отрицательную науку я бы должен был испытывать к нему нечто вроде извращенного чувства благодарности, если бы нас не связывало более стойкое чувство взаимной неприязни.
В 1936 году, когда я познакомился с Александром Безыменским, ему было всего лишь под сорок. Между тем он был уже знаменитый поэт, и его стихи изучались в школьных программах. По тогдашнему развитию некоторые куски из «Трагедийной ночи» казались мне эффектно написанными.
А. И. Безыменский был дородный мужчина, круглоголовый, с плешью, обросшей по бокам торчащими волосами, с глазами навыкате, с небольшими усами щеточкой. Он страдал каким-то родом нервного тика, от которого хмыкал носом, словно втягивал соплю, и слегка вскидывал голову. Все это мало напоминало портрет надсоновского юноши, изображавший совсем молодого поэта и висевший против стола в кабинете Безыменского.
Плохо сочетался с фигурой знаменитого поэта его высокий голос, какой-то писклявый и сорванный, особенно когда он, подвывая, читал стихи. Поскольку мне поначалу не с кем было сравнивать, я воспринял внешность поэта и даже его смешные стороны как нечто должное и даже как законный удар реальной действительности по романтическому представлению об облике поэта.
Перед теми, с кем он не хотел всерьез разговаривать – а я не знаю, мог ли он что-нибудь сказать всерьез, кроме «чего изволите?», – он все время припевал и приплясывал, произносил какие-то непонятные словечки и темные шуточки. Кажется, играл рубаху-парня и отчаянного весельчака.
Рядом с поэтом, а может быть, и над ним возвышалась фигура его жены – Рахили Захаровны, женщины малого роста и субтильного сложения, некрасивой, старообразной, с какой-то хронической коростой на губах, с острым и злобным взглядом.
О Твардовском
Как ни странно, Твардовский великий поэт только потому, что написал «Теркина». Удивительно, что сам он долго не понимал смысла «Теркина», а может, до конца и не понял.
Твардовский написал последнюю русскую былину. Изобразил последнего крестьянского богатыря и тем самым приобщился к последнему акту великой крестьянской трагедии, так мощно завершившейся последней войной.
История нашла потрясающий финал для трагедий многих веков – трагедия, которая могла бы угаснуть в оптовых комплексах Новых Черемушек, чеховским угасанием питая литературу, [которая] до сих пор не осознала размаха и значения произошедшей неминуемой трагедии.
«Новый мир», т. е. его проза, осознанно или неосознанно был для Твардовского продолжением «Теркина», его темы.
Поэтическая эпопея доживалась прозой. В этом смысл существования «Нового мира», гораздо более великий смысл, чем либеральная публицистика и эстетика этого журнала.
«Новый мир» дописывал «Теркина», может быть, более остро, но никогда так обобщенно, нутряно и всенародно.
Леонид Мартынов
Пастернак и Ахматова принадлежали веку. Они уже не зависели от времени. Они были.
Большинству поэтов отпущен краткий срок цветения. Это не значит, что они до этого срока писали хуже или после угасли. Их стихи принадлежат определенному времени, выжидают его, готовятся к нему и уходят вместе с ним. Есть поэты, которым так и не удается дождаться своего часа. Другие живут этот час и редко его переживают, ибо слишком много сил надо иметь, чтобы выразить летучие идеи быстро сменяющихся времен, надо суметь сконцентрировать эти силы, выложиться целиком. И достойно уйти обратно в поэзию с поверхности славы, признания, шума. Кое-кому удается выразить нечто нужное человечеству в данный час.
Мало кому удается достойно уйти. Жить и писать по-прежнему.
После 1954 года наиболее подготовленными к «оттепели» оказались три поэта – Мартынов, Слуцкий и Заболоцкий.
Мартыновские поэмы мне нравились еще до войны. О нем мы знали мало. Необычная интонация, которую теперь он так неудачно пародирует, привлекала к нему многих молодых поэтов и любителей стиха. Он легко был отличим от прочих. Он был раскован и странноват. В нем не было категоричности и злобы, от которой устала поэзия. В нем был подлинный талант, еще не убитый манией преследования.
Мы познакомились у Слуцкого. Мне он был любопытен. Я его не заинтересовал. Сердечной близости у нас не возникло. Было множество споров, вызванных скорее взаимным раздражением, чем потребностью найти истину. Сперва мы встречались у Слуцкого, потом в доме Гидашей. В Агнессу он, кажется, был влюблен. Дважды были с ним в Венгрии.
В начале своей славы он жил с женой и старенькой тещей в ветхом деревянном доме на одной из Сокольнических улиц.
В крошечных комнатенках полно было книг. Книги он читал разные, больше о науке. Собирал камни. Его пристрастие к науке было типичным увлечением дилетанта. Как человек со сдвинутой психикой, он легко усваивал идеи о непосредственной связи явлений космических с человеческим существованием. Это не образует в нем пантеистической успокоенности, а, наоборот, тревогу о своей повседневной зависимости от состояния солнца, ветров, дождей, воздуха. В газетах он читает о погоде. Не любит, когда в его присутствии зажигают спички. Ест мало, больше овощное. Боится заразы. И чего только не боится этот поэт!
Больше всего он боится смерти, небытия. Его жажда славы, наивная и плохо скрываемая, – тоже один из вариантов боязни небытия. Он тщится запечатлеть свое существование в этом мире. Он завистлив к славе и отличиям.
О поэзии Слуцкого
Традиция поэзии Слуцкого – от плаката 20-х годов плюс локальный образ конструктивизма. Нарочито укрупненные, броские пропорции стиха, мысль, данная крупным планом, угловато, четко и подтвержденная резкой «локальной» деталью. Нарочито резкий, грубоватый язык, ломкие ритмы – вот внешняя характеристика его поэзии.
Внешнее хорошо выражает внутреннее. Виднее всего это на военных стихах. Война показана Слуцким в формах плаката. «Я» там – не «лирический герой», не эпический наблюдатель, «я» – условное, плакатное, грубо очерченный контур, в который замыкается всегда ясная идея стихотворения. Ораторская интонация стиха почти всегда подтверждена ясным намерением автора и почти всегда спасена в поэзии «деталью», обнаруживающей очевидца, придающей достоверность сказанному.
Намерение Слуцкого в стихах о войне – объяснить народу его подвиг, растолковать ему, что он совершил нечто великое, и раскрыть трагические обстоятельства, в которых это великое совершается.
Намерение прямо противоположное намерению Толстого, пытающегося найти в структуре войны исконные, нетленные черты народного быта и народного характера, которым по существу чужда война, – от капитана Тушина до Платона Каратаева.
Слуцкого не интересует истинное самоощущение народа на войне, «истинные», «внутренние» цели народного бытия, неправомерно выражающегося в войне.
От войны он берет лишь детали, достоверную внешность, придавая ей свое возвышенное, ораторское.
Трезвость Наровчатова
Я посвящаю отдельную главу «Памятных записок» Сергею Наровчатову не ради его официального восхождения последних лет. Как личность яркая и незаурядная, он воплотил в себе целый тип нашего времени. Это тип продавших первородство не за чечевичную похлебку.
За что же? Вот вопрос.
Любопытно, размышляя о судьбе Наровчатова, проследить, как конкретно отлагалась в отдельной личности общая, казалось бы, концепция одного поколения. Как концепция эта прикладывалась хотя бы к нравственной натуре Слуцкого и безразличной к нравственному моменту натуре Наровчатова.
Наровчатов тоже выходец из посредственного класса. Его дворянское происхождение – миф.
Его восхождение есть тоже восхождение из посредственного состояния, из единственного сохранившего плавучесть в наши дни в нашем обществе.
Восходящий класс нуждается в исторических воспоминаниях и потому пририсовывает мифические ветки к русской дворянской генеалогии.
Нравственные же начала, столь мощные в русской дворянско-интеллигентской культуре от Пушкина до Пастернака, начала, развитые до болезненности, до терзательства и самоистязания, – начала, ставшие в глазах всего мира признаками русского духа, – эти начала не произрастают на пририсованных генеалогических ветвях.
Напротив, как бы рождается новый современный тип русского цивилизованного человека, тип прозаический и лишенный мук совести. Тип уже не русский, а византийский.
Человеческая молекула движется среди других людских молекул не беспорядочным Броуновым движением. Ломаным путем она все же продвигается в одном направлении, к цели, запрограммированной в социальном составе миропонимания.
Это не вульгарная социология, которая не учитывает крутые повороты, волевые импульсы, источаемые талантом и совестью, заставляющие менять направление, обусловленное косностью или свежестью социальных идей.
И все же я, честно говоря, ближе к вульгарной социологии, чем к сентиментальному индетерминизму.
В жизни Наровчатова ярко прочертилась линия его социальной судьбы – избранной как бы в полном уме и здравии и вместе неотвратимой, как рок, оправдываемой всей силой ума и богатством эрудиции; принимаемой всем бессилием таланта и изъянами совести.
Конечно, все это легко разглядеть сегодня в Наровчатове, произносящем речи, интересные только с точки зрения социальной психологии. 19-летний Сергей Наровчатов, студент второго курса ИФЛИ, казался ярко одаренным и был необычайно красив.
Одаренность в этом возрасте всегда – лишь обещание. Обещание подтверждалось поэтической красотой Сергея, его уверенно-ленивой походкой, чуть вразвалку, магаданскими унтами и мохнатой зимней шапкой, очертаниями юношеской шеи, распахнутым воротом, синевой глаз, любознательностью, жадностью к чтению, неутомимостью в серьезном споре.
Он отрешался тогда от постоянного осознания своей красоты, целиком погружаясь в стихию мысли. И дымил папиросами – одна за одной, – неаккуратно тыча куда попало окурки с изжеванным мундштуком.
Стихи его были тогда романтические, скорее всего тихоновского толка. Тихонов – образец и предтеча Наровчатова. Те же социальные признаки – мещанин, метящий во дворянство, преклоняющийся перед идеей власти и вожделеющий власти, променявший истинные ценности на иллюзорные и тем выражающий эфемерность исторического существования «посредственного класса».
«Северная повесть» – с долей сентиментальности:
Поднялся этой ночью Гагар истошный крик. Не гуси ль провожали Ее на материк!.. Нехоженой дорогой Мы шли совсем одни, Мы шли на портовые Далекие огни.Он читал с придыханием, со своеобразными паузами посреди слова: «Да-лекие огни…», «О-фели-я, ним-фа! Ко-торый раз!». Но это смешно теперь: при этом пришептывал обаятельно.
Нужно сказать, что смешноватая сторона романтического шика ощущалась уже тогда.
Был холод такой, что даже ром Приходилось рубить топором… И заяц уходит за цепи гор… —писал я в пародии «Охота на зайца». Мы, впрочем, беспощадны были друг к другу и с удовольствием выискивали слабости. Это называлось «качать воду».
С Сергеем мы подружились быстро, вскоре объединились в одной поэтической компании.
Иногда, сбегая с лекций, забирались к нему, в крошечную комнатенку возле Сретенского бульвара, и трепались полдня об истории и литературе. Знания Наровчатова обширны и основательны. Потом приходила с работы его мама, библиотекарша, Лидия Яковлевна, злая, честолюбивая женщина, вложившая свои пагубные гены в Сергея. Тогда мы расставались.
Непростое дело Сергей Наровчатов! Мне тут порой говорят: с кем ты аукался! Мы ведь и с бо́льшими пытались аукаться.
Повторю: я не судья, ибо суд начинать надо с себя; не обвинитель – ибо себя винить не решусь; не защитник, ибо себе не защитник! Я – свидетель. И пожалуй, свидетель защиты.
С Наровчатовым – что ж? Там мелькнула у меня фразочка о нравственном недомыслии в пору финской войны. Да, пожалуй. Но Сергей – человек масштабный, не хуже других нас. И масштаб свой, может быть, тогда понял шкурой, конечно, а не умом. И до смерти. Он себя защищал, но до полной погибели. Рискуя и смерти не боясь. А другие ведь и себя даже защищают лишь до полусмерти. И в полусмерти этой своей, в полужизни не аукнутся и не откликнутся, как сверчки в коробочке.
Нет, конечно, надо судить. Но лишь тех, кто кровь пролил. Не свою – чужую. Не в переносном смысле, а в прямом.
Да и тут, черт подери, возникают проблемы. Я ведь тоже, может быть, пролил. Защищаясь, но пролил. Ну а те, кто не пролил? Ни чужой, ни своей. Никакой. Да разве они судьи тому же Наровчатову из своей полусмерти, полужизни?
О Левитанском
Главная тема зрелого Левитанского – верно ли ему отмерено славы за то, что он такой умный, талантливый и всепонимающий.
Вот, дескать, жил я правильно – не подличал, не кривил душой, был верен дружбе и добрым принципам, но в этом мире разве это ценится? Нет, недоплачено мне, Левитанскому, славы. Ну и бог с вами…
А Левитанский действительно умный, талантливый, много знающий и в высшей степени наделенный юмором, когда дело касается других. Он хорошо видит смешное в других, смешное в чужих стихах. Но полностью теряет юмор, когда касается свербящей темы: нет, недоплачено Левитанскому славы!
Насколько выше была бы его поэзия, насколько нужней был бы он читателю, насколько больше имел читателей, а в какой-то момент мог бы стать чуть не первым выразителем интеллигентского состояния – насколько выиграли бы ум и талант Левитанского и приобрели значение его знания, какую прекрасную интонацию юмор добавил бы к лирике, если бы поэт сумел отказаться от излюбленного вопроса – что же это Левитанскому славы недоплачено? Почему? А вот почему…
Левитанский все время предъявляет гамбургский счет. Но не себе, а миру. Он пишет как бы о главном – о жизни, о смерти, о любви, о дружбе. Но всегда с одной позиции – был бы я, Левитанский, похуже, все было бы у меня получше – и жизнь, и любовь, и старость.
Недоплачено мне, воистину недоплачено мне.
О Межирове
Страх перед сталинизмом сформировал Межирова. Страх был внушен отцом, интеллигентом из эсеров. Страх породил двоедушие. Фантазия и талант преобразовали страх в мистификаторство, гофманиаду. Природный ум запутался во всем этом. В результате и образовался Межиров – враль и обаятельный подлец.
Насколько Межиров удивлял тонкой причудливостью ума, настолько Урин поражал полным его отсутствием. Он развивался как доказательство тезиса, что поэзия без ума невозможна. И со временем стал дурак опасный.
Межирова же я сразу угадал, что он артист, и актер, и враль. И восхищался его умом и вольным талантом.
Про себя врал, что найден на помойке. Врал он про себя и про родителей. Дескать, отец был боевой эсер, а мать циркачка. На самом деле это были тихие, интеллигентные люди. Я их знал. В отце сидело убитое честолюбие и страх. Саша унаследовал и то и другое. Страх и тщеславие – два основных подтекста всех его причудливых мистификаций.
Позже я понял, что он холоден и убит страхом. У него любовь к грязце. Там, где чудится трупный запах разложения, мелькает тень Межирова. Он актер театра гнилых марионеток. Этой игрой он мстит миру за потомственный страх.
«Двуногие женщины для меня пройденный этап», – заявил он, молодой и пьяный, волочась за одноногой и сумасшедшей. Тогда эта фраза казалась смешной.
Он пил, но не спился, играл в карты, но не продулся. Однажды в Тбилиси Эм. Фейгин ездил отбирать у шулеров межировский проигрыш.
«Ты воров любишь, а воровать не пойдешь», – сказал ему один бывший лагерник.
О Кузнецове
Потребность самолично назначать себе цену – черта не уникальная, в поэзии довольно распространенная у молодых поэтов, обойденных вниманием редакторов, критиков или читателей. Иногда поэт столько сил затрачивает на убеждение себя и других в своей гениальности, что на другое их просто не остается.
Лукавый Глазков постоянно обыгрывал завышенную самооценку, переводя ее в иронический способ подачи себя в поэзии:
Меня простит моя страна, Господь простит мои грехи. Я лучше всех пилю дрова И лучше всех пишу стихи.Все «слишком» выпирает из поэзии. Спасает от этого самоирония. Нельзя слишком благоговейно относиться к себе.
Кузнецов – поэт крайностей и преувеличений. Мысли его не столько оригинальны, сколько выражены с необычайной категоричностью, иногда думается, что Кузнецов хочет не убедить, а эпатировать, поставить в тупик, чуть ли не оскорбить того, кто не приемлет содержание или даже форму его высказываний.
К примеру, констатируя неблестящее положение нашей поэзии (мнение вполне ходячее), он не делает вывод о том, что не хватает гения, или о том, что все мы, в том числе и он сам, виноваты в неблестящем положении поэзии, – нет, Кузнецов утверждает, что в поэзии есть только он один.
Может ли нравиться художник, чуждый тебе по мыслям? Может, если в нем есть то, что в поэзии выше мыслей, что порой противоречит строю мыслей, – подлинно поэтическое восприятие действительности, высшая мыслительная сущность поэзии.
Кузнецов остро переживает исторические трагедии России. Их мрачную тяжесть постоянно несет он на своих плечах. И стихи его часто проникнуты мрачным колоритом.
Трагизм русской истории Кузнецов видит в том, что Россия постоянно изнемогает под натиском врагов внешних, а то и внутренних. Образ врага постоянно сопутствует образу России в поэзии Кузнецова. Борьба эта гиперболична, почти космична. Кузнецов не видит трагизма истории в факторах социальных, экономических и политических, т. е. тех, которые создают движение истории и которые вольнй изменить современное общественное устройство России. Мрачная неподвижность царит в истории Кузнецова.
Что ж, возможна и такая точка зрения. Не знаю только, может ли она стать точкой зрения общества, сохранившего историческую память, где наиболее мрачные страницы занимают периоды поиска врага и расправы над ним.
Отсутствие чувства вины и ответственности, перекладывание вины на врага создает и некую историческую безответственность. «Мальчики кровавые в глазах».
Бродский и его читатели
В начале 60-х годов «молодые» были способны выразить потребность общественного самосознания. Но уже тогда не способны были ее удовлетворить. Это оказалось верным не только по отношению к тем, кто боролся за «свободу формы». Не оказалось поэта, способного насытить общество идеями, и на другом фланге поэзии – в поэзии непечатной.
Это относится к самой яркой фигуре непечатной молодой поэзии – к Иосифу Бродскому. Автор длинных поэм и больших стихотворений, он напечатал на родине лишь одну строчку, взятую эпиграфом к стихотворению Ахматовой: «О нас напишут наискосок».
Тем не менее стихи его хорошо известны в списках большому кругу истовых любителей поэзии. После известного «дела Бродского» в Ленинграде книга его была издана на Западе, а имя стало популярным в среде интеллигенции.
Фигура Бродского своеобразна и не лишена колорита. Он несомненно талантливый и необычный поэт. Он отличается от большинства поэтов своего поколения приверженностью к традиционной форме. Но едва ли эта традиционность делает его доступным для большинства читателей. Да и традиционность Бродского кажущаяся. Его недоступность ничего общего не имеет с формальной сложностью Вознесенского, строящего замысловатые ребусы с элементарной разгадкой. Вознесенский обращается к «квалифицированному читателю», к читателю-специалисту. Он требует от читателя опыта и интеллектуального ценза.
Бродский ничего не требует от читателя, ибо не обращается к нему. Он неконтактен и непознаваем. Его увлекает в стихе лишь поток ассоциаций, их алогический ход, в котором он ничего не желает прояснить для читателя и, может быть, уяснить для себя. Он не прибегает ни к каким ухищрениям формы, потому что глубоко погружен в смутное содержание поэзии, которую не назовешь философской, потому что в ней нет никаких дефиниций, не назовешь гражданской, потому что в ней нет пафоса и любви к человечеству, не назовешь интимной, потому что в ней нет «Другого», нет ни мольбы, ни обращения, ни любви.
Это поэзия своевольного хода ассоциаций. Свобода ассоциаций – единственный вид свободы, на котором настаивает Бродский. В его мире существует лишь одно «я», страдающее, порой негодующее, но не по поводу законов всеобщих, а лишь по поводу несовершенства законов его собственного внутреннего мира. Это страждущее «я» в силу понимания своей исключительности и единственности заносчиво и лишено снисходительности. Оно не предъявляет требований миру, не хочет быть понятым миром, но не желает ничего отдать миру из своей исключительности, из своего самоценного значения.
Его поэзия могла бы стать цинической, если бы не подлинное страдание, заключенное в ней, страдание, непостижимое для смертных, но реальное для поэта. Читатель оказывается добрей сверхчеловеческого поэта, ибо откликается на его страдание, на его стон и карканье, оказывается бескорыстней поэта, не желающего снизойти к человеку.
Будучи выше читателя по обнаженному устройству своих нервов, по причудливости ума, по сложности мышления, по чуткости, тончайшим ходам своевольного подсознания, Бродский оказывается ниже своего читателя в свойствах сочувствия и сопереживания.
Сверхчеловеку нет дела до человека. Человеку есть дело до сверхчеловека. И в этом преимущество человеческое.
Изолированность Бродского в литературном процессе кажущаяся. Он является высшим и, бесспорно, выдающимся представителем целого направления поэзии и мысли. Отдельные поэты этого направления известны в замкнутых кружках и потому оказывают лишь косвенное и подспудное влияние на процесс развития поэзии. Но направление мысли так или иначе существует.
Так или иначе и Бродский выражает некое состояние, присущее большому слою интеллигенции: недовольство устройством внутреннего мира и социальный эгоцентризм. Такой читатель инстинктивно чтит Бродского, не понимая его в деталях, но разделяя его самочувствие.
Этот читатель испытывает социальную неудовлетворенность своим положением.
Он не жаждет вступать в реальные отношения с действительностью, ибо видит все ее отрицательные стороны. Но, с другой стороны, он требует признания за добрые намерения, за внутренние ценности, упрятанные в нем.
Однако общество предпочитает несовершенные дела самым совершенным намерениям. Любая деятельность, в том числе и художественное творчество, приносит результаты лишь в реальных соотношениях личности с окружающим. Как бы ни был далек Бродский от этой идеи, его судьба доказывает, что творчество неразрывно связано с гражданским поведением, и интерес к Бродскому как к поэту прежде всего связан с его гражданским поведением на суде, где решался вопрос о праве на творчество, об уважении общества к художнику, о независимости его в момент творчества.
«Этот мир» действительно чужд Бродскому и его единомышленникам. Бродскому – в самом высоком смысле. Его последователям – в самом примитивном. Недостатки идеи видны лучше всего в ее снижении.
Бродскому и его читателям не приходит в голову простая мысль о том, что, отвергая «этот мир», нужно начисто отбросить все его критерии. И тогда откроется «другой мир», не менее реальный, в котором все ценности приобретают реальную стоимость, если они из потенции преобразуются в кинетику. Это мир движущейся, действующей личности, личности взаимодействующей. Для такого мира, может быть, Бродский годится меньше, чем для того, в котором он живет.
Поэт, мастер, учитель
Летучее, легкое имя – Антокольский, в котором и ток, и поток, и токай.
Он родился поэтом, и всегда для него это было самое главное. Сильнее напастей и бед, потерь и утрат.
Более полувека в России звучат его стихи. Более полувека на поэтической эстраде появлялся небольшой и стремительный Павел Григорьевич и бросал в зал энергичные, полнозвучные строфы своих стихотворений и поэм. И читатель стиха радостно отзывался ему, ровеснику всех поэтических поколений советской поэзии.
Он не играл в сильную личность, пророка или судью. Он всегда весело играл словом. Он весь раскрывался в слове. Оно – его жизнь, его боль и радость.
Но он не игрушка словесной стихии. Он мастер. Он умело управлял цепными реакциями поэтической речи. Он умел и в самом эксперименте сохранить истинный накал чувств. Он все умел в поэзии.
Этого одного достаточно, чтобы назвать его учителем. Но он учитель и в прямом смысле. Он учитель сердечный и добрый. Учитель без учительства и лишней назидательности. Ему обязаны дружбой, помощью, участием и советом десятки начинающих, созревающих и уже зрелых поэтов нашего времени. Он жил в окружении учеников, ставших друзьями.
Все мы с юности знаем наизусть «Санкюлота», «Франсуа Вийона», строфы из «Сына», стихи о Пушкине. У каждого свой выбор. Есть из чего выбирать.
Поэзия живет не от юбилея к юбилею, а от свершения к свершению.
Старик
П. А.
Удобная, теплая шкура – старик. А что там внутри, в старике? Вояка, лукавец, болтун, озорник Запрятан в его парике. В кругу молодых, под улыбку юнца, Дурачится дьявол хромой. А то и задремлет, хлебнувши винца, А то и уедет домой. Там, старческой страсти скрывая накал, Он пишет последний дневник. И часто вина подливает в бокал — Вояка, мудрец, озорник.Ни от чего не отпрашивался…
В конце двадцатых годов Москва была еще «маленькой». Вблизи окраин при тесной ее населенности жили во дворах и в садах.
От Лесной, вдоль булыжной еще Божедомки (ныне улица Достоевского), плелся старомодный трамвай. А в сквере на площади Борьбы (бывшей Александровской), недавно только насаженном, степенно отдыхали рабочие люди, шумели ребятишки, и, луща семечки, плели разговоры окрестные кумушки. Здесь всё знали про всех жителей от Палихи до Инженерного сада.
Обо многих ходила молва у нас на скверу (так и сейчас говорят: «на скверу», а не в «сквере»), особливо об окрестных знаменитостях, к примеру, о профессоре Лапшине, о замкнутом его нраве, о чудачествах, об одинокой любви к внуку. Сын профессора, тоже врач, погиб, говорили, на тифозной эпидемии. Илью воспитывала мать Вера Николаевна и дед. У внука была репутация ребенка, избалованного до буйства…
С таким вот детским воспоминанием шел я знакомиться с молодым поэтом Ильей Лапшиным, жившим во флигеле института. Было ему в ту пору восемнадцать лет, мне на год больше. Вел меня к Илье его одноклассник, тоже молодой поэт, Борис Смоленский.
О Борисе уже немного писано. Вышла книжечка его стихов. Даже стал он героем одного художественного повествования.
А стихи Ильи еще хранятся у его близких, и ничего почти не сказано о нем печатным словом. Упомянут он был в двух моих стихотворениях. По этому поводу получил я письма от Вячеслава Кондратьева, недавно блестяще дебютировавшего в литературе повестью «Сашка», и Анатолия Сельдешова – от двух людей, знавших и любивших Илью Лапшина. И мы решили совместными усилиями воскресить образ замечательного юноши, нашего товарища, погибшего в боях Отечественной войны…
Итак, вместе со Смоленским мы постучались в квартиру Ильи.
Ничего в нем не было от легенды нашего сквера.
Он был высок, худощав, чуть сутуловат. Одежда располагалась на нем с какой-то уместной небрежностью, и коричневый пиджак хорошо соотносился с общей его рыжеватостью. Небольшое заикание составляло особенность его неторопливой речи.
В комнате Ильи дым стоял коромыслом, и, как теперь мне помнится, на всех стульях и подоконниках размещались молодые поэты. Это было обычное литературное сборище тех времен, когда поэты ходили гуртом, разраставшимся на протяжении маршрута.
Впервые увидел я восходящих знаменитостей довоенной поэзии – Михаила Кульчицкого и Бориса Слуцкого. А всех присутствовавших уже не упомню.
Читали стихи «по кругу».
Многие стихи тогда оказывались нечаянным пророчеством.
Илья, как и все мы, старался понять время. И многое понимал, если многое мог предвидеть.
Мы быстро подружились, благо жили в сотне шагов друг от друга. Часто поздними вечерами обхаживали круглую клумбу посреди упоминавшегося уже сквера с бесконечным разговором и чтением стихов.
У нас была огромная потребность в единении. Мы мыслили себя поколением. Едва познакомившись, сходились сразу. Чувствовали, что времени мало. А времени действительно было мало.
Через несколько месяцев мы провожали Илью в армию. Тогда ушли в армию все студенты первых курсов. Ильи оказался на Дальнем Востоке, откуда я получил несколько открыток и одно большое письмо, очень похожее на те, что публикуются в данной подборке.
Мы были поэты не «городские», не «деревенские», а гражданские и предвоенные. Об этом писались стихи: проигрывалось будущее – аскетизм войны, стояние перед лицом смерти.
Это овеивало стихи романтическим пафосом и воспитывало бесстрашие. Поколение действовало согласно стихам, написанным заранее.
Илья Лапшин представляется мне подобным Петеньке Ростову, краткий путь которого на войне был восторженным стремлением отказаться от исключительности, стать «как все», приобщиться ко всеобщему ежедневному исполнению военного долга. Это стремление приобщиться к народной жизни, когда она представала перед нами в самом возвышенном и романтическом преломлении, было восторженным и трогательным и всегда вызывает слезы при чтении страниц «Войны и мира».
Во многих из нас, вылетевших из теплого гнезда, сидел этот Петенька Ростов, одаряющий всех домашним изюмом. В Илье Лапшине он проявился в самом чистом и возвышенном проживании.
На войне случайность предстает в виде роковой судьбы. Поэтому и есть солдатская поговорка: «Ни от чего не отпрашивайся, ни на что не напрашивайся». Это формула солдатского фатализма, спокойного и достойного: ни от чего не отпрашиваться. Но Илья и не отпрашивался. Его гибель была возможной, ибо он рвался к солдатской судьбе, хотел ее пережить сам, целиком, до погибели!
И он погиб.
Памятные встречи
В конце 40-х годов во всем мире развернулась кампания по освобождению из турецкой тюрьмы Назыма Хикмета, революционера и поэта. Люди моего поколения помнят газетные лозунги: «Свободу Назыму Хикмету!». Под давлением общественного мнения турецкие власти вынуждены были выпустить поэта из заключения.
Хикмет прибыл в Советский Союз. Здесь он был не впервые. Наша страну Назым воспринимал как вторую родину. Он сразу же включился в литературную жизнь, легко и естественно в нее вписался. Вскоре мы уже воспринимали Хикмета как поэта своего, советского. Начали выходить его книги. Меня в числе других пригласили переводить стихи Назыма.
Впервые я прочитал Хикмета по-французски. Если не ошибаюсь, книга была в переводе известного французского поэта Тристана Тцара. Во всяком случае, перевод был очень хороший, чувствовались сила и свежесть оригинала, яркость вновь открытого поэтического явления. Первое стихотворение, которое я перевел, было «Великан с голубыми глазами». Мне кажется, что это одно из лучших стихотворений Хикмета и один из самых удавшихся мне переводов. Я всегда читал его на встречах, посвященных творчеству Назыма. Несколько раз в присутствии автора.
Познакомился я с ним не сразу. Однажды договорились встретиться, но поэт тяжело заболел, и встреча состоялась только через несколько месяцев, когда он уже выздоравливал.
С двумя друзьями мы приехали к нему на дачу в Переделкино.
Хикмет обладал мгновенным обаянием. Большой, высокий, светлоглазый, светловолосый с небольшой рыжиной, с гордо поставленной головой на широких плечах, он был мужествен и радушен.
Он обращался не по имени и отчеству, а называл всех пришедших к нему «брат». И это слово помогало ощущению подлинного братства и товарищества, атмосферы, которую порождал Хикмет.
Помню, в тот раз его большой кабинет был сплошь заставлен картинами талантливого армянского художника. С увлечением хозяин показывал нам эти картины.
Он вообще страстно любил живопись. Бывал на всех интересных выставках. Помогал многим молодым художникам.
Вкус его формировался в начале 20-х годов под влиянием русского и мирового левого искусства. Он считал, что революционер в политике должен быть приверженцем революционных форм в искусстве. Можно сказать, что в большой мере его вкус совпадал со вкусами Маяковского.
Любовь к нетрадиционному навсегда осталась в Хикмете. Его осаждали молодые поэты, претендующие на новаторство, которых много появилось в Москве в конце 50-х годов. Они были разными, и Хикмет из любви к новому порой поддерживал людей невысокого таланта.
Новаторство же самого Хикмета не было поверхностным эпатированием публики. За ним стояли убежденность революционера и глубокая культура.
Например, в его драматургии сошлись влияния турецкого народного театра, французского классицизма, шекспировского театра, веяний театра Мейерхольда. Все это сплавлено было в единый организм действия и мысли, было единым пониманием культуры, истории и современности.
Именно этот сплав новаторства и культуры позволил Хикмету стать зачинателем нового турецкого стиха, основателем новой турецкой поэзии.
Мне пришлось переводить стихи Хикмета для нескольких его книг. Я и сейчас продолжаю это дело.
После первой встречи последовали другие, уже в его московской квартире на Песчаной, в присутствии жены поэта Веры Туляковой, яркий портрет которой дан в стихах Назыма – «солома волос, глаз синева».
Мне стало легче переводить, когда я узнал автора. В стихах я начал ощущать его подлинный характер и темперамент. Обычно я просил Хикмета почитать стихи по-турецки. Можно было услышать звуковое богатство стиха, который мы называем верлибром за неимением лучшего названия. Я уверен, да и Хикмет так считал, что стихи его ритмически организованы и что рифма в них есть, но она из концевого положения в строке ушла в глубь стиха, откликается в самой его основе.
Разговаривали мы о многом, главным образом об искусстве. Назым был темпераментным, умным собеседником. Сейчас я сожалею, что не записал наших разговоров.
Ощущение свежести, силы, доброты уносил с собой собеседник поэта из его небольшой квартиры.
1982Памяти друга
Ушел Борис Слуцкий. Я немало мог бы сказать о нем. Мы дружили почти пятьдесят лет. Сегодня я скажу только о тех качествах, которые знают многие: честность, нелицеприятность, ум и строгость. Все эти качества являются частью поэтического и гражданского облика Слуцкого.
В военном поколении поэтов, богатом яркими талантами, Слуцкий был одним из признанных лидеров. Он был не только другом, он был учителем своих ровесников. У него мы учились верности гражданским понятиям, накопленным еще в пору раннего формирования в трудные 30-е годы.
Один поэт говорил, что «фронтовое поколение не породило гения, но поэзия поколения была гениальной». Если это так, то Слуцкий был одной из составных частей этой гениальности…
Слуцкий казался суровым и всезнающим.
Те, кто близко его знал, хорошо понимали, что под этим жестким обличьем скрывалась душа ранимая, нежная и верная. Слуцкий не терпел сентиментальности в жизни и в стихах. Он отсекал в своей поэзии все, что могло показаться чувствительностью или слабостью. Он казался монолитом и действительно был целен, но эта цельность была достигнута преодолением натуры не гармонической, раздираемой противоречиями и страстями. Слуцкий всегда считал, что идеал не терпит предательства, и никогда не менял своих взглядов.
Он так был устроен, что в каждой области духовной жизни должен был создавать шкалу ценностей, и на верху этой шкалы всегда было одно – высшая вера, высшая надежда и высшая, единственная любовь.
Рано проявились в поэзии Слуцкого черты, которые до сих пор скрыты от многих читателей. Он кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия. С этого начиналась юношеская пора его поэзии, с этим он вернулся с войны.
Я уверен, что именно так надо рассматривать поэзию Слуцкого, и черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной. Фактичность, которую отмечают читатели поэта, является в поэзии преходящей и временной, меняются времена, меняется быт, меняется ощущение факта. Нетленность поэзии придает ей нравственный потенциал, и он с годами будет высветляться, ибо он составляет основу человеческой и поэтической цельности Слуцкого.
Слово прощания над гробом поэтаПо поводу переписки Эйдельмана с Астафьевым
…Там высказаны две противоположные точки зрения. С третьей точки зрения обе посылки, исходные принципы этой переписки с обеих сторон мало удовлетворительны. И, несмотря на противоположность мнений, исходные принципы обоих авторов довольно близки.
Во-первых, своей нетерпимостью, отсутствием культуры демократического мышления (то есть признания возможности другой точки зрения), признанием возможности своей неабсолютной правоты и нежеланием понять собеседника.
С третьей точки зрения Астафьев не выглядит столь чудовищно, а Эйдельман столь правым.
Второе, что роднит обоих авторов, – это преобладание мысли о коллективной ответственности, об ответственности нации, а не индивидуальности. Это, собственно говоря, развитие первого недостатка: нетерпимости. Коллективная ответственность должна заменить понятие личной ответственности, совести и вины; то есть понятие личности заменяется понятием некоего коллектива – национального или социального, который должен отвечать за проступки отдельных личностей, или даже более того, ошибки или преступления, допущенные в прошлом нацией, должны отплачиваться на поколениях, которые в этих преступлениях не участвовали. Коллективная ответственность в наше время является идеей губительной. Наверное, не всегда она была таковой, поскольку история развивается, и на каких-то низших стадиях человеческого развития, когда личность была недостаточно развита, должна была существовать некая коллективная ответственность – рода, семьи, племени. Для нашего времени это не годится, и на этом построены все самые жестокие системы современности. На коллективной ответственности происходило уничтожение различных классов, интеллигенции, священничества в России 20-х годов, на коллективной ответственности базировался принцип арестов 37-го года, когда сажали всю семью за мнимые или действительные преступления родителей, на коллективной ответственности базировалось раскулачивание, выселение семей и так далее. На этой же коллективной ответственности базировалась идея Гитлера об истреблении наций, не только еврейской, но и русской, украинской и других.
Наконец, третий существенный недостаток обоих авторов – в отсутствии у них подлинно исторического взгляда на явления, а попытка оценивать историю с точки зрения «хорошо» или «плохо», то есть с точки зрения не законов ее развития, часто нам непонятных и непостижимых для нас, а с точки зрения внешних моральных категорий… Всегда надо думать о том, кому «хорошо», кому «плохо». И как понимать это «хорошо» или «плохо»? К примеру, нашествие варваров на Рим было плохо, но то, что после разрушения Римской цивилизации варвары, воспринявшие ее, создали современную европейскую культуру – это хорошо. Значит, может быть, нашествие варваров было хорошо. Да и погиб ли Рим от нашествия варваров? Скорее всего от своих внутренних противоречий, от своей внутренней слабости, и вот из этих внутренних законов истории и следует судить любое событие и любую идеологию.
«Хорошо» или «плохо», можно, видимо, определить на следующем, более высоком этапе мышления, когда речь идет о цели существования человечества, о целях мироздания… Но в данном вопросе нам достаточно того этажа, с которого мы собираемся рассуждать.
В Астафьеве сильна боль за Россию, естественно, она должна вызывать сочувствие даже у его яростного оппонента. Эта боль искренняя, и боль, требующая выхода. Астафьевское ребяческое, неисторическое, непосредственное мышление хочет искать причин боли вовне: в бедах России, считает Астафьев, виноваты инородцы и интеллигенты.
Эйдельман яростно защищает инородцев и интеллигентов. Он описывает беды инородцев, которые они потерпели от России, и ссылается на высказывания Пушкина и Герцена, забыв, что те выступали со своими высказываниями в другое время, когда проблема инородцев стояла в России иначе, поэтому они вовсе не применимы в наше время. Общие принципы хороши тем, что они применимы к разным обстоятельствам. Великие истины конкретны в любых обстоятельствах, а то, что они конкретны, – не великая истина. Вопрос об инородцах не может быть решен в общем виде. Инородцы так же вредили России, как и оказывали ей пользу, а с другой стороны, и Россия так же вредила инородцам, как и оказывала им пользу.
Дело в том, что Россия формировалась как империя, в ней формировалось имперское сознание, а империя предполагает сосуществование инородцев с основной нацией и постоянное взаимодействие, ассимиляцию и т. д. В этническом составе России довольно силен инородческий элемент, так что говорить о чистоте расы не приходится, Урал, Сибирь перемешаны с инородцами. Ассимиляция инородцев происходила по нескольким путям: путем скрещивания, путем религиозного приобщения к православию, как, например, исчезло целое мордовское племя тюрюхан в конце прошлого века – просто, приняв православие, они ассимилировались, – наконец, культурная ассимиляция других народов.
В системе взаимодействия разных наций в пору формирования России можно отметить разные периоды. Например, татары были захватчиками во время татаро-монгольского ига, то есть отрицательным фактором, они наносили вред России, а потом, после покорения Астрахани, Казани, Россия стала наносить вред татарам. Крымские татары приносили вред России в пору Крымского ханства, а потом Россия нанесла им вред, вернее, империя нанесла им вред, когда их выслали в пору войны. От литовцев страдала Россия в свое время, от ее претензий на западные области России, – а потом Литва стала страдать от России. Немцы приносили пользу России в петровскую пору – и стали приносить вред в пору засилья немецкого первой трети XIX века в русской бюрократии. Евреи страдали от России в пору черты оседлости, а Россия пострадала от евреев в 20—30-е годы, когда они участвовали в расстрелах гражданской войны, в истреблении социальных прослоек, в раскулачивании.
Взаимоотношения наций внутри империи всегда сложны, неоднозначны и не могут сводиться к понятиям «всегда вредно» и «всегда полезно», а кроме того, нация, поскольку мы отвергли с самого начала коллективную ответственность, не может отвечать за свои исторические деяния на протяжении всей истории своего существования. Не может поколение татар, живущее сейчас, отвечать за татарское иго. Оба автора, и Эйдельман и Астафьев, высказывают отрицательные программы, что плохо, причем они не согласны друг с другом, не формулируя программы положительные. Впрочем, из отрицательной программы можно всегда извлечь и нечто положительное.
Скорее всего положительная программа Астафьева напоминает программу Солженицына. Не думаю, чтобы он, как человек воевавший и как человек русский, предполагал бы геноцид, истребление инородцев, – ну хотя бы даже одних только евреев. Не думаю. Он хотел бы изоляции. Мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы не вмешивайтесь в наши. Ну что же, такая программа предполагает изоляцию русской части империи, то есть России, то есть русских, от других ее частей, от других ее наций, и жизнь в своем коллективе, в котором, возможно, будут исправлены ошибки и возрождена духовная сила нации, сохранен ее моральный потенциал и достигнуто некое социальное счастье. Посмотрим, как же это может происходить. Если освободить Россию от инородцев, то надо инородцев освободить от России, то есть отсечь от нее Среднюю Азию, Закавказье, Молдавию, Украину, Белоруссию, Прибалтику, наконец, Якутию, Чукотку, Камчатку, Бурятию, – а как же быть с приволжскими народами: с чувашами, марийцами, удмуртами, татарами? Их тоже выделить? Какая же это получается Россия? Странная, продолговатая, узкая… Собственно говоря, получается Россия, которая не способна защищаться; Россия, которая всегда может быть подвергнута набегу, в которой меньше половины населения нынешней империи – вот какую Россию предлагает Астафьев. Трудности осуществления этого ясны всем, но, предположим, что мечта его об изоляции России, об ее уменьшении может сбыться: при каких-то обстоятельствах, может быть, трагических. Например, в пору поражения империи и ее расчленения. Ну что же, иногда поражение бывает не хуже победы. И поражение такого рода, которое выделило бы Россию, видимо, должно нравиться Астафьеву. Россия отделена от инородцев. Можно торжествовать.
Но Россию нельзя отделить от русской интеллигенции. Интеллигенция – второй враг Астафьева. Без интеллигенции не может существовать современная нация. Предположим даже, что в этом кругу поражения и выделения или подъема и возрождения два поколения русской интеллигенции потратят свои силы на самосознание, на восстановление, на издание Пушкина и Лермонтова без участия инородцев… Что же дальше? Интеллигенция все же живет по своим законам, по своим выработанным понятиям, по своим культурным потребностям, а потребности науки, потребности искусства в современном мире не могут быть закрыты и заперты в пределах какого-то одного государства или в пределах одной нации. Они требуют общения, контактов, взаимодействия идей – так это было, кстати, на протяжении всей истории интеллигенции, так это было в России, которая немало заимствовала и у Запада, а потом стала давать и ему. Взаимодействие культурных потенциалов – закон жизни интеллигенции. Тогда опять ломается идея изоляции. Сейчас-то она понятна, потому что в России меняется структура и понятие народа. Был народ-мужик – опора нации и ее ядро, – его нет. Есть народ-полугорожане, которые не сформировали ни своих моральных норм, ни своей идеологии и живут только одним – чувством самосохранения. Вот это чувство самосохранения и является главным содержанием идеологии Астафьева, и это понять можно. Но представьте себе, что через два поколения сформируется новая нация, нация городская, и тогда Астафьев покажется безнадежно устаревшим, потому что городская нация захочет взглянуть на мир и общаться с ним, и взаимодействовать с ним. Тогда вот и пожалеет Россия об утраченной империи, о своих достоинствах и недостатках имперского сознания.
В числе других факторов старины, традиции, за которую цепляется Астафьев, – это религия, православие. Что ж, религия еще не сыграла своей последней роли, а может быть, и всегда будет ее играть. Но религия Астафьева – это не религия христианства, не православие духовного просветления, соборности, где «несть эллина и иудея». Для него есть эллин и есть иудей. Это не религия любви, а религия ненависти: око за око. И язычник Эйдельман вправе упрекать православного Астафьева в том, что они, собственно, мало чем отличаются по своим языческим взглядам и понятиям… Религия и идеология как фразеология Астафьева… как и идеология и фразеология Эйдельмана. И то и другое требует терпимости, желания понять друг друга. Не закрывать Астафьева Эйдельманом и не уничтожать Эйдельмана Астафьевым.
Распад имперского сознания означает драку между нациями, может быть, и кровавую. Пока не распалось британское имперское сознание, невозможен был Ольстер, а ирландцы в парламенте защищали свою свободу на английском языке. Пока не распалось имперское сознание в Бельгии, не было противоречий между фламандцами и валлонами. Пока не распалось имперское сознание Испании, не было борьбы между каталонцами, басками, галисийцами и испанцами…
Способен ли Астафьев убить Эйдельмана? Нет, не способен.
Способен ли Эйдельман закатать Астафьева в лагеря? Нет, не способен.
Но не способны они и на другое: уважать друг в друге личность. Эйдельман не способен понять боль Астафьева, Астафьев не способен понять растерянность, страх Эйдельмана. Они не способны уважать инакомыслие, не способны уважать другую личность… Они эгоцентрики, и вот в этом-то их беда.
Письмо Эйдельмана принимаю я умственно, но почему-то не принимаю эмоционально. И наоборот.
Распад имперского сознания означает драку между народами.
Никакая власть и никакое устройство не способны противостоять историческому процессу, они могут либо только помочь ему, либо воспрепятствовать: он все равно будет идти своим путем.
Спор о будущих путях России – останется ли она империей или распадется на национальные государства. Астафьев исходит из мысли, что в империи хорошо инородцам и плохо коренным русским. Пока инородец будет привязан к России и будет хотеть в ней существовать, будет существовать большая сильная держава. Должно быть не только национальное, но и державное сознание, в котором воспитывал русских Петр Великий…
Некоторые говорят, что лучше было бы, если бы письмо Астафьеву написал человек русский. Но не случайно не нашлось русского человека, который написал бы это письмо, ибо Астафьев выразил не мысли нации, а ее самочувствие, и против этого самочувствия возразить нельзя.
Хлебников и поколение сорокового года
Наша поэтическая компания называла себя поколением сорокового года. Мы осознали себя новым поэтическим поколением после финской войны. Нас было шестеро: М. Кульчицкий, П. Коган, Б. Слуцкий, С. Наровчатов, М. Львовский и я. К поколению относили мы и близких: Н. Глазкова, Ю. Долгина, М. Луконина, М. Львова, Н. Майорова, Б. Смоленского, еще нескольких молодых поэтов.
Однажды, собравшись, решили выяснить, кто из поэтов предыдущих поколений оказал на нас наибольшее влияние. Каждый написал на листочке десять имен. Подвели итог. В первую тройку входили Маяковский, Пастернак и Хлебников.
Вкус наш в то время был не символистско-акмеистический, а футуристско(лефовско) – конструктивистский. Хотя хорошо знали и Гумилева, и Мандельштама, и Ходасевича. Меньше Ахматову.
Хлебникова тогда нетрудно было достать. Можно было даже на студенческие деньги собрать пятитомное собрание сочинений. У всех был том неизданного Хлебникова. А нередко у букинистов можно было отыскать первоиздания «Досок судьбы», «Ладомира», футуристических сборников вроде «Дохлой луны».
Хлебникова читали усердно, внимательно. Многое знали наизусть. Влиял он на каждого из нас по-разному, разными периодами и сторонами своего творчества. С интересом читали манифесты, подписанные Хлебниковым, и вообще все о нем. К примеру, редкую книгу Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец».
Читали мы и сенсационную книжицу Альвека «Нахлебники Хлебникова», где автор упрекает Маяковского и Асеева в воровстве у Хлебникова. Альвеку мы не поверили. Да и сами Маяковский с Асеевым признавались в том, что Хлебников оказал на них огромное влияние. И, может быть, именно они и натолкнули нас на чтение этого замечательного поэта.
Маяковский, Асеев и другие футуристы были первым поколением поэтов, на которых оказал влияние «дервиш русского имени». Обериуты – вторым. Мы – третьим.
Каждое поколение воспринимало свое.
Футуристы – слом старых поэтических систем, масштабность хлебниковской социальной утопии, необычность поведения, языковой эксперимент. Из поисков поэтического языка каждый извлекал свое: Асеев – корневые сопоставления, Маяковский – словотворчество, Крученых – заумь.
Обериуты словесные сдвиги Хлебникова использовали как орудие для сдвига действительности, для обериутской иронии. Сам Хлебников вовсе не ироничен. Он простодушен. Простодушие хлебниковской интонации, его «отмытый» эпитет Заболоцкий и Олейников используют так, как взрослые детскую речь для создания детского анекдота. Хармс реализует заумь, как абсурдизм, что вовсе не соответствует цели Хлебникова проникнуть в смысл звуков речи.
На поэтов моего поколения Хлебников тоже влиял по-разному и в разной степени, но в этом влиянии преобладали не словесный эксперимент (хотя и это было), не возможность сдвинуть речь в сторону иронии (нам в ту пору не очень свойственной), а скорее образная система, чистота интонации и внутренний пафос, снимавший пафос внешний, присущий многим поэтам довоенной поры.
Меньше всего из Хлебникова воспринял Павел Коган, хотя очень его любил, часто цитировал наизусть.
Более явственно влияние Хлебникова на Кульчицкого. «Русь – ты вся поцелуй на морозе» – эпиграф к самому значительному произведению погибшего на войне поэта поэме «Самое такое», где сложно сочетаются интонации Маяковского и Хлебникова.
Хлебниковский элемент чувствуется в военных стихах Наровчатова, особенно в его польском цикле, где поэта привлекает стихия славянской речи.
Слуцкий высоко ценил и всю жизнь перечитывал Хлебникова. Но для того, чтобы выделить из тугого сплава его поэзии хлебниковские черты, нужно предпринять детальное исследование. Думаю, что оно будет результативным. Уже зрелым поэтом Слуцкий написал стихотворение о захоронении праха Хлебникова на Новодевичьем кладбище. Если память мне не изменяет, он при этом присутствовал, и стихотворение написано по живому впечатлению.
Принято прямо из Хлебникова выводить манеру Ксении Некрасовой. На мой взгляд, здесь некоторые черты сходства обманывают. Есть поэты, которые по своему устройству мало что-либо воспринимают от других поэтов. Такова и Ксения Некрасова. Возможно, что она почти и не читала Хлебникова. Однажды я спросил ее, читает ли она книги. Она ответила:
– Очень редко. И их не помню. Во мне бродят только тени книг.
Она иногда совпадала с Хлебниковым в детскости, в непосредственности интонации, в свежести образа, в свободе от правил стихотворства.
Хлебниковцем у нас еще до войны считался Николай Глазков. Он сам от этого не отказывался. Он и в манере поведения где-то отражал простодушие Хлебникова, однако и не без иронии, ему присущей. Корни его поэзии в значительной степени питались не столько русским футуризмом вообще, сколько «будетлянством». Названия поэм «Хихимора», «Поэтоград» прямо отсылают к Хлебникову. Оттуда же идет интонационная прозрачность многих строк Глазкова. Есть и прямые сопоставления:
И мир во всем многообразии Вставал, ликуя и звеня, Над Волгой Чкалова, и Разина, И Хлебникова, и меня.Соблазнительно было бы вывести глазковскую иронию из хлебниковских сдвигов, как это было у обериутов. Но это вопрос сложный. Я не мог бы утверждать, что на поэтику Глазкова большое влияние оказали обериуты. Глазков тоже ироничен. Но ирония его другого назначения и другого происхождения. Чем больше читаешь Глазкова, особенно на фоне нынешней поэзии, тем чаще убеждаешься, что его ирония происходит от стыдливости, от желания скрыть слишком явный пафос. Ему близок пафос Хлебникова, близок пафос довоенного и военного периода творчества поэтов нашего поколения. О патетичности Хлебникова и Глазкова, кажется, еще мало написано.
Анна Андреевна Ахматова как-то сказала мне, что Хлебников плохо писал до революции и хорошо после (сопоставляя его с Маяковским). Мне не показалось, что она права, может быть потому, что на меня больше влиял ранний Хлебников.
Хлебниковым заболел я году в 1939-м, переболев Пастернаком. Может быть, после причудливых построений Пастернака потянуло на непосредственную простоту речи раннего Хлебникова.
Неужели, лучшим в страже, От невзгод оберегая, Не могу я робким даже Быть с тобою, дорогая? («И и Э»)Тогда я увлекался первобытностью, хотелось добраться до основ речи и поэтического образа, счистить с них нагар литературы. Мне нравились первозданность поэм «И и Э», «Вила и Леший», «Шаман и Венера». Пытался подражать интонации этих поэм.
Учась у Хлебникова, написал стихи «Пастух в Чувашии». Вот строки из него:
Он был божественный язычник Из глины, выжженной в огне, Он на коров прикрикнул зычно, И пело эхо в стороне.А вот из тогдашней же поэмы «Мангазея» («Падение города»):
Шаман промолвил: «Быть беде!» И в бубен бил, качаясь. А слезы стыли в бороде, В корявых идолах отчаясь.Позже хлебниковское уходило из моих стихов, как уходило из поэзии всего поколения, включая и Глазкова. Но навсегда Хлебников остался одним из наших любимых учителей.
Знакомство с Высоцким
Верная оценка живого искусства не всегда дается современникам. Бывают перехлесты в ту и в другую стороны. Но сам спор о художнике свидетельствует его необходимость для данного времени. Что скажет о нем Большое Время, нам знать не дано. Эту банальную истину надо почаще вспоминать ярым сторонникам и противникам Высоцкого.
Впервые я увидел Высоцкого на сцене молодого театра на Таганке, в первых же его спектаклях. Он входил в группу ведущих артистов – Славина, Губенко, Золотухин, – имена которых все чаще произносила театрально-литературная Москва. Славу они пока делили почти поровну.
Вскоре театр пригласил меня участвовать в создании спектакля «Павшие и живые». Тогда я познакомился с Владимиром. Часто видел его на репетициях, в кабинете Любимова, на собраниях труппы. Репетировал он замечательно, с полной отдачей. Превосходно, по-своему, читал стихи военных поэтов, пел под гитару.
Порой, после долгой репетиции, выпивали мы с ним по рюмке коньяку в театральном буфете. Для разговору. А разговор шел о спектакле, который проходил инстанции с величайшим трудом. Странно, как в те времена корежили патриотический спектакль, который потом прошел более тысячи раз при полном зале. Дело дошло до коллегии Министерства культуры, где, наконец, Фурцева утвердила один из вариантов спектакля, изрядно оскопленный. Высоцкий участвовал в нем, наверное, раз семьсот.
Летом 1964 года театр на Таганке поехал на гастроли в Ленинград. Там продолжались репетиции «Павших и живых». Поехали и мы с Б. Грибановым, одним из авторов спектакля, дорабатывать текст. Актеры и мы жили в гостинице «Октябрьская».
Как-то раз, после репетиции, Высоцкий подошел ко мне и сказал:
– Хотите послушать мои песни?
Мы собрались в номере, где жили я и Грибанов. Высоцкий пришел с гитарой. Много пел, мы, не уставая, слушали его. Это был еще ранний Высоцкий. Широкая публика не знала его. И он сам, возможно, только догадывался о своей миссии, и задачи его творчества не обозначились достаточно четко для него самого.
Некоторые критики осуждают «приблатненность» раннего Высоцкого. Они объясняют это стремлением подростка из интеллигентной московской среды выйти из круга однообразной жизни и приобщиться к ложной романтике нарушителей закона. Если это верно, то только в небольшой степени. Дело в том, что ранние песни Высоцкого созданы уже не подростком, может быть, только некоторые из них – отзвуки легенд московского двора и сохранили в себе признаки его тогдашнего просторечия.
Высоцкий – сочинитель песен – принадлежал уже другой среде и отражал вкусы определенного времени.
Потребность «неформальной» песни, взамен звучавших по радио и с эстрады бодрых песнопений, назрела в середине 50-х годов во всех слоях нашего общества. Такие песни появились не сразу.
В различных кругах и кружках пели свои доморощенные тексты с приблизительными мелодиями. Пели и блатные песни, отражавшие некий ракурс реальной жизни. «Интеллигенция поет блатные песни», – свидетельствовал Евг. Евтушенко. Появились многочисленные стилизации. Тогда же зазвучали песни Анатолия и Валентина Аграновских и Льва Костина на стихи современных поэтов. Эта линия на другом уровне мастерства и популярности продолжена в творчестве С. Никитина.
Общественную потребность новой песни наиболее полно первый осуществил Булат Окуджава, быстро вышедший из «кружка» и, благодаря распространению магнитофонов, услышанный во всех городах и весях нашей родины. Его по праву надо считать основателем современной авторской песни (пользуюсь этим термином за неимением лучшего). Окуджава – создатель нового стиля, новой интонации, тематики, романтического настроя, манеры исполнения.
Думаю, что его пример оказал немалое влияние на творчество Высоцкого.
Высоцкий творил в духе и во вкусе начального периода авторской песни, отражая одну из ее тенденций.
Образ барда заслонил собой фигуру Высоцкого-актера. Между тем это был крупный талант. Черты актера отразились в некоторых его песенных перевоплощениях, но Высоцкого надо было видеть на сцене. Он вырастал в самостоятельное явление театра, и даже в театре режиссерском ставились пьесы, где художественное решение было подчинено индивидуальности артиста.
Тогда театр на Таганке был одним из самых притягательных центров культурной жизни столицы. На репетициях и за кулисами часто собирались писатели, художники, ученые. Такое общение поднимало общий тонус театра, создавало сферу общения артистов и атмосферу их творчества. Я был членом художественного совета и имел возможность видеть все этапы создания спектаклей по брехтовскому «Галилею» и «Гамлету» Шекспира, где Высоцкий играл главные роли.
Я знаю нескольких актеров в роли Гамлета. Высоцкий в этой роли мне кажется наиболее убедительным. Он несомненно занимает видное место в галерее русских исполнителей Гамлета.
Высоцкий играл Гамлета без гамлетизма, веками наросшего вокруг этого образа, который, возможно, стал означать нечто иное, чем было задумано Шекспиром. Знаменитые монологи Высоцкий произносил без всякого нажима, не как философские сентенции, а как поиски реальных жизненных решений.
С той же трактовкой играли достойные партнеры Высоцкого – А. Демидова, В. Смехов. Основой спектакля был поступок, а не рефлексия. Все творчество Высоцкого – поступок, а не рефлексия. К этому он готовил себя на сцене, там он почувствовал действительность «обратной связи» в художественном воображении. Я уверен, что реакция зрителей, ощущение их живого восприятия, их «заказ» был одним из необходимых стимулов в его работе.
Мне не пришлось присутствовать на выступлениях Высоцкого перед широкой аудиторией. В те годы популярность артиста не была столь широкой, как в последнее десятилетие его жизни.
Но мы регулярно встречались в небольшой дружеской компании в праздники и в дни рождения. Там гвоздем вечера всегда было пение Высоцкого. Он сочинял много, пел щедро. Ранние стилизации отходили на второй план. Друзья поддерживали уверенность артиста в общественной необходимости его творчества. В серьезных разговорах о явлениях и событиях жизни он вырабатывал позицию и черпал темы для своих песен. Уже не «были московского двора» питали его вдохновение, а серьезные взгляды на устройство мира.
Он умел слушать и брать то, что ему нужно. Расширялся диапазон культурных традиций русской поэзии и песни, которые он впитывал.
Художник тот, кто умеет впитывать разное и преображать в свое. Таким был Владимир Высоцкий.
Противники упрекают его в нарушении традиций, некоторые сторонники рассматривают как феномен социальной жизни. Мало еще разработана корневая система творчества Высоцкого.
Думаю, что одна – и не последняя – причина популярности художника в том, что он воплотил и соединил множество традиций, близких народному сознанию, – Некрасова, жестокий романс, фабричную песню, балладный стих советской поэзии 20-х годов, солдатскую песню времен Великой Отечественной войны и многое другое. В этом еще предстоит разобраться знатокам стиха и песни.
Высоцкого интересовал не только конечный результат его песен и собственный успех. Ему важно было соизмериться с современной поэзией, узнать о собственном поэтическом качестве. Именно для этого собрались однажды у Слуцкого он, Межиров и я.
Владимир не пел, а читал свои тексты. Он заметно волновался. Мы высказывали мнение о прочитанном и решали, годится ли это в печать. Было отобрано больше десятка стихотворений. Борис Слуцкий отнес их в «День поэзии». Если память не изменяет, напечатано было всего лишь одно. Это, кажется, первая и последняя прижизненная его публикация.
До начала 70-х годов мы встречались с Высоцким в театре и в том же кругу знакомых. Однажды летом он приезжал ко мне на дачу в подмосковную Опалиху с поэтом Игорем Кохановским. На сей раз без гитары.
Известность его песен быстро росла. Он расходился по стране в магнитофонных записях. Помню, как рано утром приехал ко мне с магнитофоном Межиров и мы целый день слушали песни Высоцкого. Межиров тогда восторженно относился к ним.
С 1976 года я Володю не видел.
Неожиданно летним днем пришло известие о его смерти. Мне сообщил об этом Юлий Ким, отдыхавший в Пярну. Он сразу же ринулся в Москву провожать Высоцкого в последний путь.
Наброски к портрету Юлия Даниэля
Еще не пришло время давать оценку художественному труду Юлия Даниэля. Этим еще не занимались критики и литературоведы. Пока можно сказать, что Юлий Даниэль принадлежал к независимой литературе. В те времена, когда независимость была делом подсудным.
Когда-нибудь будет написана история независимого творчества в России, и Даниэль займет в ней почетное место. Ибо процесс Синявского и Даниэля был печальной точкой, откуда отсчитывается становление нового правосознания в нашем обществе. Это был первый процесс – не против правозащитников и диссидентов – тогда таких слов мы еще не слыхали, – это был первый процесс над писателями, создавшими свои произведения по велению совести, первый процесс над «тамиздатом», понятием, пришедшим на смену «самиздату».
За несколько лет до этого процесса произошло единодушное осуждение Пастернака за издание романа «Доктор Живаго» за границей. Тогда среди литературной интеллигенции не нашлось ни одного человека, который громко заявил бы протест против самосуда над великим поэтом.
В годы оттепели происходило быстрое созревание общества. То, о чем трудно было помыслить и на что трудно было решиться в 1958 году, ярко проявилось через семь лет. Несколько десятков писателей публично и коллективно протестовали против судебной расправы над двумя независимыми литераторами. Публикация неразрешенных произведений на Западе не казалась уже политическим преступлением в глазах общественных слоев, обретающих свободу мысли. Рядом с официальными поношениями прозвучали голоса защитников. И это было небывалым явлением в общественной жизни страны, явлением, положившим начало правозащитному движению.
Впрочем, сам Юлий Даниэль, находясь на скамье подсудимых, не подозревал об историческом значении судебных заседаний. Он защищался мужественно и достойно. Ему, конечно, легче было бы защищаться, если бы он знал о моральной поддержке, которую оказала ему весомая группа интеллигенции. Он мог надеяться только на своего друга Андрея Синявского, на мужество и принципиальность адвокатуры.
…Ничего из сказанного еще не произошло, когда весной 1962 года Андрей Синявский привел ко мне своего друга послушать стихи.
Друга звали Юлий Даниэль. Это был молодой человек, немного меня помоложе, узколицый, с темными волосами на косой пробор, узкоплечий, чуть сутуловатый, с застенчивой улыбкой, негромким смешком. Типичный московский интеллигент и по манере держаться, и по одежде, и по словам. И по занятию. Он был переводчиком стихов.
Я мало о нем слышал до первой встречи. Оказалось, что всю зиму мы прожили в одном поселке под Москвой, на дачах «Литгазеты», да так и не встретились.
На сей раз я читал стихи, Андрей произносил о них суждения, а Юлий изредка вставлял слово. Он не любил и не умел выступать в роли критика. Выслушав стихи, говорил обычно что-то одобрительное, если нравилось. Или молчал.
Мы расстались в этот день, чтобы не скоро встретиться.
Но имя моего нового знакомого громко зазвучало в Москве, да и во всех мировых средствах массовой информации. Андрей Синявский и Юлий Даниэль были арестованы за переправку за границу сочинений, порочащих и т. д.
Я вспомнил, что название произведения, вменявшегося в вину Юлию, было мне известно – повесть «Говорит Москва», да и содержание этой повести я откуда-то знал. Не стану его пересказывать (поскольку читатели этой книги сами могут с этой повестью познакомиться). По нашим временам, как говорится, в ней нет «ничего особенного». Но по тем временам особенного было много. Парадоксальная ситуация, в ней изображенная, только на первый взгляд казалась парадоксальной для нашего ежедневного быта. Это была аллегория, метафора, иносказание, весьма прозрачные, узнаваемые.
Даниэль был осужден на пять лет лагерей. О нем доходили редкие слухи, что он жив, что ведет себя достойно, держится мужественно.
Для нас в те бурно-застойные времена пять лет прошли довольно быстро. Не уверен, что термин «застой» выбран очень точно. Под внешней благостью и относительной нежестокостью государства, отданного на разграбление системе, происходили бурные процессы формирования нового сознания, возникновение и утверждение идей, появление новых лиц, формирование новых политических и нравственных догм. Когда теперь говорят, что мы дети застоя, я принял бы это определение без всякой иронии.
Я увидел Юлия Даниэля вскоре после его освобождения у себя за столом в поселке Опалиха. Он был усталым, еще больше похудевшим, ничуть не громче обычного, но совершенно не сломленный, не прибитый. Естественный, такой, как всегда.
Естественность – одна из главных черт его характера. Я добавил бы – естественность благородства. Даниэль не красовался, не рассуждал, не буйствовал в спорах. Он совершал поступки, как бы без всякого насилия над собой, по какому-то ему присущему определению.
В нем была абсолютная убедительность человека моральной нравственности. Но, конечно, в обществе ненормальном его манера поведения, его нравственные решения были намного выше тогдашней нормы.
Для меня Даниэль был своеобразным барометром. В затруднительных или щекотливых ситуациях я обращался к нему и всегда получал точный и краткий ответ: «я бы так не сделал» или «пожалуй, я сделал бы так». Этого для меня было достаточно.
Важнейшей чертой его нравственных установок была их человечность. Он никогда не требовал от человека поступка сверх сил, жертвенного или эффектного. Мне кажется, что в нем жила уверенность, что если человек ведет себя естественно, то это и есть нравственное поведение, потому, что естественны честность, справедливость, милосердие, верность.
Он был не из тех, кто в атаках кричит «ура!» сзади строя, а среди тех, кто молча бросается на пулемет. Он отнюдь не считал назначением человека бросаться на пулемет. Это был последний выход, если других не было.
Жизнь «на воле» не была легка для Даниэля. Он был наказан, но не прощен. Многие годы он подвергался всяческим утеснениям, к примеру, с пропиской, с разрешением жить в Москве, но, пожалуй, самым тяжелым для него были различные препоны в его профессиональной работе.
Он был профессиональным переводчиком высокого класса. Он мог бы иметь работу, если бы пообещал вести себя тихо. Он вел себя не громко. Но давать каких-либо обещаний не желал. Не желал и отказаться от того круга общения, круга правозащитников, который сложился вблизи него, в его доме. Он был «подозрительный» и никак не желал снимать с себя подозрение.
Работу ему давали изредка. Приходилось заниматься «негритянской» работой, которую доставали друзья. Он грустил. Но редко жаловался.
Знаю, ему очень хотелось, чтобы стали известны читателю его стихи. Был доволен, когда на Западе вышла небольшая поэтическая книжка.
Только в самое последнее время он успел увидеть несколько стихотворных подборок в широко читаемых журналах у себя на родине.
Была опубликована у нас и его проза.
Кажется, все наконец стало складываться благополучно в его судьбе и литературной жизни. Но времени ему было отведено мало. Тяжелое ранение на войне, пережитое после войны подорвали его здоровье. Он умер в 1988 году.
Я мог бы еще много сказать о Даниэле и его окружении, о его первой жене Ларисе Богораз, одной из семи, вышедших на Красную площадь с протестом против ввода войск в Чехословакию. О его второй жене, Ирине Уваровой, верной и мужественной его подруге. Но для этого потребовалось бы больше места и времени.
Думаю что мой короткий очерк добавит несколько черт к тому, что написано Даниэлем о себе и о своем времени.
Юхан Пуйестик
Если считать, что опыт жизни каждого человека сугубо индивидуален, то в нем не должно содержаться ничего поучительного для других. Наличие литературы не опровергает этого. Ведь признаком ее считается собирательность образа, т. е. утрата подлинной особенности и замена ее типом, которому придается своеобразие средствами искусства.
Это соображение никогда, впрочем, не останавливало мемуаристов. Видимо, потому, что между индивидуальностью и типом существуют свои сложнейшие отношения и нет непроходимой пропасти. Наиболее наглядно это в портретной живописи. Самый неискусный портрет интереснее для нас, чем неискусный пейзаж, натюрморт или композиция на исторические темы.
Об этом можно было бы написать целый трактат. Да я и слышал этот трактат в неторопливом изложении Юхана Пуйестика, пярнуского философа, во время одной из длинных прогулок по пустынному пляжу, вылизанному волной. В осеннем освещении на фоне бледной низкой воды, медленно восходящей к горизонту, фигура Пуйестика в лиловом плаще и с косо надетым беретом выглядела весьма импозантно и вполне соизмерялась с морем.
Своей нордической челюстью философ легко перемалывал в песок самые каменистые тезисы, а его гигантские следы на мокром пляже отмечали абзацы его неторопливой речи.
Мой друг обладал чисто фокуснической способностью, ухватившись за край самой незначительной мысли, тянуть ее изо рта как бесконечную ленту.
Вот и здесь, придравшись к моему сетованию на полное бессилие ответить вопрошающим меня в письмах молодым стихотворцам на вопросы: как стать поэтом, или на требования «решить судьбу», или на просьбы раскрыть сущность поэзии, он развил целую теорию автопортрета.
Его главным положением было наличие в природе вещей способности к невероятным переходам от невозможного к возможному, то есть предрасположенности самой природы к чуду.
– Попробуй не отвечать ни на один из этих вопросов, – неожиданно вернулся Пуйестик к началу разговора. – И если у тебя нет системы, попробуй изложить твой опыт без всякой системы.
Мы уже покинули пляж и мимо надписи «Собак не водить» вышли в приморский парк. Ноги сами влекли нас в сторону бывшего казино. Пуйестик стал рассеян. Его плащ из темно-лилового превратился в сиреневый. Я давно заметил эту хамелеонскую способность плаща менять цвет согласно месту и времени, а может быть, соответственно настроению хозяина.
– Мой опыт несовершенен, – сказал я. – Не могу даже сказать, что стал поэтом именно таким, каким собирался стать. Я, пожалуй, должен отговаривать пишущих мне от профессии поэта, поскольку могу говорить лишь о чем-то не вполне или в слабой степени осуществимом… Но это уже дидактика, к которой я питаю отвращение…
– Я тебе изложу когда-нибудь теорию неудач, – ответил Пуйестик. – Зайдем погреемся.
Мы стояли уже на пороге маленького кафе, расположенного вблизи бывшего казино…
Речь, по-видимому, должна идти об уникальности вселенной, о неповторимости истории, о неподражаемости каждой судьбы. Но все это можно было бы изложить только в виде грандиозной концепции, объять которую может только беспредельный ум Юхана Пуйестика.
– Вселенная – устройство, не имеющее заднего хода, – однажды сказал мне Пуйестик.
– Но все ли предопределено в ее поступательном движении? – спросил я.
– Этого мы не узнаем, пока не разгадаем, почему именно в механизме вселенной нет заднего хода.
Юхан умел забросить мысль на ту высоту, откуда практически достать ее не было возможности. Меня же интересовало конкретно, какую роль играла случайность в моей жизни и моем формировании.
Неизвестно, был ли я в ту пору поэтом, хотя бы в потенции. Тем более, что никто толком не знает, что такое поэт – способность ли производить некие словесные передаточные формы или неосознанное свойство особого проживания реальности. Если второе по существу важнее, то возможно, что случайное впечатление, даже неосознанное, может оказать на нас необычайное влияние.
Природа монологична. Прекрасно, что появилась теория информации. Но информацию мы получаем друг от друга и от природы. Друг от друга – диалогом. А от природы? Мы не можем ей ничего сообщить.
Дерево сообщает нам форму свою, и листву, и красоту, и великий свой шум в осенние дни, и полет вдоль бледного моря.
Именно это относится к свойству природы не возвращаться назад. То есть к велению смерти.
Ах, друг мой Пуйестик, дай мне жить!
* * *
Погрузившись в работу, я не встречался с Юханом Пуйестиком ровно столько времени, сколько нужно человеку, чтобы прийти в отчаяние от собственного косноязычия.
Мы никогда не сговаривались о встрече. Пуйестик обладал мистическим свойством появляться на дорожке парка, когда я вызывал в воображении его фигуру. Вообще в этом было нечто странное. Да и весь Пуйестик как будто принадлежал к другому измерению, в чем нам еще придется убедиться.
Например, он никогда не интересовался моей работой. Не поинтересовался и на сей раз. Но заговорил именно о том, на чем я остановился.
– В мыслях вашего Федорова о смерти, – начал философ без всякого предисловия, – есть рациональное зерно. Но его догадка о возможности воскрешения ушедших поколений не обоснована современными знаниями о возникновении вселенной. Подсчитав количество энергии, выделившейся через десятую долю секунды после первичного взрыва, я обнаружил существенную утечку энергии между миллионной и стотысячной долей первой секунды существования мира. Это нарушение закона сохранения энергии заставило меня задуматься.
Самое интересное, что эта утечка происходит постоянно. И в наши дни тоже.
Что же это означает? А означает вот что. Это моя догадка.
Дело в том, что вселенная развивается не только во времени и в трехмерном пространстве. Но последовательно проходит этапы от низших измерений к высшим. И эти переходы требуют колоссальной энергии. Энергия между миллионной и стотысячной долей первой секунды ушла на переход вселенной от нулевого измерения в первое, от одномерного пространства в двухмерное и из двухмерного в трехмерное. Каждый из этих процессов протекал в своем особом измерении времени, которое мы не можем сопоставить с нашим трехмерным временем. Сейчас некоторые явления заставляют предполагать, что вселенная переходит из состояния третьего измерения в четвертое. Все теории об ограниченности времени существования нашего мира и даже подсчеты о времени, которое уйдет на новое сжатие ее до точки, верно отражают преходящесть трехмерной вселенной. Но не учитывают новую стадию ее развития – существование в четырехмерном пространстве с ему присущим, непредставимым для нас временем.
– Но какое это имеет отношение к смерти? – робко спросил я, по-своему невежеству не в силах принять теорию Пуйестика или выдвинуть доводы против нее.
– Смерть – колоссальная утечка энергии. И эта энергия уходит на трансформацию трехмерного существа в четырехмерное. Причем признак трехмерности – физическое воплощение человека – становится ненужным и деградирует, то есть истлевает.
– Ты говоришь о бессмертии души?
– Нет. Лишь о необходимости найти способ возвращения энергии, уходящей на переход из третьего измерения в четвертое. Но здесь мы опять сталкиваемся с проклятой проблемой заднего хода.
Пуйестик так же внезапно прерывал свои объяснения, как и начинал их. Видимо, он что-то сам не додумал.
Как всегда в таких случаях, он предлагал зайти в знакомое кафе помолчать. На сей раз я отказался, ибо знал, чем кончаются эти молчаливые сидения.
Пуйестик кивнул мне головой и пошел в сторону бывшего казино. Я заметил обычное лилово-грозовое свечение его плаща. Казалось, что он искрился и переливался. Это была, видимо, утечка энергии, помогавшая философу переходить в четвертое измерение.
* * *
На сей раз мы встретились в популярной стекляшке под народным названием «Телевизор». Там прежде давали пятьдесят грамм водки с обязательной закуской. Все это вместе стоило рубль. Но теперь там можно было пить просто водку без закуси за стоячими столиками не первой чистоты.
Я сказал, что в закусочной стало хуже.
– Ты думаешь, что это по нерадивости и алчности буфетчиц, – сказал Пуйестик. – Это поверхностный взгляд. Это конкретное и малое выражение всеобщего закона ухудшения вселенной, то есть ее старения. То есть та же проблема обратного хода. Физики уже доказали, что вечности нет, что был момент первоначального возникновения вселенной. С тех пор и началось ее старение.
Недаром мебель, сделанная в XIX веке, лучше и прочнее нашей. То же и с одеждой, и с пищей, с политикой, войной, любовью. Собственно, все вы пишете об этом.
– А как же твоя теория коллективной воли, которая внесет гармонию и равновесие вселенских сил?
– Старость бывает несчастной и счастливой. Я допускаю возможность счастливой старости, ибо в основе мира лежит идея гармонии и счастья.
– О, Пуйестик, перестань мыслить!
– Я мыслю потому, что не рискую.
– Я думаю о бесконечности. Если конечны части вселенной, то конечна и она сама.
– Но это же формальная логика.
– Да. Но существование времени и движения, отсутствие заднего хода. Бесконечность нейтральна к движению и времени.
– Но само наше представление о недостаточности этих понятий свидетельствует о возможности других. Может быть, мы просто еще ничего не понимаем и не так далеко ушли от мифологизма. Может быть, наша наука, которая кажется нам непостижимо сложной – всего лишь начало науки, ввиду ее молодости.
– Сплошные «но». Диалектика бытия достаточно хорошо разработана. Нет диалектики небытия. Оно однозначно. Но есть маленькая лазейка – непонятная утечка энергии. Смена измерений. Может быть, она бесконечна. Но проклятые движение и время – без них не обойдешься и здесь.
– Перестань мыслить, Пуйестик!
– Не перестану. Мысль – единственное, для чего нет времени и движения. Она мгновенна. И, может быть, в природе мысли кроется разгадка.
* * *
Когда я гуляю вдоль сероглазого моря, иногда приходят стихи. Чтобы их не забыть, я захожу в «Мышиную нору» на окраине парка и, спросив бумажную салфетку у буфетчицы, записываю пришедшие в голову строки. Так было и на сей раз. Я сидел за столиком, задумавшись над листком, а когда поднял глаза, увидел, что против меня сидит Пуйестик. Как всегда, не здороваясь, он сказал:
– Хорошо вам, поэтам.
Пуйестик никогда не здоровался и не прощался. Однажды я его спросил о причинах. Он ответил, что здороваться и прощаться надо только в самых существенных случаях. Здороваться, когда человек появляется на свет, и прощаться, когда он навсегда уходит из жизни. В первом случае он еще ничего не слышит, во втором – уже ничего не слышит. Так что здороваться и прощаться – пустое дело.
– Хорошо вам, поэтам, – сказал Пуйестик. – Вам тайно завидует вся пишущая братия. Каждый прозаик, драматург или эссеист охотно променял бы свою профессию на звание поэта. Поэзия – высшее определение искусства и потому говорят о поэтичности музыки или живописи.
– А Лев Толстой? – возразил я.
– Толстого мучала совесть, – ответил Пуйестик. – При этом так же невозможно воспринимать поэзию, как при хождении с гвоздем в башмаке.
– А Достоевский?
– Достоевский, конечно, завидовал поэтам, это видно по его слову о Пушкине. Но он страдал многословным обилием мысли. И поэтому не мог быть поэтом.
– В известном смысле это так.
Он, впрочем, не любил литературных тем и вскоре перешел к своей любимой метафизике.
– Я думаю о смысле желаний. В мире изначально уравновешены необходимость и свобода воли. Желания это те импульсы, которые мы посылаем миру и которые не могут не отразиться на общем состоянии вселенной. Мы молимся, именно чувствуя это. Но поскольку эти импульсы разнонаправлены и хаотичны, происходит хаотическое смещение сил. Оно нарушает изначальную гармонию. Оно влечет к хаосу.
Мир может спасти только согласное направление волевых импульсов. Конкретный пример. Такое согласное излучение единичной воли неоднократно спасало Россию – в 1613, в 1812, в 1917 и в сорок первом году. Все, происходящее с человечеством, имеет вселенский смысл, который многие склонны отрицать.
Мне надоела эта ахинея. И, выпив последнюю рюмку, я стал прощаться. Плащ Пуйестика был распахнут, и я заметил на лацкане его пиджака маленький ключик, нечто вроде значка.
– Что это? – спросил я.
– Об этом ты когда-нибудь узнаешь.
Пуйестик тоже встал, собрал посуду и отдал ее в окошко с надписью: «Сами кушаем, сами пьем, сами посуду отдаем».
Он застегнул свой плащ. Кстати, я заметил, что он никогда не расстается с ним. Летом, в жару, носит на руке, зимой поддевает под него меховую безрукавку. Также никогда не снимает он свой лиловый берет.
Мы вышли в лиловое смеркание дня.
* * *
Мы стояли близ дерева, наклоненного от моря.
– Оно похоже на женщину, убегающую от наскоков кочевников.
– Да ты поэт, – сказал я.
– Нет, – ответил Пуйестик, – меня меньше всего интересует поэзия.
– Тогда ты – эстетик, – предположил я.
– Эстетика интересует меня только в одном аспекте – эстетика природы. Эстетика в приложении к искусству совершенно бесплодна и произвольна. И, главное, не дает ничего тем, для кого должна быть создана – людям искусства. Она зыбка и неопределенна. Есть ли, к примеру, у тебя эстетика?
– Чисто практически. Писать надо кратко, ясно и по существенным поводам.
– Это годится только для тебя. И, может быть, для поэзии. Проза бывает не краткой, вроде Филдинга, Бальзака и Толстого. А поэзия часто неясна. А пишешь ли ты сам только по существенным поводам? Вообще, литература новейшего времени вовсе не соответствует твоим принципам. Человек хочет знать себя и в несущественных проявлениях.
– Приходится ли тебе читать?
– Я читаю только переводы. Они – сито, где проваливается словесный мусор и остаются мысли. Толстого и Достоевского я читал по-эстонски. Шекспира – по-немецки. Стендаля – по-английски.
– И как тебе в переводе показалась русская поэзия?
– Не знаю, о чем вы хлопочете. Она несущественна и нежелательна. Пушкин, с которым вы так носитесь, просто подражатель Байрона, Шиллера и французов. Я читал Тютчева по-немецки. Он скучен. И повторяется.
– А язык? А слово? Ведь без него нет поэзии. Она в слове.
– Это ее метафизический недостаток. Поэзия неотделима от словесного выражения и поэтической формы. Мысль же сама формирует. В этом ее сила. Мысль, высказанная в поэзии – ложь, – так я понял вашего Тютчева в немецком переводе. Она – ложь, ибо привязана к словесному выражению. Мысль подлинная принадлежит всем. И она – истина.
Мысли Пуйестика были совершенно чужды мне. И я привел их только для того, чтобы его образ, почему-то мне совершенно необходимый, был дан без прикрас и как можно полнее.
В этот день Пуйестик проводил меня до дома. Я уже простился с ним у крыльца. Но оказалось, что все ушли, а у меня не было ключа. Как всегда, такие мелочи раздражают.
– Не сердись, – сказал мне Пуйестик. – Я тебе помогу.
Он достал из кармана некое орудие, напоминающее перочинный ножик и при его помощи мгновенно открыл мне дверь.
И, войдя в дом, я внезапно вспомнил таинственный ключик на лацкане его пиджака. Вспомнил и фразу, сказанную им в ответ на мой вопрос, чем он занимается:
– Я открыватель дверей.
* * *
Однажды обнаружилось, что все ключи у нас в доме пропали. Дело это, конечно, свалили на меня. Мучимый легкими угрызениями совести, я отправился искать мастерскую, где изготовляются ключи.
Скажу к слову, что все улицы в старой части города не соответствуют своему названию, сохраняя тем самым историческое свое значение. Большая была довольно маленькой; Малая была больше Большой; Новая сплошь застроена ветхими домами; Старая щеголяла новыми строениями; Кольцевая оказывалась всего лишь полукольцом.
Мастерская помещается на углу Рыцарской и Королевской, впрочем, утративших свои названия и ставших Пионерской и Комсомольской.
В маленькой мастерской, называвшейся «Ключ», я увидел Юхана Пуйестика. Он принимал заказы.
Одет он был в лиловый халат, под которым виднелся знакомый пиджак с ключиком на лацкане.
Я ужасно разочаровался, увидев этот ключик. Он означал всего лишь профессию.
Ничуть не смутившись, Пуйестик спокойно со мной поздоровался и велел приходить за ключами через два дня.
– Ты много путешествовал? – спросил я у Пуйестика.
– Нет. Я жил только в Африке. Теперь я живу здесь. В остальных местах был только проездом и плохо их помню. Странное стремление современных людей не быть, а побывать.
– Природу мы воспринимаем метафорически. У нас ветер поет, море злится, рожь волнуется, листья шепчут. Это вполне согласуется с нашим знанием о воде, воздухе и растениях. Отсюда, от природы идут законы театра и его условности.
– Ты часто бывал в театре?
– Я читал Шекспира. Театр – равновесие метафорического восприятия действительности с реальным знанием, воплощенным в характере. При нарушении этого равновесия театр разрушается. Он погибает либо от преобладания фона, либо от засилья сути.
– Откуда у тебя эта уверенность, если ты не бываешь в театре?
– Я уже тебе сказал, что читал Шекспира.
* * *
После случая с ключами Пуйестик несколько утратил для меня свою загадочность. Я перестал вызывать его образ и он перестал являться мне.
На сей раз он все так же неожиданно оказался передо мной на скамейке вблизи деревьев, прянувших от моря, как женщины от набега. Плащ его был цвета сердолика и так же полупрозрачен, а сам Пуйестик, против обыкновения, показался мне грустен.
– Скучаешь? – спросил я на всякий случай.
– Скучаю, – согласился Юхан. – Скучаю по Африке.
Этот парадокс не показался мне интересным. «Пуйестик исчерпывается», – подумал я.
– По Африке. Дело в том, что я там родился.
– Смеешься?
– Я родился вблизи городишка Мтубатуба, в южноафриканской провинции Натель, на берегу Индийского океана.
* * *
Я не люблю и не умею гулять. Гулять, вдыхая воздух и наблюдая явления природы, мне скучно. Общение с природой свысока или для приобретения здоровья к тому же еще и неприлично.
Гуляю я всегда через силу, просто подчиняясь общественному установлению и как бы в противовес фрондерству, которое люблю еще меньше, чем прогулки.
Я никогда не видел, не слышал и не читал, чтобы гуляли крестьяне. Их отношения с природой практические и потому полны красоты. Самая ужасная глупость, что красота непрактична.
Красота обозначает наивысшую целесообразность наших отношений с миром. Что, впрочем, не отменяет бескорыстия.
С эдакими мыслями, и не без раздражения, я все же отправился гулять в этот день, светлый и теплый, повинуясь какой-то силе. Я дошел до старого мола и, чертыхаясь, стал прыгать с валуна на валун, поставив себе целью достичь крайнего створа, железного сооружения, на котором ночью зажигаются сигнальные огни.
Мол, по старости своей, далеко врос в берег. А сбоку к нему примыкают морские заносы, заросшие высокими травами, похожими на камыши. На некотором расстоянии от начала мола возникает тропа, идущая вдоль камышей по наносной земле.
На камне, лицом ко мне, сидел Юхан Пуйестик. Он смеялся.
– Я проверял на тебе силу моих волевых импульсов. Вот ты и явился.
– Вот в чем дело! А я-то думал, откуда это дурацкое желание гулять по молу! Но какого черта ты меня заставил прыгать по этим валунам?
– Просто так. Пока ты шел, я думал об очень важных предметах, которые для тебя, может быть, и неинтересны.
– О чем?
– Об индюках.
* * *
– У тебя такое лицо, как будто ты думал о счастье, – сказал Пуйестик.
– Я действительно думал, что был счастлив во время войны.
– Счастье – чувство идеальное и не соответствует нашему понятию о мире. Оно возможно только как стабильность, то есть как остановка проклятого движения.
– Но я был счастлив во время войны.
– Именно так. Ибо ты прикоснулся к смерти, которая и есть остановка движения. Счастье неминуемо исходит из понятия бесконечности. «Остановись, мгновение!». Оно предполагает вечность достигнутого состояния. Счастье любви, например, означает остановку состояния, ибо развитие обязательно приведет к разрушению равновесия тех сил, которые образуют счастье.
Равновесие достигается в смерти и там не предполагается движение. Многие древние культы мудро предполагали, что по смерти человек достигает вечного блаженства.
* * *
– Ты, Пуйестик, философ. Так скажи мне – в чем смысл жизни?
– Поскольку в природе нет обратного хода – в продвиженьи вперед.
– Но этому продвижению поставлен предел нашей смертью.
– Откуда ты знаешь?
Действительно. Мы мало знаем о смерти. Физическое ее объяснение вполне безнадежно. Фактических свидетельств у нас нет. Да и нет фактических свидетельств о рожденье.
– А рожденье?
– Нам известно то, что посередине, – ответил Пуйестик.
Мы вышли из кафе. С порога было видно лиловое небо над морем. Пуйестик вдруг исчез. Он всегда растворялся в пространстве. И я, в сущности, ничего не знал о нем.
<О стихотворении Б. Пастернака «Зимняя ночь»>
Мело, мело по всей земле, Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела.Почему запомнились эти строки? Почему стали знаменитей, чем тысячи описаний, изобличений и поэтических определений века? Может быть, потому, что в них заключена аллегория: метель – век и одинокий свет разума? Но таких аллегорий в поэзии без счета, даже у албанского классика Найма Фрашери есть «Песнь свечи». Да и нету аллегории в этом гениальном стихотворении, ничего нет от аллегорического умствования. Все в нем подлинное, все «как было» – и огромная метель, и свеча на столе. И то, что метет «по всей земле, во все пределы» – лишь непосредственное ощущение огромности метели, данного ветра и снегопада, а не «вселенского запоя», не фаустианского шабаша ведьм. Ведь дальше идет совсем конкретное:
Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме.И это означает, что метель где-то там, за окном, и все действие сосредоточено в кругу света, сконцентрировано в нем, и не холод, а жар – в атмосфере этого действия. И жаркие «ро» и «ра» определяют музыку строфы, отодвигая ледяные «ле» и «ло» и «ла». Музыка стихотворения конкретна и не звукоподражательна, как конкретны, но не описательны его зрительные образы. Потому что главная конкретность его – это конкретность чувства, протяженность которого сосредоточена в некоем мгновении, в световом круге. Из этого жаркого круга в расширяющееся пространство уходят блики и тени скрестившихся двух судеб, и в этот круг из пространства влетают «кружки и стрелы». И оно пульсирует вместе с колеблющимся светом свечи. Свет этот колеблется от дыхания и движения, от того, что дует из угла. И все это с предельной точностью определяет место действия, его обстановку и атмосферу.
Но не только яркость картины, ее физическая ощутимость так прочно запоминается читателем помимо его воли. Его поражает и потрясает содержательность чувства. Чувствующая личность не спасается в чувстве от мира, и обстановка стихотворения вовсе не «коробка с красным померанцем» раннего Пастернака, куда чувство замкнуто, где отделено.
На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно.Вожделение, чувство замкнутое, и замыкающее, наоборот, здесь разомкнуто, распахнуто, и удивительно, как образ зрительный, почти физиологический, обретает высочайшую духовность, как возрожденческая фреска, не отменяя телесного значения, придает ему сверхтелесное выражение страсти. Но и разомкнутость, распахнутость здесь не беспредельна – она широтой с размах ангельских крыл, но этим размахом определена в пространстве, не растекается в нем в бледную надмирную категорию растворенной во вселенной любви. Чувство так же пульсирует, как и пространство в этом стихотворении, Пастернак постоянно возвращает его в световой круг свечи. Вот почему так содержателен постоянный рефрен стихотворения:
И все терялось в снежной мгле, Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела.Но не только содержательность любви потрясает в «Зимней ночи». В ней есть нечто более важное, прямо не означенное, но одухотворяющее стихотворение, делающее его одним из самых любимых и значительных для нас стихотворений. Любовь здесь выступает как одно из высших проявлений личности. Но сам характер выявления любви свидетельствует о величайшей полноценности личности вообще. Пастернак говорит не только о свободе чувства, об освобождении в чувстве любви от давящих закономерностей века. Не забыться, не уйти, не замкнуться. А раскрыться в свободе чувства и переживания. Таков высший смысл «Зимней ночи», ее смысл даже для тех, кто лишен любви. В стихотворении есть самоопределение внутренней свободы, отрицание всяких внешних ее критериев. В нем есть высший нравственный критерий, высший гуманизм, определяющий права «единственной» личности, права, которыми никто не вправе поступаться и на которые никто не вправе посягать. В постижении этих прав мир входит в световой круг свечи и расширяется до размера ангельских крыл. То есть находится в живых, пульсирующих отношениях с личностью.
Вот эта картина, этот образ, так ярко запечатленный в стихотворении и трудно излагаемый непоэтическими словами, и является главной причиной того, что небольшое лирическое стихотворение запомнилось нам среди огромного потока стихов последних двух десятилетий как одно из важнейших, определяющих наше эмоциональное состояние.
Андрей Немзер Апология поэзии
В привычном словосочетании «проза поэта» почти всегда слышится призвук двусмысленности. Иногда – снисходительная усмешка, как в реже употребляемом, но бесспорно негативном обороте «стихи прозаика». Порой, напротив, восхищение – мол, такое чудо только поэту по силам (обычное суждение об опытах раннего Пастернака, Мандельштама, Цветаевой). Оценки могут быть полярными; суть неизменна. «Проза поэта» вываливается из более-менее внятных литературных норм. Она не то «выше», не то «ниже» обычных рассказов, очерков, повестей, романов, мемуаров – то ли индивидуальный головокружительный эксперимент, то ли извинительная (стихи-то имярек писал хорошие!) неудача. Мы высокомерно корим за эстетическую глухоту читателей 1830-х годов, недоуменно встретивших «Повести Белкина» («Пиковая дама» снискала успех у столичной публики, но глубоко чувствующий поэзию Пушкина Белинский видел в ней лишь «мастерский рассказ», «анекдот»), однако продолжаем (и полвека спустя!) рассуждать о стилевых и композиционных слабостях «Доктора Живаго». То ли дело аристократически изощренные «Детство Люверс» и «Охранная грамота»!
Эти недоразумения отнюдь не случайны и не чьей-то дурной волей надиктованы. Поэзия и проза в сути своей разноприродны, переход от речи, жестко организованной (по крайней мере, на звуковом уровне), к речи, внешне напоминающей обыденную (или, что случается реже, обратный), как правило, происходит трудно. Тяга весьма многих поэтов к прозе (и некоторых прозаиков – к стиху) не опровергает, но подтверждает серьезность этой коллизии, играющей весьма важную роль в литературной эволюции, в смысловом расширении, усложнении, обогащении словесности.
Классическая русская проза началась «Письмами русского путешественника» и повестями Карамзина, строящимися на преодолении ощутимо высокого поэтического слова. Вяземский вспоминает, как Карамзин, прочитав «скупую» строфу баллады Бюргера «Дочь священника», сказал: «Вот как надобно писать стихи». «Можно подумать, – продолжает Вяземский, – что он держался известного выражения: “C’est beau comme de la prose” (Это прекрасно, как проза. – А. Н.) Он требовал, чтобы все сказано было в обрез и с буквальной точностью.
Он давал простор вымыслу и чувству (оставим этот сомнительный тезис на совести Вяземского. – А. Н.), но не выражению. В первой части “Онегина” особенно он ценил 35 строфу, в которой описывается петербургское утро <…> В нем не было лиризма». Пушкин, в 1830-е годы исполненный глубокого уважения к творцу «Истории государства Российского», сформулировал (в рабочих заметках, по стороннему поводу) ту же мысль отчетливее и жестче: «Карамзин не поэт». Это было сказано совсем не в осуждение – констатировался факт. Отход Карамзина от стиховых форм был связан не токмо со спецификой личного дарования, но и с его недоверием к поэзии (фантазии, уводящей от существенности к мечте, «своеволию»), и с его общей просветительской (цивилизаторской, культуростроительной) стратегией. Карамзин знал, что поэты (будь то трогательно верный всем заветам учителя Жуковский или бешеный правонарушитель Пушкин) чувствуют и живут по-своему, что «нет никого более жалкого и смешнее посредственного стихотворца», что поэзия – это судьба, которой, впрочем, не минуешь. (Потому, приметив в опытах Вяземского пиитическое дарованье, Карамзин перестал отговаривать юного шурина от стихотворства.)
Великая русская поэзия первой половины XIX века обязана прозе Карамзина очень многим (в том числе – исподволь нарастающей «прозаизацией»), но от того она поэзией быть не переставала. Прямо же продолжали прозу Карамзина эпигоны, не умевшие расслышать ее семантической, нарративной и стилевой многомерности, простодушно упрощавшие «чувствительность» и форсирующие ту самую поэтичность, которую сам Карамзин проблематизировал, ставил под сомнение, иронично сдвигал. На новом витке литературной эволюции эту стратегию опробовал Пушкин (уже во всеоружии поэтического слова) – результат был парадоксально схожим: пушкинские повести прочли как воспроизведение карамзинских, точнее – той их банализированной модели, что укоренилась в читательском сознании. В обоих случаях игнорировалась сложность текстов: в первом мнимая простота споспешествовала успеху (а позднее – признанию «исторического значения»), во втором – обусловила провал, со временем не столько преодоленный (здесь важную роль сыграли интерпретации Аполлона Григорьева и Достоевского), сколько вытесненный в подсознание (мнимая простота стала квалифицироваться как достоинство, просмотренное близорукими современниками). Большая русская проза росла не из «Повестей Белкина», а из поэзии, уже обретшей силу тщанием Жуковского и Пушкина, вне зависимости от того, рифмотворствовали ли будущие классики в юности из рук вон скверно (Гоголь), шаблонно (Тургенев, не вполне изживший эту привычку и в зрелости) или не оставили зримых свидетельств своей метромании (Достоевский).
Прозаикам не давались стихи (кроме комических и пародийных), поэтам – проза. Но если детская болезнь стихотворства, как правило, обходилась без рецидивов, то поэтов почти непременно клонило к «суровой прозе» (и не обязательно – в летах). Парадоксально подтверждает это правило эволюция Некрасова: его великая поэзия сформировалась в «прозаической» школе (горький опыт поденщины здесь был не менее важен, чем уроки Белинского), но, обретя свой неповторимый голос (и избавившись от необходимости заполнять чтивом журнальные книжки), Некрасов собственно прозу оставляет – ему достаточно «прозаизированного» стиха. Не менее примечательно, что повести, фельетоны, очерки, водевили, равно как приключенческие романы с благородной тенденцией, что сочинялись поэтом в соавторстве с А. Я. Панаевой, дабы держать на плаву «Современник» (в общей сложности это половина некрасовских сочинений!), ведомы ныне только специалистам. Что ж, даже у записного историка литературы язык не повернется назвать это несправедливостью. Но в сходном положении пребывает куда более интересная, чем некрасовская, проза других замечательных поэтов XIX столетия – Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Аполлона Григорьева, Фета, Майкова, Полонского, Случевского. Ее не читают – да и при жизни авторов не слишком жаловали. Исключение на весь век одно – Лермонтов. «Герой нашего времени» сразу стал бестселлером, восторженно встреченным ярыми литературными антагонистами – Белинским и Булгариным. Даже стихи Лермонтова столь единодушного одобрения не получили. И если позднее значение поэзии Лермонтова иногда оспаривалось (например, для возвышения Баратынского или Тютчева; сюжет актуальный), то «Героя…» сомнению не подвергали, а «прозой поэта» могли поименовать лишь при включении в соответствующую издательскую серию.
Не лучше (хоть по видимости прихотливей) обстоит дело в ХХ веке. Тут злосчастное правило осложнилось тремя исключениями – Бунин (хотя сдается, что поэзию его мы чтим скорее по инерции), Сологуб (но исключительно как автор «Мелкого беса»; кто ныне способен одолеть «Тяжелые дни» или «Творимую легенду»?), Андрей Белый, у которого с самого начала творческого пути оппозиция «стих/проза» была если не вовсе снятой, то сильно размытой.
О черте, жестко разделяющей две литературные сферы, с предельной ясностью сказала на закате жизни Ахматова: «Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе». В черновике далее следовало: «Я или боялась ее или ненавидела. В приближении к ней чудилось кощунство, или это означало редкое для меня душевное равновесие». На закате своем Ахматова много занималась книгой, которую однажды назвала двоюродной сестрой «Охранной грамоты» и «Шума времени», но в возможности осуществления этого замысла постоянно сомневалась и – в итоге – выстроить свою «прозу поэта» не смогла. Впрочем, в таких случаях, быть может, вернее говорить: все же не сочла необходимым. Обращение же к повествованию, так сказать, обычному (с сюжетом и вымышленными персонажами) было для Ахматовой невозможно – отсюда ее последовательное неприятие «Доктора Живаго», прозы поэта, не желающей оставаться «прозой поэта».
На исходе 1960-х, когда поэт Давид Самойлов начал работу над «Памятными записками», личность, судьба и литературное дело Ахматовой имели для него совершенно особое значение. Разумеется, Самойлов не намеревался писать (хоть стихи, хоть прозу) по-ахматовски – такое могло бы пригрезиться лишь человеку, в равной мере самонадеянному и неразумному. Он хотел Ахматову «продолжать», то есть писать свое, но с учетом ахматовского опыта, ориентируясь на ее ценностную шкалу, и словно бы в присутствии «старухи суровой». Самойлов, общавшийся с Ахматовой в ее последние годы достаточно плотно, безусловно знал устные варианты мемуарной «прозы поэта» – слышал знаменитые ахматовские «пластинки». Филигранно оформленные (не раз обкатанные на разных слушателях, что отразилось в ироничном авторском определении жанра) словно бы совсем отдельные новеллы (случаи, анекдоты) были фрагментами единого (не вопреки, а благодаря ощутимым лакунам и недоговоркам!) повествования о беге времени. Ахматова вела речь о большой Истории в ее неразрывном сопряжении как с собственной судьбой, так и с судьбой самой поэзии. Смерть Ахматовой (заставившая по-новому осознать и трагический масштаб предшествующих ей уходов Заболоцкого и Пастернака) отозвалась для Самойлова грозными вопросами: есть ли теперь у русской поэзии будущее? что должно делать, дабы избегнуть жалкой и постыдной доли участника похоронного процесса? хватит ли у кого-то (и в первую очередь – у себя) сил для того, «Чтоб не зеркалом быть и не эхом, / И не тетеревом на току»?
Восьмистишье «Становлюсь постепенно поэтом…», откуда взяты эти строки, было написано еще при жизни Ахматовой (1962), но отнюдь не случайно (и, надо думать, не по цензорско-редакторской воле) избежало публикации. Можно в добрый час понадеяться, что двадцать (тридцать, сорок) лет стихотворства чего-то стоят, но как согласовать это чувство с иным, что отлилось другой – горькой и беспощадной – миниатюрой?
Вот и все. Смежили очи гении. И когда померкли небеса, Словно в опустевшем помещении Стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, Говорим и вяло и темно. Как нас чествуют и как нас жалуют! Нету их. И все разрешено.Год за годом Самойлов будет выставлять себе строгие счеты – в поденных записях, в письмах, в стихах, как утаиваемых от читателя, так и явленных публике. Не раз вспыхивающие в дневниках и эпистолярии жесткие инвективы собратьям по литераторскому цеху и сословию («уксусной» интеллигенции), строгие приговоры конкретным сочинениям (зачастую весьма субъективные, а то и шокирующе несправедливые) и общему положению дел в современной словесности суть отражения (если вглядеться – ослабленные) тех упреков, которыми Самойлов не уставал гвоздить себя самого. При этом он не прекращал сочинять (и публиковать) стихи, с его же точки зрения – сомнительные, ненужные, укладывающиеся в безжалостную формулу «темно и вяло»: «Пиши, пока можешь, / Несчастная тварь» (1970). И не прекращал вглядываться во вроде бы безнадежную сегодняшнюю литературу, отыскивать в ней знаки будущего. Надежда на появление нового большого поэта у Самойлова сцеплена с двоящейся оценкой тех, кто худо-бедно выполняет высокую миссию сегодня:
Слабы, суетны, подслеповаты, Пьяноваты, привычны к вранью, Глуповаты, ничем не богаты, Не прославлены в нашем краю. Но, поэзии дальней предтечи, Мы плетем свои смутные речи, Погрузив на непрочные плечи Непосильную ношу свою.Заглавье – ключ к тексту, которым поэт одаривает читателя. Потому потаенные (не для публики предназначенные) стихи обретают названия не часто. Это – словно бы запинающимся шепотом пробормотанное – восьмистишье наделено торжественным именем: «Поэты». Написалось оно на рубеже 1956–1957 годов, то есть в пору так называемого поэтического «ренессанса», для Самойлова – мнимого, обрекающего писателей на компромиссы и самообман. О худосочности и фальши тогдашних «свершений» и «прорывов» он с безжалостной прямотой писал летом 1956 года оптимистически настроенному Слуцкому (см. очерк «Друг и соперник»); верность своим выстраданным суждениям сохранял при всех последующих переменах поэтической (и идеологически-политической) погоды. Тихая апология предтеч «поэзии дальней» таилась в архиве – и властно присутствовала в позднейших сочинениях Самойлова. В том числе – в прозе, к которой он обратился после ухода «последних гениев», после давно предчувствуемого им политического поворота (ввод войск в Чехословакию был сразу же осмыслен Самойловым как закономерный итог сомнительной «оттепели»), после утраты каких-либо надежд, кроме надежды на человеческое достоинство (честь) и внутренне свободное слово (поэзию).
«Памятные записки» писались много лет. Менявшееся в ходе работы сочинение осталось неоконченным. Мы не знаем и никогда не узнаем, что сталось бы с этой книгой, если бы жизнь Самойлова не оборвалась 23 февраля 1990 года. Нам не дано доподлинно угадать, какими главами поэт пополнил бы свои воспоминания, какие еще истории, портреты, размышления изменили бы общий смысловой контур текста, как бы исправлялись, прописывались, перекомпоновывались фрагменты, предъявленные читателю в последние годы жизни Самойлова («военные» главы) и после его кончины. Сохранившиеся планы и дневниковые записи позволяют строить более или менее убедительные гипотезы и на их основе – реконструировать текст, помня, что между замыслом (зафиксированным автором или запомнившимся его собеседникам) и завершенным твореньем, как правило, пролегает изрядная дистанция. Работа художника не сводится к выделыванию «правильной» формы для загодя «готового» смысла. Поиск единственно необходимого (буквально – незаменимого) «слова» и есть поиск той единственной мысли, которую поэт хочет (должен!) выстрадать, «разрешить» и сделать достоянием мира. Или оставить до лучших времен. Или уничтожить вовсе.
Последнее если и случалось, то редко. К большинству своих созданий Самойлов относился строго (можно сказать – взыскательно, можно – придирчиво; в ряде случаев – раздраженно), но гоголевская страсть к очистительному огню была не в его характере. А вот откладывать интимно дорогие работы, сберегать их от посторонних глаз он был весьма склонен. Касалось это не только опытов, оборванных на полуслове, набросков, требующих дальнейшей отделки, но и текстов, достроенных вполне. Или – как «Памятные записки» – в изрядной мере. Кажется, именно так думал о своей заветной книге на новом крутом повороте истории сам поэт. Предпоследняя запись в его дневнике (18 февраля 1990; до нечаемой кончины – пять дней): «Говорили с Галей о необходимости печатать мою прозу»[25].
Да, книга, выйди она в свет при жизни автора, вероятно, обрела бы несколько иное обличье. Да, всякая интерпретация незавершенного труда заведомо рискованна. Но «спорность» (открытость разным прочтениям) – общее свойство всей настоящей литературы (не спорят о том, что замкнулось в своем узком контексте, на время или навсегда). Можно предположить, что «Памятные записки» когда-нибудь будут изданы в серии «Литературные памятники» (с надлежащим текстологическим аппаратом и детальным комментарием), но сейчас это, прежде всего, живая книга. Не только в силу остроты, проницательности и самой что ни на есть актуальности весьма многих суждений Самойлова о русской истории ХХ века (и времен более отдаленных), о политических и духовных перспективах (не одной лишь России), о составе и стати нашего общества (в частности – интеллигенции), о «национальных проблемах», об этике (чести, долге, соотношении обязанности и права), об искусстве… Все это, разумеется, важно, но не менее существенно иное: внутреннее единство свободного повествования; ощущаемая читателем законность соединения сильно рознящихся (по тематике и слогу) глав, что писались в разные годы и десятилетия; постоянная пульсация главной мысли – варьирующейся, прирастающей новыми смысловыми обертонами, обнаруживающей свою противоречивость (в частности – обусловленную ростом автора и бегом времени), но при всем том остающейся собой и упорно организующей целое «Памятных записок».
Мне кажется, что это мысль о судьбе русской поэзии (и/ или литературы) в ХХ столетии. О ее зависимости и – в вершинном бытии – независимости от социально-политической истории, «очень плохого» – чудовищного – государства (у которого, по Самойлову, может быть лишь одна альтернатива – государство просто «плохое»), злосчастного «полународа» и растерявшей нравственные ориентиры полупросвещенной интеллигенции. О ее огромных правах и еще больших обязанностях. О трагических и постыдных срывах, затмевающих и искривляющих ее суть. О ее непреходящем – при всех грехах – великом значении.
Почему так? Почему «Памятные записки» не укладываются в рамки чистой автобиографии (хотя линия «детство – отрочество – юность» прописана весьма отчетливо) или свидетельства частного человека о большой истории? Когда Л. К. Чуковская отметила сходство прозы Самойлова с «Былым и думами», это, разумеется, не было дежурным комплиментом – историософская рефлексия и пристальный самоанализ в «Памятных записках» не менее важны, чем воссоздание ушедшего в его неповторимой конкретности, а постоянное сопряжение резко индивидуальной судьбы автора и истории России (если вчитаться повнимательнее – и европейской цивилизации в целом) явно напоминает литературную стратегию Герцена. Самойлов не токмо почитал, но и всерьез читал Герцена, русские мемуары вообще затруднительно писать без оглядки на «Былое и думы». Но родовое сходство не отменяет принципиального различия: Самойлов всю жизнь (сколько мы ее знаем) был поэтом до мозга костей; Герцен поэтом никогда не был. Речь идет не о склонности к версификации (и соответствующих навыках) и не о мере дарования, но об отношении к слову, литературе, писательству. Для Герцена литература полезный (а иногда и очень полезный) заменитель отсутствующих общественной мысли и общественных институтов, для Самойлова – высшая форма духовного служения.
Со времен Белинского (и того же Герцена) мы привыкли противополагать самодостаточное искусство и искусство, служащее обществу (и/или государству). Но в том и дело, что для Самойлова этой антитезы не существовало. В конце 1930-х юный Давид Кауфман и его друзья-сверстники мыслили себя деятельными участниками великого исторического процесса, строителями качественно новой жизни, на пути к которой их ждал «последний и решительный бой». В этой единственной великой войне, «изо всех какие знала история» (финал поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин»), они были готовы погибнуть. Но от того не переставали быть поэтами. И принципиально отказывались признать поэтами тех немногим старших сочинителей, что втискивали «правильное содержание» в удобную для понимания «форму», тех, кто «воспевал» наличествующие достижения (игнорируя трагическую сложность исторического бытия) вместо того, чтобы преображать словом сегодняшнюю жизнь, создавать коммунистическое завтра, досягнуть которого выпадет далеко не каждому. Дети революции, они верили: «рожденная в трудах и в бою» республика – «весна человечества». Потому их «почвенность» (укорененность в истории, которая обусловила совершенно особое положение России в мире) была неотделима от «вселенскости», а крайняя политическая ангажированность – от истового литературоцентризма. Они твердо знали, что наличествующее государство (для них – бесспорно, лучшее из всех возможных, выполняющее великую миссию освобождения человечества) нуждается не в сервильной словесности (худо повторяющей газетные передовицы), а в литературе истинно свободной (по Гегелю, Марксу, Ленину, для которых свобода – «осознанная необходимость»). А как же иначе? Ведь тому же самому государству необходимы не циничные рабы-приспособленцы, а граждане! И если с некоторыми гражданами случаются несправедливости (да, очень страшные; настолько, что в голове не укладывается), а другие – недостойны высокого имени, то это печальные издержки трудного поступательного движения (а когда их не было?), трагически необходимые (хоть покамест и необъяснимые) жертвы светлому будущему. Да, мы в текущей политике понимаем далеко не все – но от этого в сути своей политика не перестает быть единственно верной. А уж о том, что государство пока снисходительно относится к посредственностям (по слову М. Кульчицкого, не запрещает «декретом Совнаркома кропать о Родине бездарные стишки»), печалиться точно не стоит. Мы свое скажем – и нас непременно услышат. Поэзия не «оформление» или «оправдание» творящейся истории, но ее важнейшая часть. Кто историю творит, тот ее и должен воссоздавать словом.
22 октября 1942 года будущий автор «Памятных записок» (рядовой пулеметного расчета на Волховском фронте) заносит в дневник список литературных планов. Две первые позиции – в равной мере самые важные (потому и вынесены вперед) и самые несбыточные: «I. Эстетика <…> II. 3-я часть трилогии, роман “Поколение сорокового года”. Стихи на передовой, может, кому-то и удается сочинять (у Давида Кауфмана получалось редко), но уж заниматься эстетическим трактатом и большим прозаическим повествованием (первые две части которого тоже существуют лишь в воображении потенциального автора) – дело абсолютно немыслимое. Для нас, а не для поэта, который после почти двухмесячного перерыва (16 декабря) сможет записать, разумеется, не раздел трактата или главу трилогии, а несколько дневниковых строчек: «Дни идут быстро. Слишком быстро. Много ли их мне осталось? А между тем я полон планов и уверен в себе как никогда. Я, рядовой солдат, серая шинель, чувствую себя гениальным. Это ли не социализм?» (I, 156).
Это – социализм. Вершит его «поколение сорокового года», подвиг которого должен быть зафиксирован в слове. И не со стороны, а изнутри, теми «серыми шинелями», что вместе с уверенностью в себе обрели «гениальность». Так будет создана новая литература, законы которой опишет возникающая одновременно с ней новая эстетика: «1) Эстетическое познание мира. 2) Прекрасное как свобода. 3) Эстетическая перестройка мира (соцреализм)».
Верность этим трем пунктам наивного мальчишеского плана Самойлов сохранит навсегда, хотя со временем (и затратив на то немало духовных сил) поймет, что «соцреализм» (равно как и породивший его «социализм») здесь совершенно ни при чем[26]. Сохранит он и верность двуединому фронтовому замыслу – в «Памятных записках» соединяются повесть о «поколении сорокового года» (как мы творили историю и что из этого вышло) и «эстетика» (о чем, как, для кого и зачем должно писать).
Это неразрывное сцепление «поколенческой истории» и «эстетики» властно строит «военные» главы, с которых и начинались «Памятные записки». Задолго до обращения к мемуарам, в пору, когда их «материал» был обжигающей реальностью, двадцатитрехлетний солдат по пути из госпиталя в неизвестность яростно оспаривал циничный взгляд на происходящее: «Война все спишет. Обманул – спишет, украл – спишет.
Врете! Как был ты сукин сын, так и останешься. Ничего она не спишет» (I, 172). Запись, сделанная 15 августа 1943 года, озарит замыкающие главу «Горняшка» размышления о «военной литературе», которая, согласно Самойлову, «по нравственному качеству не отличается» от всей прочей советской словесности. «Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать его интонации и повторять его ситуации, не понимая истинного значения нравственной позиции Толстого по отношению к войне, проявившейся уже в “Севастопольских рассказах”. В сущности же, наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы, принятой всерьез: “война все спишет”.
Нет, не спишет! Не списала».
Не списала, ибо «преднравственность достойна, если ведет к нравственности.
Преднравственность деградирующая не имеет оправданий».
Война принесла самойловскому поколению «странное чувство свободы», но не саму свободу. Оправдание поколения войной (вольная или невольная подмена истинной нравственности – преднравственностью) по Самойлову оборачивается отступничеством от свободы, изменой лучшему в себе. Тому лучшему, что воспето в «Сороковых» и «Перебирая наши даты…», тому лучшему, что позволило Самойлову написать «Поэта и гражданина».
Развернутым комментарием к этому трагическому стихотворению стала глава «Памятных записок» с безжалостным (по отношению, в первую очередь, к себе) названием «А было так…». Этими словами Поэт начинает свой рассказ об убийстве взятого в плен немца. Выслушав страшную историю, Гражданин спрашивает «Ты это видел?» – и слышит в ответ: «Это был не я». Отметим весьма важный смысловой обертон весьма многопланового финального обмена репликами. Вопрос Гражданина варьирует смыслообразующий заголовок стихотворения самойловского учителя Ильи Сельвинского – «Я это видел» (1942)[27]. Сельвинский писал о фашистских зверствах: «Можно не слушать народных сказаний, / Не верить газетным столбцам. / Но я это видел. Своими глазами. / Понимаете? / Видел. / Сам». Не ставя под сомнение искренность потрясенного автора, замечу, что текст строится по легко распознаваемой классической модели – Сельвинский склоняет на современный лад послание Батюшкова «К Д<ашко>ву» (1813): «Мой друг! я видел море зла / И неба мстительного кары; / Врагов неистовых дела, / Войну и гибельны пожары…». Исчислив ужасы войны и преступления врагов, Батюшков отказывается от своей прежней поэзии (да и поэзии вообще): «А ты, мой друг, товарищ мой, / Велишь мне петь любовь и радость, / Беспечность, счастье и покой / И шумную за чашей младость! <…> Нет, нет! талант погибни мой / И лира, дружбе драгоценна, / Когда ты будешь мной забвенна, / Москва, отчизны край златой». Поэт превращается в воина; покуда не свершится отмщение, «будут мне / Все чужды Музы и Хариты, / Венки, рукой любови свиты, / И радость шумная в вине!». Сельвинский отвергает не только прежнюю лирику («Было время – писал я о милой, / О щелканьи соловья…»), но и поэзию воинскую: «Нет. Для этой чудовищной муки / Не создан еще язык». На преступления врагов может быть лишь один ответ: «Да! Об этом нельзя словами! / Огнем! Только огнем!».
Самойлов не может повторить за Батюшковым и Сельвинским «Я это видел…». Видел – и зверства нацистов, и преступления своих – «не я». Видел не поэт, но юноша, чьи добрые чувства не позволяли выйти за пределы преднравственности. Видел тот, кто не знал (и не мог знать), как противостоять злу. Для Сельвинского (как когда-то для Батюшкова) страшная реальность отменяет саму возможность поэзии (одновременно разрушая веру в осмысленность бытия, в Промысел). Солдат Кауфман чувствовал сходно. Став поэтом, он не может вполне принять свое прежнее самоощущение. Не «я это видел» (и принял, сделал надлежащие выводы, подчинился логике войны), но «А было так…». И если тогда солдат не знал, как должно реагировать на захлеб мести, бессудные расправы, небрежение высшей нравственностью, если и теперь, задним числом, «простые» ответы никак не даются, это не значит, что «война все списала», что вину можно переложить на «худших», а свою причастность злу – забыть или простить. Отсюда – счет к Эренбургу (и резко негативная – зримо отвергающая отвлеченную «справедливость» – оценка его «оттепельной» стратегии). Отсюда – неприятие «пресловутого гуманизма войны» (и большей части военной литературы). Отсюда – мучительное (а потому – трудно формулируемое, далеко не сразу облекающееся в ясные формы) осмысление послевоенной судьбы «поколения сорокового года», прежде всего – собственной и ближайших друзей, Бориса Слуцкого и Сергея Наровчатова.
В нескольких главах «Памятных записок» Самойлов возвращается к ситуации 1946-го года – собственной неприязненной реакции на поэтический вечер в Колонном зале, где триумфально выступали Ахматова и Пастернак, и принципиальном одобрении постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград»[28]. О глубинной причине этих тяжелых (кажущихся ныне непонятными) заблуждений Самойлов всего яснее сказал в «ахматовском» очерке: «…была уверенность, что только мы, фронтовики, видели и поняли трагедию войны. И что именно это есть главная тема поэзии. И что для выражения ее нужны грубые, заскорузлые слова, особый наш новый поэтический язык.
“Не про то” и “не так”, казалось, писали Ахматова и Пастернак.
Непонятно было мне тогда (отметим значимый переход от множественного числа к единственному, Самойлов предпочитает говорить о своей, а не об общей ошибке. – А. Н.), что на этот вечер привели их высокие чаяния, надежда, что мы, прошедшие войну, вернулись оттуда преображенными и в сознании своего достоинства сумеем осуществить порыв к свободе». Не сумели. Ни тогда, ни позднее – об этом и не переставал размышлять Самойлов. Провал так называемого поэтического «ренессанса» середины 1950-х был для него закономерным следствием прежнего недомыслия (духовной незрелости). «Ортодоксальный идеализм оказался исторически бесперспективным. Через несколько лет выяснилось, что истинными носителями гражданского духа, подлинными нравственными авторитетами явились наименее “политические” фигуры нашей литературы – Пастернак и Ахматова <…> Чем более развенчивались идеи государства, власти, партии, тем внимательнее прислушивалось общество к чистому голосу совести, к голосу силы и слабости, к голосу нравственности – к Ахматовой и Пастернаку». Эта – оставшаяся для Самойлова неколебимой – формулировка возникает в главе с узнаваемым герценовским названием – «Литература и общественное движение 50—60-х годов», истории самообмана литераторов нескольких поколений, что в конечном счете обернулся их общим поражением.
Здесь, однако, необходимо сделать сильную оговорку. Сколь ни суровы весьма многие суждения Самойлова о собратьях по цеху, признать их не подлежащими обжалованию приговорами невозможно. 4 апреля 1974 года Самойлов заносит в дневник перечень «новых глав» своего повествования: «Мечи на орала», «Московская Албания». Сельвинский. «Лица» (Вишневский, Тихонов). Глазков. «Прибитые страхом» (Светлов, Мартынов, Соболь, Межиров)» (II, 76). Черная тень последнего потенциального заголовка ложится на все предшествующие, сквозная тема глав, посвященных послевоенным годам, – страх и его неизживаемые следствия. «Московскую Албанию» (за комическим названием кроется ощутимо зловещий смысл) Самойлов недописал. Главы о «лицах» (утративших лица, ставших персонами) и поэтах, «прибитых страхом», текстовой плоти не обрели. Портреты Сельвинского и Мартынова (в приложении читатель найдет их варианты) остались недописанными. Место задуманного очерка о Глазкове занял – шестью годами позже! – его некролог с ощутимыми этикетными приметами этого печального жанра. Самойлов не хотел лукавить, но и принимать на себя роль прокурора тоже не хотел.
Причиной тому отнюдь не человеческая приязнь. 30 июня 1981 года Самойлов грустно констатирует: «Мартынов умер, а я даже не записал об этом[29]. Мы не дружили. Все же он был поэт» (II, 143). Это все же дорогого стоит. Прибитый страхом Мартынов был поэт. И все его комплексы, ошибки, грехи, психологические маневры и многочисленные дурные, по инерции писавшиеся, стихи не могут отменить этого непреложного факта. Еще при его жизни (1976) Самойлов написал: «Чем более живу, тем более беспечной / Мне кажется луна и время быстротечней, / Томительнее страсть, острее боль обид, / Понятнее поэт Мартынов Леонид». Признание Самойлова удивило Л. К. Чуковскую: «…за строчку о Мартынове хочется устроить Вам сцену <…> Ну почему, ну зачем он становится Вам “понятнее”? Понятен-то он всегда, но, кажется мне, бездарен».
Самойлов не захотел спорить со своей постоянной корреспонденткой: «На “Мартынов Леонид” Вы напрасно сердитесь. Я думал, что само расположение слов выдает иронию. Не скажешь же: “Понятнее поэт Пастернак Борис”. Он же в первой строфе, где перечисляются явления, которые понять можно: с годами одно томительней, другое больнее и всего понятнее, что поэт Мартынов Леонид плох»[30]. Принять это толкование невозможно – особенно от поэта, что уже написал стихотворение «Шуберт Франц» и вскоре напишет «Дуэт для скрипки и альта», герой которого именуется «композитор Моцарт Вольфганг Амадей». В том и дело, что несчастный поэт Мартынов Леонид все понятнее (и вопреки здравому смыслу – ближе), что его боль и одиночество «рифмуются» с собственной тоской, что его душевное неустройство той же природы, что у тебя, движущегося к последней черте: «А больше ничего я здесь не понимаю, / Хоть вслушиваюсь в даль и целый день внимаю, / И всматриваюсь в шум, и слышу свет и тень, / И вижу звук и гул, и слепну каждый день».
То, что давалось в прощальных стихах (например, поминовениях Назыма Хикмета или Ярослава Смелякова), с трудом укладывалось в размышляющую прозу. Потому множились варианты одних «портретных» глав, а другие откладывались на потом (навсегда). Потому название очерка о Сергее Наровчатове (ср. его более жесткую редакцию в приложении) опровергает расхожее присловье: «Попытка воспоминаний» о нем – настоящая пытка. Потому и новая версия мемуара о Борисе Слуцком не была отдана в печать, хотя работа виделась Самойлову насущно необходимой и велась по договоренности с журналом[31].
В ряду напряженных и словно бы не до конца «прорисованных» портретных глав особого внимания заслуживает короткий этюд (страница с малым!) о вроде бы «чужом» Самойлову по всем статьям Семене Кирсанове, выросший из гротескной дневниковой зарисовки (одинокий стихотворец в баре ЦДЛ; запись от 10 февраля 1971; II, 49). Кирсанов «Памятных записок» жалок, неприятен, мелок, но при всем том остается поэтом – бедным, но Колумбом, бедным, но Магелланом. Как в тех двух его стихотворениях, что приворожили Самойлова, вспыхнули цитатами в его горько нежной миниатюре и отозвались в поминальных стихах. «В каждой вашей оговорке – / У кого их только нет! – / Вы оказывались зорки, / Недогадливый поэт». Недогадливый, ковавший «золотые пустяки», умерший «до кончины», но все равно поэт («На смерть кузнечика», 1974). Полтора десятилетия спустя Самойлову вновь потребовалось сказать об уходящем (давно уже ушедшем) Кирсанове: «Он, невнимательный к природе, / Вдруг вспомнил летние дожди, / Когда все было на исходе, / Когда все было позади <…> Со всех сторон хлестало, перло, / Блистало, грохало. И он / Вдохнул в истерзанное горло / Благоухающий озон. // От этих запаха и влаги / Легчало у него в груди, / Когда ложилось на бумаге / Про эти летние дожди» (1989). «Памятная записка» («маленькая трагедия», неотделимая от стихов) замечательно свидетельствует о том, сколь дорог Самойлову был любой поэт[32].
Отсюда внутренняя завершенность мемуаров о сверстниках, чьи судьбы были оборваны войной. Вне зависимости от меры их дара или славы павшие на ратном поле остались поэтами. (Лаконичное предисловие к подборке стихов и писем мало кому известного Ильи Лапшина, героя проникновенного, щемяще личного стихотворения «Памяти юноши», не менее весомо, чем детализированные воспоминания о ставших легендами Павле Когане и Михаиле Кульчицком.) Отсюда же торжественная ясность очерков о «последних гениях» – Заболоцком, Пастернаке, Ахматовой.
Они написаны по-разному. «День с Заболоцким» – точно и изысканно выстроенная высокая притча (подсвеченная написанным ранее стихотворением «Заболоцкий в Тарусе»); «Анна Андреевна» – обстоятельный, неспешный, хотя и сдобренный иронией, «правильный» мемуар (жанровый рисунок обусловлен как многолетним «подробным» общением Самойлова с Ахматовой, так и спецификой ее собственного торжественного и обдуманного жизнестроительства); «Предпоследний гений» – почти стихотворение в прозе[33]. Жанровые и стилистические различия лишь усиливают общую для трех текстов смысловую доминанту – речь идет о простом и несомненном величии старших поэтов, трудно постигаемом и осмысливаемом поэтом младшим. Во всех трех историях важны не только заглавные герои, но и их собеседник, будущий повествователь, а точнее – его взросление (переоценка вроде бы устоявшихся ценностей). Рассказывая о нелегком (во всех случаях!) приближении к правоте «последних гениев», Самойлов предъявляет читателю себя прежнего и – скорее все же вольно, чем невольно – объясняет, как он стал собой нынешним.
В этом отношении особенно примечателен очерк «Предпоследний гений», где Самойлов счел должным рассказать о временном разочаровании в обожаемом с отроческих лет Пастернаке и рассекретить свою обращенную к прежде любимому поэту жесткую инвективу[34]. По-пастернаковски стремительно летящая повесть о «первой любви», ее страшном сломе и медленном выздоровлении сущностно совершенно точна, но некоторые ее детали, мягко говоря, модифицируют вполне достоверные (проверяемые) факты. Первые приступы «разочарования» в Пастернаке (и страстного увлечения Хлебниковым) настигли Давида Кауфмана не в ИФЛИ, а еще на школьной скамье (о чем ясно говорят тогдашние дневниковые записи), однако они вовсе не привели к «разрыву»: Пастернак (наряду с Маяковским и Хлебниковым) оставался любимым (главным) поэтом для того кружка, что гордо именовался «поколением сорокового года». Гневное послание «Пастернаку» было написано не весной 1946 года (как следует из очерка), а в сентябре 1944-го, на фронте (о чем свидетельствует сохранившаяся рукописная тетрадь). В пастернаковском очерке минимализирован рассказ о послевоенном самоощущении Самойлова и его друзей-сверстников, весьма подробно представленный в других главах «Памятных записок», – акцент сделан не на причинах заблуждения, а на ошибке как таковой. О том, как стихотворение избежало печати, Самойлов повествует скороговоркой, стараясь представить этот эпизод не стоящей внимания мелочью (мол, хоть на это у меня ума и совести хватило): «После постановления Вишневский (главный редактор “Знамени”. – А. Н.) позвонил мне и предложил стихи опубликовать.
– Теперь поздно, – сказал я ему.
– Как знаете, – ответил он и не стал уговаривать. Мне показалось, что он доволен».
Версия Самойлова скверно согласуется с тем, что мы знаем о литературной позиции Вс. Вишневского в 1946 году (для него постановление ЦК было не злосчастным указанием, а долгожданным сигналом, разрешающим наконец-то вдарить по столь долго привечавшемуся властью Пастернаку). Гораздо более жизнеподобна версия, представленная в воспоминаниях К. М. Симиса: «Что Вишневский предложил ему опубликовать эти стихи, Дезик написал. Но умолчал о том, что всемогущий о ту пору Вишневский твердо обещал: опубликуешь стихи о Пастернаке – гарантирую тебе книгу стихов. Об этом разговоре рассказывал мне Дезик на следующий день после того, как он состоялся <…> Когда его в моем присутствии Сергей Наровчатов убеждал дать в “Знамя” стихи о Пастернаке, Дезик просто пожал плечами и сказал: “Противно, я бы после этого уважать себя перестал”»[35].
Поэт отверг соблазнительное предложение, но до 1949 года включал послание в свои машинописные сборники, то есть, по существу, не отказывался от текста[36]. Помня об этом, Самойлов не хотел указывать на смягчающие (извиняющие) обстоятельства и «приукрашивать» свою позицию. Поэтому он передатировал текст: стихи, написанные на фронте, более объяснимы и простительны, чем написанные после войны, в раздражении от публичного успеха адресата. Поэтому он не упомянул в пастернаковском очерке о своем позитивном отношении к постановлению о «Звезде» и «Ленинграде», обещании (безусловно серьезном и исполнимом) Вишневского и совете Наровчатова воспользоваться случаем, на фоне которых отказ от публикации смотрелся бы более эффектно и/или благородно. Поэтому же в «Предпоследнем гении» опущен тщательно отрефлектированный Самойловым и в других главах «Памятных записок» им описанный сюжет выступления Слуцкого на «отвратительном собрании» 31 октября 1958 года. В очерке «Друг и соперник» Самойлов, рассказав, как Слуцкий дал прочесть ему свою речь сразу после погромного заседания, пишет: «И, каюсь, я не ужаснулся». Автор «Друга-соперника» принимал на себя долю ответственности за выступление Слуцкого; автор «Предпоследнего гения» стремился уйти от самооправдания в любой форме, а даже беглое упоминание о поступке Слуцкого могло быть прочитанным в таком ключе. За двадцатичетырехлетнего Давида Кауфмана должен был отвечать только Давид Самойлов. Тот, кому «выпало счастье быть русским поэтом», иными словами говоря – продолжать дело Пастернака[37], Блока, Пушкина.
В эссе «Литература и стихотворство» Самойлов вызывающе перевернул известную верленовскую антитезу: «Между тем литература – это не стихотворство, даже не поэзия (это лишь ее части и формы выражения), даже не самовитое, пусть хоть точнейшее и тончайшее, раскрытие личности, а служение, жертва и постоянное обновление соборного духа, обновление его в форме личного опыта мысли и чувства». Пусть так. То «усилие обновления», о котором дальше говорит Самойлов, можно называть не поэзией, а литературой. Можно, хотя старинное словоупотребление не под силу искоренить даже большому поэту, не без оснований раздраженному безответственными играми с «поэзией». Суть в ином: «Дарование – даровано. Но нельзя всю жизнь тешиться дарованным. Дарованное, но не обновленное, ветшает».
«Памятные записки» – книга о том, как обновлялось дарованное. И о том, как дарованное не обновлялось, как уходило в песок, истаивало, умирало. И о том, что дарованное не исчезает (не должно исчезать!) без следа. Если бы у книги Самойлова не было авторского заголовка, ее можно было бы назвать «Апологией литературы». Или все же, следуя любезной привычке, «Апологией поэзии»?
Интерпретатор, перетолковывающий «темное» высказывание художника, объясняющий, что тот, дескать, выразился «не вполне правильно», выглядит откровенно нелепо. Но что поделать, если назвать Самойлова «литератором» попросту невозможно, если он был поэтом! И в «Памятных записках» не меньше, чем в стихотворениях и поэмах. Мог он сочинить «правильный роман» – с дуэтом главных героев и толпой второстепенных персонажей, вьющейся интригой, густым бытом и надлежащим образом прописанным «историческим фоном»? Да запросто! Разве не он строил самую что ни на есть интимную лирику на сюжетной основе (и выслушивал за то когда вежливые, а когда и ядовитые укоризны)? Разве не он умел насытить стиховое повествование колоритными, конкретными и запоминающимися деталями? Разве не ощущаем его поэтический мир звучащим, переливающимся цветами и запахами, осязаемым? Все так, все он «мог» (ибо, кроме прочего, был блестящим профессионалом)[38], да только хотел совсем другого.
Проза Самойлова подчинена своим законам. Здесь слово переходит в мысль, минуя лишь бегло очерченные сюжет и детали. Здесь то и дело возникают сложные ассоциативные связи и множатся неисправимые противоречия. Здесь прихотливо вьющееся, играющее неожиданными умолчаниями и щедрое на «ненужные» подробности повествование крепко замкнуто на авторское «я» – «я» поэта, удел которого (с детства и до конца) – непрестанное обновление некогда дарованного, удивительное единство самоотрицания и верности себе.
«Памятные записки» – проза поэта. И относился к ней поэт так же трепетно, как к стихам. Может быть, потому и не спешил открывать даже завершенные главы публике, продолжал достраивать и шлифовать свою «большую повесть поколенья» (она же «не исповедь, не проповедь») и в конечном итоге оставил ее по-настоящему открытой, разомкнутой и в свой широкий контекст (стихи, дневниковые записи, статьи, не нашедшие места наброски и «отложенные» варианты некоторых глав), и в еще более широкий контекст большой русской литературы.
Андрей НемзерО составе
При жизни Давида Самойлова большая часть его прозы не публиковалась. (Немногочисленные исключения указаны ниже.) К концу 1980-х годов, когда состав и композиция будущей книги в общем сложились, а цензурный режим в СССР существенно изменился, Самойлов включил ряд мемуарных очерков, объединенных рубрикой «Портреты», во второй том двухтомника «Избранные произведения» (М.: Художественная литература, 1989; далее – ИП) и отдал блок «военных» глав журналу «Аврора», где их сокращенная версия была напечатана под заголовком «Люди одного варианта. Из военных записок» (1990, № 1, 2). Вскоре по кончине поэта начались журнальные публикации глав его заветной книги; их итогом стало издание, основанное на сохранившихся авторских планах, – Давид Самойлов. Памятные записки. М.: Международные отношения, 1995 / Предисловие, составление, подготовка текста Г. И. Медведевой (далее – ПЗ). Пятью годами позже книга появилась в серии «Мой 20 век» – Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М.: Вагриус, 2000. Том «Вагриуса» не вполне повторял «Памятные записки»; в него не вошли некоторые главы из IV и V частей и вся часть VI (эссе); их место заняли обширные фрагменты дневника поэта (ср.: Давид Самойлов. Поденные записи: В 2 т. М.: Время, 2002).
В предлежащем издании текст ПЗ печатается полностью. Раздел «Приложения» составляют статьи и заметки, тесно связанные с главной прозаической книгой Самойлова, как опубликованные самим поэтом, так и увидевшие свет после его смерти.
Научное комментированное издание «Памятных записок» – дело будущего. Ниже приводятся сведения о датировках текстов и их первых публикациях.
Наброски к предисловию (О свободе) – Написано на рубеже 1960—70-х гг. (после ввода советских войск в Чехословакию). ПЗ.
Дом; Квартира – Первая часть «Памятных записок» (за исключением главы «Василий Григорьевич») писалась в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Знамя. 1990. № 9.
Сны об отце; Шульгино; Произрастание трав – Дружба народов. 1993. № 10; глава «Произрастание трав» не закончена.
Василий Григорьевич – Написано в 1987 г. Таллин. 1988. № 2. Вошло в ИП.
Из дневника восьмого класса – Даугава. 1990. № 12.
Ифлийская поэзия – Глава писалась в 1982 г.; не закончена. ПЗ
«Есть в наших днях такая точность…» – Написано в 1964 г.; ср. заметки «Поколение сорокового года» в сборнике стихотворений поэтов, погибших на Великой Отечественной войне «Сквозь время» (М., 1964). В сокращении – Литературная газета. 1985. 15 мая; полностью – ИП.
Попытка воспоминаний – Написано вскоре после смерти С. С. Наровчатова (27 июля 1987); ср. вариант в разделе «Приложения». ИП. Включено в кн.: Воспоминания о Сергее Наровчатове. М., 1990.
Кульчицкий и пятеро – Написано в 1988 г. – М. Кульчицкий. Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте. Харьков, 1991.
Друг и соперник – О первоначальном варианте очерка и реакции на него Слуцкого см. в тексте. Новая версия обдумывалась и писалась в 1987–1989 гг. См. записи от 23 ноября 1987, 18 и 25 ноября 1988, 15 октября 1989 – Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 2. С. 241, 254, 275. Октябрь. 1992. № 9. Ср. также некролог Слуцкого («Памяти друга») в разделе «Приложения».
В мастерской стиха – Написано в 1974 г. Вариант см. в разделе «Приложения».
Странное чувство свободы; Серый – Главы написаны в 1978 г.
Горняшка; Роман про себя; Эренбург и прочие обстоятельства; Белоруссия родная, Украина золотая…; А было так…; Испытание победой – Главы написаны в первой половине 1970-х гг.; глава «Горняшка» – В мире книг. 1988. № 5; свод военных воспоминаний – Аврора. 1990. № 1, 2; глава «Эренбург и прочие обстоятельства» – Нева. 1994. № 4.
Московская Албания – Глава писалась в первой половине 1970-х гг.; не закончена; фрагменты были использованы автором в заметке «Мой первый гусь» («Дружба народов». 1979. № 1). ПЗ.
У врат Поэтограда – Первоначальный вариант написан вскоре после смерти Н. И. Глазкова (1 октября 1979). В сокращении – Литературная газета. 1980. 25 июня. Позднее автор продолжал работу над очерком; см.: Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 2. С. 221 (запись от 17 февраля 1986). Полностью – Воспоминания о Николае Глазкове. М., 1989.
Несколько слов о Ландау – Написано в первой половине 1970-х гг. Впервые в составе статьи: Анна Ливанова. Ландау вне физики // Советская Россия. 1983. 22 января; вошло в кн.: Анна Ливанова. Ландау. М., 1983.
Слава и Марьяна; Кирсанов — Очерки написаны в первой половине 1970-х гг. ПЗ.
Наброски к портрету – Написано вскоре после кончины М. С. Петровых (1 июня 1979). Мария Петровых. Черта горизонта: Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых. Ереван, 1986. Вошло в ИП.
В поисках веры – Знамя. 1988. № 8 (предисловие к подборке стихов А. В. Эйснера). Вошло в ИП.
Глава с эпилогом – Писалась в конце 1988 – начале 1989; закончена 8 апреля 1989; см.: Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 2. С.263. Таллин. 1989. № 3.
Первое свидание – Написано в первой половине 1979-х; ср. заметку об А. П. Межирове в разделе «Приложения». ПЗ.
Литература и общественное движение 50—60-х годов – Глава писалась в 1969 г.; осталась неоконченной. Русская виза. 1993. № 1.
Предпоследний гений – Глава написана в марте 1979 г. Нева. 1994. № 4.
<О Мартынове> – Вариант главы написан в 1974 г. (ср. другой набросок воспоминаний в разделе «Приложения»). Нева. 1994. № 4.
Анна Андреевна – Глава написана в 1973 г. Октябрь. 1991. № 9. См. также: Времена Ахматовой // Анна Ахматова. Я – голос ваш… М., 1989.
День с Заболоцким – Очерк написан до 29 января 1963 (ср. в дневнике: «Я читал Ник<олаю> Мих<айлович>у <Любимову> “День с Заболоцким”») на основе дневниковой записи от 15 июля 1957 (Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 1. С. 322, 289–290). Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1977. Вошло в ИП.
Из третьего воспоминания – Очерк написан вскоре после кончины Вс. В. Иванова (15 августа 1963). Литературная Россия. 1965. 12 ноября; Всеволод Иванов – писатель и человек: Воспоминания современников. М., 1970. Включено в ИП.
Александр Исаевич — Вопросы литературы. 1991. Ноябрь – декабрь. Приводим предисловие публикатора.
Заметки о Солженицыне как о явлении литературы и общественно значимой личности Давид Самойлов начал набрасывать в 1971 году, вскоре после выхода в свет «Августа четырнадцатого», дошедшего до отечественного читателя тамиздатовскими путями. И продолжал к ним возвращаться в течение всех 70-х и первой трети 80-х годов.
Вспомним, однако, время и обстановку первого приступа. Могучая фигура Солженицына одинокой вершиной возвышается над малочисленной средой инакомыслия. Каждое его слово, восстающее с просвечивающих на папиросной бумаге и светящихся машинописных копий самиздата, подобно хлебу и воздуху. Его титаническое мужество в борьбе с официальным режимом – недосягаемый образец, авторитет высказываний – непререкаем, критика – непредставима и заранее отнесена на счет противников свободы и прогресса.
И вот появляется «Август» – узел первый из многотомной эпопеи, тогда еще не имевшей названия «Красное колесо». Читали, рвали друг у друга из рук с преобладающей надеждой не на художественные наслаждения, а на стройное и пространное учение о жизни, что, думалось, наконец-то озаботило мастера и борца, и, кроме отдельных публицистических выступлений, протуберанцев несклоняющегося духа, житель подневольной страны воспримет не одно только иссушающее отрицательство, а и животворную программу мыслей и действий. Как не похожи эти ожидания на теперешнее «законное» чтение ровно и мерно публикуемых «Узлов», ставших (или еще нет?) фактом литературы взамен перекипевших сенсаций и чаемых откровений! Но будем помнить: мы проходили и прошли эту веху самосознания. А также о том, что независимой точке зрения на однозначно-пиететном фоне произрастать было весьма неуютно.
Нимб оракула и пророка, которым добровольно окружила Солженицына интеллигенция, благодарная за гражданский подвиг, колебать, казалось, не пристало никому. Да и кто мог сравниться с ним по праву на публичное изречение истины? Следы сомнений сохранились и в черновых вариантах раздела «Вопросы», посвященного анализу «Августа»: «…Позволено ли посягать на само средоточие того круга, который призван новыми историческими обстоятельствами отслаивать и накапливать все ценное, что есть в современной России, на тех, кто был точкой его кристаллизации? На тех, кто проявил, и не однажды, гражданское мужество? Можно ли просто по-человечески отплатить неблагодарной дерзостью или уязвлением тех, кто был мужественнее и достойнее нас в жестоких обстоятельствах жизни?»
Ответ самому себе был найден в развитии мысли: «Мыслящее общество обязано взять на себя тяжесть нравственной оценки». И еще: «Отдавая оценку на волю низшей среды – высшая совершает преступление перед действующей личностью, лишая ее нравственных ориентиров, превращая в оракула».
Узнав от Л. К. Чуковской о наличии у Д. С. «Вопросов» по поводу «Августа», Солженицын передал предложение вынести дискуссию в самиздат. Д. С. отказался: выступление в неравных весовых категориях на застолбленном одной стороной пространстве заведомо предрешало результат интеллектуального поединка не в пользу осмелившегося задавать вопросы.
Солженицынские штудии, однако, продвигались. Обнародование, тем более поспешное, не было их главной целью. Более важным представлялось уяснение собственных позиций по тому кругу идей, который очертился первым романом глобально задуманного труда. Центральной проблемой, как и для Солженицына, стала историческая судьба России и ее предназначение. Она же, что видно из текста, и превратилась в водораздел несогласия и спора с автором «Августа», с течением времени снискавшего более взвешенные оценки, в отличие от первоначальных полагавшихся по штату восторгов, так что Д. С. уже не выглядел в кругу единомышленников «белой вороной».
Спор длился и дальше. Первые слушатели поэмы «Струфиан» легко угадывали, что полемический запал направлен против «Письма к вождям» Солженицына, против политики изоляционизма в отношении России. Излагавшееся в поэме «Благое намеренье об исправленье империи Российской» пародировало эти настроения, в особенности те две строфы, что не вошли в печатные издания по цензурным соображениям:
И завершив исход синайский, Во все концы пресечь пути. А супротив стены китайской — Превыше оной возвести. В Руси должна быть только Русь. Татары ж и киргиз-кайсаки Пусть платят легкие ясаки, А там – как знают, так и пусть…Солженицын интересовал Д. С. пристально, пожалуй, как никто из современников. Ведь именно Александру Исаевичу в глухую пору безгласности выпало стать средоточием и эпицентром политических, социальных и метафизических страстей. Казалось, так и стоять ему – глыбисто, победительно и единственно. Вот эта единственность и, стало быть, неподвластность суждению более всего огорчала ли, возмущала ли, во всяком случае удручала Д. С. – при всем восхищении и уважении к выдающимся литературным и человеческим заслугам Солженицына. Он остро ощущал неправильность и пагубность, как для развития общественной мысли, так и для движения литературы, магии – пусть великой, пусть замечательной, но – одной фигуры, по нашей российской привычке возведенной на пьедестал для неприкасаемых. Возможно, от этого чувства – некоторая резкость формулировок, не то чтобы несвойственная, а указывающая на глубинную задетость за живое.
Когда появился «Архипелаг ГУЛАГ» – маленькие, карманного формата томики последовательно просачивались через кордон, как если бы это было в порядке вещей, – Д. С. сразу понял: вот оно, главное и безусловное, «просветительское» дело Александра Исаевича. Но отозвался кратко.
Аналитическим центром были все те же мучительные раздумья о будущих путях России, неснятый и неразрешенный вопрос вопросов: «куда ж нам плыть?» Справедливости ради надо сказать, что непредубежденность позволяла Д. С. и пересматривать какие-то из сложившихся установок. Вот что он пишет в последнем письме к Л. К. Чуковской: «У эстонцев есть свой простой национальный план – отделиться. В России такого плана нет. По существу, идет извечный спор славянофилов с западниками. Но славянофилы и западники уже не те, что в XIX веке. Из славянофилов получились хулиганы, а из западников – люди моды. Если в кулаки пойдет, западникам несдобровать. Пора разумным людям соединить воедино два проекта – Сахарова и Солженицына. Я прежде недооценивал конструктивные стороны плана А. И.».
Солженицынская глава была оставлена вниманием до эпохи говорения. Не исключено, что тональность ее могла бы видоизмениться. Но написано то, что написано. Другим ему уже не быть. Образ Солженицына, «героя нашего времени», как он получился у Д. С., отражает, быть может, не только его симпатии и антипатии, а и само становление времени и духовного его обустройства.
Г. И. МедведеваЭссе – Девять заметок – Аврора. 1992. № 7; полностью – ПЗ. Приводим предисловие публикатора.
Где-то к середине работы над книгой на полях рукописи, рядом с регулярными главами, стали появляться краткие, бликующие соображения на самые разные темы – от житейских и литературных до социальных и метафизических. Собранные воедино, они получили название «эссе» уже после кончины автора. Думаю, что читателю было бы небезынтересно познакомиться с интеллектуальным фоном «Памятных записок». Многие мысли, при всей их мимолетной проброшенности, имеют самостоятельное значение. Пламя мышления, раскочегаренное во время прозаического освоения судьбы своей и поколения, гудело уже и на собственном заводе и требовало пищи для расходящейся кругами индивидуальной картины мира. Есть что-то пронзительное в ее постоянных опорах и кажущейся эссеистской незавершенности. Наверное, это оттого, что все-таки Давид Самойлов был поэтом. Но и философ не дремал в нем, а осуществлялся на музыкальный лад, без соединительных мостиков профессионального словоговорения, отсутствие которых не помешало сложиться системе разговора с собой и с воображаемым собеседником.
Г. И. МедведеваИз записей 50-х годов – Октябрь. 2010. № 5. Приводим предисловие публикатора.
Эти короткие заметки – явно не для печати. Да и кто бы в пору их появления предоставил трибуну поэту, известному лишь в своем дружеском кругу да отдельным элитарным читателям? На II Всесоюзный съезд советских писателей, проходивший с 15-го по 26 декабря 1954 года, Самойлов попадает по гостевому билету, и в его впечатлениях преобладает взгляд заинтересованного, но стороннего наблюдателя. Членом Союза писателей он станет только в 1958 году. Отрешенность от официального литературного процесса не мешает интенсивным размышлениям о том, как и куда должны двигаться литература и общество во время чаемых, назревших, долгожданных перемен после смерти Сталина. Самойлову хочется верить: «Что-то должно произойти, что-то, отчего литература вздохнет, воспрянет».
Однако он далек от прекраснодушных упований на то, что содержательный поворот произойдет сам собой, по желанию творцов, стоит им отказаться от государственного задания и углубиться в область художества. Самойлов считает, что за отказ от природно-свойственных искусству функций должна отвечать не власть, к тому принудившая, а сами писатели: «Поэзия должна принять на себя всю меру ответственности за «культ». История нашего общественного развития может лишь объяснить нынешнее состояние поэзии, но вовсе не должна вести к оправданию ее».
Продолжая рассуждать в духе действующей «классовой идеологии», Самойлов отказывается от общепринятой риторики оттепельных лет, типа: «Писатель, черпающий свой энтузиазм не из издательской кассы, а из наших великих достижений и великих программ, никогда не станет заглушать проблематику, а будет искать решение любой проблемы нашего сложного и самого интересного времени», как утверждал в своей нашумевшей тогда статье «Об искренности в литературе» Владимир Померанцев («Новый мир». 1953. № 12).
Отличие самойловских набросков от популярных печатных текстов еще и в том, что он рассматривает самосознание писателя (и гражданина) в свете таких разноуровневых проблем, как: судьба мировой цивилизации, пережившей фашизм; национализм как социальная веха на пути к свободе; возвращение к традиционной, освященной веками морали вместо навязанной диктатом государства и т. д. Некоторые эссе восходят к самостоятельному значению и предваряют в этом жанре эссеистический свод, каким он явился в книге прозы «Памятные записки». Таковы, на мой взгляд, отрывки о среднем уровне в поэзии и о преодолении одиночества. Они выходят за рамки злобы дня и смотрятся более чем современно.
Но наиболее знаменательным представляется все же другой отрывок, где говорится о «новом типе человека» и о том, что «новый тип рождается из нового образа действий». Самойлов, как известно, не был деятелем «оттепели». Его вхождение в литературу относится к концу 50-х – началу 60-х годов (а признание читающей публики и того позже – к началу 70-х). Поневоле приходит на ум: не была ли столь активная мыслительная работа, порой впадающая в чистое теоретизирование, некой внутренней компенсацией за пассивность собственного литературного поведения? Возможно. Прозеванный шанс встречи с читателем на гребне общественной волны (пусть и с малой подъемной силой и не с тем полновесным результатом, какой рисовался в воображении) заставлял заново сосредоточиться на вопросах тактики и стратегии в борьбе за свое место в поэзии: «Ибо сам образ действий, преломляясь в несовершенной личности, может стушевать и исказить ее неустойчивые положительные свойства и проглядеть укрепление отрицательных».
В реалистической плоскости (то есть совсем в другой модальности, чем публикуемые нынче записи) суммарном оценки литературных достижений «оттепели» (и политической ее подоплеки) не только далека от радужной, а прямо-таки разгромна (см. письмо Борису Слуцкому в очерке «Друг и соперник»).
Робкие попытки оттепельной прозы и поэзии показать отступления от предписанных стандартов (встречавшиеся в штыки официозной критикой) воспринимались Самойловым без воодушевления. «Средний уровень» его не устраивал: «Основное определение нового типа человека – нравственная личность без изъятий». Конечно, как и в любой формуле, здесь сказывались условия, ее породившие. Психологическая усталость от набора элементов вместо живой, пульсирующей души давала о себе знать. Но внятно звучало и писательское задание – самому себе и той генерации поэтов, с которой Самойлов начинал свою литературную биографию.
В заметке о писательском съезде каламбур «сперва съезд шел гладковато, а теперь шолоховато» относится к речи М. А. Шолохова с выпадами против К. М. Симонова и И. Г. Эренбурга, которую Ф. В. Гладков назвал «непартийной по духу и <…> мелкотравчатой»; «казачьей группой» Самойлов именует писателей, выступивших в защиту Шолохова (В. Закруткин, А. Калинин, М. Соколов); в секретариат на съезде были избраны В. Ажаев, Н. Бажан, Л. Леонов, Б. Полевой, Д. Поликарпов, К. Симонов, В. Смирнов, А. Сурков, Н. Тихонов, А. Фадеев, К. Федин.
Г. И. Медведева
Из прозаических тетрадей – Новый мир. 2010. № 6. Приводим предисловие публикатора.
Книга прозы Давида Самойлова «Памятные записки» составлена в основном из глав, подготовленных к печати им самим. Остались различные планы, заметки, начатые и незавершенные темы, свидетельствующие о намерении автора продолжать и развивать повествование, буде это окажется возможным.
Отдельные неброски, посвященные исключительно поэтам, мне показалось интересным свести воедино и предложить вниманию читателя, для которого станет очевидным, что некоторые персонажи, как то: Сельвинский, Слуцкий, Наровчатов, Мартынов, Бродский – уже фигурировали в основном варианте текста. При неизбежном повторении отдельных деталей (описание внешности Наровчатова, манеры Сельвинского читать стихи, мартыновских фобий и т. д.) это все-таки иной ракурс взгляда – более личный, более пристрастный, а может быть, и не стремящийся к объективности, к общепринятому среднеарифметическому результату. Не первый раз рассматривает Самойлов и общую картину нашей поэзии в ее членении на поколения, но в приводимой записи с иными нюансами, чем прежде, с большим и довольно строгим интересом к будущему, к перспективам и надеждам на них, хотя весьма и весьма индивидуально.
Публикуемое относится к 70—80-м годам теперь уже прошлого XX века.
Г. И. Медведева
Поэт, мастер, учитель – День поэзии. 1975. М., 1976; послесловие к подборке стихотворений П. Г. Антокольского, приуроченной к его 80-летию. Включено в ИП.
Ни от чего не отпрашивался… – Юность. 1981. № 1; предисловие к публикации «Письма и стихи Ильи Лапшина»; см. также стихотворение «Памяти юноши» (1978).
Памятные встречи – В мире книг. 1982. № 1; включено в ИП.
Памяти друга – Литературная газета. 1986. 5 марта.
По поводу переписки Эйдельмана с Астафьевым – Написано вскоре после того, как письма Н. Я. Эйдельмана и В. П. Астафьева начали циркулировать в самиздате (осень 1986); предназначалось для близкого круга; ср. запись от 8 июля 1987: «Московские интеллигенты недовольны моим ответом на вечере 31 мая в ЦДЛ на вопрос о переписке Эйдельмана с Астафьевым. Так я и знал» – Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 2. С. 235. Даугава. 1990. № 12.
Хлебников и поколение сорокового года – Написано в 1987 г. для планировавшегося коллективного сборника трудов, посвященных Хлебникову. (Этот том, включающий эссе Самойлова, будет издан много позднее: Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования. 1911–1998. М., 2000.) ИП. Ср. также: О «Творениях» Велимира Хлебникова – Новый мир. 1988. № 1 (рецензия на представительное издание сочинений поэта).
Знакомство с Высоцким – Владимир Высоцкий: Человек, поэт, актер. М., 1989; включено в ИП. См. также: «Свято верю в чистоту…» – Неделя. 1988. 18–24 января; Предельно достоверен и правдив – Вспоминая Владимира Высоцкого. М., 1989.
Наброски к портрету Юлия Даниэля – Написано в 1989 г. Ю. М. Даниэль умер 30 декабря 1988; о его смерти Самойлов узнал 3 января (Давид Самойлов. Поденные записи. Т. 2. С. 258.) Литературная Армения. 1991. № 2; Юлий Даниэль. Говорит Москва. М., 1991.
Юхан Пуйестик – Написано в 1980-х гг. Комментарии. 1993. № 2.
<О стихотворении Б. Пастернака «Зимняя ночь»> – Даугава. 1990. № 12.
Сноски
1
Проба пера воспоминательного характера относится к началу 60-х годов. Так, в дневнике 1961 года есть запись о начале работы над эссе «День с Заболоцким». Первая прозаическая публикация – «Поколение сорокового года» – в сборнике «Сквозь время» (М., 1964).
(обратно)2
Здесь и далее цитируется дневник, который позже получил наименование «Поденные записи».
(обратно)3
Впервые на устремленность автора в этом направлении обратила внимание Л. К. Чуковская. См. запись в дневнике: «Прошлый понедельник с Толей (А. А. Якобсоном. – Г. М.) у Л. К. и у Бабенышевой в Переделкине. Проза. Л. К. – проза поэта. Жанр – “Былое и думы”» (8.09.1971).
(обратно)4
Петр Алексеевич Ширяев незаслуженно забыт. Он автор прекрасной повести «Внук Тальони».
(обратно)5
И Зощенко! Из «той» среды. Не дворяне. Литературе нужен не предмет, а самопредмет.
(обратно)6
Тоска по «миру».
(обратно)7
Может быть, то, что породило «среднюю интеллигенцию», было выше нее.
(обратно)8
В гневе я – дядька.
(обратно)9
Так это же сон про это. Не только в антураже смерти.
(обратно)10
Объяснить, почему «один день».
(обратно)11
Я это до сих пор вижу, как спускается девушка к реке, раздвигая камыши, а по реке в деревянной лодочке-люлечке плывет младенец.
(обратно)12
О чистоте славянства. Язык. Культура – критерий.
(обратно)13
Здесь я цитирую воспоминания А. Б. Шапиро (А. Свирина), врача и литератора, не предназначенные автором для публикации. Он дал мне письменное разрешение цитировать его. В 20—30-е годы А. Б. часто общался с Янчевецкими. Он автор песен к «Финикийскому кораблю» и к «Огням на курганах».
(обратно)14
Терраса с солнечной стороны прикрыта была широким холстом. При ветре он надувался и гудел, как парус.
(обратно)15
Творог, похожий на слоистые облака.
(обратно)16
Государство наше, насквозь проворовавшееся, убеждает, улещает – дескать, труд – героизм. И вы все, кто трудитесь – герои. Заискивает, чтобы прокормить ненужные рати.
(обратно)17
Найти в записной книжке.
(обратно)18
Возможно, что история эта вымышленная. Но она хорошо характеризует «вийоновскую» легенду о Кульчицком. Вот что пишет мне о случае с Г. Миловидовой сестра поэта Олеся Валентиновна Кульчицкая: «При упоминании об этом анекдоте Генриэтта приходила в неистовство. Я смеялась над этой историей, так как рассказчик, видно, был очень далек от Миши и не знал, что, как и все в семье, Миша очень любил животных… В письмах из Москвы не забывал передавать приветы нашей собаке и котам, вечно обретавшимся в доме. Вспоминается предвоенная история, когда мама купила двух кролей в надежде, что они расплодятся и семья будет обеспечена недорогим вкусным мясом. Но кроли стали драться и оказались двумя самцами. Забить их и Миша, и отец отказались… Мама приготовила вкусно пахнущее жаркое с чесноком и сметаной, но есть никто не смог. Отец молча отодвинул тарелку, я ревела, а Миша ушел из дома».
(обратно)19
Сказано – сделано. – Примеч. ред.
(обратно)20
Люди дела и обеспечивают уровень благосостояния народа, реально улучшают народную жизнь, осваивают и пускают в оборот огромные ресурсы России. И дело, собственно, именно в деле, ибо по мере разворачивания и выявления богатств России вопрос о распределении отойдет и вовсе на второй план, ибо если всего вволю, то всем и хватит; а ежели и останутся диспропорции, то избыток у одних будет не за счет нищеты других и тоже пойдет в дело – в дело накопления материальной культуры, до времени хотя бы и в личном пользовании – в устройство садов, усадеб, на покупку картин и прочего.
(обратно)21
С. написал народный роман в том смысле, что выразил идеологию, наиболее приемлемую для народа, наиболее реальную для него.
(обратно)22
К сожалению, точную цитату установить не удалось. – Примеч. ред.
(обратно)23
У Бёлля есть понятие: белая ворона.
(обратно)24
В России иметь характер – уже акт гражданский.
(обратно)25
Самойлов Давид. Поденные записи: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 280; далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках, римская цифра обозначает том, арабская – страницу.
(обратно)26
Не только потому, что «обязательный» для советских писателей «творческий метод» был хитроумной фикцией, под знаком которой могло писаться (и писалось) все, что угодно (от потребного в данный момент властям до живой литературы, снабжаемой правильным ярлыком), а общественный уклад СССР не имел ничего общего со свободой и красотой. Но и потому, что искусство не нуждается в партийных кличках (все «измы» сущностно фальшивы) и не может быть привязано к любой (даже относительно человечной и разумной) социально-политической системе. Именно потому, что оно свободно. И способно (более того – призвано) преображать и возвышать наш искореженный, но замысленный прекрасным мир.
(обратно)27
Самойлов безусловно помнил стихотворение Сельвинского: позже оно войдет в одноименную композицию «военных стихов», составленную поэтом для его младшего друга артиста Рафаэля Клейнера; см. дневниковую запись от 14 мая 1975 (II, 87).
(обратно)28
Ср. также дневниковые записи от 4 апреля, 28 августа и 12 сентября 1946 (I, 231–234).
(обратно)29
Л. Н. Мартынов умер годом раньше – 21 июня 1980.
(обратно)30
Самойлов Давид. Чуковская Лидия. Переписка. 1971–1990. М., 2004. С. 71, 73 (письма от 30 апреля и 20-х чисел мая).
(обратно)31
«“Знамя” заказало воспоминания о Слуцком» (II, 241; запись от 23 ноября 1987).
(обратно)32
Эренбурга он поэтом признать не хотел (справедливо или нет – другой разговор).
(обратно)33
Характерно, что очерк о Пастернаке был написан стремительно, словно бы «вдруг», в пору неожиданного творческого подъема, что хорошо видно по дневниковой записи от 12 марта 1979: «Написал двадцать страниц о Пастернаке. / Наброски нескольких стихотворений. / Сегодня солнце, тает» (II, 122; косой чертой передана разбивка на абзацы). Видимо, в тот же день Самойлов сообщал Л. К. Чуковской: «После “Прощания” (стихотворения памяти Анатолия Якобсона. – А. Н.) переводы мне окончательно обрыдли. Я их бросил в полуготовом виде, надеясь, что, если припрет, доделаю. Стал сочинять либретто «12-й ночи» – веселее и легче. И при этом написал страниц двадцать прозы – про Пастернака. И записал строфы разных стихов. Еще сырье, но возможно допишутся» – Самойлов Давид. Чуковская Лидия. Переписка. С. 112.
(обратно)34
Первый и единственный раз напечатана: Самойлов Давид. Стихотворения. СПб., 2006. С. 437–438.
(обратно)35
Симис Константин. Воспоминания о Дезике // Знамя. 2010. № 2. С. 123.
(обратно)36
Ср. запись от 30 сентября 1962, сделанную по прочтении повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна» (в дневнике описка – «Софья Павловна»): «Как мы все не сошли с ума? Или мы сходили с ума и десять лет были безумны? Я прозрел в 48-м (по стихам судя – раньше)» (I, 303).
(обратно)37
С годами Пастернак занимал все большее место в духовном мире Самойлова. Укажем лишь некоторые составляющие этого большого и многопланового литературного сюжета: реакция Самойлова на смерть Пастернака, зашифрованно введенная в стихотворения «Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал…» (1960–1961), «Старик Державин» (1962), «Вот и все. Смежили очи гении…» (1967); осмысление закатного этапа жизни Пастернака в «Что остается? Поздний Тютчев?…» (1978) и «День выплывает из-за острова…» (1986); семантика самойловского словосочетания «(пред)последний гений»; слой пастернаковских реминисценций в самых разных стихах младшего поэта; его размышления над темами «Пастернак и Блок», «Пастернак и Ахматова», «Пастернак и Солженицын», «место Пастернака в истории русской словесности и общественного сознания ХХ века»; медленное приближение к «Доктору Живаго», увенчавшееся счастливой работой над инсценировкой романа (1987 – начало 1988); позднее эссе о стихотворении «Зимняя ночь» (см. приложение); смерть поэта на вечере, посвященном столетию Пастернака, 23 февраля 1990 года, в четвертую годовщину кончины Слуцкого.
(обратно)38
Чему порукой великолепный образчик прозы одновременно «сюжетной», «метафизической» и «игровой» – «рассказ» (должно же дать какое-то жанровое определение!) «Юхан Пуйестик», формально с «Памятными записками» не связанный, но отнюдь не лишний для их понимания, а потому включенный в раздел «Приложения».
(обратно)
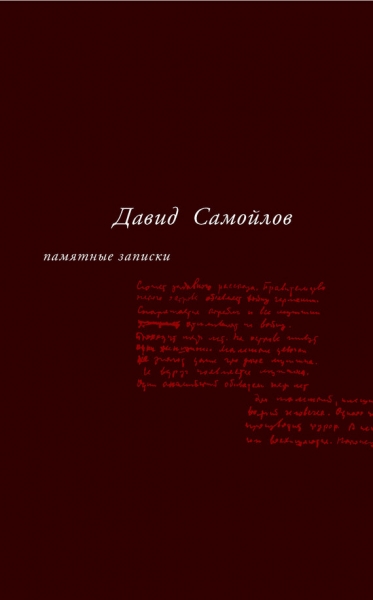


Комментарии к книге «Памятные записки (сборник)», Давид Самойлович Самойлов
Всего 0 комментариев