Под стук колес
Маленькая женщина в белых гольфах Повесть
I
— Как хорошо, что вы пришли, — сказала Нина Ивановна, отводя от меня рукой дым своей сигареты. — У вас есть кошка?
— Кошка? Нет, а что, собственно…
— Я так и знала. У меня для вас есть совершенно замечательный кот. Вы меня за него всю жизнь будете благодарить. Очень, знаете ли, жаль, что коты живут меньше, чем люди, и вам его на всю жизнь не хватит. Вам известно, сколько лет живут кошки? От силы тринадцать-пятнадцать. Очень, знаете ли, жаль. Сейчас я вам его покажу. Вы сами увидите, что это за чудо.
— Нина Ивановна, помилуйте, ну зачем мне кот?
— Не спорьте со мной. Как это зачем кот да еще в двадцатом веке? А что вы стоите? Вот вам тапки, проходите — поговорим. Вопрос в том, как вы его повезете. Февраль на дворе. Пожалуй, придется вызвать такси. Господи, куда же я спички подевала?
Времени у меня было в обрез, а разговор предстоял не короткий. Нина Ивановна тридцать лет проработала в заводской многотиражке и год назад вышла на пенсию. Она скучала по делу и охотно соглашалась писать как для газеты, так и для нас — студии телевидения. Обещала она легче, чем выполняла. Телефонные звонки не спасали, и приходилось напрашиваться в гости, чтобы воочию увидеть хотя бы наброски обещанного материала.
Услышав про кота, я заволновалась — решила, что Нина Ивановна уходит от разговора. «Не позволю, чтобы какой-то кот переходил мне дорогу», — я дерзнула приступить к делу. Как ни удивительно, очерк был наполовину готов и все пожелания редакции учтены. Я с облегчением вздохнула и только тогда заметила, что никто не царапает мне колени, не рвет чулок и не клянчит конфету — дома не было нахального и лохматого пуделя Дашки.
— А где ваша собака? — испугалась я. Нина Ивановна жила совсем одна, и Дашка оживляла ее досуг и неуют.
— Гуляет. — Хозяйка сердито воскресила потухшую сигарету. — Выгнала. Обижает, знаете ли, Борьку.
— Какого Борьку?
— Да кота же. Ах да, я же его хотела вам показать. Борька, Борька, выходи, нету Дашки… Кс-кс-кс…
Из-под дивана вылез насмерть перепуганный дымчато-серый кот. Худой, основательно потрепанный, он ничем не отличался от своих подзаборных собратьев.
«Господи, да что же я буду с ним делать? — ахнула я. — Да и на что он мне?»
— Скажите, какая прелесть, правда? Берите, берите, не пожалеете. Слу-шайте! Я же вам главного не сказала! Это же гениальный кот! Он ходит на унитаз! — Так торжественно объявлялись разве что единственные в своем роде смертельные цирковые трюки. Нина Ивановна для этого даже вынула изо рта сигарету.
Дашка царапалась в дверь, кот снова пугливо забился под диван, Нина Ивановна бурно радовалась, что делает мне прекрасный подарок, и отступать было некуда.
Так я получила кота. Такси, правда, я постеснялась вызвать — поехала трамваем. Я уютно стояла на задней площадке вагона, спиной к салону, так, на всякий случай: вдруг кот подаст голос или высунет из-за пазухи свою жалкую мордашку. Неловко как-то — взрослая женщина ездит в общественном транспорте с каким-то полуоблезлым котом. Но Борька молчал и только мелко подрагивал под моей шубой.
Все, что я планировала сделать по пути, конечно, отменялось. Я не зашла в книжный магазин — раз. Не заплатила за квартиру — два. Пропустила примерку… Примерка! Как же я не догадалась? Была прекрасная причина — уважительная! — отказаться от кота. Не пойдешь ведь с ним в ателье. Впрочем, нет, едва ли удалось бы отвертеться от Нины Ивановны. Прикуривая новую сигарету от умирающей старой, она бы коротко кинула: «Ничего, приемщица подержит». Сама она так бы и вышла из положения: «Будьте добры, подержите моего кота. Это всего на три минуты. Что? Нет, вы не можете меня так огорчить. Худой? Ерунда! Он, знаете ли, много занимается спортом. У него строгий тренер. Он другого роду и племени, но они понимают друг друга…» Все это она произнесла бы настойчивым прокуренным голосом, раскладывая фразы на четкие звенья. Приемщица бросила бы карандаш и испуганно-влюбленно глядела вслед странной клиентке. Кот бы лежал на ее модной джинсовой юбке и вдыхал аромат парижских духов, а Нина Ивановна уносила бы в примерочную кабину крупное и красивое тело. Ее спокойная походка — походка старых русских дворянок — навсегда бы покорила и запомнилась приемщице.
II
— Андрейка, я тебе кота привезла!
Сын бросил учебники, подбежал ко мне и заглянул в сумку.
— Да нет, он здесь, — я распахнула шубу и осторожно оторвала от себя Борьку.
Любой нормальный кот побежал бы по углам — на разведку — обнюхать и по возможности скорее узнать новое жилище. Но Борька, едва коснувшись пола, почти на брюхе пополз под диван. Однако наш диван был выше того, под которым он прятался от агрессивной Дашки. Когда ненадежность убежища стала очевидной, кот перебрался под кресла — сначала под одно, потом под другое. Все крыши оказались выше собачьего роста. Наконец он забился в узкую щель между письменным столом и стеной, пошуршал краем отклеившихся обоев и затих.
— Чего это он, мам? — обиделся Андреи.
— Ты потерпи, он освоится. Поймет, что в доме нет собаки, и выйдет.
— А с ним, что, собака жила?
— Наоборот, собака не захотела с ним жить. Там, похоже, целая трагедия произошла. Давай-ка, мы его для начала выкупаем.
— А коты воду не любят.
— Ты воду тоже не очень любишь. Терпишь ведь.
— Так то я, а то кот. А если он царапаться начнет?
— Потерпим. Очень уж он грязный. Только шампуня у нас дома нет. Ты сбегай в киоск на углу. Я пока ужином займусь. Оденься теплее, метель начинается.
То ли кот услышал запах мяса из кухни, то ли понял, что в доме нет собаки, но вскоре он вышел из укрытия и осторожно, почти крадучись, стал обходить квартиру. На кухню он не сразу осмелился заглянуть — несколько минут неуверенно стоял перед открытой дверью и водил хвостом. Усы его изучающе подрагивали.
Наконец он поднял голову и остановил на мне огромные пугливо-печальные глаза. В них таилось столько муки и терпеливого достоинства, что я от неожиданности перестала крошить лук. Не сводя с меня прекрасных глаз, кот раскрыл рот, но голоса не было. Вместо «мяу» я уловила лишь тихий хрип. Дашка, вероятно, порвала ему голосовые связки. Я впервые по-настоящему пожалела бедного кота. Рука сама потянулась к мясу. Присев на корточки, я смотрела, как он торопливо, нежадно ест и аккуратно придерживает лапой свой первый ужин в нашем доме.
Стук в дверь снова насторожил Борьку. Он пригнулся к полу, готовый отскочить в сторону, и, наверно, отскочил бы, если бы не мясо. Оставлять ужин явно не хотелось.
— Мам, а какой шампунь надо было купить?
— А ты какой взял?
— Я сказал, мне для кота, и дали вот этот.
«Мягкий нежный шампунь для мужчин, — прочитала я. — Сделано в Польше».
— Как раз то, что нужно. Раздевайся. Я успела покормить его, выкупаем немного погодя. Не трогай его пока руками. Уроки все готовы?
— Чтение осталось.
— Иди и работай.
Но с чтением не ладилось. Андрей ходил за котом и громко комментировал:
— Мам, а он все валенки обнюхал. Во дает — лапой дверь открывает. Мам! Смотри, смотри, лапу просунул и толкает дверь. Мам, а он пить хочет. Из-под крана пьет. Я сделал ему струйку, и он лакает. Мы блюдце ему поставим? И ящик, да? А где мы песок зимой возьмем?
Но Нина Ивановна не обманула — ящик коту не понадобился. Кот зашел в туалет, долго и основательно исследовал его. Затем снисходительно повел усами и, видимо, по долголетней привычке устроился в чаше унитаза. Дымчатый хвост аккуратно лег на борт.
Восторгу Андрея не было конца.
— Вот это да! Во дает!
Кот не мигая смотрел на него, осуждая за неприличное и столь неприкрытое любопытство.
— Завтра Генка от зависти заикаться начнет. Носится со своей собакой. А она сроду так не умеет.
Генкина зависть меня устраивала. Значит, Андрей перестанет завидовать Генке испросить собаку себе. Плюс к жалости я прониклась еще и уважением к своему неожиданному и нежеланному приобретению.
А кот между тем поднялся, беспокойно царапнул несколько раз по фаянсу и спрыгнул. Но не вышел, а сел у наших ног и, плеснув зеленью огромных глаз, беззвучно мяукнул.
— Чего это он?
— По-моему, он просит тебя сдернуть за ним, — засмеялась я.
— Правда?
— А ты попробуй.
Андрей потянул за шнурок.
Отшуршала вода. Кот, положив передние лапы на края унитаза, снова повел носом и, уже совершенно потеряв интерес к помещению, выскользнул в коридор.
— Ну и ну, — пробормотала я. — Хорошая мать, знать, тебя родила.
Еще раз Борька покорил нас, когда его купали. Он спокойно стоял в тазике с мыльной водой, немного выгнув спину и не давая нам притрагиваться к ушам. Вода серела на глазах.
«У собаки тело чисто, а рыло погано. У кошки тело погано, а рыло чисто», — вспомнила я приговорки соседки, восьмидесятилетней бабы Кати. Мы смыли с кота пену под струей чистой воды, обтерли старым полотенцем и спустили на пол.
Борька стал совсем уродливым. Мокрое тощее тело походило на ветхие Андрейкины колготки, которыми мы в ванной вытирали пол. Таким его и застал папа.
— Страшнее зверя вы не нашли? — спросил он с порога.
Андрей взахлеб принялся рассказывать о Борькиных достоинствах.
— Надо же, какой выдающийся кот. Почему же от него избавились?
Удар был не в бровь, а в глаз. Борька, высунув розовый язычок, торопливо приводил себя в порядок. Андрей обиженно заморгал, и мне пришлось помочь ему.
— У кота печальная история. Его хозяева сменили город. Борьку подарили Нине Ивановне Звонковской, а…
— А Звонковская подарила его вам, то есть нам.
— Дело в том, что Дашка его встретила по-собачьи и не дала житья.
— Почему же Дашка встретила его по-собачьи?
— Потому что Дашка — это пудель Нины Ивановны.
— Дела-а, — папа присел на диван и брезгливо поднял кота за передние лапы. — А вы уверены, что он — кот?
— Но он же Борька, — удивился сын.
— Да нет. Он что-то другое, — хмыкнул папа. — Купили кота в мешке. Как же вы его купали и не заметили, что Борька — кошка?
— Кот, кошка — какая разница, — не растерялась я. Лучше идти в наступление, чем оправдываться. — Главное в другом: завтра Генка Скворцов от зависти будет заикаться. Такая кошка стоит любой писклявой болонки. Так считает Андрей.
— На самом деле?
— Конечно, пап! Такого кота… ну кошки, то есть, ни у кого нет. Вот увидишь, они еще все прибегут на Борьку смотреть!
— Да тут смотреть-то не на что.
— Мы его откормим, пап. Его просто Дашка замучила.
— Как же вы звать ее будете?
— Мы что-нибудь с мамой придумаем.
— Ну ладно, коли так, — папе больше сказать было нечего. Уважением к Борьке в отличие от меня он не проникся, но перспектива жить с кошкой да еще без ящика с песком устраивала его больше, чем другая — держать в доме собаку, когда и самим нам было тесно. Кошка получила негласную прописку в квартире.
III
Прошла неделя. Борька повеселела. Оказалась она очень пушистой, рука так и тянулась погладить по длинной дымчато-серой шубе. Ножки, белые до колен — в гольфах, — мягко переступали по полу с чисто женской грацией. «Как же сразу не заметила, что привезла не кота, а кошку?» — не раз корила я себя, следя за ее изящной поступью. Белое с ноготок пятнышко на шее еще больше подчеркивало ее женскую природу: коту такое украшение было бы не к лицу.
Дашка начисто лишила кошку голоса. Она не мяукала и не мурлыкала. Возможно, ей самой и казалось, что она мурлычет, но мы ни разу не слышали ничего подобного. Ела Борька мало, тоже по-женски: как бы не потерять стройность.
Когда Андрей готовил уроки, Борька неизменно сидела на подоконнике и не сводила глаз с пальцев, которые медленно водили ручкой по тетради. Но стоило Андрею взяться за баян, как кошка начинала нервничать и вопросительно-тревожно заглядывать в глаза. Мы ничего не понимали и в конце концов решили, что у нее музыкальный слух и на баяне следует играть куда лучше, чем у нас пока получалось. Андрей возражал, но кошка была требовательной. Я и папа всячески поддерживали Борьку, и сын снова и снова старательно нащупывал клавиши.
Недоволен был Андрей еще одним обстоятельством. Борька спала на коврике у мой кровати. Причем либо голова, либо лапки всегда покоились на стареньких домашних шлепанцах. Наверное, так она сторожила свою хозяйку: ну куда я уйду без тапок?
— Это предательство, — возмущался Андрей. — Ты же мне ее принесла. Почему же она спит около тебя? Почему? Собака так никогда бы не поступила.
— Если она глупая. А умная собака тоже спала бы ближе ко мне.
— Это почему же?
— А разве ты спас Борьку от Дашки? Разве ты ее вез через весь город, в мороз, пряча у себя за пазухой? Спасибо ведь она не умеет говорить. Как же она еще меня отблагодарит? Вот и спит ближе к своей спасительнице. Было бы предательством, если бы она поступила иначе. Ты не находишь?
— А я хочу, чтобы она спала возле меня.
— Заслужи.
— А как?
— Подумай. Будь сам предан. Считай, что она лучше всех кошек в мире. Она почувствует.
Как бы он ни сердился на Борьку, но, когда позвонила Звонковская, не на шутку испугался: вдруг заберет назад?
— Как там мой кот, оклемался? — спросила Нина Ивановна вместо приветствия.
— Для начала, Нина Ивановна, давайте выясним, кого вы мне подсунули?
— Как это кого? Что значит подсунули? Да у меня за этого кота полподъезда воевало! А вы говорите…
— Что же вы в подъезде никому не предложили?
— А я им не доверяю, — отчеканила трубка.
— Могли себе оставить.
— А я не люблю кошек. Они не умеют быть друзьями. Котов вообще не выношу. Я мужененавистница.
— В том то и дело, что это был не кот.
— Что вы такое говорите? Он же Борька!
— Это вы так сказали.
— Постойте, постойте, как же так вышло? Ага, вспоминаю. Он отчаянно боролся с Дашкой, и я почему-то назвала его Борькой. Ну да, так оно и было.
Все это, вероятно, придумалось по ходу разговора. Я даже представила, как Нина Ивановна сидит в кресле с прокуренными подлокотниками, невинно сияет глазами и сочиняет, сочиняет. На миг показалось, что из телефонной трубки потянуло дымом знакомых сигарет.
— Значит, кошка, вы говорите. Ай-ай-ай! Оплошала-а. Теперь я понимаю, почему они с Дашкой не нашли общего языка. Две… нет, три! — женщины в доме: я, кошка и собака — явный перебор! Рано или поздно все плохо бы кончилось. Как же вы ее назвали?
— Оставили Борькой. Решили, что она Борислава — коротко Борька.
— О! О! Я всегда говорила, что у вас ума палата. Ну и прекрасно! Ну и будьте здоровы! — закончила Нина Ивановна разговор внезапно, как и начала. Довольно кашлянув, трубка на том конце легла на рычаг.
Улыбка на весь вечер приклеилась к моим губам. Я вспоминала наш разговор и светлела. Непостоянный, лохматый, разбросанный характер Нины Ивановны всегда приносил радость и желание поозорничать. Мне порой хотелось слабых духом и скучных людей взять за руки и привести пред светлые очи одинокой пенсионерки Звонковской. Любой бесшабашный экспромт Нины Ивановны о своих болезнях и тысяче хитростей от них мог выманить солнце из-за туч. Нужно было для этого только одно: чтобы кто-то был рядом.
IV
А еще через неделю Андрей принимал классную делегацию. Шесть мальчиков и одна девочка во главе с Генкой Скворцовым решали, как сложится дальше Борькин авторитет. Обсуждение велось при закрытых дверях, но очень громко:
— Красивая, — говорил один.
— Хвостяра-то как у лисы. Вот только не рыжий, — сожалел другой.
— А где вы ее взяли? — спрашивал третий.
— Мама привезла. Ей дала знакомая, которая в газету статьи пишет. У нее свои книги есть и собака.
— Ух ты! — выдохнул четвертый. Я не поняла, что его удивило: то ли свои книги у журналистки, то ли собака, то ли замечательное окружение, в котором до этого жила Борька.
— А почему она не мурлычет?
— Ее Дашка Звонковская задрала.
— Зачем?
— Дашка — это собака у той знакомой.
— А котята у Борьки будут?
— Наверно.
— Подаришь?
— И мне тоже. Ладно?
— А ты ее знаешь?
— Кого?
— Ну собаку, которая задрала.
— Да. Она с нами один раз в лес ездила. Нас папа возил.
— Ну и как?
— Собака как собака. Пудель. Ничего себе.
В дверь постучали, и я отвлеклась. Соседка баба Катя пришла позвонить внучке и сообщить, что варежки для правнучки она связала и их можно сегодня забрать. Баба Катя гордилась своим огромным родом и круглый год что-то вязала. Фартук она никогда не снимала, носила его, заткнув углы за пояс. Получался мешочек, где она прятала вязание. Стоило ей присесть дома или во дворе, руки как в муфту ныряли в фартук — правая за очками, левая — за спицами.
— Что, неулыба, ухмыляешься? — заворчала баба Катя, доложив внучке про связанные варежки. — Смейся, смейся, я не обидлива. Сама, поди, и вязать-то не умеешь? Погоди, чему посмеешься, тому и поработаешь. Чего сыну брата не родишь? Что с одним делать станешь? О чем ты думаешь? Рожала бы, пока в поре. Дите бы ростила. А то кошку вычесываешь. Нужна она тебе?
На кухне грелся невыключенный утюг, танцевала крышка закипавшего чайника, и я попыталась прервать беседу.
— Все торопишься. Как поповна замуж, — только сказала соседка и уселась удобнее. Натиск ее удвоился. Я поняла: придется выслушать и перенимать ее богатый опыт по воспитанию пятерых дочерей, одиннадцати внуков и двадцати с чем-то правнуков. Последнее число всегда звучало по-разному.
И тут — спасение! — с шумом вывалились мальчишки.
— Мам, а Генка говорит… — увидев соседку, Андрей тотчас решил, что постороннее лицо объективнее матери, и переадресовался. — Баба Катя, а вот они говорят, что собака лучше кошки.
— Так и говорят? — строго спросила бабушка. Рука ее нырнула в муфту, вытащила очки на старомодной гибкой оправе и поднесла их как лорнет к прищуренным глазам. Глаза прищурились еще больше и долго разглядывали одно за другим лица шести мальчишек и одной девчонки.
— Это вот они говорят? — уточнила она так сурово, что все вмиг посерьезнели. — А у кого из них есть кошка?
— У меня, только она еще совсем котенок.
— А собака?
— У меня, — бросил вызов Генка Скворцов.
— И что она умеет делать?
— Бегать, прыгать, лаять, палку носить…
— Это все ты и сам умеешь: бегать, прыгать. И лаять тоже. Зачем же тебе пес?
— Как зачем?
— Ну да, зачем? Погоду она не умеет предсказывать, гостей наворожить тоже не умеет. Так или нет?
— Что, она — колдунья, что ли…
— Кошка тоже не колдунья, а она умеет. Ляжет клубочком, морду схоронит — значит, мороз грянет, одевайся потеплее. А стену или пол начнет скрести когтями — метель засвистит, ставь лыжи в угол. Если кошка костыль ставит, тут уж ясно, можешь становиться на коньки.
— Как это — кошка костыль ставит?
— А вот поднимет заднюю лапу и лижет. А если кошка спит крепко, да еще брюхом кверху — жди солнышка на весь день. И радио можно не слушать. Теперь мы погоду с Андреем вдвоем станем отгадывать: он по кошке, а я по костям, как все старухи. А примету про котов вы знаете?
— Какую?
— Не знаете? Ну уж совсем нехорошо. Кота убить — семь лет удачи не видать. В старину все знали, от мала до велика.
— А гостей как она наколдовывает?
— Гостей-то? У-у, это только очень умные кошки умеют. Садятся они носом к двери и начинают медленно мыться. Да так, чтобы лапой ухо загребалось. Если лапкой за ухом не помоют, пользы никакой от мытья. Если хвостом к двери сядут, пользы тоже никакой. Но уж если помылась кошка по всем правилам, ставь чайник: гости где-то в дороге. Хватит или еще?
— Все равно собака лучше, — заупрямился Генка Скворцов.
— Так защищай ее! Чего же ты молчишь? Лучше, лучше… А чем? Ты же ничего про свою собаку не знаешь. Вот когда что-нибудь про нее интересное расскажешь, я поверю. Чем же она лучше?
— Она веселая. С ней гулять можно. Не то что с кошкой.
— Гулять? Да-а, с ней гулять можно! — удивленно ахнула бабка и с любопытством заторопила Генку. — Расскажи, расскажи, как ты с ней гуляешь. Гулять — это я не подумала…
— Я ее вывожу на поводке, а потом отпускаю. Она так носится по двору, что ухохочешься. Ее домой не загонишь. Она гулять, знаете, как любит?
— Скажи-ка, милок, а мама с папой ее тоже на поводке водят?
— Мама? Не знаю.
— Как не знаешь?
— Мама с ней утром гуляет, когда я еще сплю. А папа вечером.
— И ты опять спишь. Папе после работы тоже, поди, охота поспать, а он твою веселую собаку никак загнать не может, так, что ли? Ну ладно, завозилась я с вами. Да и скучно мне стало что-то. Дальше вы уж без меня…
Растерянные ребята вернулись в комнату. Чайник мой наполовину выкипел, утюг перегрелся, часы неумолимо отсчитывали минуты, отпущенные на кухонные заботы, и я нервничала. Что теперь будет? Еще рассорятся совсем.
— Все равно собака лучше кошки, — сопел Генка.
— Может, и лучше. Но бабушка правильно говорила…
— Ничего не правильно. Хитрая она.
— Не хитрая, а старая, она много знает.
— Нет, хитрая. Была бы нашей соседкой, она бы меня защищала и собаку. Думаешь, она про собаку ничего хорошего не знает? Знает. А не сказала. Потому что хитрая.
— А может, она собак не любит?
— Много ты понимаешь. Собак нельзя не любить.
— А ты тоже… «Моя собака, моя собака»… Как хвастаться, так твоя собака. Как утром гулять, так мамина. Сначала бы вставать научился пораньше. А потом собаку клянчил у папы.
— Кто, кто клянчил? Мне ее подарили.
— Ты сам говорил. Вот. Ты сказал: мама не хочет, а ты все равно выпросишь у отца щенка. А теперь спишь, засоня.
— Вот и неинтересно стало бабушке с тобой. Правильно она сказала.
— Ничего не правильно. Все равно собака лучше.
— Докажи.
— И докажу.
— И докажи.
Кажется, кончили. Слава богу. Ну, баба Катя, завела детвору. Еще немного — и подрались бы.
— А все из-за тебя, — погрозила я Борьке. Она вопросительно глянула и беззвучно открыла рот. — Не понимаешь. Наверно, действительно, собака лучше, прав Генка Скворцов. Ведь и твоя прежняя хозяйка так считает: кошка не умеет быть другом.
Борька сидела на подоконнике и провожала взглядом каждое мое движение. Потом — может, обиделась? — отвернулась к темному стеклу и стала равнодушно ловить свет от автомобильных фар на дороге. Зимнее полузанесенное метелью окно навеяло тоску. Кошка вытянула передние лапы в белых гольфах и положила на них голову.
V
Пришло лето. Борька целыми днями нежилась на балконе, подставляя солнцу то один, то другой бок. К балкону она привыкала долго. Во дворе весь день нервно перегавкивались собаки. Число их росло с приближением сумерек. Лохматые болонки и пудели выводили своих хозяев на прогулку, оставляли их делиться последними новостями, а сами шумно носились от дома к дому. Борька вздрагивала от собачьего визга и уходила в комнату. Крупных собак она не пугалась. Те обычно спокойно и степенно шли на поводке, лишь изредка бросали свое гав!, коротко и басовито, как авторитетная комиссия, знающая цену своему слову. Прошло много дней, пока Борька поняла, что она крепко защищена от всех высотой третьего этажа.
К осени ее стало не узнать. Теперь это была крупная взрослая кошка. Плавно и величественно ходила она по квартире. Казалось, тело ее не способно на резкое движение. Но случалось, неосторожный или любопытный воробей залетал на балкон, и в Борьке просыпался охотник. Она мягко кралась вдоль стены и вдруг в два-три прыжка пересекала комнату и с досадой упиралась в чугунные перила. А за ними — черными, ребристыми — благословляя расторопность, чирикал и махал крылом упущенный воробей. Борька гасила зеленый огонек в глазах и жмурилась, будто от солнца. На самом же деле она была ой как расстроена, и хвост выдавал ее: он, как маятник, ходил туда-сюда и сметал с бетонного пола тополиный пух. Так человек, пытаясь успокоить себя, подолгу шагает из угла в угол и проигрывает в памяти все, что произошло и в чем он ошибся.
Всех наших гостей Борька покоряла грациозной поступью и каким-то особым достоинством. Она никогда не ласкалась к посторонним, но, если ее подзывали, не смела отказать — нельзя же быть негостеприимной — и на секунду-две прижималась теплым боком к чужим ногам и с сознанием исполненного долга неспешно удалялась.
— Послушай, — сказала мне однажды моя смешливая приятельница, — ты даже представить не можешь, как вы с ней похожи! У тебя и глаза такие же, как у Борьки!
Как бы хорошо я ни относилась к Борьке и как бы хороша она ни была, такой комплимент меня не радовал. Услужливая память подкинула дразняще острые и мудрые сравнения: живуча, как кошка, хитра, как кошка, лжива, как кошка, мурлычет, как кошка.
Я даже подошла к зеркалу и огорченно заглянула в собственные глаза. Ну и ну! Они и впрямь походили на кошачьи, были не просто зеленые, а зеленые в крапинку Стало понятно, почему Нина Ивановна доверила Борьку именно мне: она по нашим глазам прочитала, что мы сойдемся характерами.
Поогорчалась я, пока позволяло время, да и забыла: не выкидывать же из-за этого ни в чем не повинное существо, и так уже наказанное судьбой.
А жизнь между тем готовила ей новое испытание В конце года мы всей семьей уезжали в двухгодичную командировку. В квартиру перебрались молодые родственники, у которых не было своего угла, но уже росла трехлетняя дочь — случаются же такие совпадения — по имени Даша.
Любой из наших приятелей с удовольствием приютил бы Борьку. Но родственники очень любили телевизионную передачу «В мире животных» и мечтали пробудить в дочери любовь к четвероногим. Они твердо обещали обидеться, если мы не доверим Даше лохматого друга.
Морозным декабрьским утром мы выносили чемоданы из квартиры. Борька тоскливо льнула к ногам. Провожающие ее отпихивали, и тревожные зеленые глаза с недоверием скользили из угла по чужим сапогам, которые предательски загораживали ей дорогу к нам. Так Борька сменила хозяев.
Но ненадолго. Уже через месяц из писем мы узнали, что она отказалась возить Дашу верхом и впрягаться в коляску с куклой. Борька не считалась с тем, что кукла приехала из ГДР и, защищая свободу, прочесала когтями золотистые импортные кудри.
— Мам, что же с ней теперь будет? — тревожился Андрей Он уже учился в третьем классе. Третьекласснику плакать не полагалось, и он, спрашивая, низко-низко наклонял голову над столом.
— Не знаю, не знаю, — я не старалась его утешить. Я на самом деле не знала, как поступят с кошкой. Издалека мы ничем не могли ей помочь. Единственное, что пришло нам в голову, — пообещать обидеться, если кошку выкинут на улицу. Так мы и написали.
А еще через месяц Борьку взяли к себе какие-то знакомые наших родственников. У них тоже была дочка, только звали ее Юлей. Андрей очень надеялся, что Юля не ездит верхом на кошках и что у ее куклы отечественные локоны.
Поездка принесла столько новых впечатлений, что Борькина судьба отодвинулась на второй план. Андрей тоже заговаривал о кошке все реже и реже.
С новой силой воспоминания о доме нахлынули к концу командировки. Чем меньше оставалось до отлета, тем больше тянуло домой и тем медленнее текли дни. Снились уральские зимы с метелями и сугробами по колено, весенние хрустально-звонкие ручьи, желтые чаши купав на майских лугах Стоило отчеркнуть день, лечь в постель и закрыть глаза, как сам собою выплывал из густых зарослей сирени наш небольшой трехподъездный дом с бабой Катей на крыльце и с нервным перелаем дворовых собак. Далеко-далеко от дома, в чужой стране, среди ночи, под зудение комаров и кондиционеров, я, казалось, кожей пальцев ощущала шершавость и тепло знакомых книжных обложек, порой изрядно потрепанных и не раз подклеенных. С портретов, прижатых к книгам, смотрели Чехов и Чайковский. Они у нас всегда стояли рядом, вместе, как мы их купили когда-то в Ялте, в Доме-музее писателя. За стеной нудно пела дрель — сосед был мастер на все руки. Мастерил ли он и сейчас? А с высокого подлокотника кресла не сводила с нас глаз наша лохматая и величавая Борька. Сидела она основательно и уютно, иногда подремывала, но чаще следила за нами, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. В такие часы она походила на старую и строгую свекровь, которая давно свое отработала, ни во что не вмешивалась, но все видела: кто что делает и что делает не так, как ей хотелось бы. И это безголосое лохматое существо виделось издалека частичкой нашего дома, и казалось странным, что вот мы вернемся, а она не ткнется преданно в ноги, помахивая хвостом.
Возвращение, как любое другое после долгого отсутствия, было шумным. После суеты и неразберихи аэропортов, после деклараций и таможенных досмотров нам хотелось одного: приняв душ, прийти в себя. Но нас гладили, хлопали, тискали и, словно волейбольные мячи, передавали дальше. Кто-то звал в гости к себе, кто-то напрашивался к нам — посидеть наедине. До кошки ли было.
И только через несколько дней, когда наши постояльцы вместе с дочерью навестили нас, Андрей не выдержал:
— Дядя Женя, а где Борька?
— Какой Борька?
— Кошка. Вы кому ее отдали?
— А-а, — наконец понял тот. — Ты хоть пройти дай. Дядя к тебе в гости пришел, а ты ему про кошку. На вот тебе Дашу, поиграйся с ней, а мы посидим с папой.
— Дашка Дашкой, а кошка кошкой, — терпеливо наступал Андрей.
— Нет больше твоей Борьки, Андрей. Не хотел я тебя огорчать.
— Почему нет?
— Сдохла потому что.
Гость так широко и безмятежно улыбался, что Андрей ему, конечно, не поверил.
— Я вполне серьезно говорю.
— Будет тебе, не дразни мальца, — заступился папа за сына.
— Да нет вашей кошки, я вам правду говорю. То ли отравилась она, не помню; Спрошу у напарника, если интересно. Я ему ее сплавил. Ну что ты, расстроился, что ли? — Андрей насупился и хотел пройти в комнату. Дядя взял его за чуб и, пытаясь заглянуть в глаза, поерошил. — Ну, ну, не раскисай. Хочешь, я тебе сиамского кота подарю? Да и не мальчишеское дело — кошки. Собаки — другой форс. Проси щенка у отца. А то давай я его попрошу.
— Спасибо, не надо, — Андрей с неудовольствием отвел дядину руку и ушел к себе. Дверь невежливо захлопнулась перед самым носом Даши.
VI
Прошел год. Другой кошки мы не завели. У Андрея рос маленький братишка, который только начинал ползать, и, конечно, кошка в доме была ни к чему. Да и Андрей уверял, что другой Борьки такой нет и не будет. Я с ним не спорила.
Но однажды дождливым осенним вечером он влетел в квартиру с победным криком:
— Ура-а! Борька жива!
— С чего ты взял? — не поверила я.
— Дашка сказала! Она в гости поехала к тем, кому ее отдавали, и там увидела.
— Кто?
— Дашка — Борьку.
— А может, это не она? Зачем бы дяде Жене обманывать нас?
— Она это, мам. Юля не хотела кошку отдавать, и они упросили дядю Женю соврать. Вот он и соврал.
— Ты это не выдумал?
— Нет, дядя Женя сам сказал. Дашка его выдала. Он так и назвал ее — предательница! Ему некуда было деться, вот он правду и выложил.
— Что же теперь делать?
— Как что? Поедем и заберем.
— Они ведь могут и не отдать?
— Но кошка же наша!
— Наверно, ей неплохо там жилось, если жалели возвращать. Да и девочка младше тебя, привыкла к Борьке. И Борька уже нас не узнает. Кошка же не человек, сам подумай. Она три года нас не видела.
— Мам, она узнает нас, вот увидишь. Или снова привыкнет. Это же несправедливо: взяли и зажулили.
— Ну и слово ты нашел!
— Зажулили, конечно. А дядя Женя не дает их адреса. Я бы уже сегодня съездил.
— Зачем ехать тебе? Попросим дядю Женю. Его же друзья, не наши.
Но дядя Женя только рукой махнул, пожалуй, даже несколько презрительно: сколько шуму из-за кошки. Неожиданно сторону Андрея взял отец.
— Знаешь, Женя, — огорошил он родственника, — зря ты так. Придется кошку вернуть. И, кстати, не такие уж это глупые существа. Я где-то читал, что их можно, как собак, обучить многим премудростям. А кошка Данте, говорят, даже держала горящую свечу, когда он писал стихи. Вот мы с тобой не услышим подземные толчки, а кошка услышит.
— Рассказывай сказки, — хохотнул гость.
— Ничего не сказки, — заступился теперь уже сын за отца. — Это все сейсмологи знают.
— Чего?
— Да, да, вы почитайте «Знание — сила» или «Наука и жизнь».
— Ну вот, двое на одного. Добро бы коня делили, а то кошку.
— Давай так, Женя, кошачий вопрос решаем в нашу пользу. По справедливости.
Борьку привезли в воскресенье. Торжественно, на такси, а не трамваем, как стыдливо когда-то поступила я. Ну да, тогда это был всего-навсего кот в мешке. А теперь на нее предъявили права две семьи.
Андрей с сияющими глазами внес кошку в квартиру и спустил на пол.
— Ну, ну, добро пожаловать, — сказала я. Борька посмотрела на меня и спокойно двинулась осматривать квартиру. — Юля плакала?
— Еще как, — в голосе сплетались огорчение и радость.
— Значит, одержал победу?
— Мам, мы ведь все по справедливости сделали. Кошка ведь наша. Я же не виноват.
— Я тебя не виню. А девочку жалко. Справедливым быть хорошо, но можно еще и добрым.
— Пусть не обманывают.
— Хорошо, хорошо, — согласилась я. — Что теперь спорить. Дело сделано. Справедливость восстановлена. Иди, корми себя и кошку.
— Я Юле котенка обещал, — оправдывался сын.
— Обещал — сдержи слово. Разогрей ужин с папой. Я поставлю Антошке термометр. Снова температура высокая…
Странная это была ночь.
За окном спал уставший, словно онемевший город. Лишь за рекой ухал бессонный завод.
Андрей с отцом сладко посапывали во сне. На потолке белела полоса света — фонарь во дворе подглядывал за жизнью нашего дома. В углу комнаты тускло горел ночник.
А я с больным ребенком до утра прошагала по квартире. И вместе со мною до утра ходила Борька. Она вплеталась в мои шаги так, что я порой спотыкалась об нее и едва удерживалась на ногах. Хвост она неотрывно держала прижатым к моей ноге. Наш маршрут — двадцать семь шагов — пролегал от балкона в комнате через коридор до окна на кухне. Дойдя до конца пути, я поворачивала назад и за мною — кошка. Иногда я задерживала шаг у стены. Тогда поворачивала назад Борька и, помахивая хвостом, ожидала меня. Не знаю, сколько километров мы за ночь с ней намотали. У меня слипались глаза и ныли ноги. Часам к четырем утра начало пошатывать Борьку. Хвост ее нет-нет да и соскальзывал с моей ноги. Покачивая малыша, я опускалась отдохнуть на краешек кровати. Кошка садилась на полу мордашкой ко мне. Глаза — огромные и зеленые — не мигая смотрели на меня. Жутковато было видеть в полутьме эти два тревожных огонька: они били в мои глаза и спрашивали, почему остановилась.
«Ах ты, моя маленькая женщина в белых гольфах! Лохмачка, моя лохмачка! — улыбалась я ей. — Да неужели же ты узнала меня после трех лет? Что заставляет тебя ходить за мной от стены до стены? Два родных человечка спят и не проснулись ни разу. А ты, глупое создание, меряешь со мной квартиру…»
«Глупое? Может быть, — словно соглашалась она. — Разве это так уж важно сейчас?» Она валилась на бок, вытягивала все четыре лапы в белых гольфах и прикрывала глаза.
Действительно, важно было другое: чувство разделенного одиночества в эту бесконечно долгую и смутную ночь. Стоило мне подняться, как теплый хвост снова вплетался в мои шаги.
Так мы бодрствовали до рассвета. К утру жар у малыша спал, — я чувствовала по влажному лбу. Он заснул. Термометр я не поставила — боялась разбудить. Осторожно уложив Антошку, я легла сама, с удовольствием вытянула непослушные и гудящие ноги и благодарно погладила кошку. Борька на секунду замерла под рукой и, мягко выскользнув, ушла в сторону кухни.
Проснувшись, я увидела ее, как и три года назад, на коврике возле своей кровати. Кошка спала, вытянув во всю длину усталое тело, и не шелохнулась. Лапы лежали на моих шлепанцах. Передние — на левом, задние — на правом.
Осторожно, чтобы не разбудить, я перешагнула через нее и босиком вышла из комнаты.
VII
Котят, которых Андрей надежно пообещал одноклассникам и обиженной им Юле, мы от Борьки не дождались. С годами выяснилось, что на совести Дашки не только голосовые связки кошки, но и многое другое.
Она оказалась домоседкой и совсем не искала кошачьего общества. Порой, правда, Борька выходила на лестничную площадку. Глухая, не очень понятная ей самой тоска заставляла кошку спуститься вниз, а иногда и выйти в заросший сиренью палисад. Она прижималась к стене или штакетнику и трусовато наблюдала за жизнью суматошного двора. С кошками общего языка Борька не искала, а от котов отворачивалась с целомудрием монахини. Излишне нахальным попадало по усам. Защищалась Борька молча, без женских жалоб и сетований, поскольку была безголосой и никого не могла призвать на помощь. Там, под кустом сирени, мы и находили ее, сердитую и взъерошенную. Выпустив во двор, старались не забывать: Борька совершенно не умела ориентироваться.
Зато слух у нее был отменный. Всех своих она узнавала издалека по шагам. Заметив это, я не поверила себе. Несколько дней терпеливо приглядывалась и однажды вечером, когда Борька внезапно заспешила к двери, крикнула:
— Андрей, открой дверь, папа идет.
— Никого там нет, — недовольно буркнул сын, выглянув в коридор.
— А я говорю, есть. Хочешь, поспорим?
— Ага! Ты в окно увидела! — возмутился он.
— Ты же видишь, я сижу с книгой и не вставала с дивана. Так как? Спорим или нет?
В эту минуту в дверь постучали.
— Действительно папа, — Андрей с удивлением смотрел на отца, а отец не мог понять, чем поразил сына.
— Мам, а как ты догадалась?
— Это не я, это Борька, — и я рассказала все. Борька слышала знакомые шаги уже со второго-первого этажа, шла к двери и садилась лицом к порогу. Вот только дверь не умела открыть — надо было поворачивать ключ в замочной скважине.
— Чудеса да и только, — фыркнул папа. Я обиделась.
— Ты же сам говорил, что кошку, как собаку, можно обучить многим премудростям. Видишь, она и самостоятельно может что-то освоить.
Авторитет кошки в Андрюхиных глазах заметно возрос. Но полностью избежать собаки в доме мне не удалось. И виной тому, как ни странно, стала сама Борька.
VIII
Закончились зимние каникулы. На площадках мусоросбора сиротливо лежали елки с обрывками пестрой елочной мишуры. Обычно дети втыкали их в сугробы, и во многих дворах зимние аллеи стояли до оттепели. Но эта зима выдалась малоснежная, и елки сразу легли одна к другой перед последней дорогой.
День в редакции начался шумно. Готовилась большая передача, и в маленькой комнате негде было повернуться. В коридорах, кинозале, дикторской — всюду распевались и разминались участники самодеятельности.
Наконец, — уже около трех часов дня, — их попросили в павильон, и в редакциях наступила рабочая тишина.
И тут позвонил сын.
— Мам, — сказал он коротко.
— Что случилось?
— Ничего особенного, не пугайся, — за просительно-виноватой интонацией явно прочитывалось что-то восторженно-радостное. Установил школьный рекорд, но при этом порвал штаны, — первое, что мне пришло в голову.
— У меня сегодня секция.
— Я знаю.
— Ты придешь домой и можешь испугаться. Дома у нас лежит собака.
— Какая собака?
— Наверно, наша, я тебе потом объясню.
— Только собаки мне не хватало, — пробормотала я растерянно, отодвигая телефон. Сотрудники весело смеялись. Все они были старше меня и давно прошли собачий этап в воспитании сыновей. Посыпались вопросы, затем советы.
— Выбросьте, пока сын в секции.
— Отдайте мужу, пусть отвезет куда-нибудь.
— Держите. Что, не прокормите, что ли?
Самый мудрый совет дал наш редакционный режиссер.
— Я бы на вашем месте, — сказал он, протирая очки. Должно быть, он специально снял их, чтобы не видеть меня в этот момент. — Я бы на вашем месте засунул собаку за пазуху и отвез Нине Ивановне в подарок за кошку.
— Скорее в отместку за кошку, — язвительно поправили его.
В отместку не годилось — с кошкой мы ладили и благодарили случай, который привел ее в наш дом.
Смех смехом, а дома ждала меня собака, невесть чья и невесть какой породы. А сын учился уже в десятом классе, и разговор с ним предстоял непростой, тем более что площадь у нас стала шире, и он занимал отдельную комнату.
Открывая дверь в квартиру, я не услышала ни шагов, ни шороха, ни лая. Включила осторожно свет. Мне все казалось, что я вот-вот наступлю на чей-то хвост и из-под ног с визгом выскочит щенок. Но встретила как обычно меня только Борька. Она подождала, пока я разденусь, понюхала сумку с продуктами, распушила хвост и вместе со мной двинулась на кухню. У входа в комнату Андрея кошка нервно повела ушами. Я нажала кнопку выключателя. В дальнем углу на старом Антошкином одеяле лежала рослая овчарка. Передние лапы были высоко перебинтованы. Собака не сводила с меня настороженных глаз. «Вот и засунь такую за пазуху», — вспомнила я совет услужливых сотрудников. Я подошла поближе. Борька осталась у двери. Собака силилась подняться и не могла.
— Да лежи уж ты, лежи, — вздохнула я с жалостью и отступила назад. Она благодарно и влажно повела глазами и опустила голову на пол рядом с перевязанными лапами.
«Ну и везет нам на несчастных животных», — качала я головой. Борька сочувственно помахивала хвостом.
Андрея домой несло как на крыльях.
— Видела? — Конечно, он и не надеялся прочитать радость в моих глазах, но на что-то он все-таки надеялся. Начать упрекать и выговаривать было неблагоразумно. Наскоро смахнув со лба не то снег, не то пот, Андрей сел перед собакой на пол. Та дотянулась до его ладони и нежно лизнула ее розовым языком.
— Расскажи теперь по порядку, — попросила я. — Чья она?
— Не знаю. Мы нашли ее.
— Но ведь это овчарка. Она не может быть ничьей.
— Конечно, — с сожалением вздохнул сын. — Мы шли из школы — я и Олежка Козин. Мимо больничного забора. А там, за забором, собака лежит на снегу, и кровь кругом. И следы красные от самых ворот, метров двадцать. Ну мы и пошли к ней. Думали, не подпустит. А она ничего. Ты меня извини, мам, но я у тебя еще деньги взял, два рубля.
— Причем здесь деньги? — не поняла я.
— На такси. Мы с Олежкой ее к ветеринару возили. Она же совсем без сил и не ходит. Кто-то ей ноги перебил. Ну что ты так смотришь на меня?
— Как?
— Осуждающе.
— Ты считаешь, что я должна радоваться?
— А ты считаешь, что я должен был ее бросить там, на снегу? Ты же спасала когда-то Борьку?
Так Борька оказалась виноватой в том, что снова очутилась под одной крышей с собакой.
Возразить сыну я не рискнула. Что я могла возразить? Да он и сам понимал, что собака ненадолго: он давно грезил институтом, которого в городе не было. Нас, женщин, в доме стало трое: Я, Борька и Берта — так Андрей назвал собаку. Втайне я надеялась, что у Берты вот-вот отыщется хозяин и уведет, ее, хотя и не представляла, где и как его найти.
Овчарка — собака серьезная, не пудель и не болонка. Размениваться на ссоры с кошкой она не стала. Да и своя собачья кручина занимала ее больше: ноги болели, и Берта тихо и сдержанно скулила, особенно, когда приходил Андрей. Она, видно, досадовала, что не в силах подбежать и броситься ему на грудь.
Утром и вечером Андрей на руках выносил ее во двор. Все его куртки и пиджаки пропахли псиной так, что от него самого кошки должны были шарахаться в стороны. Но Борька все приняла нормально. То ли за давностью лет забылись обиды, то ли она сострадала чужой — пусть собачьей — боли, то ли своим кошачьим умом постигла разницу между овчаркой и прочей мелкой сошкой, — но конфликтов не возникало.
Через месяц Берта полностью окрепла. Андрей сходил с ней в клуб собаководов. Никто о ней не наводил справок, и мы на полгода стали ее законными владельцами. Сын мог реализовать свою давнюю и тайную тоску по собаке, которую кошка, конечно же, заменить не сумела.
Я с сочувствием смотрела на Борьку и думала о всех кошках сразу. Что же с ними будет через столетие? Собака всегда в почете. А кошка? Воры еще не скоро переведутся, и собаке найдется работа. А мышей люди уже научились выводить. Не настанет ли день, когда и кошек, как мышей, выведут — за ненадобностью?
Но ведь возможно и другое: вместо собак — декоративных — начнут держать кошек. С ними меньше хлопот, и не обязательно дважды в день отходить от телевизора и выходить из дома. И заведут в каждом доме кошку — иначе мир забудет, что есть на земле существа, которые ходят на четырех лапах.
Что еще возможно?
Возможно, — впрочем, это уже совсем грустно, — что врачи будут прописывать кошек как лекарство от одиночества. Только тот, кто много лет жил в дружбе с кошкой, знает, как она чутка, как быстро умеет уловить настроение хозяина, как может вовремя и совсем по-человечьи глянуть в глаза и подставить свой теплый маленький бочок под озябшие руки.
Что еще скажет кошка человечеству?
Наша Борька свое последнее слово сказала без нас
IX
Сын закончил школу и уехал учиться. Берту — с мукой и мальчишеской слезой — он отвез на машине в садово-парковое хозяйство завода. Там создали псарню и даже получили ставку собаковода. Берта стала одной из шести овчарок, которым предстояло стеречь малиново-смородиновые плантации металлургов.
А мы осенью уезжали в командировку и снова надолго. Борьке перевалило за тринадцать, и она слабела на глазах. Ей давно уже изменял слух, и она порой недоуменно смотрела на наши губы: губы шевелились, а она ничего не слышала. Ходила Борька медленно и безрадостно, дважды за лето падала с балкона и подолгу хворала.
В середине сентября мы вылетели в Москву. В кармане лежали загранпаспорта, и в нашем распоряжении оставалось четыре свободных дня. Мы бродили по оранжево-желтой столице, под тихим шелестящим дождем, сидели на мокрых лавочках и весело глазели на торопливые цветные зонтики. Дорожная сумка в Москве распухла, а мы продолжали в нее толкать то сувениры, то русскую селедку и ржаной хлеб — угостить земляков. Перед отлетом заказали телефонный разговор с Магниткой и долго-долго говорили с домом. И на целых три года пересекли границу…
Когда вернулись, Борьки уже не было. То, что нам рассказали о ней, не просто растрогало, а поразило нас.
Проводив нас, Борька почти отказалась от пищи, — говорят, так поступают только очень умные собаки. Она днями лежала на ковре возле любимого кресла, подняться на которое ей уже не хватало сил. А в тот предотлетный вечер за три часа до нашего звонка кошка забралась на столик, где стоял телефон. Как? Из каких сил? Никогда до этого мы ни разу ее не видели на столь неудобном месте, вечно заваленном справочниками и бумагами.
Борька прочно прижалась к телефонному аппарату и умоляюще поднимала на всех роскошные зеленые глаза: не гоните, не трогайте. Не испугала ее и трель междугородного звонка. Пока шел разговор, пока трубка переходила из рук в руки, кошка так и оставалась на столике. Она нервно тянулась седыми усами на звук знакомых голосов. Как она уловила их неверным ухом? Непонятно.
— Это непостижимо, — рассказывала мне сестра, — знаешь, жутковато было смотреть ей в глаза, такие они у нее пронзительные сделались. Ну не может быть, чтобы она предчувствовала? Мистика какая-то…
Телефон дал отбой, Борька сползла со стола. И все. Больше к нему не подходила.
Дотянула она до Нового года, а под Новый год… Как будто знала, что все равно не дождется. Так стоит ли начинать год?
С тех пор в нашем доме нет и, видимо, не будет кошки. Не решил ли в душе каждый из нас, что предательство по отношению к Борьке завести вместо нее другую? Наверно, так оно и есть, а признаться друг другу как-то неловко: несерьезно вроде, сентиментально.
Среди фотографий, сделанных Андреем еще в школьные годы, сохранился и снимок с Борькой. Она смотрит на меня строгими умными глазами, и взгляд ее полон спокойствия и достоинства. Каждый раз, когда снимок попадает мне в руки, я удивленно спрашиваю себя: как я могла огорчиться от того, что мои глаза похожи на кошачьи?
Как, однако, немудры и обидчивы мы в молодости.
Сейчас к этому я отнеслась бы иначе…
Цвет полыни Рассказ
По Исфагану снуют пронзительные декабрьские ветры. Слякоть. Снег падает и тает, падает и тает. Черной жижицей полны выщербины старых тротуаров.
Жилье для советских специалистов не готово, и мы уже месяц томимся в отеле, снятом металлургической корпорацией. Мужчины на работе, дети в школе, и только женщины не у дел. Отлучаться из гостиницы, не зная ни языка, ни города, рискуют немногие. Кто-то спит, пользуясь вынужденным бездельем, кто-то читает уже не раз прочитанную книгу.
Для меня в отеле неожиданно нашлось довольно хлопотное занятие. Молоденький администратор Мустафа с помощью постояльцев изучает русский язык, и я по просьбе нашего переводчика становлюсь его очередным учителем. Почти ежедневно в одно и то же время я спускаюсь в гостиничный холл. Из-за стойки во весь белозубый рот улыбается Мустафа:
— Доб-рое ут-ро! Как де-ля?
— Доброе утро! Де-ла идут хорошо! — отвечаю я замедленно и четко.
— Де-ла и-дут ка-ра-шо! — старательно делит на слоги Мустафа. Я поправляю его, он повторяет снова и снова, следя за выражением моего лица. Стоит мне удовлетворенно улыбнуться, как он торопливо фиксирует найденный звук, произносит его по нескольку раз подряд и наконец по-детски звонко и коротко смеется и ставит точку:
— О-кей! Пое-ха-ли!
Он берется за учебник. Читаем мы «Родную речь» для второго класса, подаренную кем-то из наших. Других пособий нет, но уже складывается рукописный разговорник из тех упражнений и заданий, которые готовят для Мустафы его часто меняющиеся учителя. Из-за стойки он не выходит: постоянно звонит телефон, да и старший администратор может появиться в любой момент. Мустафа его побаивается, хотя тот вполне благосклонен к занятиям помощника.
С приходом шефа Мустафа на глазах взрослеет. Он становится сдержанным, вежливо благодарит за каждую похвалу и извиняется за малейшую ошибку. Уходят из черных глаз солнечные лучики, и передо мной уже не просто восемнадцатилетний юноша, а опытный элегантный служащий приличного отеля.
Когда у его шефа, господина Мусави, начинается рабочий день, я не знаю. Он в холле появляется внезапно: выходит из узкого коридорчика, в конце которого находится его кабинет, и садится на низкий диван, обитый оранжевой ворсистой тканью. Над ним зеленым опахалом подрагивает пальмовая ветвь. Пальма растет в черном квадратном ящике за диваном и занимает весь угол. Макушкой она почти касается потолка. В стеклянную высокую дверь и широкие во всю стену окна видны двор и часть улицы. Тяжелыми складками от потолка донизу свисают двойные шторы, защищающие холл зимой от сквозняков, летом — от солнца. Старший администратор по длинному журнальному столику подвигает к себе пепельницу и закуривает. Он усердно смотрит на улицу, но слушает нас: когда хлопает дверь и что-то ускользает от его слуха, он досадливо морщится и стряхивает пепел с сигареты. Господин Мусави прекрасно владеет русским, причем на удивление щедро пересыпает речь поговорками, присказками, байками. Мы молчаливо догадываемся, что и прошлое у него русское, и что не случайно, не от нечего делать, часами сидит он здесь, в холле — отель не первый год уже служит перевалочным пунктом для специалистов из Союза.
Старик статен и величествен, даже волосы лишь слегка прихвачены сединой, хотя ему около семидесяти. О своем возрасте он говорит с удовольствием и с еще большим удовольствием смеется, когда мы не верим, что он так долго прожил на свете. Наши мужья поговаривают, что у него под белой сорочкой военный мундир. И, слушая, как Мустафа напряженно делит на слоги незнакомый текст, я невольно приглядываюсь к его шефу. Большой, широкогрудый, он сидит поразительно красиво, не уходит всем весом в кресло, как грузные люди, не сутулится, даже плечи не опущены.
— Мос-ква — сто-ли-ца Со-вет-ско-го… — старательно выговаривает Мустафа. Мне почему-то кажется, что мой ученик внутренне поеживается от этих слов, вернее, оттого, что приходится произносить их при шефе.
— Сделаем так, господин Мустафа, — прихожу я на помощь. — О Москве мы поговорим с вами в Москве. А сейчас побеседуем о вашей столице.
Мы выбираем нужные слова из текста, составляем диалог о Тегеране, и я большими, как у первоклассника, буквами записываю его Мустафе в толстую тетрадь-разговорник.
— Тамам?[1]
— Тамам! — соглашается он, захлопывая учебник.
И тут меня настигает ускользающий полувзгляд-полувопрос господина Мусави:
— Тамара-ханум, окажите честь — посидите со стариком полчаса.
Предложение неожиданно и совсем не в духе господина старшего администратора: еще не случалось, чтобы он удостоил вниманием женщину. Даже встречаясь с нами в холле и приветствуя, он смотрит поверх женских голов на оранжевые оконные шторы.
— С удовольствием, — отвечаю я, не скрывая удивления, и, пока собираю наши записи-листочки, пытаюсь разгадать, что же кроется за невинным приглашением. Мустафа растерянно поглядывает на меня. Он не совсем уверен в том, что правильно понял слова шефа, и немного побаивается, что наши уроки могут послужить причиной неприятностей. У нас легкий негласный контакт, и он чутко угадывает, что я тоже чуточку оробела. Только робость моя другого оттенка: я, как и все мы, не умею общаться с людьми чужого мира, и постоянный самоконтроль сковывает мою речь, лишает гибкости и внутренней свободы. Вряд ли эта робость пройдет — нас ожидает полная изоляция от местного населения.
— Как вы считаете, у вас способный ученик? — спрашивает господин Мусави да так серьезно, словно именно ради моего признания изменил своему небрежению к женскому роду. Я укоризненно качаю головой и с вежливой уверенностью чужеземца отвечаю:
— Нехорошо, господин Мусави. У вас прекрасный помощник. А о его способностях вы знаете лучше меня — у вас отличное знание языка.
— То есть, вы хотите сказать, что гость хозяину не судья, — снисходительно-иронично переводит он мою осторожность на понятные рельсы, искоса роняя на меня испытующе-беглый взгляд.
— Иначе вы не потерпели бы меня рядом с собой, — улыбаюсь я. — В гости зовут с разбором, разве не так?
— Конечно, конечно, — насмешливо соглашается он. — На Востоке говорят: сердце — не скатерть, перед каждым не расстелешь. Не хотите, значит, правду сказать.
— А два «я» — одна драка. Тоже восточная мудрость, — в тон ему замечаю я.
Господин Мусави, изменив своей привычке скользить глазами по людям, смотрит прямо на меня. На бесцветных губах всегдашняя усмешка, но я чувствую, что этим афоризмом я что-то отвоевала для себя, еще непонятное мне самой, но очень необходимое. Старик похож на экзаменатора, который — наконец-то! — услышал от студента дельное слово. Напряжение, с которым я села на пламенно-оранжевый диван, отпускает ровно настолько, чтобы попытаться перейти на удобный для меня почтительный и полушутливый тон:
— Ну подумайте сами, господин Мусави, какая женщина даст в обиду очаровательного юношу?
— Тем более семидесятилетнему старцу, — поддерживает он шутку с видом: попробуй с женщинами поговорить серьезно — только свое достоинство уронишь.
— А дети ваши знают русский?
— Так… говорят примитивно, — он небрежно отметает рукой тему. — Зачем? У них есть английский. У старшего еще немецкий. Он живет в Германии. Босс! Шишка!
— А внуков сколько?
— Одиннадцать. Еще столько — и я скажу: хватит, остановитесь! Ну, а знаете ли вы, Тамара-ханум, зачем я вас позвал? — почти доверчиво спрашивает господин Мусави, не меняя ни позы, ни тона, ни выражения лица. Сигаретой, зажатой в двух пальцах, он показывает в окно. — Боюсь остаться наедине с вашей приятельницей. Очень опасно, когда ворона хочет стать птицей.
Нашей приятельницей старший администратор называет безобидную старушку-эмигрантку, которая раз-два в неделю приезжает в отель из другого конца Исфагана, чтобы посидеть с русскими женщинами. Зовем мы ее бабой Верой, как, видимо, повелось до нас. О себе она говорит однообразно-приподнято: «Ах, милочка, как я пела! «Мой голос для тебя и ласковый и томный!» Я была хорошей певицей. А на мои цыганские романсы сбегались все офицеры. А потом влюбилась. Сама! Представляете себе! По-пропащему, несказанно! Знаете, как это — «в жизни раз бывает только встреча»… Он был красавец».
Мы, даже самые любопытные, никогда не спрашиваем, ни как дальше сложилась ее жизнь, ни когда она уехала из России. По нашим прикидкам, году в сорок втором.
— Припрыгала! — господин Мусави с откровенным презрением смотрит, как баба Вера пересекает улицу.
— За что вы ее так не любите?
— А за что ее любить?
— Простите меня, но, как мне показалось во всяком случае, вы в некотором роде все-таки земляки.
И тут я из студента, который только что вызвал одобрение учителя, становлюсь студентишкой, который огорчил его, ошеломил, огорошил, может, даже опорочил беспечностью и полной глухотой к наукам. Господин Мусави сводит брови и хватается за висок, словно ему и слушать-то стыдно, что я произношу. Но — что с меня, студента, взять? — он снисходительно начинает растолковывать:
— Нет, не земляки. Ни в коем разе! Во-первых, я из Азербайджана. А здесь азербайджанцев около пяти миллионов. Я среди своего народа. Во-вторых, меня привезли мальчишкой. Не я уехал — меня привезли! Я здесь вырос, здесь могилы моих родителей. В-третьих…
Баба Вера несмело заглядывает через стеклянную дверь в холл и только потом заходит.
— Доброе утро, господин Мусави! Салям алейкум, мистер Мустафа! Здравствуйте, милочка! Как же я по вас соскучилась! Позвольте мне погреться подле вас! Ах, старость, старость! Вам этого пока не понять. Сколько вам? Тридцать пять? Я в ваши годы царицей по жизни шла! Берут годы свое, берут… — Баба Вера снимает куртку, садится в кресло напротив, спускает с головы на плечи знакомую нам всем серую русскую шаль, которая когда-то была пуховой. Как она сохранилась у нее до сих пор, одному богу известно. — Ах, милочка, прелесть вы моя, позвольте, я вас поцелую. От меня табаком попахивает, но это ничего, правда? Если бы вы знали, сколько радости вы мне доставили в прошлую субботу! Я так вам благодарна. Господин Мусави, а вы знаете, Тамара-ханум — искусствовед. Я так много услышала о России! Искусство — это моя страсть, мой мир, моя тоска. Ну расскажите же что-нибудь еще! Недавно я смотрела в советском клубе «Гранатовый браслет». Как там хороша Ариадна Шенгелая! Ах, какая аристократка! Где она еще снималась? Впрочем, не говорите. Что толку из того? Вам не довелось посмотреть, господин Мусави?
— Женщины на экране не для меня. Я люблю их рядом, — выталкивает сквозь зубы старик Мусави.
— Ну что за пошлость! — хмурится баба Вера. Она возмущенно поднимает правое плечо, опускает его и снова щебечет: — Право же, она бесподобна! Звезда, звезда, конечно же звезда! Вы не согласны со мной? Почему вы так минорно улыбаетесь?
— Что вы! Шенгелая прелестна, спору нет. Я сожалею о том, что вам не с кем ее сопоставить — вы же не видели ни других фильмов, ни других актеров. А мои симпатии не ограничиваются одним именем. У нас десятки непревзойденных артистов!
— Ах, оставьте, милочка! Все они играют доярок и стахановцев! На что там смотреть? — она снова с недоумением поднимает правое плечо. Я, опешив, не свожу глаз с блеклого лица с аккуратно подкрашенными губами. Господин Мусави, отвернувшись к окну, слушает мое растерянное молчание.
— А если бы Шенгелая играла доярку? Что бы вы сказали?.
— Фи, милочка, как вы с небес да на землю. Не знаю, не знаю.
— Значит, вы не о том говорите. Вас не Шенгелая очаровала, а Куприн: княжеский дом, богатый гардероб, крюшон, хрусталь, поклонение красоте.
— Ах, моя вы прелесть! — прерывает меня баба Вера с кокетством хорошенькой примадонны. — У меня этого в жизни было больше чем достаточно! Я прекрасно прожила жизнь. Меня столько любили! Я была так счастлива! Помню, в Турции… — Она рассказывает сбивчиво, торопливо, словно боится, что ее не выслушают до конца и никто ничего не узнает о корзинах цветов у ног, о дуэте со знаменитым тенором, о всеобщей женской зависти и еще о многом другом, что она хранит, как фамильные драгоценности, которые хоть изредка, но надо надевать.
«Но ведь все это в прошлом, все в прошлом!» — хочу я крикнуть, поймав маленькую нечаянную паузу в речи. Я вижу под столом тупые носки ботинок, давно уставших ходить по земле. На спинке кресла висит ее куртка из плащевой ткани с залоснившимися рукавами. Но особо острую неодолимую боль, жалость к ней вызывает серенькая шаль, какие издавна на Руси носили да и сейчас еще носят женщины. Пух на ней истерся, видна белесая истончившаяся основа, и кружевной рисунок по краям стал таким редким, что сквозь него проглядывает сиреневый цвет блузы. Но оживившееся лицо порозовело, и я на миг верю, что она моложе господина Мусави на девять лет, что была хороша собой: улыбка порхает по лицу и живет то в круглых подвижных бровях, то в прищуре серых глаз, то в уголках капризных подкрашенных губ.
Господин Мусави нетерпеливо — да будет ли конец этому? — водит пальцем по медному ободку пепельницы. Удивительно, как он, серьезный, занятой, старый человек, может сидеть и слушать нашу болтовню, он, всегда высокомерный с женщинами. Старик видит, как я украдкой поглядываю на часы, и зачем-то кивает головой Мустафе.
— Кстати, милочка, что вы сами думаете о Шенгелая? — перескакивает баба Вера снова на кинематограф. — Но умоляю вас, не надо газетных статей!
— Мне кажется, актриса уже повторяется и очень скоро роли аристократок ее перестанут радовать. Впрочем, я недостаточно хорошо знакома с ее работами. — Я бросаю теперь уже откровенно-предупредительный взгляд на часы. — Да и кино не мой профиль.
— Нет, нет, не уходите в кусты! Вы ее не любите. Женщине не прощают красоту, а она божественна. А какое имя, какое имя — Ариадна! Признайтесь, признайтесь, завидуете, да? — настойчиво заигрывает она со мной. — Все-таки назовите, где она еще снималась?
— Татьяна Ларина в «Онегине». Графиня в «Выстреле», тоже по Пушкину. Евгения Гранде.
— Какие вечные образы! Представляю, как она купалась в этих ролях. Она создана для них, создана блистать! Вы снова улыбаетесь. Чему?
— Видите ли, мне хочется любить актеров не только за красоту и молодость. Красота и молодость проходят.
— Ах, милочка, ну зачем же прописные истины! — На лбу моей собеседницы собираются недовольные складки. Она проводит по ним рукой, словно торопится разгладить их и по возможности даже стереть следы. Ей неприятен подтекст моих слов: человек богат тем, с чем приходит к старости, а не тем, что осталось в молодости, прекрасной, но такой короткой. А с чем пришла она? Ни дома, ни семьи, ни родины. Еще досаднее, что подтекст услышал и господин старший администратор. У него есть все — работа, семья, внуки, страна, ставшая ему родиной. Не потому ли он так спокойно и с явным удовольствием говорит о своем возрасте? Не из желания ли подчеркнуть свое превосходство над ней, безоглядно промотавшей молодость и здоровье?
Баба Вера расстроена. Сейчас она укорит меня: безжалостно напоминать старикам, что они старики. Надо обогнуть угол, уйти от упреков.
— А почему вы не допускаете, что Шенгелая может сыграть доярку?
— Это невозможно! — Старушка отмахивается от меня обеими руками и громко смеется. — Это же смешно! Она большая актриса! Она не должна опускаться до таких ролей!
Я не выдерживаю:
— Вы меня сегодня обидели уже дважды.
— Я, милочка?
— Моя мать была маляром. Отец — плотник. Его сестра — доярка. Я вожу по музеям рабочих. К стыду своему, я не всегда могу ответить на все их вопросы. Что же вас тянет ко мне?
— Простите, бога ради! У меня и в мыслях не было! Я, наверно, не так выразилась, мы все же не вашего мира. А, может, вы не в духе нынче? Господин Мусави, вы не находите?
Нет, господин Мусави этого не находит. Зато находит, что смотреть на кончик сигареты интереснее, чем на взъерошенную старушку. Да, он из другого мира, но к слову «мы» не имеет никакого отношения. Упорным молчанием старик попросту смахивает бабу Веру с той ступеньки, на которой стоит и на которую пытается подняться и она. Как он сказал? И ворона хочет казаться птицей?
Из узенького коридорчика слуга несет пластмассовый поднос с двумя чашками и чайником. Случай небывалый — господин Мусави, презрев восточные законы, будет пить чай с постоялицей отеля. Он собственноручно разливает чай и протягивает мне чашку.
Пьет Иран и коку, и пепси, и соки. Но чай — это другое. Чаем не просто утоляют жажду — им греют душу, ищут пути к взаимопониманию, вызывают на доверие. Чай! Золотистый, без единой крупинки. Плывет седой парок над чашкою, уютно и дразняще. Далеко не друг тот, кто протянул мне эту чашку, далеко не обычна эта минута. Что за ней? Пытаюсь разгадать, как затейливый сон поутру. А горячие бока чашки передают ладоням тепло, оно успокаивает, умиротворяет. Радуюсь уже тому, что в руках умно, по-настоящему заваренный чай, от которого я отвыкла за месяц гостиничной жизни.
— Чай хорош горячим. Пейте, не то остынет, — советует старик Мусави. Он сидит, величественно откинувшись на спинку дивана, и с восточным изяществом держит в крупной руке чашку.
И вдруг я понимаю, что третьей чашки нет и не будет. Затылок мой становится неподвижным. Я боюсь повернуть голову в сторону и, чтобы не выдать дрожь в пальцах, опускаю чашку на стол.
— Что? Очень горячий?
— Да, очень, — бесцветно отвечаю я.
Баба Вера беспомощно вдавилась в угол кресла и, кутаясь, стянула себя так, что походит на большого спеленутого ребенка. Из серых глаз сочится тоска.
Вот для чего я нужна была сегодня старшему администратору! С моей помощью он провел маленькую удачную операцию.
Мустафа с состраданием смотрит из-за стойки — не на бабу Веру — на меня. Как длинна, как бесконечно длинна минута! Чем ее сократить? Вот она — жестокая мудрость восточной шутки: гость — ишак хозяина. Жалко-жалко подрагивает нижняя губа бабы Веры. Все ее шестьдесят лет, наверно, были короче этих шестидесяти секунд. А глаза… Я не знаю, какого они сейчас цвета. Цвета пыли? Пепла? Полыни? Да, полыни, осенней, сухой, побитой ветрами полыни.
Господин Мусави мелкими глотками пьет чай, намеренно растягивая тягостное молчание.
— А знаете, милочка, я столько лет живу на Востоке, а в чае так и не научилась разбираться, — дрожащим голосом произносит баба Вера, выходя из оцепенения. — В детстве я любила чай со смородиной. А здесь она не растет… Почему-то… Вы уж простите, если я… Право, у меня и в мыслях не было… — Она торопливо прячет худые локти в рукава куртки, прощается почти весело, почти как ни в чем не бывало. Но куртку застегивает уже за дверью. Видно, как она стоит во дворе отеля, как расправляет шаль на груди и смотрит по сторонам, будто вспоминая, откуда пришла, как неловким шагом выходит за ворота.
— Ваш чай остыл, — усмехается старший администратор. Он свою чашку отставил в сторону и тянется за сигаретой. Курит он много. — Вам жалко ее?
Жалко? Не знаю. Может, и нет. Но достойно ли сильного человека вот так прибить и без того жалкое и смешное существо, забыв, что ей немало лет, что забегать сюда — ее последняя и единственная радость?
И он, и она когда-то ходили по моей, по русской земле. Даже меня это с ними хоть чуточку, хоть самую малость, да роднит. Почему же их — двоих — нет?
Я человек сторонний. Мне нельзя ни выйти следом за бабой Верой, ни быть излишне любопытной, ни возразить господину Мусави, даже если он поднимет руку на бедную женщину. А ведь она и не оправится от удара, — думаю я. Но улыбаюсь через силу и говорю другое:
— Больше она сюда, конечно, не придет.
— Не велика потеря.
— Для вас. А для нее?
— Вижу — жалеете. А зря. Таких хоронят с праздничной музыкой.
— Что это значит?
— Так у нас говорят о женщинах, которые весело живут. Уж коли уходить за кордон, то с деньгами, но не с любовником. Разве не так? — старший администратор глуховатым баском смеется. Крепкие, должно быть, абсолютно здоровые зубы нахально и влажно поблескивают и вдруг словно прикусывают улыбку. — А если подвержена ностальгии, сидела бы дома и пила чай со смородиной. Живет и все оглядывается.
Жестко постукивают сухие белые пальцы по столу. За оранжевыми портьерами виден кусок холодной декабрьской улицы, куда ушла баба Вера. Ушла и не оглянулась, чтобы помахать привычно рукой из-за массивной стеклянной двери. А он сказал — живет и оглядывается. Живет и… Так ведь именно этого он не может ей простить! Не на свое прошлое она оглядывается — на страну, где оба родились. Она тянется к русским, усиленно связывая крупинки того, что сохранила память, с тем, что слышит от нас под неизменно пристальным взглядом бывшего соотечественника. В его власти унизить ее, отвадить от отеля, лишить коротких встреч с нами, но не в его силах вытравить в ней неумирающий, а главное — невраждебный — интерес к России!
Бедная баба Вера! Она и не догадывается, что оказалась сильнее. А мне хочется улыбнуться, и я улыбаюсь. Золотисто переливается в чашке чай. Я не хочу его пить — он холодный. И я не пью его.
Черешня Рассказ
— Сегодня едем в сад к миллионеру. Скажи Деминым. Машина в шесть, — голос у Ираклия сухой и категоричный, как всегда, когда он говорит по служебному телефону. От неожиданности я не сразу понимаю, что к чему. Испуг простукивает в голову: отказаться, пока не поздно. Но трубка уже коротко и равнодушно пикает отбой, значит, все вопросы и возражения отменяются.
Что это за поездка? Само собой понятно, что не дружеский прием. И не официальный тоже: никакого отношения советские специалисты, хоть они и работают здесь, в Иране, к миллионеру не имеют.
И почему встреча в саду? Что за сад? Мое представление о саде четко, как прямоугольник: сад — это клочок земли — шесть яблонь да семь вишен, грядка с огурцами и маленький домик, где можно переночевать и хранить инвентарь.
Тоня Демина не ломает голову. Ее волнует другое: а что надеть к миллионеру в сад? И действительно, что? Мы смотрим друг на друга, обе растерянно смеемся, вспоминаем свой гардероб и выбираем русский ситец, который выручает в знойную пору в любой ситуации.
И вот наш невзрачный джип, волоча кудлатый хвост пыли, мчится по серо-желтой пустыне. Ираклий сидит рядом с водителем, победно качает черной головой и рассказывает, как ловко нагадал эту дальнюю дорогу. А глаза — глаза так и хотят прихвастнуть чуточку больше, чем позволяют наши насмешливые вопросы и намеки. И даже сам грузинский акцент, кажется, существует лишь для того, чтобы он, Ираклий, мог хоть немного подчеркнуть собственное превосходство.
— …Тогда я говорю коллеге: «Как же так, господин Аскуи? Персия славится поэтами — нам с ними встречаться нельзя. Персия славится женщинами — вы их прячете под чадрой. Неужели и сады вы оберегаете от красной пропаганды?» А персы — они, как грузины, — зажигаются моментально. Я их за это и люблю. Коллега мой даже винстон из рук выронил: «Нехорошо, господин Каладзе, ай, нехорошо! Завтра же повезу вас в гости к другу. У него прекрасный сад, он миллион на нем сделал!»
Господин Аскуи и Ираклий, насколько я знаю, работают на одном комплексе и дублируют друг друга. Вряд ли Аскуи ронял сигарету, вряд ли горячился так, как рисует Ираклий, — иранцы в общении с шоурави[2] сохраняют сдержанность и настороженность, — но Каладзе есть Каладзе. Им можно любоваться, над ним можно, опять же любуясь, посмеиваться, но никак не корить. Пыл, торопливость речи, желание отразиться в глазах друзей, как в зеркале, — прежде всего отголосок той радости, которую он доверчиво несет людям, так же просто, как дарит цветы красивой женщине или игрушку ребенку.
Каладзе на стройке уже три года, прилично говорит на фарси, и дружбу с ним и мы, и Демины считаем везением. Жена Ираклия уехала в отпуск, он все вечера коротает с нами и нет-нет да и выкидывает такие номера, как сегодняшняя утомительная тряска по выжженной и вылинявшей пустыне.
В половине седьмого начинает смеркаться. Полутьма прижимает машину к земле. Землей, впрочем, трудно назвать эту голую серо-желтую равнину. Земля кончается там, где кончается вода, — говорят на Востоке. Ни кустика, ни травинки, ни кактуса, — песок и камни. Невысокие лысые горы с белесыми выцветшими макушками. Постепенно они уходят в темноту, линия горизонта исчезает. Наконец и небо полностью сливается с пустыней. Джип вырезает из темноты узкую полосу дороги. Во все щели заползает пыль, шершаво ложится на ноги, скрипит на зубах.
Ираклий тихо переговаривается с водителем, замкнутым, сухотелым иранцем с крашенными хной волосами. Сейчас, когда стемнело, я уже не вижу его ярко-рыжих висков, которые раздражали меня и Антонину. Здесь у всех роскошные волосы, не измученные плотными головными уборами, смолисто-черные, черные с проседью или совсем седые, но всегда необыкновенно густые, с глянцем, курчавые либо в крупную волну. Как можно поднять руку на такое богатство, мы, женщины, не понимаем. Между тем тронутые хной волосы, усы, бороды мы встречаем часто.
Я на миг представляю Ираклия с висками цвета рыжей лисы и шепчу о том на ухо Деминой. Уставшая от долгого молчания Тоня, — она не умеет молчать более десяти минут, — припадает к моему плечу и мелко, вприпрятку смеется.
— Что-нибудь случилось? — оборачивается Ираклий, уловив в шепоте свое имя.
— Ты явно соскучился по жене и решил под покровом ночи махнуть в Тбилиси, — охотно откликается Антонина. — Иначе куда мы так долго едем?
— Зачем к жене? Жена сама приедет. Зачем в Тбилиси? Если б я махнул в Грузию, я бы вас умчал к хевсурам, в горы. Только там душа настоящего грузина.
Впереди появляются редкие огоньки. Въезжаем в забытый аллахом кишлак. Машина выхватывает из тьмы бурые полуобвалившиеся дувалы и медленно ползет по слепому проулку: дома, как во всех мусульманских селениях, выходят окнами во двор, и на улицах хоть глаз выколи. На выезде в свет фар попадает одинокая женская фигура. Прикрыв лицо чадрой, она быстро сходит на обочину.
— Теперь уже скоро, — переводит слова шофера Ираклий.
Странное у нас мероприятие. Что мы увидим в такой темноте? Ведь едем не в театр и не в цирк, где все залито светом, — едем в сад, царство неведомых цветов и деревьев, где захочется разглядеть все до лепестка и листика. Сад! Увезти бы его в памяти таким, каким он бывает на заре, — влажным, полусонным, или на закате — усталым, тоскующим по ночному ветерку, или, на худой конец, томящимся от полуденного зноя, когда он и хотел бы да не в силах подарить ни ласки, ни прохлады.
Наконец, после часа езды, джип останавливается у высоких темных ворот. Ираклий в приоткрытую дверь что-то говорит привратнику.
— Вале, вале[3], — кланяется тот и поспешно отворяет ворота.
Перед машиной узкая неосвещенная аллея. Тяжелые ветки скользят по окнам и крыше. Забивая запах пыли, который живет в машине, нас окутывает сладкий аромат цветения. Он такой плотный и сильный, что скоро начинает побаливать голова. Виной тому, правда, могут быть и долгая тряска по пустыне, и напряжение перед встречей — ведь не с кем-то, а с миллионером.
Машина неожиданно берет вправо, как из туннеля выныривает из аллеи на освещенную бетонированную площадку и останавливается рядом с величественным черным мерседесом. Я с холодным уважением ловлю отражения деревьев в лобовом стекле. Наш джип, грязный и неказистый, жалобно гасит огни, чтобы его не очень было видно.
С другого конца площадки неспешным шагом идут нам навстречу трое. Все в черных костюмах и при галстуках. Мы в помятых ситцевых платьях и наши мужчины в полотняных рубашках выглядим рядом с ними не лучше, чем наш джип около мерседеса. Мистер Аскуи, коллега Ираклия, широко улыбается нам. После обязательных фраз «Салям аллейкум! Ахвале шома четоур аст?»[4] — он представляет нас хозяину и его сыну.
Господин Захеди, невысокий седой красавец лет шестидесяти, вежливо пожимает нам руки, сын же стоит чуть поодаль. Ираклий суматошно переводит: господин Захеди рад оказать услугу мистеру Аскуи; он рад также пожать руки советским специалистам и уверен, что завод, построенный такими крепкими руками, долго и хорошо послужит его стране; он ничего не понимает в металлургии, но с интересом следит за событиями на стройке; у него четыре дочери и единственный сын Азиз; дочери все замужем, их судьбой он доволен; Азиз учится в ФРГ, в университете…
Ираклий бросает на меня вопросительный взгляд и, прежде чем я догадываюсь, в чем дело, со своей неистребимой радостью добавляет:
— Мистер Азиз может с Тамарой-ханум поговорить на языке Гете и Шиллера.
Ругнув про себя приятеля парой нелестных для него слов, я неуверенно перебрасываюсь с Азизом короткими пробными фразами. Они даются с трудом и мне, и ему. Мы повторяем, переспрашиваем, прислушиваемся друг к другу и обнаруживаем, что вполне сносно понимаем один другого. Конечно, я вынуждена признать, — не вслух, о нет! — что язык, услышанный на земле Гете и Шиллера, выгодно отличается от выученного в российской глубинке. Но все равно прекрасно, — слава моим скромным, терпеливым учителям! — что за тысячу верст от них я могу понять другого человека и не смотреть тупо в звездное небо или темную листву, угадывая презрение завтрашнего миллионера.
Многовековая восточная традиция невольно берет нас в плен: мы, женщины, машинально отстаем от мужчин и шагаем за ними, сохраняя дистанцию, и все принимают это как должное. Захеди-младший ведет нас по узкой тропинке. По обе стороны ее ровные ряды цветущих фруктовых деревьев, то ли гранатов, то ли абрикосов, — разобрать невозможно. Кроны их смыкаются над нами, а душистые теплые ветки шарят по лицам. Под ногами непривычно светло: низкие фонари льют на тропинку мягкий матовый свет.
Нас сопровождает легкое незвонкое журчание воды, словно кто-то впотьмах осторожно переливает ее из одного хрустального кувшина в другой. Это во мгле, параллельно тропинке тянется невидимый арык. Он проложен ступеньками: вода бежит метров двадцать-тридцать, спрыгивает на ступеньку и журчит дальше, до следующего спуска.
Тропинка приводит нас к реке. Ее пологие берега одеты в каменный фартук, который выступает над водой метра на полтора: немноговодный Заендеруд обмелел, он выпит арыками и каналами.
Сад дремлет, околдованный влагой, безмолвием и покоем. Над ним висит луна, яркая и свежая, как ломоть гулябской дыни. Она щедро серебрит макушки деревьев. Река еще ждет своего часа, когда луна поднимется выше и уже не искоса, а в упор глянет на нее. Как ни прислушиваюсь, не слышу шороха волн. Заендеруд движется крадучись, по донышку, и нет на ее усталой глади ни всплеска, ни привычного чешуйчатого перелива. Лишь бледными точками отражаются первые звезды, и трудно определить, в какую сторону бежит вода.
— Сказка! — шепчет Антонина, очарованная тишиной и сладкой истомой, исходящей от буйно цветущих деревьев.
Мы идем берегом, по аккуратно постриженной траве.. Угадывается легкий ветерок. Он еще не приносит ни желанной прохлады, ни посторонних звуков, — он просто напоминает о себе. Бессонные цикады позванивают во тьме. Изредка шуршит в кронах неуснувшая птица.
Дорожка поворачивает направо, туда, где над водой покачивается странный свет. Хозяин сада с гостями поджидает нас у поворота, возле белой беседки с широкополой крышей-шляпой. Через реку переброшен узкий, почти воздушный мостик. Он дугой выгибается над неподвижной гладью воды, а из-под него струится матовый неоновый свет, тот, который мы видели издали: это покачивается фонарь под мостиком. Он таинственно высвечивает красный камень речного фартука, ажурные, глянцево-черные перила, лица гостей, мутную непроглядную толщу воды. По мостику мужчины уходят на другой берег, словно притаптывая свет, льющийся снизу.
Я на миг задерживаю Ираклия и виновато признаюсь, что мы чувствуем себя неловко: из-за нас молодой хозяин лишился мужского общества.
— Ханумки мои, вы не знаете Востока! — укоризненно шепчет приятель. — Он наследник, и этим все сказано. Заметьте, сын все время отстает от отца на два-три шага Он еще не созрел для того, чтобы стать с ними рядом. Не по-грузински оставлять женщин без внимания, но я побежал. Вы уж простите…
Мы замираем у мостика и тянем минуты: сто́ит перейти его — и сказка растает. Навсегда. Неповторимо, необратимо. Еще миг, еще мгновение, чтобы запомнить и унести в памяти и завороженную тишину, и томный свет, и едва уловимую, непрочитанную улыбку на юношеском лице, и высокое небо над головой, которому нет предела и нет дела до нас, двух смущенных женщин в ситцевых платьях.
Не станет нас. А миру хоть бы что! Исчезнет след. А миру хоть бы что! Нас не было, а он сиял и будет! Исчезнем мы… А миру — хоть бы что![5]Мостик принимает на себя гулкий перестук наших каблуков. Напоминая о двадцатом столетии, где-то гудит самолет.
На берегу уже разостлан огромный ковер, на нем стол и плетеные стулья. Все тот же коленопреклоненный свет. Мужчины курят, тихо переговариваясь. Мистер Захеди о чем-то просит Ираклия и показывает на стол. Жест плавный, неторопливый. Я вижу вокруг черного рукава белый ободочек манжеты и сверкнувший глазок запонки. Хозяин глубоко сожалеет, — так переводит Ираклий, — что мы приехали, когда сад в цвету, и он ничем не может нас порадовать, кроме тута и черешни.
Ягоды холмиками лежат на больших подносах. Они мерцают мокрыми боками и еще хранят тепло ушедшего дня. Их нежная сладость снимает наконец ощущение шершавости в горле, оставшейся от дорожной пыли.
Потом мы пьем удивительно душистый чай. Его выносит откуда-то из сумрака сада бесшумный и бессловесный слуга в светлой рубахе. Чай белесо дымится во тьме, а в чашке кажется вязким и черным. Мужчины, как я улавливаю по немногим персидским знакомым словам, продолжают говорить о заводе и его возможностях. Азиз спокойно и с готовностью отвечает на все наши вопросы, но сам не проявляет никакого интереса ни к нам, ни к нашей стране, не позволяя тем самым и нам быть излишне любопытными. Старательно подбирая слова, я спрашиваю, почему он учится не у себя на родине: в Исфагане старейшие университеты и институты, в Тегеране тоже, а он предпочел Германию.
— Отец считает, что знание Европы — второй университет, — отвечает молодой Захеди.
— А вы? Тоже так считаете?
— Я? Конечно, я согласен с отцом!
— Наверно, мистер Захеди стихи пишет, — подкидывает мне Антонина светский вопрос. — Такая природа любого сделает поэтом, даже старого сухаря, а уж юношу тем более.
Речь у Тони быстрая, Азиз слушает ее напряженно, будто подсчитывает в уме, сколько слов она произносит в секунду. Я перевожу.
— Нет, я учусь другому, — улыбается он, слегка поворачивая голову то ко мне, то к Антонине. — Говорят, мой прадед был поэтом. Но у него не было миллионов.
— А сад?
— И сада тоже. Его купил мой отец.
— Все ясно, — разочарованно усмехается Тоня. — Поэта делают не миллионы, а отсутствие их. Ну а он-то чего ищет в Европах? Такой сад! Ему бы сказочником стать и написать что-нибудь вроде «Аленького цветочка». Для детей. Или про Шехерезаду. Здесь же каждый листик про чудеса нашептывает!
— Что говорит ханум? — наклоняется ко мне Азиз.
— Ханум хочет узнать площадь сада, — лукаво ухожу я от перевода Тониных рекомендаций.
— Четыреста пятьдесят гектаров.
— Как же вы справляетесь с таким хозяйством?
— У нас хороший управляющий. К урожаю нанимаем сезонников дополнительно к штату.
Он не позволяет себе сесть и стоит с чашкой немного в стороне от нас. Изящный, предупредительный. Ни на секунду не проглянет в нем его молодость, студенческое озорство. Неужели он такой же и там, в университетском кругу, вдали от будущих миллионов? О чем он сейчас думает? Торопит ли к концу ставший для него утомительным вечер? Вбирает в себя запахи, шорохи, тени родного сада?
Мы пьем чай малыми глотками, как люди, у которых уйма свободного времени. А на часах уже десять.
На какой-то миг замолкают все — и хозяева, и гости. Ни слова, ни резкого движения. Кажется, что вот-вот щелкнет затвор фотоаппарата — так замерли все, оробев перед колдовской силой ночи. А, может быть, и чай приурочен к этому подлунному часу именно потому, что хозяин хорошо знает очарование тех коротких минут, когда отступает вечер и каждый листок, каждая травинка отдаются сну?
Человек в длиннополой рубахе уносит наши чашки. Безликий и бесшумный, как тень. Медленно идем к выходу. Все так же журчит вода в арыках, скрытых за повлажневшими посадками. От берега, то тут, то там в глубину сада сворачивают узенькие тропинки. На одной из них слышны голоса. Антонина отводит ветки рукой и останавливается.
Десятка два мальчишек при свете фонарей собирают черешню. Им лет по девять-десять. Трое пытаются поднять полную корзину, покрикивают друг на друга, потом волоком подтягивают ее к краю делянки. На шорох листвы они оборачиваются, один выскакивает нам навстречу. Я вижу его огромные оробелые глаза, черные и влажные, как черешни, и в кровь поцарапанные руки.
— Чи?[6]
Молодой хозяин небрежным движением руки отсылает его на место. Притихшие мальчишки провожают нас любопытными взглядами.
Я подавленно молчу. Почему? Разве я не вижу ежедневно таких же мальчишек — официантов, боев, лотошников? Разве я открыла что-то новое?
— Вот сказка и кончилась, — вздыхает Тоня. — Это называется «После бала». — Она виновато жмется ко мне, но она же и выручает своей непосредственностью.
— Почему они работают ночью? Разве им утром не в школу?
Она спрашивает так настойчиво, что мне ничего не остается, как только перевести на немецкий. Азиз не удивлен, не растерян. Он спокойно объясняет, что школа этим детям не по карману.
— Тогда почему они работают ночью? Могли бы и днем?
— Чтобы утром вы купили на рынке мою черешню, а не ту, которая ночь протомилась в корзине. Взрослые, конечно, работают лучше. С детьми потерь больше.
— Почему же тогда не взрослые?
— А разве лучше, если дети умрут с голоду? Мы помогаем им, как можем — даем работу.
— Простите, нам это трудно понять, — я сжимаю Тонин локоток, и разговор прерывается.
Прощаемся. Сын, как и прежде, стоит чуть поодаль от отца. Они очень похожи. Матово-молочным светом облиты черные костюмы. На лицах — ни высокомерия, ни уверенности миллионеров — лишь благосклонная улыбка, за которой своя правда. Ни осудить безоглядно, ни безоглядно принять эту правду нельзя. Захеди-старший мерно кивает в такт прощальному монологу Ираклия гордой седой головой. И в этом покачивании обыкновенная усталость человека, который подводит черту ушедшему дню, и за его усталостью тоже своя правда.
Джип, небрежно фыркнув на мерседес, увозит нас прочь от сада. Успевший выспаться водитель мурлычет без слов что-то протяжное и бесконечное. Припав к пустыне, спит впереди забытый аллахом кишлак.
— Ребята, а четыреста пятьдесят гектаров — это много или мало? — смущенно спрашивает Тоня. — Я и представить не могу.
— Это, ханумки, один грузинский колхоз, — тут же отвечает Ираклий.
— Да-а…
Звезды насмешливо мигают серой равнине, серой дороге, серому джипу. Все это было и двадцать, и двести лет назад: унылый, под стать дороге напев, колючая пыль на губах, обманные огни вдалеке и тоска по цветущим и прохладным оазисам. А сад Захеди? Наверно, тоже был. Только ходил по нему другой хозяин, одевался по другой моде, приезжал на скакунах. Другие мальчишки собирали и продавали его черешню, радовались полученной работе. А что будет на этой земле через двадцать, через двести лет?
Где-то мчит домой мистера Захеди черный мерседес. О чем говорят отец и сын? Была ли хоть доля искренности в их благосклонности? Не есть ли учтивость господ Захеди лишь дружеская услуга другому господину — мистеру Аскуи? Ничего этого я не узнаю.
В бескрайности пустыни чудится безнадежное. Мужчины задремали, и водитель перестал напевать. Остались небо и покорно бегущая под фары дорога, возможно, бывшая караванная тропа.
Как жутко звездной ночью. Сам не свой, Стоишь, затерян в бездне мировой, А звезды в буйном головокруженье Несутся мимо, в вечность, по кривой…[7]А завтра снова день, и зной, и простые женские заботы, и пятьдесят минут в раскаленном автобусе до рынка и столько же назад. Как знать, может, не раз покупала я там черешню из сада Захеди. Не о ней ли, с сожалением выплюнув последнюю косточку, говорит мой сын:
— Мировая черешня!
Мировая — значит, выше всяких похвал. Удивительное значение приобрело слово!
Вот и завтра я куплю черешню — мировую. Она еще будет хранить влажную и недолгую прохладу этой ночи и тепло рук, собиравших ее…
Сверчок Рассказ
Ночь в тропиках наступает внезапно. Стоит солнцу скрыться за горизонтом, как небо заметно снижается, облака темнеют и цепляются друг за друга фиолетовыми краями. Ночь паранджой ложится на город, улицы сливаются с тьмой, и желтые глаза фонарей начинают загадочно мигать сквозь густую, уставшую от дневного зноя зелень.
Еще полчаса назад солнце только прощалось с моим окном, протягивая последний луч Александру Блоку, и поэт свысока следил за игрой теней на полу, и вот уже на стене остался лишь темный прямоугольник со светлым пятном посередине. Из всех углов пустого дома смотрит плотная тьма, на душе неуютно и одиноко, и я скорее включаю свет.
С городского минарета азанчи призывает мусульман к вечерней молитве. «Алла акбар»… Печально-пронзительный тенорок взмывает в темноте еще в беззвездное небо, как, наверно, и сто, и двести лет назад. Только сейчас он записан на пленку и многократно усилен знаменитой японской техникой. С этой мольбой, падающей на притихший городок, приходит непонятная тревога.
Здесь, в чужой стране, нам непонятно многое. И неторопливый, но шумный народ, и речь, и кроткое скольжение женщин под чадрой, и неистовое поклонение богу, и эта печаль, разлитая в сумерках вечерним азаном.
В доме тихо. Ни радио, ни телевизора. Гнетущее безмолвие. И тут подает голос сверчок. Звонкое веселое цирканье разносится по всему дому. Что ему азан, если он безбожник? Пришла ночь, пора обходить свои владения.
Сверчок беспечально убеждает меня:
— Все хорошо. Мир прекрасен. Я здесь. Дом обжит. Какое одиночество? Слышишь, как я пою? Пою, значит, все в порядке. Никаких землетрясений. Никаких наводнений. Тишина на тысячу верст. Разве не это главное? И я счастлив. И могу стрекотать. А вы молитесь богу. У меня дела и дефицит времени…
Сверчок живет у нас давно, месяцев девять, а может, жил в этом доме и до нас. Устроился он где-то за неподъемно-массивной мебелью на кухне, и увидеть его нам не удается. Я еще только поднимаюсь со стула, чтобы пойти на звук и попытаться взглянуть на скрипача-невидимку, а он уже чутко и испуганно замолкает.
— Ишь, богохульник, — посмеиваюсь я. — Не из храбрых ты, однако. А ухо у тебя замечательное…
Я затихаю. Сверчок дважды бросает короткое пробное «цирк», выжидает минуту-две и снова самозабвенно заливается.
«Цирк-цирк-цирк…»
Цирк да и только. Как он, такой маленький, может озвучить весь дом?
Прикрыв глаза, я вслушиваюсь в бесконечное стрекотание. Не знаю, в который раз я делаю это за год жизни в тропиках. Может, в десятый, может, в полусотый. Но каждый раз слышу одно и то же — вдохновенное, шальное, неумолчное стрекотание кузнечиков в июльском разнотравье родного Урала. Они, конечно, голосистее. Да и что удивительного? На просторе и поется вольнее. Очутись я сейчас на лугу, в росистых лиловых зарослях материнки, да разве я бы не запела?
Я плотнее закрываю глаза и ухожу в луга. Слышу шорох подмятого журавельника, чувствую под босой пяткой теплую шершавость давно не хоженной тропы. Скорбят шмели, отыскивая что-то свое совсем близко от меня. Над ними вьются прелестные бабочки-голубянки, но шмели — даже странно! — сердито ворчат на них и улетают следом за толстыми и басовитыми шмелихами. Томится, запутавшись в травостое, одинокая березка-подросток. А кузнечики стрекочут, стрекочут. И знакомо-знакомо, щемяще-щемяще пахнет чебрецом…
Я невольно делаю глубокий вдох и соскакиваю: в духовке доходит хлеб, который мы печем сами из рисовой муки. Не желая того, я стою, изучая запах горячего хлеба. Теплый, сытный, добрый запах хлеба. Но… не Русью пахнет, нет, не Русью…
Возвращается сын.
— Не догонишь, не догонишь, — кричит он в дворовую темноту. — Мам, а папа хвастался, что догонит, а сам на полдома отстал. — А где тетя Галя? Мы думали, ты не одна.
— А я и не одна. Со Свирькой.
— Все поет?
— А что еще ему делать?
— Говорят, на чужбине и собака мила, — усмехается папа, закрывая за собой тяжелую дверь. — Глядишь, мама внесет уточнение в народную мудрость.
— Как у него так получается? Он, что, коленками стучит?
— Ерунда какая! Ты смотри, в школе так не заяви. Засмеют.
— Почему?
— У сверчка одно крыло над другим. Одно крыло — скрипка, другое — смычок. Послушай сам, как он пилит.
Трель становится трескучей и почти непрерывной. Сверчок ошалело заливается, словно радуясь, что наконец нашел терпеливых и достойных слушателей и может показать все мастерство и весь репертуар.
— А по-моему их два, — неуверенно предполагаю я.
— Исключено.
— Почему?
— Ни один сверчок не пустит другого в свои владения. А если их два, то одному сегодня не сдобровать.
— Он его убьет, пап?
— Нет. Он ему откусит ус, и самозванец сам уберется. Такой у них, сверчков, неписаный закон: драться до потери усов. Потерял усы — потерпел поражение. Знай, сверчок, свой шесток, не лезь не в свои сени.
— На самом деле? — удивляюсь вместе с Андреем.
— На самом деле. Полевой сверчок злее — он съедает противника. Дикарь, он и есть дикарь, что с него взять. Домовой сверчок щадит. Иди, куда хочешь, кому ты безусый нужен. Попробуй вернуть былое уважение.
— Надо же, какая человечность, — иронизирую я. — Пощипал и отпустил. И враг наказан, и совесть чиста…
Что-то не нравится мне в моей собственной иронии. Что, не пойму.
— Пап, а для чего ему усы? Может, он без усов и сам умрет?
— Вот этого не знаю. Не биолог, инженер я. Но, думаю, без усов можно и прожить, хотя, пожалуй, и нелегко ему придется. Ведь для чего-то они ему даны все-таки… Но что один из битвы выходит безусым — совершенно точно. Попробуй утром отыскать, убедишься.
— Ты шутишь…
— Спорим на пельмени?
— Давай! — подхватывает сын, явно боясь, что отец передумает или мать остановит. — А если проиграешь?
— Придется мне месить тесто.
— А как мы его найдем?
— Во-первых, это не моя забота, а твоя. Во-вторых, об этом надо было думать до пари. Резонно?
— Резонно.
— Вот и посмотрим, любишь ли ты пельмени…
Утром Андрей вместе со мной берется за уборку. Впервые в жизни он охотно держит в руках швабру и вполне сносно работает: приседает над каждой соринкой, заглядывает под тяжелые портьеры, подолгу водит тряпкой под диваном и кроватями. Никакого сверчка, конечно, нет. Особую надежду он возлагает на кухню.
— Мам, давай за шкафы воды плеснем.
— Зачем?
— У Вовки мать все время так сверчков выживает — кипятком из чайника.
— Кипятком не выживают, а убивают.
— Мы же не горячей будем, а холодной, чтобы только испугать.
— Если холодной, попробуй.
— Мам, а ты за что сверчков любишь?
— Да просто всех за что-то надо любить, — устало отговариваюсь я, вспоминая вчерашнее видение: луг, кузнечиков, надломленный журавельник.
— И тараканов? И комаров? — возмущается сын.
— Ой, сдаюсь, сдаюсь, тараканов не люблю и любить не советую. Комаров тоже, особенно малярийных.
— А остальные, что ли, лучше?
— Конечно. Уральские, например. Они же ангелы по сравнению с тропическими.
— Все равно кровь сосут. Их всех лупить надо.
— А ты в лес хочешь?
— В лес? — переспрашивает Андрей.
— Да, в лес.
— Ну, хочу, а что?
— А в немой лес хочешь?
— Как это в немой лес?
— Без птиц.
— Разве лес без птиц бывает?
— Будет, если всех комаров убить. Птицы с голоду пропадут.
— Все?
— Не все, разумеется.
— Что им, кроме комаров есть некого?
— Почему некого? Есть муравьи.
— Нет, муравьев нельзя, они полезные.
— Но птицы этого не знают.
— Да-а…
Все щели на кухне залиты водой. По каменному полу растекаются лужи. Вода выносит из-под плиты и шкафов все, что угодно: пыль, крошки, мандариновые корки, обертки от конфет, — но только не сверчка. И корки, и обертки — проделки Андрея, и ему не очень приятно, что они обнаружились. Он заметно теряет интерес к уборке. Любопытство не утолено, пельмени ускользают. Не вымыт лишь коридор, а в нем все на виду: он пуст. Открыв дверь, я выставляю ведро на крылечко и в последний раз выжимаю тряпку. Остался угол, где стоят Андрейкины сандалеты, и именно из-под них вдруг выскакивает сверчок. От неожиданности я роняю тряпку и зову сына.
— Ты же его закопала под тряпку, — волнуется он.
— Я не хотела. Доставай скорей сам. Я его боюсь.
— Ты что, девчонка, что ли?
Стоя на коленях, он расправляет мокрую тряпку, ощупывая каждый сантиметр, и бесстрашно вытаскивает на свет маленькое невзрачное насекомое. Острые колени сверчка зажаты между двумя пальцами.
Удивительный народ — мальчишки, могут спокойно взять в руки любую тварь. Девчонки бы уже пищали на весь двор.
А что, собственно, значит, «любую тварь»? Тварь — творить — творение…
— Мам, а он, правда, без уса.
— Да ну?
— Смотри!
Я разглядываю сверчка, поворачивая руку сына то влево, то вправо: один ус у сверчка на месте, другой перекушен.
— Трус, сбежал, пожалел второй ус, — осуждает Андрей.
— Может, не он, а тот, другой, его пожалел? — спрашиваю я не то сына, не то себя.
— И куда его теперь?
— Не убивать же, если они друг друга пощадили.
— Пойду, выпущу…
Я стою с мокрой тряпкой на пороге, очень, наверно, смешная и растерянная, если глянуть со стороны.
— Ушел?
— Нет, сидит под кустом.
— Ничего. Пусть поразмыслит немного да мотает на оставшийся ус. Впредь будет умнее.
Придется браться за пельмени — проспорили.
А второй сверчок где-то забился в угол до вечера. Ни звука. Поди угадай, что у территории есть хозяин, что он начеку и готов оторвать ус любому за свои квадратные метры. Правда, убить другого он себе не позволит…
Сверчок и человечность. Вот что смутило меня в моей иронии. Два далеких друг от друга слова внезапно очутились рядом и приковали к себе необычностью соседства. А необычно ли оно? Не удивительно ли оно только для таких, как я, пожизненно прописанных в городских асфальтовых зонах? Коснулась ногой земли — не через бетон, а напрямую, — поразилась ее многоликости и вот унесу это как крохотный эпизод в этажи завтрашнего города.
А он молчит, мой маленький сосед по планете. Молчит, продолжая задавать вопрос за вопросом…
Маки Рассказ
У нее никого не было — ни мужа, ни детей. Стариков похоронила и жила одна в родительском доме, стареньком, но еще крепком. Своя жизнь не сложилась. Говорили, увела когда-то лучшая подруга парня, и она по-вдовьи наглухо повязалась платком. Ходила быстрая, ловкая, смотрела строго. Никто не слышал, как она смеется, никто не видел, как она плачет. В праздники не пела, не плясала, только тихо усмехалась, вспоминая что-то свое. В горе молча, без слез стояла рядом со всеми, лишь руки висели виновато и устало.
«Марфа каменная», — сказал однажды кто-то о ней и будто накрепко пришил суровой ниткой: «каменная».
Вышло так, что всю войну Марфа была при почте. Где пешком, где на попутной машине добиралась она до райцентра и привозила редкие, тревожные письма. Соседка, тетка Агафья, отдала ей велосипед, единственный в деревне:
— Только смотри, Марфа, вози письма чаще.
Но письма тетке Агафье давно шли от одного лишь младшего сына. На двух других Марфа привезла похоронки уже два года назад.
Раздав свою ношу, Марфа забегала домой перекусить и поставить велосипед и сразу шла на ферму.
Нет-нет да и проходила она мимо своих ворот, забывая про обед. Значит, еще одна смерть вошла в деревню, — и стар, и млад знали это.
Майский день струился синевой. Жирный чернозем соскальзывал с лопат и лениво рассыпался. Колхоз сажал картошку.
— Может, выкопать мужики приедут, а, бабоньки?
— Хоть бы уж поесть приехали, а выкопать и сами как-нибудь…
— Да-а… К кому-то, может, и приедут… — две снохи тетки Агафьи, две вдовы, почистили попеременно лопатой лопату и угрюмо замолчали. Вдруг одна испуганно прошептала:
— Марфа на колесах!
Велосипед вилял и прыгал по кочкам. Марфа что-то кричала, юбка черным крылом билась над педалями.
— Господи пронеси… — Тетка Агафья беспомощно сползла с черенка лопаты на землю. — Как увижу ее, так ноги отымаются…
— Да нет, с худой вестью она спотыкается, а тут гляньте… Как бы шею не сломала.
— Ее уже ветром несет. Дошла с этой работой — кожа да кости.
— Подумаешь, работа. Похоронки носить — не вдовой остаться.
— Ну помело, куда повело. Молчи уж…
— Что, неправда, что ли? Чужое горе не сушит.
— Утопи язык, Дуняша. Не полощи зря.
— Ей, может, горше нашего. И ждать некого, и провожать тоже. А и дома тошно. Пришла раз на ферму, а она сконурилась в соломе возле коров и спит. И домой не уходила.
— Да что она кричит-то? Может, нашелся чей?
Марфа доехала до поля, слетела с велосипеда и бросилась к женщинам.
— Ба-бы! Бабоньки! — она кричала, падала, сгибалась, хватаясь за бок, и снова кричала. — Ба-бы! Тетка Агаша!
Женщины кинулись навстречу.
— Да победа же! Бабы! — Марфа упала и на коленях охрипшим голосом продолжала шептать: — Победа же… Конец войне… Председатель зовет… Речь говорить будет…
Томительно залился ошалевший от света и сини жаворонок. Сладко пахло первой травой. На черном свежевыкопанном поле матово блестели черенки лопат, — они валялись врассыпную. Рядом с ними беззвучно плакала тетка Агафья, которая так и не смогла стронуться с места и догнать остальных…
Мальчишки играли в войну.
Стреляли мальчишки из деревянных автоматов по сеновалам, в которых не прятался враг.
Под звон ребячьих голосов входил в деревню первый мирный вечер. Тонкие дымки весело поднимались из труб, будто собрались вместе мужики и дружно закурили.
Марфа сидела на только что вымытом крыльце. У ее ног, ступенькой ниже, над пачкой сыновних писем сутулилась тетка Агафья.
— Ты как думаешь, Марфа, не плутает где и на Ваську похоронка? Может, и его уже нет?
— Приедет Васька твой, тетя Агаша, вот увидишь. И на свадьбе его попляшем с тобой.
— Да, ты уж попляшешь. Тебя ни кнутом, ни медом в круг не вытащишь.
Струйки воды, сбежавшие с крыльца, замысловато прочертили серую пыль. Марфа спокойно следила, как сохнут кривые черные линии.
— Вот вымою завтра велосипед, тетя Агаша, и поставь-ка его в чулан. Внукам сгодится.
— А ты?
— А на что он мне теперь? Да я… да я к этой почте теперь под конвоем не подойду. Я за нее четыре года держалась, чтоб первой сказать, что вот она кончилась, проклятая. Будто грех какой перед народом давил, что похоронки носила…
У калитки зашумели. Что-то звякнуло, потом упало. Разноголосый смех перекрыло громкое:
— Марфа, принимай гостей!
С чугунками, чашками, свертками вошли во двор женщины.
— Вот, судили да рядили, к кому пойти. К тебе решили…
— А как же? Кто добрую весть принес, к тому и надо…
— Стешка, вытирай ноги. Вишь, уже и намыть успела, не то что мы…
— У нее же не сидят семеро по лавкам.
— Давай, девоньки, ноги вытрем. Вон тряпка на плетне.
— Ну, бригадир, язвить тя… В чужом дому и то командует.
— А тебе не скажи, так ты лаптями полгрядки домой затащишь.
— Бабы, а сальца ни у кого не нашлось?
— У Аниски под мышкой, коли не растопила…
— Значит, еще не все зима съела, что лето припасло. Анисья, мужу осталось? А то назад завернем.
Марфа пропустила всех в сенцы, зашла сама.
— Проходите, что же вы… — но женщины стояли у порога, переглядывались.
— Может, ждала кого, Марфа? А то скажи…
В комнатке, простенькой, малоуютной, на грубом толстоногом столе неожиданно ярко пылала красными маками новая скатерть. Маков было много. Вышитые в каком-то неуловимом порядке, они, казалось, просто рассыпались по белому полотну. Темные, красные, снова потемнее, розовые…
— Да кого же мне ждать…
— И как мы теперь с горшками на такую красоту?
— Да я еще и не простирнула. Вон ободки от пяльцев, ровно нарисованы.
— Неужто, сама расшивала?
— Такую в музей надо. Говорят, туда все редкое собирают.
— Редкое? Чего ж тогда твою куфайку никто не увез? С гвоздя срывается, и таких заплат поискать — нигде не найдешь…
— Не смейся. Придет срок, под стекло спрячут, чтоб моль не съела.
— Это надо же в войну за пяльцами сидеть…
— То, Дуняша, не наше дело. Если б Марфа не работала… она и полола, и копала, и деревья валила не меньше нашего, А что она ночью делает, не твоя забота. Солнце для всех вечером садится.
— Только у Дуни ночь раньше начинается.
— Это почему же?
— А то как бы ты семь штук наплодила?
— А у самой-то на одного только меньше.
— Так я ж, Дуняша, близнецами. Оно и легше…
— Полно ржать вам.
— Ой, мать-бригадирша, не начальствуй хоть сегодня!
— А угол не дошит вроде. Глянь, тут скупее. Ниток, может, не хватило.
— Да так тоже хорошо. Тетя Агафья, иди сюда на лавку, друг об дружку костями поклацаем.
— Да нет. Пойду я к невесткам.
— Не гоже, тетя Агаша. Вместе горевали, вместе поревем. Веди своих. И горько, и сладко сегодня всем одинаково. Никого не обошла, сама знаешь.
— Правду бригадирша говорит. Иди, веди своих молодых.
Примолкнув, проводили Марфину соседку. Она прошла мимо окон, прижимая к груди платок с солдатскими треугольниками.
— Ну, люди, с победой…
— Вот приедет, Марфа, мой Иван, велю ему срубить тебе новый стол под эту скатерку. И чтоб ножки тонкие, как у девчонки, и коленки точеные.
— Вели, Стеша, вели. Он срубит и останется за тем столом. Скажет, чего это я воевал, воевал да буду жить с такой худой да седой.
— Типун тебе на язык, Дуняша. Что я, не через него, что ли, поседела?
— Не пугайся, Стеша, у меня он не останется, — Марфа грустно улыбнулась, закинула обе руки за голову, не спеша развязала на затылке узелок платка и потянула его за один конец вниз.
— Батюшки! — застонала, не выдержав, Стеша.
Марфа была совсем седая — белее ровесниц, которым принесла похоронки.
— Да как же это…
— Да так уж… и камень седеет… — Она снова неторопливо повязалась платком. — Скатертью вот попрекнули. А скатерть-то… Сколько похоронок было, столько и цветов на ней. Привезу похоронку, а ночью хоть топись. Сон не идет. Встану да сяду к окну. Где при свете, где при свечке… И за окном тьма, и нитки путаются, а все одно легче. Сперва углы расшивала, а потом вон какой огород вырос…
Затихли ребячьи голоса. Где-то пели. У дома напротив собрались старики. С кисетом в руках вышел дед Антип, с апреля не встававший с постели. Он был в новой сатиновой рубахе, расшитой по вороту и рукавам. За войну дед высох, рубаха стала велика и спадала из-под кушака широкими складками, как женская юбка.
— Ой, Марфа, Марфа, не держится роса на твоих маках…
— Сосчитать, что ли…
— Не трудись, Стеша, не ошиблась. — Марфа опустилась у стола, скомкала уголок скатерти и тяжело уронила голову. — Нет ошибки, Стеша. Наверно, легче самой один раз в гроб лечь, чем пятьдесят шесть раз хоронить с вами. Я не знала тяжелее работы.
— На сотню-то дворов…
Садилось солнце. Последние лучи медленно сходили с шершавого, часто скобленного подоконника. На белом полотне пылали красные маки.
Ларь Рассказ
Когда я слышу слово «ларь», я ставлю рядом слово «голод».
После войны мы около шести лет жили в бараке, в шумном рабочем поселке, который приютился рядом с крановым заводом. У нас были две просторные комнаты, не столько просторные, как я теперь понимаю, сколько пустые. В них стояли три койки с пыльными перинами, доставшимися от бабушки, толстоногий стол, пять табуреток и одежный шкаф с замысловатым резным кокошником. Все, кроме, разумеется, коек, сколотил наш отец, работавший плотником на стройке. Доски он строгал возле стайки, где мы держали сначала козу, а потом корову, собирал же — подгонял, зачищал шкуркой, травил марганцовкой, покрывал лаком — уже дома, и не только комнаты, но и весь барачный коридор надолго пропитывался запахом красок.
А еще у нас стоял ларь, около двух метров в длину. Он занимал одну стену целиком и служил кому-то из нас кроватью. Ларь был выше табуреток, и мы на нем сидели, удобно свесив ноги или болтая ими под столом, что всегда сердило и выводило мать из себя. Одноклассники — мои и брата — иногда спрашивали, что у нас там. Мы гордо и таинственно, должно быть, повторяя отца, отвечали:
— Энзэ.
В ларе хранилась пшеница. Где, когда и как раздобыл ее отец, никто из нас не помнил. Скорее всего, кто-то расплатился зерном за работу. Зато прочно осело в памяти, что нам не полагалось проявлять интерес к энзэ: там, утопив глубоко в зерне, мать приберегала к праздникам кулечки с леденцами, дешевой карамелью или с орехами, которые присылала изредка из деревни наша бабушка.
Каждую весну — по веснам было особенно голодно — соседка тетя Шура говорила матери:
— Да свезите вы зерно на мельзавод, накормите детей досыта. И меня на блины хоть раз позовете. Что вы гноите его?
Мать испуганно шарахалась от беспечной советчицы. Пролившая в войну немало слез над нами, голодными, она и слышать не могла о мельнице без смятения.
Хлеб в магазинах шел по карточкам. Мы, слава богу, ни разу их не потеряли и не проворонили расторопным карманным воришкам, что частенько случалось в послевоенных очередях с другими. Но хлеба нам всегда было мало. И потом еще, когда отменили карточки, мы не раз сидели впроголодь: то хлеба привозили меньше, то некогда было стоять в очереди, которую занимали с пяти-шести часов утра. Впрок купить не удавалось — продолжала существовать норма: две булки на руки. Белый хлеб семья отдавала отцу. Он с войны вернулся с разрушенным здоровьем и подолгу лежал в больнице. Но и тогда ни мать, ни отец даже глазом не повели в сторону энзэ. Ларь оставался неприкосновенным.
Проходили не месяцы — годы. Соседка уже не советовала, а откровенно посмеивалась:
— Скоро, Григорьич, новую квартиру получишь. Ты в передовиках, тебе раньше всех дадут. Так мужики говорят.
— То, что говорят, Шура, проверять надо, — уходил от ответа отец. — Говорим мы много, да не все по-говореному выходит.
— Будет заливать-то. Все знают, что ты в списке первым остался. Куда ларь денешь? Неужто с собой повезешь? Подари нам на память. Война уж когда кончилась, а вы все с ним мыкаетесь.
— Хорошая ты баба, Шура, — отец неспешно клал ногу на ногу, обхватывал колени руками и, раскачиваясь на табурете, обдумывал, как бы помягче сказать то, что вертелось на языке. Потом с деликатнейшей улыбкой произносил: — Да уж больно ты думать не любишь. Война, конечно, кончилась. И не скоро будет. Не заштопались еще. У всех дырки, не только у русских. А вот неурожай или что другое может случиться. А запасов-то в стране нету. Нет запасов, Шура, все съели. Куда я тогда с оравой? Четверо их у меня. Ты же не отдашь свой кусок — свои есть просят. Вот и выходит, коротко ты думаешь.
Квартиру мы получили в новой части города. В холодный февральский полдень наш толстенный шкаф с резным кокошником важно проехал на грузовике по людным улицам. Мы прятались за ним от пронзительного ветра, счастливые от ожидания, под завистливые взгляды, которыми провожали нас бывшие — теперь уже бывшие — соседи. Под боком стояли мешки с пшеницей: ларь ехал разобранным на доски.
Вещи сгрузили прямо в снег у подъезда, машину отпустили. Пока два крепких парня из отцовской бригады носили нашу нехитрую мебель на третий этаж, я стояла внизу и подавала малышам мелкие вещи. Какие-то любопытные старухи пристроились рядом и беззастенчиво разглядывали наш скарб. Одна даже ткнула пухлым пальцем в мешок и, как мне показалось, не без осуждения ворчнула:
— Справный, видать, мужик, даром что четверо детей. Четверо, что ли, вас?
— Четверо, — нехотя ответила я.
— Зажиточный, видать, — вздохнула она еще раз, снова ткнула в мешок, теперь уже носком подшитого валенка, и, так и не угадав, что же там, в мешке, ушла в другой подъезд.
Место ларю с зерном мать с отцом определили на кухне. Он занял всю стену от двери до окна. Дверь стала мешать, ее попросту сняли с петель и унесли в подвал. Мать покрасила ларь темно-зеленой масляной краской, накрыла старым стеганым одеялом, бросила на него небольшую расшитую подушку и зимой спала на кухне: квартира оказалась угловой, холодной, и единственным теплым местом в морозы была кухня.
С годами мы привыкли к ларю, как к стенам, порогу, окнам в квартире. Он прочно стоял на своем месте, и его не двигали даже тогда, когда обновляли побелку. Очереди в магазинах давно схлынули, мать по праздникам баловала нас блинами и пирогами, а ларь все стоял: то ли родителям с ним было спокойнее, то ли не знали, как поступить с зерном, то ли просто руки не доходили. Мы о том не спрашивали, у нас, детей, казалось, и права голоса не было, когда речь заходила об энзэ. Только я однажды, ударившись в очередной раз при уборке об угол, жестко бросила:
— Мы когда-нибудь избавимся от этого ящика? Тоже мне еще памятник войне…
Мать недобро глянула на меня:
— Это же хлеб… Что ж его — выбрасывать? С ним по-людски надо.
— По-людски его давно полагалось съесть.
Мать рассердилась и много-много дней не разговаривала со мной. Только позднее я поняла, что обидел ее не мой дерзкий тон, а то, что я назвала правду, которая, видимо, не раз уже обжигала и ее, и отца. Позднее же, вспоминая брошенный матери укор, я часто думала, какого же горя и голода она хлебнула с нами в войну, если столько лет жила, не веря в завтрашний хлебный стол.
Воскресным вечером всей семьей мы возвращались с садового участка, который выделили отцу и где мы обычно копались все лето. Усталые, грязные, поднялись на свой этаж, всерьез споря о том, кто первым полезет в ванну. Открыли дверь, перешагнули порог и попали в лужу. По всему полу растекалась вода. Ничего не понимая, кинулись к кранам.
Но затопило нас сверху. С кухонного потолка капало, как в бане. Пахло мокрой пылью и отсыревшей известью. Намокшее одеяло тяжело свисало с ларя, подушка стала совсем плоской.
Отец помчался бить тревогу. Я тоскливо думала о предстоящем ремонте. А квартира была побелена по старой маминой традиции к пасхе, всего месяц назад.
Мать между тем стянула на пол одеяло и подушку, откинула крышку ларя и утопила обе пятерни в зерне. Потянуло затхлым. Из возникших воронок шел легкий парок. Не вынимая рук из пшеницы, мать обессиленно опустилась на мокрый пол и заплакала. Мы стояли над ней и вчетвером твердили, что все к лучшему, что отец, оказывается, уже обещал зерно кому-то, что его можно, наконец, высушить и на балконе. Чем больше мы утешали, тем мельче подрагивали ее плечи. Мать плакала горько и скорбно, как над покойником, положив голову на зеленый борт ларя. Коса ее сползла с затылка и висела над зерном, и кончик кисточкой выглядывал из-под запястья. Коса у мамы была темной-темной, а на висках уже просвечивала седина, и на нее с потолка продолжали глухо падать крупные капли воды.
Пшеницу мы высушили и продали за бесценок знакомым, жившим в индивидуальном доме. Хозяин подогнал к подъезду старенькую «Победу», погрузил зерно и попросил меня поехать с ним и придерживать мешки на сиденье.
Хозяйка суетилась на подворье. Из первого же мешка она черпанула ржавой тарелкой и высыпала зерно посреди двора. Десятка три кур тут же слетелись на праздник, словно дети к новогоднему мешку Деда Мороза. Петух горделиво расхаживал по кругу, похлопывал крыльями, говорливый и довольный, будто это он принес нежданный подарок и созвал всех на застолье.
Я сначала весело поглядывала на куриный пир и улыбалась. Но чем дольше я смотрела на счастливую птичью возню, тем смурнее становилось на душе, тем понятнее были недавние слезы матери. Конечно, не о самом зерне она плакала, а о том, что связывало с ним всю семью: о праздниках, не подаренных нам, о боли в сердце, когда соседка заводила разговор о мельнице, о черном послевоенном хлебе, замазкой липнущем к ножу, о белых крошках, которые мы сметали себе в рот со стола, когда отец, поев, выходил из кухни, об отце, который давился белым хлебом, когда мы ели черный, о себе, своей бестолковой бережливости, которой не было прощения.
Я сидела на крыльце и чувствовала, что тоже вот-вот заплачу, что какая-то из кур под моим взглядом вот-вот поперхнется и подавится лишним зернышком.
Когда я с деньгами и сумкой свежих яиц впридачу вернулась домой, ларь уже был разобран и вынесен в подвал. Сестра домывала освободившийся угол. Пол и стены там были другого цвета. Мать грустно и отстраненно смотрела на пустое пространство, и кухня обрастала ее молчанием, как горьковатым дымом.
А на столе, надежно, бок о бок, стояли две свежие булки хлеба, только что принесенные из магазина.
Под стук колес Рассказ
Ветер так сильно хлопнул за Сергеем дверью, что он оглянулся: ветер ли это.
А в приемной родильного дома было светло, тесно и жарко. Он пристроился к очереди, поставил сумку на подоконник, снял шапку, расстегнул пальто. Сергей уже знал: ждать не меньше часа.
Приемщица Зиночка привычно и ласково ворчала на всех, пропевая гласные:
— Ну куда, спрашивается, столько принесли? У нас на палату один холодильник, а вам персональный надо. Сливки возьму, а молоко завтра принесете. И чтобы свежее, а не это.
— Завтра же праздник, — удивлялся голос у стойки.
— Ничего, один праздник без выпивки обойдетесь, — громко выговаривала Зиночка и доверительной улыбкой приглашала очередь поддержать ее. Человек у стойки растерянно оправдывался:
— Да я что? Я с удовольствием, если вы работаете по праздникам.
— Мы бы рады не работать, да вот жены ваши рожают без всяких графиков.
Зиночкины руки весело укладывали в пластмассовую корзину пакеты и бутылки, а очередь добродушно посмеивалась: очень ей нравилась эта проворная девчонка в белом халате, надетом на полуголое тело. Наверно, с нее, голубоглазой, смешливой, и начиналось всеобщее благодушие в приемной. Люди запросто вступали в разговор, как соседи, которые случайно встретились на лестничной площадке и вот могут между шуткой и делом узнать друг у друга о здоровье, житье-бытье, дать небольшие советы, поделиться опытом и расстаться до следующей встречи. Они говорили о детском питании, кроватках, колясках, отсутствии сосок в аптеке и с особым интересом — о весе новорожденных, и моде на имена, часто удивляясь тому, что существует и такая мода. Всех этих людей объединяла одна радость, и все они были как-то причастны к тому, что за белой стеной, куда им нет дороги, начиналась новая человеческая жизнь. Иногда там, внутри здания, открывалась какая-то заветная дверь, и доносился такой настойчивый хоровой плач, что все переглядывались и улыбались до ушей. Никакой другой плач на свете не способен вызвать столь безудержно-радостных улыбок. И трудно было представить в квадрате окна кого-то, кроме Зиночки, юной и чистой, с ее снисходительным пониманием всех и каждого, что забавно противоречило ее девчоночьему возрасту.
— У вас что? Так, это можно. Апельсины съешьте сами. Шоколад тоже. Записку, пожалуйста. Следующий.
— Нет, подождите. Как это: съешьте сами? Она любит это. Почему нельзя ни шоколад, ни:..
— Она, папочка, теперь любит не шоколад, а вашего сына. Или у вас дочка? Тоже хорошо. Вон там, на доске, есть советы молодым папашам. Прочтите на досуге. Кто дальше? У вас что? Мед? Хоть один догадался. Яблоки тоже прекрасно. И морковь пойдет, это лучше шоколада.
Столь высокая оценка обыкновенной моркови смутила папашу, почти мальчика, которому вернули апельсины и шоколад. Старушка в большой вязаной шапочке, чистенькая, как новый школьный учебник, принялась ему рассказывать об аллергии у детей. Паренек с обиженным видом выслушал ее и, пожав плечами, сел на стул у противоположной стены, даже не обратив внимания на то, что все стоят, когда стулья пустуют.
За Сергеем в очередь встала женщина, которую он уже видел вчера и с ходу окрестил «тещей». Она еще с порога громко заговорила то ли с ним, то ли с собой, то ли со всеми сразу:
— Ну погодка! Погодка так погодка! Ветер сшибает, ну прямо как выпимший мужик. А-а, здорово! Опять мы с тобой рядом? Глядишь, так и породнимся. У тебя кто?
— Сын.
— О! А у меня внучка! — обрадованно распахнула теща ладони.
Папаша, неосмотрительно севший у стены, потрогал пальцами трубы отопления и встал:
— Ну и топят!
— А как же! Мальцы же там, — построжала теща. Она расслабила на шее пуховую шаль и, тяжело дыша, распахнула пальто. Из-под него выглянул пестрый ситцевый передник, доходящий почти до колен. Молчать теще было скучно, и она снова не то Сергею, не то себе пожаловалась:
— Плохо рожать зимой. Летом другое дело — шумнешь в окно, и все. И что вы, мужики, под лето не подгадали? Не парились бы здесь по целому часу. Я-то их не боюсь — батареев этих. Пускай греют. Меня холод не прошибет и жара не вытопит. А вытопит — тоже слава богу. Приду к врачихе своей, вот, скажу, в роддоме вес сбросила. А то она все меня против хлеба настраивает, — довольная женщина брызнула суетливым и дурашливым смехом, и все заулыбались. Теща опустила большое тело сразу на два стула. Они заскрипели, а с ними и соседние, сколоченные в ряд, как в кинотеатрах. — Сумку-то убрать подальше от тепла, а то там яйца. Как бы не нагреть снохе цыплят.
— Из вареных не вылупятся, — скупо возразил мужчина из очереди.
— Она у меня сырые пьет. Вот куры нынче насе́дали, я и принесла свежие.
— Поет, что ли, сноха?
— А чего ж не петь, коли выпьет? Поет. Я и сама попеть люблю. О, кормилица пришла!
В квадрате оконца появилась Зиночка. Она смешно косила, словно хотела поймать краешком глаза русые завитушки на висках. Концы накрахмаленной косынки сухо шелестели, как бумажные салфетки.
— Костин.
— Я Костин.
— Мацвай. Силантьев. Кто Силантьев? Вы? Вас примет главврач. Не уходите, я позову. Так, следующий.
Снова зашуршали пакеты, снова незло и негромко ворчала Зиночка, подтрунивая над молодыми папашами, готовыми принести в роддом все, что, на их взгляд было вкусно или что любили их жены.
Силантьев держал в руке листок, вырванный из школьной тетради, и читал мучительно долго, как человек, не сильный в грамоте. Остальные пробегали глазами записки и тут же уходили в метель, одни — посмеиваясь, другие — хмурясь, но все — продолжая немой разговор с теми, кого оставляли за стенами родильного дома.
Прием передач шел к концу, народ убывал, становилось просторно и даже тихо, если, конечно, молчала теща.
Свернул листок и Силантьев, вытер пот со лба и принялся понуро ходить возле двери — три шага туда и три — обратно. Ему было неспокойно.
— Не заладилось у человека, — сочувственно произнес старичок в железнодорожной форме.
— Да, похоже, — покачал головой Сергей.
Шумно отворилась дверь, и в приемную ввалился толстячок в овчинном полушубке нараспашку. Концом синего шарфа он вытер лицо, залепленное снегом. Тер его кругами, как женщины моют окна, и неверная рука его соскакивала вниз. Теща не удержалась, подала голос:
— Вот это радуется! Третий раз вижу, и все надрызганный!
Сказала она без зла и осуждения, но новичок огрызнулся:
— Заткнись, слониха, до всех тебе есть дело…
На него неодобрительно шумнули. Сергей смотрел на треугольную плешь, прикрытую мягкими и редкими волосами, и пытался вспомнить, где он встречался с этим человеком, квадратным, как холодильник. И только когда они оказались совсем рядом — глаза в глаза, — Сергей понял: перед ним стоял Фаня, Фанус Агзамов, с которым он служил в одной части. Фаня и тогда был маленьким, а сейчас, раздобревший, казался еще меньше ростом.
— Спички есть?
— Здесь не курят, выйди в тамбур, — сказал Сергей, протягивая коробок.
Фаня ухмыльнулся, но промолчал. Держа одной рукой спички, другой он долго и неуклюже шарил в карманах.
— Черт, где я их посеял, — качнулся и задел было плечом старушку в вязаной шапочке, но Сергей вовремя удержал его за плечо.
— Ну-ну, служба, чего рассыпался, — укорил он его по-приятельски, посмеиваясь оттого, что его не узнают. — Держи цель, рядовой Агзамов.
Фаня удивленно посмотрел снизу вверх на Сергея и пьяно обрадовался:
— Мохначев! Мохнач! Здорово! — он тряс ему руку, хлопал по спине и, поминутно чертыхаясь, твердил: — Ну даешь! Это надо отметить! Надо же, как все хорошо. Я к тебе сегодня, не поеду в совхоз! Что там завтра делать, все равно праздник. Ну мы отметим! Армейская дружба везде выручает.
Теща и тут откликнулась:
— Очень близкое родство — на одном солнце портянки сушили.
— Цыц, буренка, — нехотя повел в ее сторону отяжелевшим взглядом Фаня.
— Не трогай бабку, она же так, шутя, — утихомиривал его Сергей. — Давай поговорим. Где ты, в каком совхозе?
— Как где? У себя в Башкирии. Зоотехник. Главный, между прочим. Хочешь барашка — приезжай. Слушай, а ты чего здесь?
Сергей расхохотался.
— А ты сам чего? Здесь все по одному делу.
— А, ну да… Сын?
— Сын. Дочке у меня уже восемь. Задержались мы с сыном. Тебя с кем?
— А, сука, опять девку принесла, — Фаня пьяно скрипнул зубами. — Третья девка, понимаешь? Ни хрена ты не понимаешь. Ты не башкирин. А я башкирин. Сын мне нужен. Без сына я ноль, я не башкирин. Засмеют.
— Ничего. В следующий раз постараешься. Дочки тоже хорошо. Вот у…
Фаня не дал договорить.
— Нужны они мне, как собаке седло. Я ей, суке, сразу сказал: родишь девку — жить с тобой не буду, и в роддом не приду, и передачи носить не буду.
— Пришел же.
— Мать в ноги: съезди, не позорь меня, узнай, когда выпишут, сама поеду за ней, только узнай…
— Вот подонок, — вырвалось у старика-железнодорожника. Сергей поежился, словно брань относилась к нему. Он видел — люди ждали, что именно Сергей усмирит Агзамова, и поэтому молчали.
— Башкиры любят, когда у них много детей, — старался перевести разговор на шутку Сергей. — Следующий будет сын. Хочешь на спор?
— Нельзя ли потише? — возмутилась в окне Зиночка. — Что за шум, кто там разбушевался?
— Да нашелся один. Третья дочка родилась, грозится жену из дому выгнать.
— Это не из деревни, случайно? Там одна башкирочка уже неделю плачет. Даже молоко пропало. Женщины с ней передачами делятся. Этот, что ли? — Зина презрительно сдула завиток со щеки, подхватила корзину и, уходя, через плечо кинула: — Да я б от него сама с тремя детьми сбежала. Еще и алименты бы платила, чтоб не видеть его физиономию… — Стоптанные тапки сердито зашлепали по ступенькам вверх. В приемной вспыхнул одобрительный смех.
— Молодец, дочка, — крикнул ей вслед старик-железнодорожник, поглаживая седые усы.
Фаня выругался.
— Не матькайся, — сурово надвинулась на него теща. — Сколько сто́ишь, столько получил.
— Да топтал я таких… — Фаня снова захлебнулся ругательством. Его высмеяла зеленая девчонка! Высмеяла и ушла за белую перегородку — шлеп-шлеп! Фаня размахивал руками и выплескивал злость, с пьяным азартом подбирая слова. И чем больше им возмущались, тем яростнее он ругался.
— Ну ладно, Фаня. Что ты в самом деле раскипятился? — Сергей придерживал Агзамова за плечо. В тепле Фаню разморило, и он все норовил выпростать руки из полушубка. Сергей раздумывал, а не затащить ли его и вправду к себе. Но дома Дашутка, за ней свояченица присматривает, может заглянуть вечерком и увидеть гостя. Вроде такая ситуация ни к чему. А зацепиться бы за Фаню неплохо, все-таки при барашках человек, зоотехник. Не стоило бы упускать такой случай, хотя гость еще тот. Даже здесь перед людьми неловко, что знакомцем оказался. Уж сидел бы в совхозе, коль нализался. Что толку жене от его приезда? Лишние слезы.
Сергей поправил на Фане яркий пушистый шарф:
— Кончай. Пойдем ко мне, чайку тяпнем. Проспишься — все станет на свои места. Жену выпишут, дома разберетесь.
— В гробу я ее видал вместе с выводком… В белых тапочках…
И тут Силантьев, молча вертевший смятую записку, в два шага подбросил свое тело к Фане, схватил за ворот и, прежде чем тот опомнился, вышвырнул его в метельную тьму. Приоткрыл дверь и выбросил шапку, слетевшую с Фани на пороге.
— Давно бы так, — выдохнула теща, будто поставила печать на заранее заготовленной бумаге.
Сергей смущенно потоптался на месте, не зная, выйти ли ему за Фаней или стоять, словно ничего не случилось: подумаешь — служили вместе, не может человек отвечать за каждого своего знакомого. Да и Фаня сейчас вернется, и все пойдет чередом.
Но за дверью стояла тишина.
Скоро Зиночка спустилась с корзиной, полной пустых бутылок из-под кефира и молока, раздала записки.
Ольга писала, что все пока идет хорошо, в понедельник ее обещают выписать, что надо бы при выписке вручить сестричкам коробку конфет. На полстраницы шли подробные распоряжения по дому и Дашутке, написанные не наспех, а, видимо, с утра, без спешки, ровным, решительным почерком.
Сергей вышел. Лицо сразу захлестнуло снегом. У ног вьюном заходили снежные круги. Качались деревья, качалась полувыломанная доска в заборе, и даже желтые полоски света, падающие из окон, казалось, качаются и вот-вот оторвутся от стен и унесутся прочь.
Сергей несколько раз оглянулся и, не увидев Фани, успокоился: не надо пугать дочку пьяным гостем и не надо ничего выдумывать, чтобы не вести его к себе. Сейчас они с Дашуткой нажарят картошки, постирают ее колготки и лягут пораньше спать, если она не привела подружек. Ну а если привела… Тогда в доме все вверх дном и придется воевать, чтобы она сама прибрала игрушки. С мамой Дашка капризничает меньше. Ольга попросту берет совок и веник, сметает ее разбросанные вещи и несет в мусорное ведро. Сергей помнит, как они — Ольга и Дашутка — весной вместе выбрасывали мусор. Ольга высыпала из ведра, держа его высоко над люком машины, а Дашка смотрела, как ее любимые ложки-плошки-кастрюльки летят в люк вместе с туалетной бумагой и консервными банками. Дочь пришла зареванная, и Сергей крепко поссорился с женой. Он упрекал ее в жестокости, а она его — во вредности. «Ты приносишь ей вред», — заявила она. Ольга, пожалуй, крутовата, не к лицу это женщине. Но с этим ничего не поделаешь.
Так, а что же к картошке сегодня? Зайти в магазин, купить селедки? На ночь пить придется много. Снова колбасу поджарить? На утро ничего не останется. Как Ольга умудряется иметь все под рукой? Жаль, мясо кончилось. В воскресенье он съездит на рынок. Если метель уляжется, возьмет с собой Дашутку. Купят они хорошего мяса, попросят свояченицу намесить теста, налепят пельменей к Олиной выписке. А может, баранинки купить? Ольге бульон не помешает. М-м! Шурпу бы сейчас со свежей хлебной горбушкой, лучком, Перцем!
А Фаня, значит, при баранинке, всегда с шурпой. Зря не догнал его Сергей. Неловко было, видишь ли, прилюдно буяну внимание оказывать. Как будто мясо на рынке втридорога покупать лучше. Может, Фаня и не вернулся, потому что ждал его, Сергея. Как-никак служили вместе.
Рука у этого Силантьева — будь здоров! Фаня мячиком за дверь вылетел. Поди, забыл, зачем в город приезжал. Интересно, к кому Силантьев в роддом ходит? Такой весь безвозрастный, не поймешь, то ли дедом стал, то ли еще сам в папашах. Наверно, сам. Чего бы деда к главврачу вызывать? Поздно женился, запланировал ребенка, а не тут-то было. Потому и возмутился, что Фане везет. Он бы на кого угодно согласился. Вот в сердцах и вышиб Фаню. Иначе бы все обошлось. Железнодорожник хлипкий, не стал бы связываться. А, еще теща! Эта могла съездить и крепче Силантьева. Не баба, а самосвал. Не повезло. Если Ольгу выпишут в понедельник, то в запасе у Сергея два дня, и они еще могут встретиться там же в приемной. Все равно приедет Фаня за женой — куда он денется. А вообще… черт его знает. Он и в армии подличал частенько. Это ему было раз плюнуть. Майор на что терпеливым считался, а и тот однажды скрипнул зубами: «Вот родила мама — не выдержит и яма».
Далеко в метели засветились огни трамвая. Сергей ускорил шаг, на пустой остановке заскочил в пустой вагон и почти упал в кресло: трамвай рванулся вперед, тоже, видно, убегая от метели. В авоське зазвякала посуда.
В свой ли номер он сел? Все табло замело — ничего не разобрать. Ну да ладно, в крайнем случае пересядет на перекрестке. Не коченеть же на ветру в ожидании.
Сергей стряхнул снег с воротника, шапки и шарфа. Вспомнил, какой богатый шарф у Фани. Снова пожалел: зря не догнал. Даже не узнал, в каком совхозе бывший рядовой Агзамов баранами командует. Сергею ведь с ним не детей крестить — пусть себе пьет и матькается. Зато было бы куда летом на шашлыки ездить. С тем, кто пьет, договориться легче. Вон бригадир у Сергея — ни грамма в рот не берет, а держится ближе к пьющим. У него свое правило: тише едешь — целый будешь. Он и цел, и сыт, и на рынок не бегает за мясом.
Но ругался Фаня, конечно, выразительно. Всякого Сергей в гараже наслушался, — народ там умелый на слово, — а все равно не так грязно. Если бы только свою жену, а то ведь всех обложил, кто там был. Даже мальцов, у которых еще имени нет. Правильно его пенсионер с железной дороги подонком назвал. Назвал и отвернулся от Сергея, как будто подонок он, а не Фаня. Вдруг и на самом деле старик обругал не Фаню? Постой, постой… Силантьев после этого не взглянул на Сергея ни разу. Ну, он из угрюмых — ни на кого не смотрел. Но ведь и от тещи Сергей больше ни слова не услышал?!
Под перестук колес потянуло было в дрему, а тут сон как рукой сняло. Сергей подышал на стекло и нетерпеливо протер глазок: не проехать бы перекресток.
Та-ак!.. Значит, они посадили его с Фаней в одни сани. А за что? Неужели обязательно надо было именно ему вышвырнуть в снег человека, с которым спал два года, в одной казарме и не виделся почти десять лет? Не будь Силантьева, тогда… Тогда бы Фаня за «подонка» из старика душу вытряс.
А если бы Сергей не был с Фаней знаком? Выкинул бы он его за порог приемной?..
Березовые сережки Рассказ
За окном покорно плачут березы. Уже неделю.
— Вот зарядил, льет и льет, — сердится Аришка. — А что, если весь отпуск так пройдет?
Мы понимаем ее. Аришке всего девятнадцать, это ее первый трудовой отпуск, а дождик накрепко привязал девчонку к четырем стенам. Ей бы лежать сейчас на знойном пляже в мини-купальнике и темных очках-колесиках, входить в соленую пену и обнимать море тонкими, взлетающими над волной руками. Аришка такая юная и солнечная, что мы все тихо светлеем, когда она в комнате. И не только потому, что она почти вдвое моложе нас. Как-то мы спросили ее о матери. «Моя мама — государство. Папа тоже», — веселой скороговоркой ответила она и долго-долго не поворачивалась к нам лицом.
Нас на даче четверо. Мы по приезде независимо друг от друга отказались от номеров в новом многоэтажном корпусе — в городе надоели — и попросили поселить в одном из старых деревянных домов, которые уже не пользовались успехом, но продолжали исправно служить дому отдыха.
Зине, мне и Ирине Игнатьевне за тридцать. У нас похожие заботы, похожие болезни, как у всех тридцатилетних женщин. Так во всяком случае утверждает наша Ирина Игнатьевна. На свой отпуск мы смотрим приблизительно одинаково: для нас это прежде всего месяц без стирки, кухни и авосек. А Ирина Игнатьевна в первый же вечер сказала:
— А мне, девочки, главное — отоспаться. После отпуска сажусь за диссертацию…
Нам, помню, стало неуютно от ученого слова, мы сразу почувствовали себя простоватыми. Впрочем, так оно и было. Умная и красивая Ирина Игнатьевна не вжилась в нашу дачную четверку, а жила как бы над нами. Мы называли ее по имени-отчеству и на «вы», но в разговоре частенько сбивались на «ты».
Так вот об Аришкином отпуске. Ей в отличие от нас ни минуты не сиделось на месте. Она лазила по горам, играла с мальчишками в футбол, купалась в озере, когда на это не отваживались даже мужчины, любила слушать, как шумит лес в грозу, и с первыми ударами грома убегала из дачи. Приходила продрогшая, мокрая и сияющая, словно без удержу плакала от неведомой нам радости. Тогда Зина мчалась за горячим чаем в столовую, Ирина Игнатьевна смешно и научно ругалась, а мы с уважением слушали ее.
А теперь дороги совсем размокли. Аришка покашливает, и наша Ирина не выпускает ее из номера. Часами стоит Аришка у окна и слушает, как шуршит дождь.
— Девчонки, сегодня же суббота! — вдруг соскакивает с места Зина. — Танцы в клубе, оркестр приехал.
— Мне не в чем идти, — грустно улыбается Аришка. Обе ее выходные блузки, выстиранные два дня назад, до сих пор не высохли — сыро.
— Вот беда-то, — Зина ворчит и с досадой швыряет подушку из одного угла кровати в другой. — Прорвало небесную канцелярию.
— Глупо ругаться, — укоряет Ирина Игнатьевна. — Лучше надень на нее свое платье — вы одинаковой комплекции. А туфли подойдут мои. Вон там, в шкафу стоят…
— Докторша! — восторженно кричит Зина. — Гений! Ты как пить дать напишешь свою науку… — Она стаскивает с оторопевшей Аришки халатик, прикидывает одно за другим два платья. — Вот это, голубое. Давай, давай, натягивай. Ну, как?
— Совсем неплохо, — мы с Ириной придирчиво оглядываем Аришку. Платье ей к лицу, голубой шелк словно струится с нее. Аришка смущенно вертится перед длинным узким зеркалом, вделанным в дверцу шкафа.
— Булавку бы…
— Зачем?
— Так видно, же все, — она показывает на глубокий вырез платья и краснеет.
— Ой, держите меня! — Зина хохочет, схватившись за спинку кровати. — Ты что, думаешь, они только для того, чтобы детей кормить?
— И опять глупо, — спокойно бросает Ирина Игнатьевна. — А вырез кажется глубоким, потому что ты его сверху видишь.
— Глупо, глупо, — гневливо бубнит Зина. — Между прочим, я на комбинате работаю.
— Я тоже.
— Ха, сравнили. В кабинете, в белом халате. Вы бы в цехе смену отсидели.
Аришка тем временем поворачивается к нам спиной и слегка стягивает чем-то вырез платья. Я делаю вид, что не замечаю.
— Ну, я пошла? — спрашивает она радостно и немного виновато. В ней уже что-то танцует, звенит, летит, но она еще здесь, тоненькая, трепетная от нетерпения, в накинутом на плечи стареньком плаще. Наконец Ирина Игнатьевна, самое авторитетное лицо в нашей четверке, поднимает над Аришкиной головой капюшон:
— Смотри, не выходи разгоряченной под дождь.
— Ладно! — доносится из-за двери.
Немного грустно. Грустно видеть, как кем-то повторяется твоя юность, так похоже и так не похоже.
— Боже мой! Неужели и я была такой? — удивленно вздыхает Зина.
— Представь себе, я тоже была такой, — отвечаю я. — И у меня даже была талия.
— Скажешь тоже! — Зина и Ирина Игнатьевна смеются и вертят меня, как в хороводе; — Не может этого быть! — Еще здесь наживешь пару килограммов. Что станешь делать? Пойдешь в группу здоровья? Ноги в брюки, сердце в руки и — вокруг стадиона, — издевается Зина.
— Не пугай. У страха глаза велики. Я ведь и есть перестану.
— Голодание ни к чему. Столовая явно рассчитана на тех, кто собрался похудеть, — кисло говорит Ирина Игнатьевна. — Хотя жить можно. В прошлом году мы с мужем отдыхали в Алуште. Дикарями. В рестораны хаживали. Нигде не видела, чтобы так отвратно кормили. В одной из столовых висел плакат в стихах: «Мы повара, и мы гордимся этим, что, как врачи, людей едой мы лечим». Пошел мой муж в киоск, купил какой-то плакат, написал на обороте губной помадой, крупно-крупно: «А мы врачи, и мы гордимся этим. Как повара, людей мы не калечим». Пришли на обед. Я стою в очереди, а он у самой раздатки взял да и прикнопил этот лист, прямо под тем, первым. Очередь хохочет, повара — практикантки из Кировоградского кулинарного училища — в слезы…
— Ну и что?
— Кормить стали лучше. Не намного, но лучше. А нас оштрафовали.
— За что?
— За мелкое хулиганство. Это рассмешило больше всего. Очередь скинулась и уплатила штраф коллективно. Зато мы стали самыми популярными — на нас пальцем на пляже показывали.
Любопытная Зинаида ловит короткую приоткрытость Ирины и как бы между прочим спрашивает:
— Так вы с ним недавно разошлись?
— Вот тогда после отпуска и разошлись.
— С чего это вдруг?
— Ну почему вдруг? Я с ним три года мучилась.
— Пил, значит.
— То есть как пил?
— Ну как пьют? Пьющий, значит, был.
— Да нет… Уж лучше бы он пил.
— Сказала тоже, — теряется Зина. — Куда уж горше. У меня мать всю жизнь на папаню промотала — алкоголик был. Выгнала — аж помолодела. Верите, мужики начали на улице оглядываться. Пялят глаза да и только. А она уже бабушкой была. Знаю. Горше некуда.
Ирина, по-моему, не слушает. Она стоит вполоборота к нам у окна, где недавно стояла Аришка. Высокая, ладная. Я вдруг представляю ее идущей с детьми — сыном и дочкой. Она бы стала хорошей мамой. Главное — спокойной. Знала бы, как ответить на бесконечные детские вопросы. Все, за что бы она ни бралась, она делает с той завидной уверенностью, какая бывает в человеке иногда с детства. «Своей судьбы хозяйка, — сказала однажды о ней директор дома отдыха, — сама не ошибается и другим не простит». Так оно и есть. Случись что с Аришкой или Зиной — я буду переживать, а если с Ириной, — пожалуй, нет. Разве только чуть-чуть. Почему? Не остался ли во мне холодок первого дня, первого разговора? Нет, не то Ирина — сильная. А Зина и Аришка такие же беспомощные, как я. Ирина действительно своей судьбы хозяйка.
— А чего ж вы с ним не поделили? — снова осторожно подступает Зина.
— Не сошлись характерами, — голос у Ирины спокойный и насмешливый. Она видит, что Зина готовит новый вопрос, и останавливает ее рукой: — Не надо, Зиночка. Конечно, я не права. Пьющий рядом — это, должно быть, действительно невыносимо. У меня другое. Он просто ни рыба, ни мясо. Ничего не хотел. Вот ты снова не так поймешь. Нет, мне ни ковров, ни машины не нужно. Я далека от этого. Одеться, правда, люблю. Грешна. А с ним мне было скучно, понимаешь? Смотришь, все что-то делают, что-то открывают, пишут, изобретают, вносят, наконец, хоть какие-то рацпредложения. А он топчется на месте, и ничего ему от жизни не надо. Не терплю таких людей, а мужчин тем более.
— А где он сейчас?
— Работает. В Белорецке.
— А зачем выходили за него, если он такой размазня?
— Надеялась человеком сделать, — Ирина Игнатьевна неспешно подходит к своей кровати, садится, обнимает спинку единственного в номере стула и кладет на нее подбородок. На лице тонкий слой ночного крема, и подбородок кажется влажным. Ирина покачивает стул и задумчиво повторяет: — Надеялась, что человеком станет..
— А что это значит?
— Стать человеком? Ну, милая… Ты что, хочешь, чтобы я популярную лекцию прочитала? По-моему это — уметь поставить цель и добиваться ее.
— И все? И уже человек?
— Да конечно, не все. Плюс культура, образование и прочее такое.
— А как по-вашему, я человек? У меня нет ничего — ни образования, ни культуры, ни прочего такого. Штампую посуду, варю щи, рожаю детей. Еще рожу, если бог даст. Так я человек или нет?
— Зи-на! Ну зачем ты так?
Мне нравится этот поединок. Он уже не первый. Зину до слез раздражает спокойствие и снисходительность Ирины. Она нервно ерошит свои белые измученные частой завивкой волосы и все ищет, ищет, чем бы больнее уколоть собеседницу, вывести из себя, и не может найти. Ирина отвечает односложно и упрощенно, пытаясь встать на одну ступеньку с Зиной. Наверно, ей кажется, что тогда Зина не будет чувствовать себя простушкой. Но Зина понимает, что забавляет Ирину, ничего ровным счетом для нее не значит, и это бесит ее больше всего. Завтра она снова будет стучать указательным пальцем в висок и издеваться над собой:
— Пусто у меня здесь. Дура. Ну что за голову мне бог дал? Сеном набита, трухой припорошена. Опять в бутылку полезла. Эта интеллигентка мне весь отпуск отравила. А ты что молчишь? Все молчишь и молчишь… Дипломатка…
Ну вот, и мне досталось. А я, признаться, побаиваюсь Ирины. Вообще боюсь людей, которые не умеют сомневаться, всегда все знают, умеют на все ответить. Я чувствую себя рядом с ними маленькой и слабосильной. Может, я просто завидую ей? По-бабьи, мелко и тихо. Да и Зина тоже. Об Аришке нечего и говорить. Она удивляется откровенно:
— Вот женщина! Зайдет в столовую — мужики вилку изо рта забывают вытащить. А она проехалась глазами по лысинам — и нету их. А тот, в подтяжках, который за третьим столом, скоро серенады запоет под окном. А что я? Ни ума, ни красоты, трамвай вожу — вот и вся диссертация.
Сейчас Аришка где-то в центре зала беспечно танцует в белых Ирининых туфельках, и ее темная коротковолосая голова ныряет среди других. Люди постарше танцуют рядом. Кто-то стоит, ожидая танго и вальса, добродушно посмеивается над современными ритмами и мельканием загорелых молодых ног.
А мы сидим в полутемной комнате. Ждем, по-женски любопытные, что приоткроется нам кусочек чужой жизни, и приоткрываем свою. За окном назойливо шелестит дождь. Березы в сумерках плотно сомкнулись, словно кто-то натянул на них темные и тяжелые чехлы. Только в двух местах они пропускают свет. Он падает из окон соседней дачи. Позванивает под Ириной расшатанная сетка, а она все терпеливо объясняет Зине, правда, уже несколько многословнее:
— Да понимаю я твое раздражение, понимаю. Тебе жалко его. Но ты же сама правильно сказала — размазня он. Его не хватает даже на то, чтоб нормально выступить на собрании. Всегда оказывается, что он не все сказал. Поднимается раз, второй и так без конца. То одним увлечется, то другим. Хорошо бы с толком, а так — кому это нужно… Прошлую зиму вдруг ни с того, ни с чего взялся за цветоводство. На юге буквально изводил меня своими познаниями.
— Как же вы за него пошли?
— Да как… Лет мне было немало. Мать вздыхала, что я одна останусь. Друзья сватали. Вроде, чем не пара? Человек он на первый взгляд интересный, много знает, хорошо рассказывает. А на деле — чуть выше среднего уровня.
— Не жалеешь, что разошлась?
— Нет. Не родила — о том вот жалею.
— Ничего. Еще успеете. Вон вы какая, и замуж еще выйдете, и мужа человеком сделаете, и детишек нарожаете.
— Конечно, выйду.
— Дела-а, — Зина сердито сопит и начинает разбирать постель. — Давай-ка, Надь, спать ложиться. А то поговорим, поговорим, а завтра скажут о нас: чуть выше среднего, а еще лучше — чуть ниже среднего уровня.
— Ну не ершись. Не надо ссориться, — улыбаюсь я Зине. Ирина Игнатьевна в свою очередь успокаивает меня:
— Ничего, это дождь виноват. Раздражающий фактор.
— Да, конечно, — Зина стреляет в меня сердитыми глазами из-под прочерченных черным век, расправляет одеяло. Если бы не Аришка, она начала бы новую атаку.
Аришка вбегает неожиданно и стремительно.
— Вот хорошо, что вы не спите. Я вам орехов принесла. — В комнате пахнет дождем и духами. В плоскую керамическую вазу, стоявшую до сих пор без применения, со звоном падают кедровые орехи.
— Где ты их ночью насобирала? В июне?
— Витька привез.
— Ты что? В такой дождь приехал?
— Ага.
— На мотоцикле?
— Ну да, на чем же еще?
— Во дает! — Зина с восторгом и визгом колотит Аришку по спине. Это она так радуется за нее. — А я сама ездила к своему. Тоже тюхтя был, не лучше вашего мужа.
Ирина принимает попытку к примирению:
— И далеко ездила?
— Всяко бывало. Один раз с Урала на Украину махнула.
— Не близко. Было зачем?
— Он служил там. Проштрафился и остался без отпуска. Я и сорвалась.
— Рад был?
— Забыла спросить. Приеду — узнаю. Я вам на работу звякну.
Тихо журчит с крыши вода. В кустах, словно мышиная возня, бесконечное шуршание дождя. В комнате темно. Только белеют четыре кровати да на стене покачиваются два желтоватых пятна от света, что падает из окон соседней дачи. Мимо дома несколько минут шаги, шаги. Должно быть, кончились танцы.
А мне мама, а мне мама Целоваться не велит…Поют мужчины. Слышен женский смех. Он удаляется, и снова лишь шелест дождя и далекий приглушенный сыростью стук каблуков.
И вдруг… Кто-то плачет? Нет. Показалось. Да и с чего бы? И все-таки кто-то плачет. Глухо, уткнувшись в подушку. Ирина! Липкая неприятная радость обволакивает меня. Я пытаюсь подавить ее и досадую, что не могу. Значит, и она бывает слабой. Значит, и она, оставаясь наедине с собой, с темнотой, один на один со своими раздумьями, становится на миг маленькой и беспомощной.
— Кто-то плачет или мне показалось? — резко спрашивает неожиданно Ирина Игнатьевна.
Я включаю свет: плачет Аришка.
— Ну чего вы повскакали? — она шмыгает носом, прикрывает лицо углом пододеяльника.
— Что случилось? — Ирина деловито пробует пульс, Зина пытается заглянуть Аришке в глаза, тормошит ее.
— Ариш, ну Аришка, ну чего ты, ей-богу… Витька что-нибудь?
— Господи, да не люблю я его… Нисколечко не люблю. А он все зовет, зовет…
— Куда зовет?
— Куда, куда… Замуж зовет. А я что скажу?
— Так ты же не любишь его?
— Откуда же я знаю. Да и жалко его. Я без него бы десятилетку сроду не закончила. Физику бы завалила. И вообще. И на работе он мне все время помогает. И все ждет, ждет…
— Скажет ведь. Вот дуреха! Ну не дуреха, а? — Зина сидит на постели, по-турецки скрестив ноги, и время от времени звонко хлопает себя по голым икрам. — Дите ты еще, Аришка, ох и дите.
Мы то смеемся, то что-то говорим наперебой, в основном повторяя друг друга, пока наша докторша не прерывает:
— Довольно, однако. Сделали из мухи проблему. Спать.
— Беда-то. Выспитесь завтра, — фыркает Зина.
Я грустно улыбаюсь в темноту. Когда-то и я решала такую проблему. Кажется, недавно, а десяти лет уже и нету. Так же, как Аришка, тайком от матери роняла слезы. Какими смешными и ненужными видятся они сейчас, с высоты тридцати пяти лет! И как серьезно, как больно и сложно было тогда.
— Надь, а Надь!
— Что?
— Что, что! Ты что вздыхаешь, как каша на плите?
— Да вспомнилось… Я тоже так чуть замуж не вышла.
— Ты? Вот уж не поверила бы! Ты с такой осторожкой живешь.
— Да уж…
И я рассказываю им о самом хорошем друге моей юности.
Я только начала работать в библиотеке. Осенью, — сеялся такой же нудный нескончаемый дождь, — перед самым закрытием вбежал парень, мокрый, запыхавшийся. «Пожалуйста, запишите. Приехал после армии. Работа, учеба, тренировки. Не успеваю днем». Думала, привирает. Записала адрес — живем в одном доме. «Что будете брать?» — «Ефремова бы. И Паустовского. Знаете, по радио рассказ сто слышал, читать не читал. Вы мне сами выберите. А он стихи не писал? Он должен был писать стихи». — «Так уж и должен?» — Посмотрела — никакого в нем форсу. Глаза добрые, доверчивые. Стали друзьями. Я ему книги меняла, помогала по литературе и русскому языку. Времени ему на самом деле не хватало. Вечно чем-то был занят. Ремонтировал соседям то радио, то утюг, то плитку. Запоем читал сказки. Русские, эстонские, арабские. Какие в руки попадали. Смеялся, что у него не было возраста сказок и он хочет вернуть его. Знал Иванушку-дурачка каждой народности и сам немножко походил на него: добродушный, белобрысый, с наивной такой хитрецой в глазах. Чудак да и только. И вся семья у них была нараспашку.
Помню, соседи у нас жили, пенсионеры. Жили вдвоем, неплохо, и деньги водились — сын с севера присылал. Но все хранили привычку каждый год сажать картошку. Без этого они чувствовали себя неполноценными. Сидит как-то баба Нина у нас и жалуется, что надо бы картошку окучить, а у старика радикулит. Сережка тут как тут: «Баба Нина, а где ваша картошка? Мы с Надей в воскресенье съездим. Сколько там — пай, полтора?» — «Да что ты, сынок! Куда нам пай — половинка». — «Так о чем речь? Надя, я за тобой заеду часов в семь». Мне неудобно отказывать, я соглашаюсь. А самой обидно, что и в воскресенье придется в семь вставать. Не узнал, не спросил, могу ли я, хочу ли я, взял да решил сам: о чем речь, поедем да сделаем. Ну, думаю, закончим работу, я ему выговорю. Там работы-то оказалось — мы вдвоем часа за полтора управились. Баба Нина называла нас деточками, совала мне горячие шанежки, а Сергею — деньги на пол-литру. Он фыркал, отказывался, потом положил деньги в карман. А дней через десять принес на эти деньги муки бабе Нине — на шанежки. Очень они ему понравились. Где купил — не знаю. С мукой тогда еще трудно было.
Делал он все это легко, между прочим, и тут же забывал, не успев ответить на «спасибо».
А потом я сломала ногу. Соскочила с трамвая на лед. Перед самой сессией — училась заочно в Ленинградском библиотечном. Даже билет на поезд уже лежал в кармане. Попала в больницу. Он ходил ко мне чаще, чем мама.
И еще помню, как по веснам собирали мы с ним березовые почки. Настой из них посоветовали пить все той же бабе Нине. А где их взять в городе? Надо в лес. Мама моя и говорит соседке: «Скажу Сергею. Привезет обязательно». Она его совсем уже своим считала. И куда мы только не ездили! Рюкзак на спину и на мотоцикл. Ближние леса вдоль и поперек исколесили. В лесу Сережка молчал, ходил чуть ли не на цыпочках, боялся примять лишнюю травинку. Стоял у березы, словно прощения просил, потом карабкался вверх и бросал мне оттуда ветки с почками. И так молча от березы к березе. Иногда он переставал рвать и сидел наверху, тихо-тихо, почти без шороха — прислушивался к лесу. А однажды удивленно, будто только понял, сказал: «Надь, а ведь я люблю тебя».
И все изменилось. Мы так же ездили в лес, бегали в кино, но все стало иначе. У меня в глазах, видимо, мольба мелькала — не заговаривать об этом, — и он молчал. А я, как Аришка, не знала, что делать. Друга у меня лучше не было, и привыкла я на мир смотреть его глазами.
И вдруг командировка в Свердловск. Там я встретилась с Мишей, и все завертелось, и все стало на свои места. Миша заканчивал институт, взял направление сюда, на комбинат. Вот и все. Пришел Сережка на свадьбу с букетом цветов, а в букете — веточка березы с длинными зелеными сережками. Мише вскоре дали квартиру, и мы переехали в новый район города. На прежнем месте я старалась не бывать…
Я умолкаю.
— А он как же? — нетерпеливо спрашивает Аришка.
— Тебе не жалко его? — это уже Зина.
— Могло быть хуже. На жалости далеко не уедешь. Нельзя быть добрым из жалости — добрым надо быть вообще. Это я поняла с ним, с Сергеем. В Мише нет такой доброты, и многого в нем нет. Но… Миша это Миша.
— А дальше что?
Я молчу. Баба Нина при встрече мне рассказывала, что видела Сергея пьяным. Но мне не хочется говорить об этом женщинам. Я даже всплакнула тайком от мужа — тоскливо стало тогда на душе. Я никак не могла представить, как он идет шаткой походкой мимо баб, которые целыми днями слагают из догадок чужую биографию.
— Так вот все и кончилось? — Аришке не верится, что я так скучно и неярко закончу свой рассказ. Но мне нечего добавить. Я только по слухам знаю, что поступил он в Челябинский медицинский институт. Я хотела бы узнать больше, но я боюсь. Боюсь: вдруг услышу недоброе, вдруг изменился, стал черствым. Я хочу оставить его в памяти таким, каким он вошел в мою юность.
— Институт он по крайней мере закончил?
— Не знаю. Если поступил, думаю, и закончил. Он обычно все доводил до конца. А врач бы из него вышел хороший. Диссертаций он, конечно, не напишет. Его на это не хватит. А людям с ним будет легко.
— Ирина Игнатьевна, а вы его не знаете?
— Он кто — хирург, терапевт?
— Не знаю, ничего больше не знаю.
— А фамилия?
— Безуглов. Сергей Федорович.
Ирина молчит. Зина, присев на кровати, поправляет бигуди. Ее руки, занесенные над головой, белой тенью шевелятся во тьме.
— Сергей Безуглов — мой муж.
Почему-то не слышно дождя. На столе громко тикают чьи-то часики. Наверно, Аришкины. И очень хочется спать. Очень…
Завтракаем мы втроем. Обедаем тоже. Ирины Игнатьевны нет. Где она, никто не знает. Когда мы проснулись утром, ее уже в комнате не было. За обедом сосед по столу, который положил глаз на Ирину, тревожно посматривает на нас. Он лениво ковыряет вилкой плов, в котором много моркови и почти нет мяса, но молчит, не произносит свое важное: «Нет, я этого (то есть моркови) так не оставлю». Молчит, потому что нет Ирины.
— С ней ничего не случилось? — спрашивает официантка.
Зина по обыкновению ворчит:
— Могла бы догадаться, что волноваться будем. Записку написать. Грамотная.
После обеда Аришка уходит играть в теннис. Мы с Зиной не отлучаемся от дачи: у Ирины нет ключа. Сидим в отсыревшей от дождей беседке и ошалело вдыхаем буйный запах отцветающей липы. Запах такой плотный и сладкий, что хочется в него вглядеться, словно он может висеть в воздухе, как дым или туман.
Ирина возвращается около пяти. От нее пахнет мокрой травой. За пряжку туфли зацепились лиловые лепестки журавельника. Насквозь промокший шифоновый платок веревкой свешивается с плеч.
— В лесу очень сыро?
— Да, сыро. — Ирина внимательно смотрит на меня. Нам неловко разговаривать друг с другом. И я, и она понимаем это и чувствуем себя еще стесненней. — Стоит тронуть ветку, как попадаешь под холодный душ. А меня никто не спрашивал?
— Официантка. И сосед по столу.
Ирина Игнатьевна небрежно кивает головой и исчезает в дачной аллее.
А через полчаса, придерживая слетающую с головы косынку, прибегает к нам сестра-хозяйка.
— Пятая дача, кто Белорецк заказывал?
— Белорецк? — Мы с Зиной переглядываемся. — Сейчас!
Я бегу в номер. Ирина спит. Раскрытая книга торчит из-под локтя. А может, не она? Пятая дача не только мы.
— Ирина Игнатьевна!
— Да?
— Бы межгород не заказывали?
— Что? Уже? — За мной по деревянным ступенькам тукают ее каблучки…
Я медленно спускаюсь к причалу. Озеро лежит тихое, гладкое, будто в полузабытьи. Волна ласково лижет струганые, грубо сколоченные доски настила. На воде тут и там покачиваются лодки. На понтонных помостах и прибрежных валунах замерли над поплавками рыбаки.
Впервые за неделю нет дождя. День мягкий, ласистый. Солнце прячется за облаками, которые белыми рыхлыми клочьями висят над озером. Освещены только горы. Порой и на них находит тень, но скоро сползает, медленно, плавно, словно кто-то осторожно стягивает ее снизу.
Лес стоит отяжелевший после дождей, задумчивый. Он так напился за неделю, что не в силах качнуть веткой. Мне хочется войти в него и, не оглядываясь, шагать по сырой траве, отводя от лица мокрую листву, трогать шершавые сережки берез. И почему-то хочется позвать с собой Аришку. Пожалуй, мы с ней похожи. Но она лучше. Не потому, что моложе, а потому, что из другого времени. А вот тянется Аришка не ко мне — к Ирине. Она глаз с нее не сводит.
Лес… Что в нем искала сегодня Ирина? Что нашла?
Я не хочу думать ни о ней, ни о Сергее. Но мне постоянно думается о них. И как никогда он дорог мне сейчас, очень по-своему, очень по-хорошему. И как никогда я не хочу его видеть и хочу ему счастья. Больше, чем себе…
Двое Рассказ
Они встретились нечаянно. Не виделись девять лет и столкнулись лицом к лицу на городской профсоюзной конференции — два человека, когда-то потянувшиеся друг к другу и отброшенные судьбой друг от друга.
«Сдала, сдала», — загрустил он, и Ксения это сразу заметила.
«Пожалуй, он больше постарел, чем я», — подумала она, и он, кажется, тоже уловил ее маленькую радость.
— Здравствуйте, Ксения Антоновна!
— Здравствуйте, Игорь Леонидович!
— Сколько лет, сколько зим, а вы все так же очаровательны!
— Да, да, столько воды утекло, а вы по-прежнему голубоглазы, — Ксения сдержанно засмеялась. Чувствовала: вглядывается в каждую ее морщинку и сединку, разгадывает, какие за ними спрятались годы и беды. Делал он это бесцеремонно, с уверенностью человека, за которым право сортировать людей и решать, кто на что способен и как кем распорядиться. Ксения снисходительно отвела взгляд: ну погляди, погляди — куда от мужского глаза деться! А так хотелось тоже поскользить глазами по его лицу, давно знакомому, но с такими чужими вертикальными складками у губ, у кончиков бровей. Но кругом были серьезные озабоченные профсоюзные люди. Они непременно, как показалось ей, уже обратили внимание на них двоих.
— Как живете, Ксения Антоновна?
— Спасибо, хорошо живу. А вы? Как дома? Где травмировались? В быту или на производстве? — по левой щеке Юдина тянулась бело-розовая полоска.
— Все нормально. А это, — он наклонился к ее уху, — срам сказать: поморозился на рыбалке.
— Очень мило. Прикажете поверить, чтобы не думать хуже?
— Колетесь, как и раньше. Значит, все в порядке. Рассказывайте — кто вы, где вы.
— Все то же — дама в белом халате.
— Слушаете людские сердца? Ну и как они?
— По-прежнему. На дне каждого осадок.
— Так уж и каждого?
— Ко мне со здоровым не ходят.
— А где ваше милое махровое платье небесного цвета?
Игривый тон их беседы не вязался с обилием черных чопорных костюмов и административно-значительных лиц, и Ксения, не ответив на вопрос, укорила Юдина:
— Мы с вами очень неуютно стоим, Игорь Леонидович, почти в самом центре.
— Хотите убежать, Ксенечка Антоновна? Не-ет! Грешно не посидеть нам часок вместе.
— Не могу.
— Не можете или не хотите? — И снова властная прямота требовала четкости в ответе и выдавала в нем человека, привыкшего подчинять и распоряжаться. И, пока Ксения искала вежливую отговорку, Юдин коротко уронил:
— Жду вас после конференции у выхода. Внизу у выхода. Договорились?
Он уходил от нее легким уверенным шагом, но было в походке непонятное, еле заметное поигрывание телом, молодецкое и нарочитое, и оно настораживало. Юдин поплотнел, потерял былую спортивность. Может, поэтому походка показалась незнакомой? Или он чувствовал, что Ксения уткнулась взглядом ему в спину, и работал на этот взгляд? Но это было бы совсем смешно. Да и невероятно: слишком серьезным и своенравным человеком слыл Юдин, чтобы оттаять от случайной встречи с женщиной и позволить себе отступление от своего «я». Да и нравилась ли она ему по-настоящему? У нее был неподатливый характер, колкий язык и привычка во всем ему перечить, что вызывало в нем острое желание оставить последнее слово за собой. Он натыкался на ее слова-колючки, отступал, больно уколовшись, и снова бросал вызов и ждал очередной шпильки. А шпилек он не любил, и поэтому едва ли подпустил бы близко к сердцу.
Ну, а если и захотелось ему пройти по фойе бодрым, и подтянутым, если и работал вольно или невольно на ее взгляд? Что в том грешного? Кому не по сердцу оброненный вслед неравнодушный взгляд? Сердце остается молодым, даже когда дает перебои.
После конференции засидевшийся народ рванулся к гардеробной. Толкаться среди заводчан не хотелось, и Ксения на время отошла к окну. За поседевшими стеклами лежало серое ледяное поле Урала. Дворец высился на берегу и смотрел на реку прямо и сухо, словно стыдился опустить взгляд себе под ноги: там сквозь скупые сугробы уже пятый год торчали бетонные блоки недостроенной набережной. Ветер спотыкался о чугунные скелеты фонтанов и будущих парапетов, сметал с них снег и заметал снова. С грустью подумалось, что неплохо бы тысяче пришедших на конференцию выйти сюда на четыре часа и уложить все плиты. Наверно, за два года — две конференции — справились бы, и Дворец не прикрывал бы стыдливо свои квадратные глаза шелками драпировок. Ксения на миг представила тех, кто сидел в зале, под тяжестью бетонных балок, в брезентовых рукавицах, и тут же вспомнила, что все эти наивные расчеты уже приходили ей в голову то ли год, то ли два назад. И снова, как и тогда, стало жалко и Дворец, и неприбранный берег, и полуголую землю, изрытую, тосковавшую по большому снегу, и малолетки-клены, которые даже на пронзительном ноябрьском ветру еще удерживали редкие скрюченные листочки и трепетно доказывали: они принялись, они живы, они уже целое лето зеленели.
Ветер за стеклами постанывал и поскуливал. Глухо хлопала входная дверь, в фойе становилось тише. Ксения оглянулась и увидела мелкокурчавую голову Юдина почти рядом.
— Вы случайно не надеялись, что я уйду?
— А вам непременно надо знать правду? — Они осторожно нащупывали давний, накатанный, шершавый тон их бесед. Ксения торопливо одевалась, словно пальто и шапка могли защитить от цепкости юдинских глаз, и втайне досадовала, что скованность чувствовала лишь она, а он как ни в чем не бывало вышагивал рядом и открыто разглядывал ее.
— Куда держим путь, Игорь Леонидович?
— Куда-нибудь в тепло. В кафе, например, если нет возражений. Возьмем сухого вина и гору фруктов и будем сидеть и смотреть друг на друга. Не так уж плохо, а?
Ксения утопила улыбку в приподнятом воротнике. Смешинки в ее глазах Юдин принял за одобрение и озорно — давно бы так! — открыл двери кафе. Время было неопределенное — обед прошел, до ужина далеко — и кафе пустовало.
— Отлично! — потер руки Юдин. — Нам, пожалуйста, бутылочку шампанского и фруктов.
Женщина за прилавком холодно глянула на Юдина, остановила взор на узелке его галстука и язвительно спросила:
— Где бы я их, интересно, взяла?
— Так уж все и съели? Еще только осень на дворе.
— Так вот все и съела, — приняла упрек в свой адрес женщина.
Ксения стояла поодаль и, чтобы не рассмеяться, так и не отнимала воротник от лица. Юдин неумело пререкался. В другое время он взял бы покруче и не выбирал слова. Впрочем, решила Ксения, в другое время он и не пошел бы в кафе, а прихватил бы бутылку и банку кильки в томате, сел с друзьями где-нибудь в гараже, подальше от женских глаз и ушей, и всласть склонял неповоротливое начальство, жаловался на отсутствие запчастей к машине или сетовал на разногласие с детьми.
Ксения хорошо знала городские кафе и ожидала такого приема. Даже когда на нее из-за прилавка упал неодобрительный взгляд, она не испытала ни чувства стыда, ни неловкости, — лишь молча веселилась. Рассерженный Юдин потянул ее в кафе через улицу. Там повторилось то же самое.
— Красивую жизнь ищут в ресторанах, — кинули из-за стойки и отвернулись.
— Я же у вас, в конце концов, не черной икры прошу! Обыкновенных яблок! Согласен на уральские, только вымойте.
Маленькое смуглое лицо обиженно взошло над стойкой:
— Да поймите вы, молодой человек, нет у нас ничего!
При словах «молодой человек» Юдин смущенно заморгал, и всю его самоуверенность как рукой сняло. И Ксения внезапно зашалила.
— Не волнуйтесь, — сказала она приветливо. — Мы из народного контроля, очередная проверка. А вам, Игорь Леонидович, не к лицу всех разыгрывать. Это уже перестает быть смешным — в каждом кафе одно и то же. Извините, Любовь Петровна.
— Так бы и сказали, что народный контроль, — отходчивым голосом откликнулась смуглолицая. — Актер, что ли? Садитесь вон в тот угол.
Юдин шепотом спросил, откуда Ксения знает эту женщину. Ксения взглядом показала на табличку: «Вас обслуживает Любовь Петровна Шмыгина».
Через пару минут они уютно сидели в дальнем углу почти пустого кафе. В бокалах искрилось шампанское, в маленькой тарелке лежало несколько засахаренных ломтиков лимона — все, что нашлось в холодильнике.
— Однако вы бывалая женщина, — восхитился Юдин. — Вот уж не ожидал.
— Это я с перепугу. Вдруг бы вы меня потащили в такой холод еще куда-нибудь. Признаться, я так озябла, что предпочла бы стакан горячего кофе.
— Но я боюсь подходить к стойке! Что, если попросит удостоверение контролера?
— Меня это не касается. Вы хотели в кафе? Я вам помогла. Дальше полагаюсь на вашу мужскую находчивость.
Юдин и Ксения разговаривали вполголоса и сидели с самым серьезным видом, пересмеиваясь только глазами. Они, как два бедокура, остерегались смотреть в сторону стойки. Юдин даже сел к ней спиной, а Ксения порой выхватывала молчаливое невнимание смуглолицей женщины в кружевном колпаке-цилиндре.
Разговор складывался лохмато и вяло, из случайных вопросов, которые слетали с языка лишь затем, чтобы срочно залатать то и дело возникающие паузы.
— Что вынесли с конференции, Игорь Леонидович?
— Что надо хорошо работать, Ксения Антоновна.
— А с прошлогодней?
— Что сегодня работать надо лучше, чем вчера.
— Не много, но уже кое-что.
— Неужели бывает меньше?
— Мои соседи, например, все четыре часа проиграли.
— Во что?
— В «балду».
— Что это такое?
— Классическая игра прозаседавшихся. Неужто не знаете? Боже, какая невинность! Вы кто?
— В каком смысле?
— Какой вы пост занимаете?
Юдин на миг прижал к губам край фужера и нехотя, чуть помедлив, ответил:
— Начальник цеха.
— Поразительно. Как вы поднялись на такую ступень и прошли мимо «балды»? Неужели ни разу не тянуло спать на заседаниях?
— Вы меня совсем заинтриговали.
Ксения вырвала из рабочего блокнота лист, набросала карандашом сетку, внесла первое слово и объяснила игру, знакомую со студенческих лет.
— Гениально, — ухмыльнулся Юдин и, издеваясь над собственной неосведомленностью, примолк в поиске хода. Карандашом он мелко постукивал по столу, и женщина за стойкой, если раньше, может, и сомневалась, то теперь, конечно, поверила, что в дальнем уголке кафе сидят деловые и чем-то очень озабоченные люди.
Ксению забавляла собственная шалость, нравилось ничегоневедание смуглолицей, а глоток шампанского и сосредоточенное молчание Юдина сняли скованность. Она обнаружила, что нет в ней желания ни нравиться ему, ни оттолкнуть его. Бился в глазах лишь интерес: что с ним сталось и кто он сегодня. Вспомнились прочитанные где-то недавно строки: «Лица у людей являют неугасающую магию и притягивают воображение». Кажется, так говорил кто-то из Рерихов, то ли отец, то ли сын. Лицо Юдина притягивало, и Ксения старалась угадать, что у него на уме и что на душе. Не угадывалось. Зато ясно виделось другое: его совсем не занимала карандашная сетка на блокнотном листе. Думал он о своем, а бумага позволяла сидеть с опущенными глазами и молчать. Юдин сутулился, плечевые швы пиджака сползали вперед. Почти не верилось, что это он прочертил утром фойе Дворца молодцеватым шагом. Желтые мешки под глазами тяжелили лицо. Как могли у столь неулыбчивых губ наметиться вертикальные, самые вредные, с точки зрения женщины, морщинки?
Начальник цеха. Значит, на его лице, на его плечах лежали муки большого и старого комбината, дымящего, коптящего чуда и чудища двадцатого века, требующего целой армии фанатиков. Самыми стойкими среди них были начальники цехов. Они не сдавались — они или умирали, или их убирали. Умирали быстро и легко — так разлетается на куски от малого удара тонкая фарфоровая чашка, давно давшая трещину. Те же, кого убирали, до конца дней своих сгибались под грузом любви, не отданной до последней капли родному чудищу. Всю оставшуюся жизнь они оглядывались назад, как алкоголик на недопитый стакан, силой вырванный из его жадных рук. Девять лет назад Ксения знала кое-кого из начальников цехов — тогда она коротко поработала цеховым врачом. Встречаясь и разговаривая с ними, она не могла избавиться от ощущения, что им тесно — тесно в кабинетах, которые занимали, тесно в обшарпанных газиках, в которых мотались по комбинату, тесно в галстуках, которые носили. Юдин тогда был лишь сменным инженером.
Не столь бесцеремонно, как это делал он, но все же пристально Ксения всматривалась теперь в него. Из каких же фанатиков начальник цеха Юдин? А вдруг из тех немногих, кто ровно пройдет положенный ему путь и благополучно доберется до заслуженной пенсии?
— Да будет вам, — наконец мягко отстранила она юдинскую руку и спрятала листок и карандаш в сумку. — Я же вижу, что вам не до глупостей.
Юдин небрежно и молодецки — а, была не была! — мотнул головой и подмигнул Ксении. Она не улыбнулась — спокойно и терпеливо ждала: приоткроется.
— Что произошло?
— Ну вот сразу и произошло! Все в порядке, Ксения Антоновна, все в полном порядке. Просто состарился.
— Нужны разуверения? Решили пококетничать?
— Уж и нельзя, если я мужчина?
— Вам — нет. Не идет.
— Да нет, я еще ничего. Ведь, правда, я еще ничего, а, Ксенечка Антоновна? — Юдин дурашливо расправил плечи, нарочито ласково похлопал себя по щекам и снова погрустнел и ссутулился. — Комбинат состарился, Ксения Антоновна. Корежит его, трясет, ломает, лихорадит. Трещит по всем швам. Износился бедолага. Штопаем его, штопаем, а толку… Главное — люди изнашиваются, Ксения Антоновна, изнашиваются люди… — Юдин кручинно поморщился и попытался скупой, но неожиданно милой улыбкой переключиться на другую тему. Ксения не приняла улыбку. Он удивился, помолчал. Минутная мягкость стерлась с лица, и тонкие вертикальные складки у губ выпрямились. Юдин стал подробно и серьезно говорить об авралах и авариях, о невыполненных планах и нехватке кадров, о пропавших выходных и праздниках. Цехи старели, как люди, жили с одышкой. Где-то внутри каждого росла и змеилась не всегда видная, но ощутимая трещина. Цехи продолжали работать до той опасной черты, за которой трещина обнаруживалась и обнаруживала, что она не одна, что штопки и заплатки приходились не на самые больные, а лишь на самые видимые раны. Начиналась частичная искусственная пересадка: в цех — нового оборудования, в коллектив — нового руководителя. Старый натруженный организм чаще всего не принимал такое вмешательство и отторгал, а то и корежил, ломал новое и нового, и все повторялось сначала. Юдин говорил о комбинате как об очень большом и больном человеке, конец которого неизбежен, как конец любого живого существа. «Фанатик, — грустно поставила диагноз Ксения. — Ни слова о себе. Фанатик. Не будет ему ровной дороги».
Неожиданно подумалось о том, что ни разу ей не попадался на глаза материал о начальниках цехов в городских газетах. Ежедневно поднимался на газетные страницы рабочий класс, не оставляя места своим командирам. Почему? Или командиры обязаны всегда быть в тени? Или писать о них трудно? — Вечно что-то не так, как надо: один крут характером, другой к женщинам сверхвнимателен, третий служебную машину использует для себя. Есть ли хоть один, который бы идеально устраивал четыре десятка тех, кто стоит над ним, и восемь сотен тех, кем командует?
Юдин то ли почувствовал, что Ксения отвлеклась, то ли понял, что неприлично много, говорит о производстве, но вдруг резко прервал себя:
— Выплеснулся. Вы уж простите. Такой бы разговор под водку с мужиками, а я… Все мы, что ли, такие ненормальные? Даже с женщиной не умеем красиво посидеть.
— Вы пока не самый ненормальный. Не дозрели, — насмешливо уточнила Ксения.
— Ну да? Почему?
— Остальные давно забыли вкус вина и пьют только водку. Даже с женщинами.
Юдин впервые за всю беседу хорошо и охотно рассмеялся.
— Нет, Ксения Антоновна, что и говорить — вы бывалая женщина!
— Это похвала или порицание? Только, пожалуйста, правду.
— Иначе?
— Пошлю за кофе.
— Э, нет! Такой опасности меня нельзя подвергать. Вы уже убедились в моей никуданегодности.
— Увы! — Ксения глянула на часы. — Мне пора, Игорь Леонидович. Спасибо вам.
— За что? Вот если бы я вам букет роз преподнес…
— За все, Игорь Леонидович, за все. За то, что прекрасно справились с ролью народного контролера. За то… за то, что вы есть на свете, что мне дано знать вас.
— Это могло быть важно тогда, девять лет назад. Так я во всяком случае думал.
— Это всегда важно, Игорь Леонидович. Ну вот вы и растерялись. Совсем как у стойки, — Ксения и сама смутилась: такое откровенное удивление плеснули юдинские глаза. Надо ж так обмолвиться: «это всегда важно». И впрямь звучит двусмысленно. Ксения попыталась отшутиться: — Подумайте сами: мы девять лет не виделись. Я уже забыла, что была когда-то молода. А увидела вас и вспомнила — действительно была. А еще через девять лет покажется еще важнее. Встречу вас, седого, сильного, уже не начальника цеха, а, скажем, главного инженера, и шепну себе: вот какие мужчины смотрели на меня с нежностью, значит, не так уж я плоха была. А? Я верю, что так и случится. Вы будете важный, вам сразу отведут стол, и не придется изображать народного контролера.
Юдин не улыбнулся. Что-то изменилось в нем. Недоверчиво дрогнули морщинки у губ, во взгляде затаилась отстраненность. Ксения примолкла. Что произошло? Не то сказала? Или была неискренней, и он это уловил? Поднесла к лицу фужер, поймала короткую и веселую пляску винных искр. Не глотнув, опустила фужер на стол. Сказала несколько фраз и просеяла молча все, что сказала. Может, не к месту высокие слова? Да высокие ли они? Разве она думает иначе? Разве не чудо — увидеть иногда на другой стороне улицы человека, который когда-то волновал тебя и которого волновала ты? Разве не чудо — пройти незамеченным мимо, но уже зная, что он жив-здоров, ходит по улицам города — твоего города — и город от этого сильнее и роднее, что город, как и твоя память, богаче на одну жизнь — на его жизнь? Разве не царапает обида, когда человек, занявший уголок твоей доброй памяти, уезжает, иногда попросту предает улицы, по которым продолжаешь ходить ты? Разве не больно, когда он умирает, а ты еще ищешь в толпе знакомые глаза и, обознавшись, вдруг обжигаешь себя мыслью: его уже нет?
Чем больше Ксения раздумывала и говорила, тем меньше хотелось ей шутить, иронизировать, приземлять свое нечаянное признание и стереть удивление в юдинских глазах.
— А за ваш комбинат я ничуть не боюсь, — неожиданно для себя закончила она.
— Вот как? Разве он и не ваш тоже?
Ксения засмеялась.
— Ну что с ним может случиться, если вы сидите с женщиной, а думаете и говорите только о нем? Не знаю, залатаете вы его или реконструируете. Может, с лица земли сметете и построите новый. Не знаю. Но знаю, что он будет, пока есть похожие на вас. Только, пожалуйста, живите долго, очень вас прошу. Ведь действительно, пока вы ходите по земле, и я сильнее. И богаче…
Юдин подержал на Ксении задумчивый взгляд и залпом выпил свое вино.
— Да что вы в самом деле? — не на шутку рассердилась она. — Я произношу красивые монологи, а вы насупились, будто я вам строгача вкатила. Все. Больше ни слова от меня не услышите. — Ксения поднялась и решительно пошла между столиками. Пока Юдин одевался, пока курил в коридоре за толстой стеклянной дверью, Ксения — шалить так шалить! — черкнула несколько благодарных слов в серую тетрадь в полиэтиленовой обложке. Смуглое лицо за стойкой цвело от удовольствия, а две покупательницы с любопытством косились на танцующий почерк Ксении.
— Жалобу, что ли, строчит? — спросила одна другую.
— Нет, благодарность.
— А зачем? — удивилась женщина, потянула простуженным носом и уставилась на тетрадь. — Писать-то зачем? Скажи спасибо да иди. Жалоба — другое дело.
— Грамотные теперь все. Вот и пишут. Что-нибудь да пишут, — вздохнула другая. — Кто спасибо, кто жалобу.
Юдин тоже встретил Ксению недоуменным вопросом:
— Что вы там строчили? Уж не жалобу ли? Вроде мы неплохо посидели…
Ксения промолчала. Захотелось скорее проститься, затеряться в вечернем людском потоке и пешком, медленным шагом идти до своего дома, пропуская вперед чьи-то спины — узкие, широкие, сутулые, прямые, в шубах, полушубках, рабочих выцветших спецовках.
— Мерзкая, однако, погода, — проворчал Юдин.
— Ну что вы! «У природы нет плохой погоды…»
— Разумеется. «Каждая погода благодать…»
Расстались быстро и мило, наговорив друг другу как и при встрече много необязательных красивых слов, которые ни он, ни она не приняли всерьез.
Ксения повесила сумку через плечо, подняла воротник, спрятала руки в карманы. Пронзительный ветер торопил к теплу, Ксению обгоняли, и она, чтобы не мешать, шла по самой кромке тротуара. Она видела, как Юдин входил в трамвай, как вталкивал в переполненный вагон сильным и крупным телом тех, кто стоял на подножке, как помахал ей сжатыми в руке перчатками.
Что же случилось? Так хорошо волновался о своем комбинате, а потом вдруг на каком-то повороте закралась осторожность, ему в молчание, а ей — в слова. Не стоило, не стоило лезть с нежными раздумьями. Если они кому-то и нужны, то уж никак не этим могучим мужикам, несущим на плечах громаду заводских забот. Она сама виной похолоданию в разговоре. Вероятно, они не встретятся еще много лет, может, судьба вообще их не сведет больше. Но все равно зябко оттого, что остались отчужденность и недосказанность, что-то не понятое ею и происшедшее по ее вине. «У природы нет плохой погоды…» Не получился дуэт. Спели порознь — каждый по строчке. «Каждая погода благодать…» Возможно, и так. Но что это за погода, когда в природе междуцарствие: осень давно ушла, а зима еще не собралась. И ветер не тот, и холод, и снег. Тоже все недосказанно и неопределенно.
Слева за локоть крепко схватили. Ксения вздрогнула и оглянулась.
— Вы не на ходу выпали? Да нет, дверь за вами захлопнулась.
— Я пройду остановку пешком, — Юдин пристроился с подветренной стороны. — Простите меня, Ксения Антоновна. Вы столько мне наговорили, что я растерялся. Скажите, это все правда или вы записались в утешители?
— Что, что? — не поняла Ксения.
— Вы знали, что я снят с работы?
— Вы? — Ксения резко остановилась. Кто-то шедший за ними от неожиданности толкнул ее в плечо и недовольно буркнул: «Простите».
— Все, все, все, — Юдин облегченно вздохнул и улыбнулся. — Вижу: не знали. Я ведь не поверил. Решил, что жалеете, успокаиваете. Так, исподволь. По принципу: с добрым словом и черная корка халвой пахнет.
— Ничего не понимаю. За что? Когда? — Ксения с трудом подладила свой шаг к его размеренной тяжеловатой походке. — Обухом по голове. Объясните толком.
— Не буду, — категорически отрезал Юдин. — Не обижайтесь. Я и сам еще не все понял. Может, за дело, а может, и не совсем. Пока мной правит обида. А обида плохой судья. Не спрашивайте.
— Ну и ну, — покачала Ксения головой и не нашла, что добавить. И ненужное бодрячество в фойе, и молчание над нелепым блокнотным листком, и набежавшее внезапно недоверие — все стало понятно: человека ломало. Что же дальше? Уйдет с комбината? Он без него и дня не проживет. Поднимет ли свою боль? Не придавит ли обида, как могильная плита?
— Что замолчали?
— Не знаю, что сказать, Игорь Леонидович. Хотите, научу древней восточной молитве? Повторяйте за мной: «Господи, дай мне силы, чтобы смириться с тем, чего я не могу изменить. Господи, дай мне мужество, чтобы бороться с тем, что я должен изменить. Господи, дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого».
— Видно, очень я плох, если мне в помощь дают господа.
— Эта молитва не для слабых. Неужели, трудно заметить? Да и молитвой это едва ли можно назвать…
Час «пик» наполнил улицы обычным вечерним разноголосьем. Один за другим проползали отяжелевшие трамваи. Автобусы фыркали, припадая набок. Город зажигал огни. Час «пик» с транспорта перемещался в магазины. Юдин замедлил шаг: подходили к остановке.
— Значит, вы все это от души, — задумчиво протянул он. — Как же так?
— Игорь Леонидович, помилуйте, я ведь ничего вам особенного не сказала! Не понимаю, почему я смутила вас…
— Ксения Антоновна, вы с другой планеты! Мы же говорим на разных языках. У нас самые ходовые слова — «давай» и «нельзя». У нас есть те, кто дает план, и те, кто его не дает, кто оправдал доверие коллектива и кто не оправдал. Мы слишком много соприкасаемся с железом. Говорим заготовками. Этим заготовкам, пожалуй, столько лет, сколько самому комбинату. Железо стареет, а слова остаются. Вот уже и первый космический корабль ушел на реставрацию, износился. А ведь он двадцать лет не работает — стоит как памятник. Комбинат полвека вкалывает вовсю, а все на косметике держится. Может, мы и слова новые не находим, потому что рядом все одряхлело? А? Как вы думаете, Ксения Антоновна? Я целую вечность не слышал обыкновенных хороших слов. С тех пор, как стал начальником цеха, ни одного — совершенно точно. Голову могу на плаху положить. — Юдин кротко заглянул ей в глаза, и признание прозвучало как нечаянная жалоба. — И вдруг ваши дивные монологи. Вы говорите, а я сжимаюсь. Мне бы расправиться, а я не могу — не по себе. — Юдин тут же застыдился своей откровенности и начал посмеиваться над собой. Вертись Ксения ежедневно у него на глазах, он бы, конечно, не приоткрыл ей своей боли и угнетенности, — она это понимала. Каждый раз при встрече ему чудилось бы в ее взгляде отражение собственной минутной слабости и точило самолюбие. А они едва ли встретятся в ближайшее время, и он просто снял спецовку с души.
— Я не сказала вам ни слова неправды, — тихо и мягко проговорила Ксения. Юдинская ладонь, теплая, широкая, ласково прошлась по ее щеке и задержалась на подбородке. От его пальцев пахло табаком, а ладонь была шершавой и бугристой и на холодной щеке показалась обжигающе-горячей. Юдин молча, только глазами простился, в два шага переметнулся через газон и вскочил на подножку подошедшего трамвая. Резкий встречный ветер отшвырнул полу его пальто. На тонком слое снежной крупы остались отпечатки ботинок. Худой долговязый парень след в след перескочил газон за Юдиным, и следы стали чужими.
Ксения представила, как Юдин стоит на ступеньке вагона за красной дверцей, плотно стиснутый со всех сторон по-зимнему одетыми и неуклюжими людьми, как морщится от тесноты, как нетерпеливо спрыгнет на своей остановке и пойдет тяжеловатым широким шагом по скрипучей снежной крупе. Где-нибудь он снова или срежет угол, или посмеется над красным глазком светофора. Кто-то незнакомый прошагает по его следам, за ним еще и еще. Но ведь останется и его след, его, и ничей больше, на который ляжет снег, чистый и звонкий, укроет до самой весны от изменчивых зимних ветров.
Примечания
1
Конец (перс.).
(обратно)2
Советский (перс.).
(обратно)3
Да, да (перс.).
(обратно)4
Здравствуйте! Как ваши дела? (перс.).
(обратно)5
Омар Хайям.
(обратно)6
Что? (перс.).
(обратно)7
Омар Хайям.
(обратно)
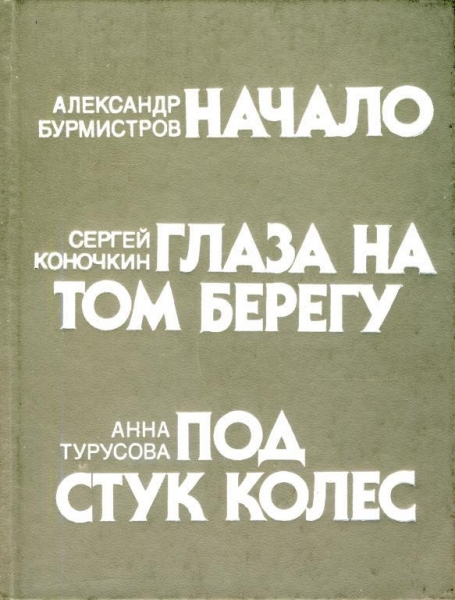




Комментарии к книге «Под стук колес», Анна Александровна Турусова
Всего 0 комментариев