Милый дедушка
Рассказы
У НАС НА НФС[1]
Посередине слесарки бильярдный стол. У стен железные верстаки, тисы на них, точило, над одним из верстаков плакат с рисунком: «При получении инструмента проверь, в порядке ли он!» Добродушный рабочий в фартуке трогает, как лезвие, большим пальцем молоток, а в окошечке с кривоватой надписью «кладовщик» — фальшиво благожелательная и по-театральному вбок улыбающаяся физиономия кладовщика: проверь, проверь-ка, мол.
После обеда работы мало, но баклуши бить тоже как-то совестно, и игра в бильярд идет с перерывами: шаги в коридоре — кии к столу, а уйдет начальник (если в самом деле начальник) — и стукание шаров возобновляется. Начальнику делать особо тоже нечего, уходить он не спешит. «Урожай худой нынче будет, солнце усё пожгло!» Начальник по национальности белорус, он еще что-то сообщает и наконец все-таки уходит. Уходит начальник, и шофер Витька, отслушав с одобрительными кивками удаляющуюся по коридору поступь, гонит, что называется, небольшую такую картинку:
— Я вас научу, слышь, работать-то! Вы у меня полюбите работу-то! Вы у меня ямы будете до обеда рыть, после обеда за-р-рывать.
На начальника здешнего не похоже, но все, кто в слесарке, долго и с удовольствием смеются. Вообще похоже на кого-то.
Электрик Володя, молодой пенсионер, бросает в фанерный мусорный ящик окурок:
— Утресь ток отключило, ага, открышечку, этто, снял с пускателя, а там… мышонок! Влез, ну и замкнул на себя, глупарь.
— Убило? — наивно спрашивает Василий Федорович Стебеньков (слесарь по хлораторной), однако тотчас, сообразив, осекается. Володя не отвечает ему.
Витька тоже глядит, не сообщится ли еще чего.
— Ну ты, руководитель, — толкает его кием Саня Выдрин. — Бей-ка давай!
Саня хозяин слесарки, слесарь по всем делам: слесарка рабочее его место.
Витька от толчка просыпается, прицеливается и бьет. Промах!
Некоторое время тишина. Слышно только, стукаются друг об дружку деревянные шары — т-дымк-т, т-дымк-т, ты-дымк-т!.. — да гудят за стеной в мотористской тяжелые водососные моторы.
— Вчера баба аванец получила, — делает новый зачин Володя. — Сама купила бутылку портвейной!
— Ну? — в восхищении не верит Василий Федорович Стебеньков, но Володя и тут неумолим, даже бровью белесой не ведет. Речь его — к Сане и немножко, косвенно, к Витьке. Василия ж Федорыча Володя искренне презирает как неразборчивого алкаша.
— Выпей, грит, Володичка, за мое здоровье, я, грит, в больницу вскорости ляжу. Ага.
— А что, — поднимает от зеленого сукна большую свою голову Саня, — на заводе аванс был?
— Был, — помешкав, подтверждает сообщение Володя. Он и не рад уж, что обмолвился, что вылетело — не воротишь.
— Опять, значит, занимала!
Говорится негромко, глуховатым тугим Саниным басом, но слышат все, и все тут понимают, о чем речь. Жена у Сани, Любка, пьет. Запивается… Аванс был, а мужик вот про него только и услышал.
— В субботу у парней в общаге гуляли, — берет в таком случае разговор Витька. — С цыганками, — ну. Айда, говорит, со мной в табор, красивый! Я: а муж? Муж, кричит, груш объелся немножко, другой табор муж ушел.
— Ух ты-ть! — в восхищении Василий Федорыч. — Ну и те…
— Вот те и «ну и те», — с назиданием, по-учительски повертывает к нему курчавую голову Витька. — Я ей — спой, спой, чавалэ! Давай, кричу, я тебе на стуле подстучу. А она — нет, не буду без гитары песня петь. Сам под стул пой.
— Ну дак и спел б, — щурит маленькие глазки Саня.
Витька выпячивает грудь: дэ-к…
— У меня тоже, — возбужденно вхватывается вдруг Василий Федорович. — С бела голова пововсе не болит. С вина — болит.
— А ты не пей! — советует Витька, и все опять громко смеются.
Раззадоренный Василий Федорович, захлебываясь, тут же пускается рассказывать про какую-то женщину, кака она хоро́ша да у́мна, как чем-то там шибко до́бро сумела им с женою угодить.
— Умная? — сбивает его Володя.
— Кто?
— Баба-то?
— У-у, — выпячивает ступенькою пухлую губу Василий Федорович. Еще б, дескать!
— Умней тебя? — не щадит Володя.
— Умней, — всерьез склоняет куделястую макушку рассказчик. — Пятнадцать лет в торговле про-р-работала!
И такое-то тут безоговорочное самоустранение, такой свет зеленый чужой высокой сообразительности, что в слесарке бухает целый залп жеребячьего расплескивающегося смеха. Стебеньков поначалу озирается, а после, порешив, что это от его же рассказыванья этакое впечатленье, тоже закидывает лицо кверху и запоздало денькает надтреснутым своим бубенчиком.
…Кончается день. Ушли Володя, Стебеньков, ушел, как бы нехотя, хлопнув рукою о косяк, Витька.
Начальник предложил недавно слесарю Сане четверть ставки столяра, и тот согласился. Деньги! Однако уходить теперь со всеми неудобно, и до обеда еще налаженный дочкин велосипед Саня поднимает на верстак по новой. Педалька, вспомнил, тугая, жаловалась. Педалька, вишь, тугая… Раз, раз. Открутил, закрутил, солидолу Витькиного щепкой туда. Крутнул. Готово дело. Все! Руки на кухне, на нашей же, НФСовской, как следует хозяйственным мылом помыть, полотенцем вафельным вытереть. Та-ак! А Любка, стало быть… Э-эх, кабы не… «Пап, пап, а мамуня скоро?» Сука! А ей хоть те хны. Притащится опять, рожа красная, улыбается, ухмыляется, по плечу рукой: Санечка, ну, Санечка, ну чё ты, чё ты? Конфеты девкам в кульке. Слипшие, грязные. На боках табак! Откуда табак? Сама не курит, не научилась покамест. Оттуда! Раньше она, Любка, этого не делала. Это новое у ней. Новобытное. Раньше, кабы сказал кто, убил б в одночас, не стерпел бы, а тут, тут ничё, амает со спасибом. Хотя, скорей всего, и раньше-то… Тетёх, Витька все учит, оно тетёх и есть. Этакий срам вытерпливать. «Папа, мама у нас хорошая? Да, папа?» Ну да-а, да, хорошая. Клейма некуда… А было, было, молодые-то, с армии пришел, эх, эх, какая была… тихая, пугливая. Саня, шепчет, Санечка, а сама трепещет вся. Будто ждала все, будто выйдет кто из-за поворота и объявит ей. Объяснит. А чего объяснять-то? Живи! Люди-то вон. Можно ж. Работай свое. Будь. Саня, Саня, — бывало, эх! — Саня мой, ты гляди эвон камышинки-то как, веточки… гляди, какие словно суставчики у них, ноготочки листиками. Верно, мол, мы с тобою деток нарожаем, правда ведь, Саня? Нарожали! На Север, предложили когда, сама с ним упросилась, один думал. Едем! Едем! Чуть не в ладошки хлопала. Ой, ой, Саня, хорошо ж, чего, пошто немтун-то ты такой… А с мужиками пили — детей не было покуда, годить решили — и сам же, сам, дурило, ох, думбак-дуролом: давай, давай, Любушка, тяпни-хряпни за северну красивую жизнь! Морщилась, краснела, привыкнуть не получалось все, искусству обучиться. А разволнуется после, лопотать кинется, уведывать, — лопочет, всхохатыват, а следом в слезы опять, тоска. Ох, ох, доля-де наша, людская, злополучная. Всех, всех — расхлюпается — жалистно ей, всех до едина… Бабку поминет, маманю, собаку, что у них иголкою в хлебе подавилась. Как кхакала та да ребры сжимала, как она шоркала, Любка, ее ладошками своими… да…
Ждал автобуса после, на остановке. Домой ехать. Деревня неподалеку, вскорости окончательно совхоз их приокраиной заделается. Час пик минул, дачники проехали, велосипедик Светкин на заднюю площадку к стеночке можно. Дома ее, Любки, не обнаружится, надо полагать. Ночью придет. Саня, Санечка… Плакать начнет, обвинения разные строить. Ты, мол, — для отвода-то глаз — ты, мол, сам же во всем виноват, не любил меня, не голубил, а детей, дескать, девок, все одно она ему не отдаст! Раз — Светка, младшая, грудная еще была — он ее, Любку, побил. В те поры в борозде еще держалась при всем при том-то, соседи о втором ребеночке и насоветовали: ро́дите, дескать, второго, не до пьянки ей, Саня, будет, не до глупостей. И уж понадеялся. Год удерживалась. Год! Молоком Светку откормила, и все. Не оберег господь. Готовая пришла, в забор оперлась, лыбится стоит. У него и не выдержало. Дал. Рука тяжелая, пятаки гнул (не хвастал, знал — попробовал как-то раз), а тут со всей силы. Убил, думал. Три недели из дому не выходила, фонарь в пол-лица наплыл. Нет, не пила, а ночью руку ему поцеловала: правильно мне, Санечка, так мне! Сердечно уважаю, мол, я тебя, и прости-прости меня, змеюку подколодную. Ты мужик у меня лучше нету, ох, повешусь я вскорости от такой твоей хорошести. Бей, бей, мол, меня! Он ей все на ту пору простил. И то, и то. Сам утешал. Ффу. По голове, по волосьям ее гладил. Целовал.
— Наладил? — обняла Светка за штаны его, прилепилась, любит папку, соскучилась. Ручки тонкие, прохладные… грязные. Платье от старшей, от Татьяны, перешло, болтается, велико. А кто подгонит-подошьет, матери-то родимой нету!
— Ели? — спросил.
Ели, ели… Татьяна в который раз картошку на сале подогрела — чего ж они, девки, еще придумают-то? Ладно. И… не выдержал, в сарай ушел; вроде по делу, а сам постоять успокоиться с глаз. Ладно, ладно, ничё!
Убежали девки. «На улку…» Повертелись-повертелись и упрыгали. Понял — ожидали его, чтоб накормить.
Хозяйки.
У Володи-электрика в доме тоже не все в порядке.
С женой серьезное выяснилось. Врач в уголок в вестибюле отвел:
— Я должен поставить вас в известность.
Ставь!
Шел домой и сам про себя переживал: вот те, мол, нате! И что в таком разе делать? Куда? Радовались недавно — квартиру без потерь обменяли; не успел с шахты уволиться, а уж вон за тыщу километров прописка-адрес и сестра-учительница в квартале ходу за углом. Телевизор цветной приобрели, с зятем в баню по пятницам, с сестриным мужем. И — на! Должен поставить вас в известность. Это как?
И после, когда ушел врач, Катя появилась. Неделю всего и не виделись, а тут, повещённый-то, разглядел: плохо! Плохая Катя, схудела, желтая, щеки свисли, стекли будто, а глянула на него, отвернулась — поняла, что оповестили. У Марии-то — сестры был ли, цветы ли поливал? А сама вроде и не вознамеривается знать про себя. Давай, давай, дескать, показывай мне, разубеди. А я, мол, тебе поддамся.
Достал папиросы, выщелкнул одну.
— Ну как ты? — сквозь дым глянул. — Скоро отсель?
Вздрогнули губы. Скоро. А как же, мол. Бегу прям. И отвернулась, чтобы слез ее он не увидел.
Уходила от него, на худой левой икре синим червем размытым жила какая-то… Умрет баба, думал-возвращался, умрет, — чё буду в таком разе делать?
Про Володю-электрика мало разговоров. Он свежий тут товарищ, двух лет не минуло, как устроился. В электричестве своем разбирался, а к остальному-прочему кто ж его… работал! На задках здания огородик разбит по территории, две-три гряды любому желающему, кто свой. Дак он, Володя-то электрик, обижался как будто: то палки у помидор его повыдергают, то еще ли что. Ни у кого, видишь, никаких происшествий, а у него оказалось.
Про Саню ж Выдрина — иное. Женщины, мотористки которые, хлораторщицы из смен, лаборантки, уборщица там… собираются, бывало, в красном уголке зарплату ждать, — и пошло-давай! И так обсудят положение, и эдак. Как бы не дети, размышление идет, то развод Сане, ясней простого, лучшее средство, а коли эдак-то вот, с детьми, куды ж? Все равно развод! — мнение выражалось. Сколько можно сносить этакое-то! Но и нет, нет, тотчас возражение выдвигалось, другой рецепт: терпеть да отучивать супружницу мало-помалу… непонятно, дескать, куда еще завернет. Не кинешь жа детей? Ну-ну, первые тогда кивали, ну-ну, отучивай, как же, слыхали, держи-ко пошире карман!
— Жаль, — высказывался Василий Федорович Стебеньков, слесарь, — жаль меня берет глядеть на энтого бедовика!
На третьем подъеме трубу порвало, услали Стебенькова туда, а Сане Выдрину — больше-то кому? — хлораторную его под призор. Саня инструкции, какие были, прочел, бородку с баллона сбил, развинтил, свинтил все, прокладки, какие повышоркались, поменял, а хозяин, Стебеньков Василий Федорович, воротился, он ему и высказал, что поимел. Все тут у тебя навкось, все на соплях, колды-болды, — сундук, дескать, ты, Стебень, а боле никто.
Иной бы обиделся, огрызился на Саню, в гонор полез, а Стебеньков Василий Федорович нет, он стерпел.
Начальник смены, Петрович, скобычковатый мужик, иди, иди, отцентруй, велит ему, Стебенькову, мотор. А куда центровать, он от веку там лежит и еще столько же будет, коль не трогать его. Он, вишь, Петрович, мимо шел, ну и доглядел начальным глазом. Не надо! — Василий Федорыч мнение высказал, — не нужно этот мотор центровать, Петрович. Пущай как поставленный и стоит. Нет, я приказываю тебе, сучий сын! Стебеньков пошел, глянул «ишшо», — нет, нет. Петрович, не надобно центровать, хочь убей! Максим-то варит у тебя, аль уж вовсе на хрен сошел? А тот, Петрович, схватил за холку его, иди, иди, сучий сын, кому велят. Василий Федорович Стебеньков голову угнул под руку его, крутнулся, у того руку-то отшибло по графину. Графин брямк в пол да вдребезг. Петрович — в товарищеский суд. Спасибо Сане — надо ль было центровать, спрашивают. Другой неизвестно, все ж Петрович — начальство и зуб грызть долго не запамятует, а Саня — нет, аллюр три креста, нет надобности центровать, Саня сказал, и не трожь невиноватого!
А что на соплях, колды-болды, хлораторная вся, так на соплях и есть… кто возражат?
По-разному, ясное дело, относились. Кто чё. Всяк выход свой предполагал, свое понимание.
Витька — тоже.
— Ты, Матвеич, глупо́й! — учил он Саню. — Бабе, того-сего, только волю дай, не уймешь после. Ты ее, Любку-то, бери и дуй куда подале отсюда. А допрежь того в ЛТП сдай, через милицию чин чинарем, пускай ей, сучке, вправят мозги, пускай торпеду вошьют, — для страху! А страх… да от собутылов своих далеко, — выравняется, выравняется, глядишь. А?.. Подставок, уговор, не бьем. А что подставка, если разобраться? Шар в лузе — ясно, тут задел — упадет. Ясно! А рядом? Не в лузе, а рядушком. Что боле-мень игроку плевое дело его вбить. Что тогда?
Вот и получается, кроме Сани для исключительно трудовых шаров у всех прочих кишка тонкая. Попервачку форс держат еще, а к проигрышу — и все, благородству конец. Лишь бы подставкой не звалась. Забьют, не поморгуют. Или другое взять. Жениться, скажем, задумал кое-кто. Не важно! Из местных. Невеста намечена без булды, вечерний институт кончает, член КПСС, культурно тебя «Виктором»… Пустячок, а тепленькое и душу согревает. А Файку-лаборантку, чьего пацана полтора года по башке шершавой ладошкой гладил, где бывал-ночевал и шутки развеселые шутил, ту, стало, Файку, ты, известное дело, побоку. Культурно. И кто б как, а только заносит Файка банку под пиво по старой памяти — пиво-де шла-видела в столовой-то по пути, — занесет, это, сядет подле Стебенька, я, мол, ничего, я так пока посижу, — и кто б еще чего, а Саня — нарочно. И заулыбатся-то в коий век, распошаркиватся: проходи, проходи, Фаина, желанный гость. Расположение! Ты, дескать, козел, и как там с невестами у тебя культурными — сам одумывай, а мы в оплату красивых твоих бровей никого здесь отдавать не собираемся… Во!
Где-то в полвторого калитка скрипнула. Саня поднялся и, как был в трусах и майке, вышел в ограду. Любка двигалась по дорожке покачиваясь.
Заметила, ухмыльнулась, провела у лба пятерней. Вроде прическу поправила.
— Са-а-аня…
Стоял.
Подошла, дохнула «в шутку»: фо! — а рукой по голому плечу, погладила горячей рукой… Эх, эх, ждешь, мол, меня, славный мой мужичок.
— Я на развод подал, — сказал. В действительности не подавал — сказал.
Помолчала. Засомневалась, поди.
— Брось, Саня. Ты… ты это…
— И девок у тя отсужу.
И сам поверил, что отсудит. Она ж… вон какая, кто оставит ей их? А они и без… без нее как-нибудь. Все равно некуда. Некуда хуже-то.
— А я? — И ухмыльнулась. И никогда еще страшно так она не улыбалась. Без стыда. — Что-о, али не пожалеешь меня?
Повернулся, пошел.
Ненавидел ее. Ночью лезла приходила. Встал и ушел к девчонкам в комнату. На шубе и спал.
Утром в глаза не глядела, понял: поверила про развод-то. Ну и… ничё! Ушел не завтракая. Утром, знал, как ни с похмелья, а девок в школу снарядит.
«Как ни пей, ни економь, — в слесарке Стебенек высказывал опять, — наутро все одно водой опохмеляешься..» Вчера, мол, бутылку спрятал в огороде, наутресь сыскать не смог.
В былое время Саня посмеялся б, а нынче нет охоты у него. В кухню руки сунешься помыть, там суп стебеньковский взбулькивает на плите. Вчера, стало, нахрумкался, а сегодня варит из чего попадя, чё из дому ухватил. Варит да хлебает ходит целый день. Сечка сечет, деревяшка везет, телепешкин сын заворачивает. Вольгота́!
В праздник с зарплаты сбрасываются мужики, давай, давай, Матвеич, подсаживайся, — и по-хорошему вроде, по-хорошему, а он с полстакана примет, чтобы не в обиду, и айда…
Неохота, неинтересно сделалось.
Тоска брала.
Ночью, ровно в двенадцать, те, кто в смену работает, мыли фильтры.
Фильтровальный зал громадный, потолок с люминесцентными лампами метров под десять. В углах фикусы, пальмы, «бабьи сплетни» по стенам женщины развели. Прохлада. Тихо. Вдоль бетонных ям — фильтров — в три ряда штурвалы: красные, синие, черные и зеленые. Смена, четыре человека, каждый, значит, берет свой. Ты воду открываешь, ты заслонку… ты закрываешь, наоборот.
Стоишь возле вместилища, глядишь — глаз не оторвать: вода взбулькивает, наполняется, светлеет из бурой в зеленую, серую… в прозрачную потом в конце-то концов. Весь день фильтр грязь в себя собирает, ночами чистится.
Жену у Володи выписали; сказали, будут приходить, уколы ставить, а вы, мол, Владимир Николаевич, за ней ухаживайте и зря не тревожьте. Показ такой ей, что полежит, отдохнет покамест в домашних условиях, а там… видно будет.
Смотрела все — слеза в ресницах-то, и не то вопрос к нему, Володе, не то, наоборот, сообщение.
Готовила даже попервости-то ему. Посидит-посидит на табуретке, снимется и опять, значит. Он — на базар. Сперва подсказывала: то, то купи, а после сам выучился соображать. Отпуск вне графика отпросил. Начальник было носом заводил, да Володя справку ему — хлесть! Так, мол, и так, полагается законом «по уходу». Помимо его у больной родственников нету.
Витамины брал на базаре, лето — к концу, фрукты, овощи свежие… Ешь, Катерина, выздоравливай!
— Спасибо, Володичка.
Так про себя и не мыслил, что помрет она. Как это? Отец-мать после войны глаза закрыли, он сам, парнишечка, не ведал и как. С лёту-залёту наезды устраивал. Материну могилу сыскал, а батину так никто и не вспомнил из деревенских. Может-де эвона… — и на холмик бескрестный указуют. А мабуть, и нет, дескать. Ладно, не стал голову ломать: не все ль едино неживому-то?
Придет, а она, Катя, узрится в него с койки, глаза ясные-ясные, прозрачные… будто вымыл их кто оттуда изнутри. Глядит на него, Володю, любит.
— Тут по радио на работу везде приглашают, всюду требуется… А я лежу-думаю, — говорила ему, — вот бы мне-то б сейчас, всю бы я работу за всех переделала.
— Иль не наработалась? — И бутылками брямкал: минеральной покупал по врачебному совету. — Принес тебе. Попьешь горьконькой маленько.
— Спасибо. — И улыбнется, засветится прям-таки на него.
И откуда что бралось?
Эх, эх, рюмочка каток, покатись ко мне в роток!
Женщины, зная Санин такой характер, посоветовали адвоката нанять. Саня с адвокатом поговорил. Адвокат был шустренький, благожелательный, разговор вел вежливо-уважительно с незнакомым человеком.
— Как вам сказать, — объяснил Сане. — Судья на вашем деле женщина (он и фамилию назвал), она, очевидно, постарается сохранить семью. Отсрочку даст, надо полагать.
— А без отсрочки? — спросил Саня. — Однем бы разом.
— Я понимаю, — посочувствовал адвокат, — и что от меня зависит, постараюсь. Но вряд ли! Вряд ли. Как подсказывает мой опыт.
Саня руку пожал ему узенькую, ушел.
Первый суд и вправду отсрочку присудил. Любка сделалась вдруг тихая, важная, отвечала всерьез и то, что пьет, категорически отрицала. Да так, мол, иногда… А когда после адвокатской речи (тот говорил: пьет) спросили Саню: неужто ж де она, мать двоих детей — девочек! — так-то уж сильно пьет, — Саня сказал, что нет, что не так уж. Средне как бы, получилось.
Решили отложить решение. Саня, хотя он особенно и не верил, что подействует, но минуло две недели, а Любка — она с девками в комнате жила, и меж собою с Саней они не разговаривали — когда две недели минуло, а она ни разу не напилась, ему и помни́лось было: может, ничего, может, обойдется, может… ну мало ли бывает-то как?!
Подошел к ней раз во дворе:
— Ну что, Люб?
Но она отвернулась: не стала с ним.
И девки за те две недели переменились. Что она им говорила — неизвестно, да только Светка на том велосипеде, коий он чинил, не каталась. Нарочно в сарай его выставили, на вид. Раньше-то в сенях. Не нуждаемся от тебя, мол! А Татьяна, Таська, а ей уж тринадцатый год, сказанула ему: «Папа, а ты что же, ты с нами развестись совсем хочешь?» «С нами!» — видал?
Помалкивал ходил. Озлился.
Бабы на работе вздыхали: зря он. Надо б помириться, а не то не ровен час… Другие возражали: чего! помирись, это, а она чрез два дни вдругорядь нашамается. Знамо дело.
А после ни с того ни с сего суд, и решенье: развести, имущество поделить, дети остаются при матери!
От те раз… Рассудили Шемякиным судом.
Саня вгорячах не уяснил поначалу-то. Женщина-судья, полная, солидная, серьезно говорила, глядела строго на него (ему и нравилось, что строго) — дак как же?
— Доигрался! — сказала Любка.
Смолчал. А дома уж подошла — ты, мол, вот что, ты деньги нам за полдома собери, мы к мамане моей уедем, — согласный? А можешь и по почте, дескать, адрес есть.
Что ж… Вольному воля. Ходячему путь.
И уехали.
Утром встал, а в доме шаром. Когда и успели: билет, собраться.
Игрушки, глядел, Светкины остались, велосипед этот, платьишки… пальто Любкино демисезонное, затасканное, посуда вся.
Хотел было догонять броситься. Ку-у-уда-а?
И что говорить-то, если догонишь? Вернися, Люба, будем опять с тобою жить? Да ить ненавидит он уж ее за все! Или из-за детей показать? Притвориться, что не так, а и́наче обстоит?
Ходил по комнатам. По двору. Туда-сюда. Тудымо-сюдымо, как Витька Хромцов беспременно б пошутил. Пойти напиться рази? К Витьке и двинуть. И здесь же чуть не рассмеялся сам с собою: снова да в лад! Ну.
Лег в кровать и лежал.
Жена у Володи догорала. Кожа да кости.
И глаза…
Они уж все переговорили, про все-всех припомнили, — и как познакомились, и как квартиру получали, как испугалась Катя, когда в его смену в шахте завал произошел. Говорить не о чем больше, — сидели вечером (он-то сидел, она лежала), рука в руку возьмутся, да и молчат. А нито плакали. Он вроде, Володя, на слезу не охоч был, а тут швыркал и утирался и ей, Кате, руку ее желтую гладил-целовал.
И умерла она, он у постели находился. Рядом. Заснул и не заметил. Утром ранешенько сестра-учительница в дверь звонит, а он гляделки-то приоткрыл, ну и понял — всё.
Лето дозревало. И будто б оно задымилось уж маленько, будто обкуривалось с боков прощальным чистым этим дымком. Ночью выстывало, на заре туман выпадал.
Саня почистил подпол, перекопал кое-что, пожег, навозцу туда-сюда в огороде разбросал для удобренья. Работа плохо шла у него, внатуг. Из домашности, помимо собаки, никого на всем подворье в настоящий момент не числилось. Ни те кур, ни утей, ни хрюшки, ни тем паче коровы. Любкиным усердием. Собаку звали Жук. Светленькая, желтоглазая, уши-петельки ровно у летучей мыши. Светка с того конца деревни приволокла прошлый год. Насмелилась. Ревела, чай, прощаясь на чужбину-то свою.
Мать-покойницу во сне видел. Мать шарилась, клонилась над ним, в руке свеча. Светлый столбик в воске от пламени. И будто б: «Чё это ты, Саня? — удивлялась сильно, — ты чё ж эдак, сынок?», а потом: «Не попустися, не попустися…» — и голову-то ищет-ищет по подушке его. Погладить, значит.
За грибами ходил. По околкам, с мешочком полиэтиленовым после работы. И белые были, подберезовики и сухие хорошие грузди.
А то Витька зашел попроведать. С пивом.
— Ты все одно как дитё прям, Саня, ага! — взялся сызнова учить. — Адвокату-то дать надо было!
— Дак я заплатил… Касса там у них.
— Касса! Дура! Окромя кассы-то — что? Самому-то мужику надо али нет? Из кассы процент отчисляют, а ему-то, ему-то! Не микитишь, что ли, дурья башка?
— Ну ты с дуром-то потише. Ты эвон умный у нас подрос.
— Да уж не дурее, — не обиделся Витька. — Из-за бабы страдать не собираюсь.
И пиво разливал. Пена лопалась, шелестела.
Саня выпил и с непривычки ослабел.
— Они, девки-то, поздние у нас обе, — делился с Витькой. — Все опасались, витаминов мало на Севере. Добоялись! Родила б сразу, так, может…
Витька догадался: «Может, не успела спортиться».
— Ну да, — добавил для поддержки. — Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца.
— Там был один, — выкладывал душу Саня. — Та́к на вид, ничё вроде. Заслонку вовремя не сменил, начальник приходит: кто? Молчит. Он ко мне. Ты, значит, не поменял? Говорю: ну я. Кому еще, если двое нас всего. Думал, тот-то обидится, что я на себя взял, а он ничё. Обрадовался, похоже.
— Эт так! — усмехался Витька. — А ты-то как ожидал?
— Иль еще взять. Ты его, допустим, жалеешь, а он тебя же с того боку и ударил. Это как?
— Да ладно ты, Саня, — успокаивал Витька. — Давай я за белой сбегаю. А? Не возражаешь?
Саня колебался. И выпить хотелось, душеньку поотвести, и поговорить. Но и чуял: нельзя, не надо бы, нехорошо по сложившимся обстоятельствам. И он, Саня, помотал большою своей головой: нет-нет, Витя, не надо, нет!
Витька потух, загрустил, однако домой в одночас не ушел: еще побыл. Не из-за выпивона же, дескать, явился он сюда.
— А вот, к примеру, баба, — спустя время спросил у Сани. — Красивая, ага… А ты узырился на нее, и интересно: а что у ней, к примеру, в кишках?! Бывало у тебя? Или взять камень да в окно-то чьё и зафитилить? А? Нет?
Саня засмеялся.
Витьке понравилось, что он засмеялся, и он прибавил, будто подводя завершающую черту:
— Ладно. Не тужи, мужик, по бабе — бог девку даст!
Ночью Саня ходил в туалет и слушал, как стучит по листам и подсолнухам дождик… Возвращаясь, он толкнул плечом подсолнух у дорожки, и тот, как живой человек, отодвинул ему с дороги тяжелую повисшую голову.
Утром было хорошо, свежо. На пожелтевших листиках смородины, на нежно-лохматеньких кронах укропа посверкивали водяные бисеринки.
Пора было копать картошку.
Володя с большими, оказалось, хлопотами и стояньем в очередях Катю свою схоронил.
После похорон вышел на работу. Обвыкал помаленьку.
Иной раз в слесарке никого, он в бильярд сам с собою. Учился.
По воскресеньям ездил на кладбище. Брал бутылку красного и поминал Катю в одиночку. Оградку ставить не разрешили по новому закону, можно, конечно, было и где-то кому-то сунуть, вырешить оградку, но он не захотел, все едино, подумал, ладно, ладно, какая разница. Сколотил скамеечку и сидел-посиживал, глядел на могилу да на сто́роны. Это странно, но у него и с сестрою после Катиной смерти отношения попрохладнели. Боялась, может: раз теперь одиночник он, к ее семейству начнет лепиться, а у них, дескать, своих забот полон рот, без него. Так что тпру, мол, постой, распрягай коня. Но он, Володя, хоть и догадался, а на сестру родную не шибко… того. Обиделся. Один дак один! Ему уж казалось, Катя была женщина необыкновенная, второй такой не сыскать, что бабам, коих он лично видел и самолично близко знавал, до нее, до Кати, как до… до той вон синей звезды! Ему казалось, что и сам он тоже Катю всерьез любил и что жили они душа в душу.
— Лежи, — говорил он, когда бутылка с портвейном опустевала под лавочкою. — Лежи себе пока.
Когда трава пожелтела, прижалась получше к замерзающей холодной земле, когда после снег выпал, Володя-электрик ходить на кладбище перестал.
Шел октябрь, а ночная смена выходила вечерами с лопатами чистить дорожку — от двери до самых наружных ворот. Отмыв фильтры, оттелефонировав сводку на Центральную, сидели за переходным дураком, за разговорами-историями коротали уютно темное время. Вот один руки-ноги потерял на войне, Кузминична рассказывала (мотористка), жил, значит, в инвалидном доме, а про себя ничего жене не сообщал. Не схотел ейную жизнь портить. А та возьми да в военкомате нечаянно узнай. Приехала через столько-т лет, увидала его — и в рев. А он ей речет: ты не мучься зря-то, я тут неплохо живу, а лучше, как, значит, воскресенье, ты детей навроде на прогулку по лесочку вон тому вон проведи. А я, дескать, погляжу на их, какие они сделались. И вот она водила. Дети-то не знали. Она водит, а он глядит. Водит, а он глядит. И каково — обводила всех взглядом Кузминична, — каково вот оно было ей и каково ему?!
Стебеньков Василий Федорович подменял болевшую хлораторщицу и принес на дежурство две бутылки яблочного вина. Выпимший, конечно. Женщины, какие в смене, бутылки отобрали у него, а он — отдал. Однако ж по начальству докладывать не стали, пожалели жену: премию б опять сняли ежемесячную. Вообще Стебеньков реже теперь выпивал, гораздо. Завел поросят двух, возил с профилактория на велосипеде, а снег выпал, шофер профилакторский удобрился — подсоблял ему. В военкомате, как фронтовику, ему приемник дали транзисторный, по случаю праздника. «У меня, — хвалился в слесарке, — их уже тры! И бритва хоро́ша…» Саня Выдрин помаленьку тоже в разговор общий стал вступать. «Американские фермеры недовольны, — высказывал точку зрения, — что…» У него, у Сани, иная беда началась. Тяжело сделалось впрохолость. Снилось всяко-чё. Он хоть и не молодой, как Витька, однако ж покамест и не старик. Файка при нем воду к трубе на хлор полезла проверять, он шланг как раз чинил, — икры, углядел, широкие, гладкие, отблескивают аж, — аж дрожь по коже у него. Эх, мелькануло в голове, — эх да эх, мол, да про Витьку вовремя вспомнил, что ничего у тех не разрешилось покуда. Да и старый он для Файки, Саня-то, был: щетина седая лезет в бороде, брюхо вона над ремнем навесилось.
Правда, попозже обнаружилась одна. Золушка. Уборщицей, второй этаж мыла, а кладовщице как раз на пенсию. Ну и порекомендовала ее, эту-то, начальству: вот, сказала, ее (Золушку) и ставьте на склад. А что, мол? Ее и не видать допрежь было — как мешком ходила ушибленная. А только-то определили ее, приосанилась враз, зубы желтые металлические поставила, плащ завела красный, туфли… а в выраженье лица значение словно б иное-новое. Ну жизнь, мол, тут у вас журчит, ну вижу-вижу, и отлично, хорошо, никто этому не против. Но только вот и я — тоже! — договорились? А? Ее и на совещание НТРов приглашали, как ту-то, старую кладовщицу. Та-то предпрофкома была, вроде потому, а эту, Золушку, пускай и не в профкоме она, все равно. А на Октябрьскую тост подняла за общим столом, не сробела. «Давайте, — подняла повыше стопку, — выпьем за всех присутствующих!» И улыбнулась Сане, персонально. Он со скуки-то тоже заявился на сабантуй. У нее, у Золушки, двое детишек, маленькие, в школу не пошли. Женщины, бабы НФСовские, хоть и вдогад им было, что Саня получше достойный партии, но, как говорится, мужик без бабы пуще малых деток сирота, — все ж порешили свести. Сколько ж мучиться? Говорили: ты не гляди, свет наш Саня, что у ней детишек двое и муж в тюрьме, он, муж, — дурак, а она баба ничего, запуганная малость, да при тебе-то отойдет. А тебя, Саня, говорили бабы, она жалеть будет.
Саня глядел на золотистые зубы — металл от лампочек отсвечивал — и хотелось ему ее, само собой. Не ее, может, а так, по общему женскому счету волновался.
Когда на празднике-то песни завели и курить стали за столом, она ему, Сане, подкинула словцо: «Александр Матвеич скучают все у нас!» Он заулыбался, наморщил курносый нос. «Приходится!» — поддержал, раз так. Тут и Витька подоспел: на плечи обоим руки и — официальное сообщение: «На свадьбу приглашаю! Кафе «Лира». Подарков не берите, лучше деньги в конверт — и айда. А то знаю я вас…» Навроде договор произошел, что на ту свадьбу они с Золушкою вместе.
Однако ж Саня в кафе «Лира» не явился, не-ка. И перед Фаей неудобно за Витьку, и еще что-то, — сам не мог в соображение взять.
Сел и написал в те дни нечаянное письмо.
«Здравствуйте, Люба и Татьяна со Светой. Я живу ничего, неплохо. Картошку до холодов убрал. Продал со станции Петровичу пять мешков, три Володе электрику. У Володи жена померла от рака, молодая еще, пятьдесят один год. Огурцы нынче тоже выросли, не горькие. Сколь банок с лавровым засолил, женщины указали, другую половину на пробу без. Не знаю, получится ли. Витька наш Хромцов женился. Молодую взял с города, а Фаина переживает, черная вся ходит, грозилась от нас с нового года уволиться. Вася Стебеньков свиней завел, пьет мало, остепенился, некогда, мол, мне гулять-озоровать с вами. Жена довольная им. Ты скажи Таське, пускай напишет мне. А то я вас не забыл.
Саня».РИМЛЯНИН
Я знаю, что после смерти душа моя возродится и мы снова окажемся рядом. Ведь в жизни, которую мы жили не здесь, мы уже любили друг друга. Я помню…
Дом, с террасы которого я смотрю на Рим, в Велабре, старом квартале на берегу Тибра. Здесь малолюдно и тихо, хотя это центр Рима. Мне виден золотой дворец Нерона рядом с серым, заросшим пятнами зелени склоном Тарпейской скалы, и платановая роща, которая ночью, если пройдет дождь, темнеет и блестит, как мокрые женские волосы.
Если следовать Эпикуру, наверное, я уже достиг высшего блаженства. Во всяком случае, боли в теле и волнения в душе я не чувствую и, кажется, не буду испытывать никогда.
Ночами Юлла выносит меня на террасу, надо мной загорается созвездие Козерога, и с Тибра дует Фавоний[2] и доносит запах листьев и вздыхающей весенней земли. И я снова живу мою жизнь, мне грезятся руки Юнии, ветер шевелит ими мои волосы, я вспоминаю и расстаюсь… Да, да, отцы сенаторы! Надо поднять факелы. Смеркается. Идет к закату моя жизнь. Мне тридцать один год, на два меньше, чем Александру в день его кончины, но, кажется, больше в мою жизнь вы не втолкнули бы уже ничего.
Я умираю. Каждую ночь я бросаю веревку с крючком в начало утра, в первый час рассвета. Я хватаюсь за нее рукой. Я ползу туда, в жизнь… мою жизнь — такую несбывшуюся и невозвратимо прекрасную.
1
Я родился в Риме, но мое детство, сознательные годы, прошло в Кумах — маленьком городке на побережье Кампаньи. Мне минуло девять лет, когда от родов умерла моя мать и родилась сестра Виргиния. За неделю до этого события отец дезертировал из римской армии, где служил в чине легата, не выдержав позора Британского похода Калигулы. Нас выслали из Рима. С тех пор и до смерти отца служил простым писцом в Кумском магистрате.
Я плохо помню детство, может быть, потому, что слишком помню его. Кумы были прибежищем для многих, подобных нам, — единственное слабое утешение той жизни. Мы были дети изгоя. Нас ненавидели поощряемой бесплатной ненавистью, на которую так падки плебеи и несчастные.
Мы жили в заброшенной полуразвалившейся усадьбе, купленной за бесценок у одного из старых приятелей отца и наскоро отремонтированной с помощью двух рабов, сохранивших нам верность. Ахерусейское озеро, на берегу которого стоял наш дом, давно заросло травой и стало болотом. Вечерами к окнам подползал коричневый туман, и было слышно кваканье лягушек с выпученными безразличными глазами… До сих пор я боюсь сырости и вздрагиваю, когда на шею мне садится комар.
Кроме того что есть в любой провинции, кроме зависти и сплетен, кроме одиночества детства и страха за маленькую сестру (из-за нашей бедности ее приходилось опекать мне) в Кумах была еще пещера пророчицы Сивиллы. Из Рима приезжали богачи, чтобы посмотреть на нее. Сивилла писала свои пророчества на древесных листах, и ветер потом сдувал их в кучу. Пещера давно была пуста, но все детство я верил, что на одном из истлевших листов была когда-то написана и моя жизнь.
Образование я получил плохое, хотя и не совсем обычное. Кроме риторики и грамматики, которыми мучили нас в школе, отец заставлял меня зубрить богочтимого им Вергилия, а сам учил всему, что должен уметь мужчина в рукопашном бою. Мой прадед Луций Габиний Круг погиб в легендарной когорте шестого легиона Юлия, устоявшей против четырех легионов Помпея, и самой дорогой вещью в нашем доме было копье без наконечника — боевая награда моего деда, присягавшего Августу. В двенадцать лет я умел с места запрыгивать на скачущую лошадь, спать стоя и плавать, как дельфин.
Когда Виргинии исполнилось восемь лет, отец с помощью старых связей устроил ее в храм Весты. Ему казалось, боги сберегут ее лучше, чем он. А спустя пять месяцев я надел тогу совершеннолетнего и похоронил отца. Он покончил с собой, уморив себя голодом, считая исполненным родительский долг. Кроме ста шестидесяти пяти тысяч сестерциев в его завещании было пожелание жить так, чтобы смерть не застала меня врасплох.
Каждую осень на его могиле собираются вольноотпущенники и бывшие легионеры Тиберия, высланные или сбежавшие в Кумы от новой власти, они вспоминают отца и говорят, говорят, говорят, размахивая факелами и бессилием…
2
Я перебрался в Рим, где на первых порах жил у дяди, брата моей матери, по имени Пальфурий Фуск. Он служил Тиберию, Калигуле, Клавдию и, наконец, Нерону и у всех умел быть в милости. Узнав, что у меня есть деньги, он искренне меня полюбил. С помощью дяди и нескольких частных писем отца я надеялся попасть в легионеры; именно в военной службе я чувствовал свое призвание. Но стать военным мне не пришлось. Я был сыном дезертира. Нерон, пришедший в ту пору к власти, пока не решался менять старые оценки.
Мой дядя Пальфурий Фуск носил чин войскового трибуна и был еще не старым человеком. Каждый вечер за исключением четверга (в пятницу дядя посещал форум, поэтому накануне берег себя) в нашем доме собирались его друзья и устраивались пьяные пиры, на которых я, воспитанный отцом в строгости и воздержании, был предметом веселых шуток и терпел искушения. Там я сошелся с неким Руфрием Страбоном, всадником и бывшим центурионом в войсках Корбулона. Он и стал тем человеком, который помог мне в моем падении.
Руфрий был старше меня на пять лет; он воевал, был ранен и по ранению освобожден от службы. Но здоровье и служба не слишком волновали его. На свой лад понимая Эпикура, по сути он был гедонистом, то есть разрешал себе все, что приносило наслаждение. Нрава он был веселого и приветливого, и мне нравилось его лицо — он не старался быть тем, кем не был на самом деле.
Тоска, накатывавшая на меня временами, проходила, когда я видел Руфрия и участвовал в его грубых оргиях. Популярным был тогда у нас «пир двенадцати богов», по подобию тех, что устраивал в свои молодые годы Август. Руфрий изображал из себя Юпитера, а мы, его друзья, остальных богов Олимпа. Венерой, Дианой и Минервой наряжались очередные шлюхи, добытые Руфрием (в этом он был непревзойденным мастером).
Я забывался на этих пирах и забывал свое одиночество.
Мы пили и пели, и я любил, когда рядом сидела Сабина, «маленькая рабыня», и Терп, учивший игре на кифаре самого Нерона, пел свои печально-веселые песни… Кифара его плакала, и звала, и не давала утешения, и я уплывал в темноту, и мне не хотелось возвращаться… А потом… Руфрий в обнимку с Дианой и Минервой нарочито гнусаво выкрикивал похабные стихи, и Сабина смеялась заливистым смехом пожилой девочки, смеялась и не могла остановиться…
Руфрий издевался над всем: и над республикой, и над империей, над Юлием и над Нероном. Он не верил, что можно придумать такую жизнь, где одни не будут тянуть соки из других. Поэтому в центр мира он ставил свои желания, какими бы прихотливыми они ни были. На остальное он не обращал внимания — лишь бы не мешали.
После ночей были дни. Мои все более редкие попытки устроиться на службу одна за другой терпели неудачу. Условие, которое мне ставили — признать, что отец мой трус и предатель, было невыполнимо для меня. Отец был мертв, я давно презирал себя и свою покатившуюся жизнь, но предать его я не мог.
Я делал попытки: брался за книги, философию, съехал на отдельную квартиру, давал клятвы… Все было напрасно. Слишком в глубине души я сознавал бесцельность любого начинания. Снова приходил Руфрий, снова кружился веселый бессмысленный круг — гимнасий, охота, гладиаторские бои, пиры и дешевые женщины на одну ночь… Все это не требовало усилий, потому было. Я смотрел, как Руфрий, смеясь надо всем на свете, мочится на двадцатиметровую колонну из нумидийского мрамора, с такой любовью возведенную на форуме нашими патриотами во имя славы Юлия, — смотрел, как вонючая мутная жидкость пузырится на мраморных плитах, и ничего не испытывал, ничего…
Прошло восемь лет. Деньги были на исходе, и я боялся думать о будущем. Случай решил мою судьбу.
3
Мы сидели с Руфрием в бане. Это была одна из тех простых римских бань, просторная и не очень грязная, в каких моются зажиточные плебеи. Руфрий из удовольствия особого рода любил иногда бывать здесь. У него было много таких привычек-прихотей, странность которых и была источником наслаждения. Еще одна, например, состояла в том, что, несмотря на нашу безалаберную жизнь, каждый месяц он производил обряд очищения — приносил в жертву свинью, быка и овцу.
Мы сидели в простынях и пили ретийское вино, которое оба любили, и на пол со звоном упал сестерций и, покружившись по мокрому полу, лег орлом — сверкнула желтая чеканная голова цезаря — и Руфрий Страбон, мой друг, всадник и бывший легионер великого Корбулона, наступил на него босой ногой. Звон был сильный, и пожилой декурион, выронивший монету, долго озирался по сторонам, пряча смущение и стараясь делать это незаметно. Потом, махнув рукой, он вышел, и мы с Руфрием покатились в хохоте, радуясь, как мальчишки, подшутившие над учителем.
Руфрий взял сестерций на ладонь, подкинул его пальцем, как это делают, играя в чет и нечет, цокнул языком и сказал, все еще тряся головой и усмехаясь:
— «Как ты, козел, ни грызи виноградник, вина еще хватит…»[3]
— Разве мы не отдадим его? — спросил я.
Он отвернулся, показывая, что не хочет больше говорить об этом. Я смотрел на его гладкие белые ступни с курносыми большими пальцами. Они были розовые и мокрые, как свинячий нос. Мне стало тошно — приспособившееся, похотливое, пьяное животное сидело со мной рядом, и я ударил его голой рукой.
Он побледнел и встал со скамьи, а мне стало легче. Я был сильнее, и мы оба это знали.
После тишины, в которой мы прошли длинный короткий путь от друзей до врагов, он овладел собою и снова рассмеялся. Неужели ты думаешь, тихо сказал он, что все эти годы ты жил на честные деньги… Неужели ты думаешь, закричал он прямо мне в лицо, брызгая слюной, что деньги, на которые ты пил и спал с потаскухами все эти годы, это те жалкие гроши, которые я брал у тебя, щадя твое самолюбие кретина? О жалкий дурак, сын осла и лошади! Этих денег не хватило бы на одну вонючую мавританку! Ты жил на мои деньги, на мои, а я получал их от старых богатых козлов, которые провинились перед законом, нажирая себе брюхо, чтобы я — я! — помог им выкрутиться из их козлиных дел.
Он платил судьям и крупным чиновникам магистрата (таким, например, был мой дядя Пальфурий Фуск) шлюхами, а иногда и знатными женщинами, если удавалось их шантажировать, а клиенты этих судей, «козлы», платили ему, Руфрию, — веселому человеку. Он выкрикивал ругательства, он смеялся и хрюкал, ему уже нравилась энергия нашей беседы, а я не мог прервать его азиатское красноречие и заставить замолчать.
На другой день я продал себя в гладиаторы.
4
«Даю себя жечь, вязать и убивать железом!» — так кончалась моя гладиаторская клятва.
5
Перед первым поединком я выговорил себе право посетить сестру. Я хотел попрощаться. Мне долго не разрешали увидеть ее, но, не задумываясь, я платил, пугал и просил всех, от кого это зависело, и наконец нам дали свидание — четверть часа в конце короткого осеннего дня. Мы простояли их у темной, обросшей мохом колонны, и издалека, из глубины храма долетали тихие, исчезающие звуки флейты. Я смотрел на Виргинию и понимал, что пришел зря.
Прошло девять лет после нашей разлуки, мы стали незнакомыми. Виргиния смотрела куда-то поверх моих глаз и мелко кивала на ненужные слова. Ей было семнадцать лет, а цвет и свежесть юности уже ушли с ее лица, и осталось одно лицо — маленькое, некрасивое и несчастное — лицо осиротевшей старой птички, которую забыли накормить.
Я смотрел в эти родные глаза, на запавшие щеки с бледными морщинками у рта и думал: зачем? Зачем была зеленая трава возле нашего дома, зачем мы любили отца и так гордились им… Зачем мы несчастны?
Виргиния так и не сказала ни слова; уже когда, прощаясь, я целовал ее руки, она вынула откуда-то из черноты своей бесформенной одежды мою детскую буллу и надела мне на шею… Мы заплакали, она поцеловала меня в плечо, и я ушел, чтобы никогда больше не думать о встрече.
6
Потом, ослепший от волнения, я стоял посреди арены, выложенной плитами, и трибуны в мареве моего полуобморока плыли, сливаясь с синим небом, в сторону, и перед ними крупно, тоже плывущее, но медленнее, отставая от них, бледное лицо моего первого противника — застывшие глаза над фракийским щитом. С бессмысленной яростью он размахивал коротким мечом, и в глазах его стоял ужас… Ко мне вернулось мужество.
Я свалил его двумя ударами, но не убил. Мы были новички, первая пара — от таких публика не приходит в большое волнение. К первой паре, потом я понял это, почти всегда проявляется великодушие. Смерть должна приносить удовольствие!
Потом… Потом я дрался на скользких плитах в саду Помпея, в деревянном амфитеатре, построенном Нероном для боев, в септе, где арену посыпали суриком и горной зеленью, чтобы лучше была видна кровь… в Риме и в близлежащих городах, куда нас, как дорогих шлюх, возили по договору с каким-нибудь богачом-любителем; один на один и отрядом на отряд, с дикими зверями и пленными солдатами. Я выходил на арену с сетью и трезубцем с ретинариями и в тяжелых, пропахших чужим потом доспехах мирмилонов — и ни разу за пять лет не повернулось над моей головой Pollico verso[4], приговор-перевертыш, «маятник судьбы»…
Я был невысок ростом и не очень силен, но все, чему учил меня отец, не прошло даром, и, кто знает, может быть, молитвы Виргинии были услышаны богами… Даже на полуденных побоищах, когда знатная публика уходила на второй завтрак и на потеху плебсу устраивался кровавый бой гладиаторов без доспехов, мне выпадало остаться живым. За пять лет почти беспрерывных боев я получил только несколько мелких ран и дважды вывихнул руку, которую повредил еще в детстве, запрыгивая на лошадь.
Я научился убивать.
В первый раз, когда я добивал огромного сутулого сарацина, дравшегося неумело, но свирепо, как бык с пропоротым брюхом, когда Pollico verso как откровение, как тупая усмешка рока, делало меня, меня и никого другого, — убийцей, я принял это обреченно и тупо, как животное… и в моих снах долго потом вздрагивала мягкая белая грудь, и кровь, и крики, и мой кривой меч, и рукоять…
Сама жизнь вскоре успокоила мою совесть… Наш отряд римских гладиаторов должен был сражаться с отрядом германцев, бойцами сильными и осмотрительными. И вот один из них — рыжеволосый, голубоглазый и высокого роста (из таких состояла когда-то личная охрана Калигулы) — отошел по пути на арену в сторону и поднял с земли палочку с губкой для подтирки срамных мест. Никто не успел сделать ни одного движения, как он засунул ее себе в глотку и с силой перегородил дыхание. С синим лицом и пеной на губах он упал и испустил дух на наших глазах и на глазах у всех, кто сидел на трибунах. Я понял, почему я могу убивать. Смерть была лучше нашего звериного рабства.
Когда молодых неопытных гладиаторов выгоняли на арену факелами, мечами и ударами бичей и они погибали потом от наших умелых рук — это было похоже на работу мясников. Я разучился жалеть. Я стал грубым, тренированным животным, бесстрашным, равнодушным к смерти — все равно, моей или чужой она была. Тогда и появилось в моих движениях то сочетание свободы и точности, которым гордятся мастера.
Успехи мои росли. Поединок, где я дрался с африканским барсом, сделал известным Риму мое имя. И хотя рука, которую клином я заталкивал в его смрадную мокрую пасть, была изгрызена до кости и не заживала полгода, после этой победы (я убил его ножом) меня зачислили в свиту личных гладиаторов Нерона, в свиту, где был знаменитый Спикул.
Я стал одним из лучших гладиаторов Рима.
Однажды после боя, в котором в одиночку я победил двух молодых греков, наш ланиста[5] Сколпий, подмигивая и усмехаясь, передал мне просьбу какой-то знатной матроны посетить ее на вилле. Подобные приглашения были редкостью у нас, но кое-что было мне известно. Сколпий, например, я знал, сам стал ланистой благодаря одной престарелой сенаторше. Но я отказался. Мне, римскому всаднику, потомку рода Фабиев, пусть цирковому животному, но не рабу, не рабу, это было заказано честью. Женщины, в которых нуждается любой взрослый мужчина, предоставлялись нам после каждого выигранного боя, и безличностная эта радость была мне больше по душе, чем тщеславное удовольствие воспользоваться похотью какой-нибудь развратной старухи.
Этой женщиной была Юния.
7
«Тех, кто низок душой, обличает трусость», — говорит Вергилий, и, наверное, так оно и есть. Когда Нерон был помоложе, он любил шляться ночами по Риму, заходя в кабаки, приставая к нищим и случайным прохожим. Его тянуло в клоаки. Несколько тумаков, полученных от пахнущих чесноком плебеев, заставили его быть осторожнее. Отправляясь на свои вылазки, он стал брать нескольких надежных воинов-преторианцев. Мне тоже приходилось бывать в этой свите. Иногда я ловил на себе его пристальный полубезумный взгляд и еще не догадывался, что сулило мне это в будущем. Он умел восхищаться, завидовать и ненавидеть одновременно. После моего поединка с барсом он объявил Риму, что вскоре сам встретится на арене со львом. И я знал — это не совсем пустые слова. Иногда тщеславие побеждало в нем трусость, и тогда он был способен на отчаянный поступок.
Спикул, великий Спикул, был его любимцем. Он делал Спикулу баснословные подарки и относился к нему как творец к своему творению.
Пришел день, и Нерон устроил в своем деревянном амфитеатре поединок года. Мы должны были драться со Спикулом…
Вооружение было одинаковое: два средних меча и щиты — без дополнительного оружия и защиты. Спикул был старше меня и хладнокровнее в бою. И еще, он не был жесток — мы-то, гладиаторы, знали это.
«Убей меня!» — сказал я ему перед боем. Все чаще по ночам мне виделось состарившееся личико Виргинии, шептавшее среди храпа товарищей свое неизбывное «зачем?». Я давно был животным, и как загнанному животному мне хотелось смерти.
«Убей меня!» — сказал я Спикулу.
Он улыбнулся в ответ улыбкой умного сильного мужчины, понимая и не споря, но как бы сохраняя право на свое решение.
Мы ходили по кругу один против другого, и рев трибун был так громок, что Нерон привстал со своего ложа на балконе.
«Знаменитый Спикул — король гладиаторов и Марк Габиний Круг — победитель барса!» — кричали вчера на площади глашатаи.
Я начал нападать. Сделал несколько своих проверенных обманных выпадов, но Спикул, как всякий серьезный боец, знал мои приемы и был готов к ним заранее. Потом в прыжке я ударил его ногами — мало кто выдерживал этот удар, он успел подсечь их в воздухе, и я оказался на земле. Он не бросился ко мне, чтобы добить, и не возобновил бой, пока я не встал на ноги… Я понял, что проиграю.
Никогда раньше не видел я боев Спикула (Нерон берег его от случайностей), но легенды, ходившие о нем среди гладиаторов, были известны и мне. Он мог попасть копьем в вытянутую руку, когда противник стоит на другом краю арены, и именно в ту ее часть, куда он хочет — в плечо, в локоть, в запястье… Теперь же во время боя я понял совсем другое: Спикул любил бой. Он наслаждался моими точными ударами; и чем с большим трудом ему удавалось отбивать их, тем больше получал радости.
Мы дрались половину мартовского часа…[6] Но всему приходит конец.
Я лежал под синим римским небом, солнце светило в мои уставшие глаза, и я знал — это последнее, что я переживаю в своей жизни. Меч входил в мое тело. Сердце чувствовало его холодное острие. Что-то прекрасное было в этом последнем холоде, и мне хотелось, чтобы все кончилось.
Я не смотрел на трибуны. Я был уверен, Нерон держит палец вниз, а значит, и большинство публики тоже.
Но я ошибся… Меня помиловали. Я получил свободу и деревянный меч в знак почетной отставки. Меня выкупила Юния — жена сенатора и народного трибуна, лучшая подруга Октавии, первой жены Нерона, богатая женщина…
Через два месяца я служил старшим центурионом преторианцев — личной гвардии императора, и имел право, идя на форум, надевать всадническую тогу. Еще совсем недавно ни за какие награды я не согласился бы зарабатывать хлеб, служа Нерону, но… я увидел Юнию, и все на свете стало другим. Вся прошлая моя жизнь смешалась, спуталась, вспыхнула, как хвостатая комета в день смерти божественного Юлия, и пропала…
8
О отцы сенаторы! Теперь, когда жизнь моя позади, когда каждый новый день я ухожу от нее еще на один шаг, когда, если на помощь не приходит Юлла, я начинаю плавать в собственном дерьме и тоненьким голосом, который кажется мне чужим, тихо зову его, не испытывая ни стыда, ни нетерпения, — теперь, уважаемые отцы сенаторы, я знаю, Юпитер бывает справедливым.
Для женщины она была довольно высокой — ее макушка доставала мне до глаз. Линия, тугим изгибом соединяющая ее живот и бедро, приводила меня в такое волнение, что в первые наши дни я боялся глядеть на нее… А глаза — темно-зеленые, темные, такие темные, что казались коричневыми, почти черными, того единственного, придуманного в детстве рисунка — узнаваемые, угаданные, а потом узнанные… Мне казалось так, особенно если она смотрела на меня. А это было почти всегда. Я хочу сказать, когда мы были вместе, она почти всегда смотрела на меня… Горячие пальцы тронули мои губы, и жизнь, моя стиснутая, угасающая жизнь, полыхнула во мне нежданным пламенем… Да… Да… Так оно и было, Она была одной из прекраснейших женщин Рима — и она полюбила меня!
Мы уехали в провинцию, в Байни, курорт на западном побережье, в одну из усадеб мужа Юнии. В дни, когда Нерон после безуспешной попытки утопить свою мать в подстроенном заранее кораблекрушении, метался в страхе перед разоблачением, — это он, муж Юнии, сенатор и народный трибун, вызвался заколоть несчастную Агриппину в ее покоях, что и сделал с молчаливого согласия сына.
«Что же… Пусть плот отойдет от берега, — сказала Юния, — может быть, нам повезет больше, чем другим…»
У нее тоже не было иллюзий. Когда, загадывая на меня, волнуясь, сомневаясь и не веря, она то приближала, то отодвигала развязку, в глубине души ей казалось: опять это лишь ненужная игра с собой. Смерть, угрожавшая мне, заставила ее сделать выбор. Она любила, но боялась и не верила. Это мне, убийце и сироте, пришлось убеждать ее, что боги не обманывают нас. «Все правда! — говорил я. — Все, все…»
Я помню… Я помню больше, чем было. Она стояла рядом, склонив кудрявую голову мне на плечо, и я слушал, как отсчитывает такт начальник гребцов нашей лодки. Мы плыли на закат…
Темно-розовое небо и фиолетовая, мелкими всплесками, живая вода…
В те дни, в дни, когда мою душу еще не мучили ни ревность, ни страх за наше будущее, когда я был тем нищим, получившим свой единственный спасительный кусок, когда я любил Юнию, пил ее, вздрагивая от боли и счастья, в те дни я молил Юпитера только об одном — нашей гибели раньше, чем все это кончится. В том же, что все имеет конец, я тоже не сомневался. Если бы нам суждено было счастье, не умерла бы моя мать… Нет, я знал, — это должно было кончиться.
И все-таки…. Все-таки… Именно тогда, в те дни, я понял всю простоту и обыденный ужас одинокой моей ненужности и то, что до самой смерти нас теперь двое.
Если нам случалось расстаться на два или три часа, я думал о том, как она придет, и у меня начинало ныть сердце и сохнуть во рту, как в ту, самую первую, сумасшедше-прекрасную нашу встречу, когда я стоял в незнакомой комнате, в полумраке, где в серебряном круге зеркала отражались два маленьких дельфина из самосского мрамора, и из темноты вышла гибкая сильная женская фигура в греческой короткой тунике и в длинном прозрачном молчании невыносимого волнения приблизилась ко мне. И губы, губы, долгожданные, единственные, ожившая моя жизнь, счастье мое, прикоснулись к моим губам.
Мы вернулись в Рим. Я служил в преторианской когорте, приняв чин старшего центуриона, и снова носил всадническую тогу — так хотела Юния. Мы решили вступить в брак, чтобы защитить себя от опасности разлуки. Юния выкупила мой дом в Велабре и Юллу, раба-араба, старого слугу отца, который жил со мной раньше. Мой дядя Пальфурий Фуск, узнав о моем намерении жениться на жене сенатора, вспомнил и снова полюбил меня. Он постарел, но был все тем же Пальфурием Фуском — два раза за последний год его речи на форуме были удостоены отзыва цезаря.
Муж Юнии оказался против развода и препятствовал этому умело и сохраняя приличия. Но мы не теряли надежду. Какой-то квестор из центрального магистрата, родственник Юнии, обещал нам помочь.
Каждый вечер она приходила ко мне, и мы были вместе. Все равно мы обманули пустую вечность…
Потом в театре я встретил Руфрия — он узнал меня.
Не знаю, ему или, может быть, мужу Юнии мы обязаны тем, что о нашей любви узнал Нерон. Он узнал, и все кончилось. Потому что человек, кто бы он ни был, — плохо переносит счастье ближнего. Юнии не забылась ее дружба с Октавией, а мне… я был слишком хорошим гладиатором.
9
Руки мои были связаны перед животом толстой веревкой, впереди шли два воина, позади верхом центурион и еще четверо — все преторианцы, лучшие из лучших — гвардия императора. Молодой красавец центурион, отдаленно знакомый мне по службе, угрюмо молчал всю дорогу, лишь иногда, когда, задумавшись, я сбавлял шаг, в ягодицу мне впивалось острие его длинного копья. Лошадь всхрапывала за спиной, и на плечи мне падала ее теплая пена.
Я шел по остывающему от солнца Риму, «солнце свой круг пролетело меж тем и год завершило…»[7] — по грубой булыжной Субуре, по Эсквилину, вдоль садов Мецената… Город глазами пьяных и старух равнодушно и привычно смотрел мне вслед. Так провожают глазами по улице одинокую паршивую собаку, которую тащит на длинной веревке живодер…
Я был обвинен в попытке возмутить против цезаря размещенные в Риме когорты. Нерон боролся с очередным заговором и, пользуясь случаем, избавлялся от неугодных.
Конвоиры переговаривались между собой, и до меня долетали то и дело обрывки похабных фраз и смех. Но это не вызывало во мне раздражения и неприязни. В душе было ясно и сухо. Я начал собираться в дорогу.
10
Меня поместили в камеру-одиночку. Тюрьма стояла посреди Ардиатинского поля, в семи греческих стадиях от Рима, среди болот и смрада, которые вернули мне все ощущения моего униженного детства.
Темнота, неподвижные секунды бездействия, вонь из лохани, шуршание сена, в котором копошились крысы… Сколько это длилось — месяц, неделю, две, я не знал… Я ослеп и ждал пыток, но не это мучило меня. Юния… Я знал, какой жертвой она может купить мою свободу. В минуты забытья гнусная улыбка Нерона вставала у меня перед глазами.
В один из дней в мою камеру вошел высокий, узкоплечий и прямой, как копье, мужчина и вздрагивающим голосом заговорил о милости императора. Это был Авл Пифолай, начальник тюрьмы, выдумщик и энтузиаст — один из любимцев Нерона. Он объяснил мне, что цезарь крайне сожалеет о несчастье, постигшем наш род, а также считает, что изгнание, которому подвергся мой отец, было несправедливо и продиктовано чувством личной мести архимстительного Калигулы, что мой отец был одним из лучших легатов Тиберия и имя его теперь будет полностью реабилитировано. А что касается меня, его сына, то моей храбростью цезарь восхищен не менее, чем отца, как, впрочем, и моим мужеством, но… обвинения против меня слишком серьезны, поэтому он, глава государства и верный сын своего отечества, не может поддаться первым своим чувствам и освободить меня. Он вынужден лично все выяснить и проверить. Он просит извинения и надеется на хороший исход… В заключение Авл Пифолай объявил мне, повысив голос и дрогнув им сильнее обычного, что я перевожусь из отдельной камеры, где мне, по-видимому, скучно, и кормить теперь меня будут из расчета шесть сестерциев в неделю против прежних двух… В белом квадрате двери я не видел его лица, и мне было легче сдержаться, чтобы не запустить в него лоханью, стоявшей в шаге от моего лежбища.
11
И вот, в конце пути, фортуна еще раз посмотрела в мою сторону. На следующий день меня перевели в другую камеру и соседом моим оказался человек, которому я обязан жизнью. Тем, что хоть что-то успел понять в ней… У него было имя, известное всему Риму, но не буду называть его — к его славе моя история не имеет отношения. Довольно, если скажу, что в детские годы Нерона он был его учителем и добродетель, бывшая главным предметом их бесед, не слишком привилась к сообразительному ученику. Во всяком случае, доносу тот поверил больше, чем учителю. Итак, я буду называть его «старик», потому что, кроме мудрости и возраста, во всем другом мы оказались равны в нашей камере, как равны люди перед богами в час своего рождения.
Он был стар и мудр, как может быть мудр человек, всю жизнь размышлявший о ее смысле и цене. Я слушал его, хотя не задавал вопросов, которыми был полон в юности. В минуты, проведенные со смертью, была ли то смерть отца или сарацина, убитого мной под крики исходящей похотью толпы, я уже пережил ту последнюю истину жизни, которую может осилить человек. Ведь уже зная ее, я любил Юнию, потому что хотел не истины, а любви… И все-таки…
Когда-то в Кумах, подростком, я был свидетелем настоящей философской диатрибы. Это было в саду Исидора, знаменитого киника, бывшего такой же гордостью нашей провинции, как и пещера Сивиллы. Исидор беседовал с одним из учеников. Смысл слов был темен и непонятен для меня, школьный товарищ, приведший меня сюда, хихикая, показывал на босые ноги Исидора, но я смотрел на лицо, смотрел и с тоской чувствовал всю его красоту и недоступность. Потом, на форуме, я слушал великих ораторов Рима, у Руфрия бывали знаменитые лирики, политики, от решений которых зависела жизнь тысяч людей, но ни разу не появилось у меня ощущения, подобного тому, в детстве, в саду, когда мне почудился в спокойном лице Исидора тот отсвет великой души, которую вселяют иногда в человека боги. Никогда позже у меня не появлялось мысли, что вот этот или тот умный человек знает о жизни то, чего не знаю я… И вот теперь, когда я уже не ждал мудрости, не завидовал и не желал ничего узнавать, здесь, в тюремной камере, беседуя и играя со стариком в кости на холодном полу, я узнал, что та прекрасная, разумная и напряженно-счастливая жизнь, прикоснувшаяся в саду Исидора к моей детской душе, не была обманом, нет…
Я вошел. Дверь, лязгнув, захлопнулась за моей спиной — из угла светлыми простыми глазами смотрел старик, до самого подбородка укутанный в плащ, что носят ветераны, отслужившие в средних чинах положенный срок. Смотрел, как смотрит собака на одинокого прохожего — не поднимая тяжелой головы с передних лап, лишь ненадолго открывая спокойные глаза.
Это и был старик, мой товарищ перед смертью и навсегда. Потом, после его смерти, я понял, зачем соединили нас в одной камере. Если хочешь, чтобы два человека ненавидели друг друга, скажи им, что один из них будет жить, а другой умрет.
Скажи и жди — и ты добьешься своего. И еще… Один из нас должен был пережить смерть другого, чтобы сильнее бороться за жизнь. Как можно сильнее…
Камешки для игры в разбойники нам приносил «Эй, друг» — так мы звали нашего охранника с легкой руки старика. «Эй, друг, — говорил старик, — нельзя ли подогреть сегодня немного воды?» И Эй, друг улыбался морщинистой улыбкой пожилого крестьянина и приносил воду.
«Иметь и не желать — одно и то же, — объяснял мне после ужина старик. Мы лежали на своих сколоченных из сырых досок кроватях, и в окно запахом гнили дышала пустая ардиатинская ночь. — Главное — избавить себя от страданий…» Избавить от страданий, думал я, от страданий — так просто… «Свободы легче достигнуть, — тихо говорил старик, и лицо его было печально, — легче — не исполнением желаний, а отречением… отречением от них…»
Я знал, он прав, человек не должен желать и надеяться. Но я не хотел, не мог принять в душу то, что понял давно и что внушал мне теперь старик. Можно разъять разумом и убить мою любовь, можно было, да я и сам знал это, — расчленить и разрушить последний груз в моей душе, именно сейчас, здесь… Избавиться от этой любви, стать свободным, снова не бояться смерти… Это было спасение, старик жалел меня, но я — я не мог принять его. Юния склонялась к моему лицу, стоило только закрыть глаза, я засыпал под шепот старика, улыбаясь и не веря в смерть.
Старик опоздал ко мне со своей мудростью. Я не хотел быть неуязвимым. Пока у меня была надежда — одна минута нашей любви, оплаченная страданием, была мне дороже десятилетий покоя.
Мы играли в кости, и у старика выпала «Венера» — на всех четырех костях разные цифры — когда заклацал ключ в замке, заскрипела дверь, и бледный Эй, друг впустил в камеру Нерона и его свиту. С Нероном был Авл Пифолай, евнух Спор и… Спикул.
12
Нерон, захлебываясь, смеялся и, оглядываясь на дверь, где стояли Спор и Пифолай, как бы приглашал их разделить с ним удовольствие от нашей растерянности. Руки его не находили места, голова вертелась по сторонам, глаза не задерживались в одной точке больше мгновения. Он был похож на мелкую хищную птицу. Она уже подлетела к трупу своей жертвы, но все никак не примется за нее, все крутит головой, подпрыгивает, прихлопывает крылышками… Красивое, в пятнах золотухи лицо, тяжелые плечи, тугой живот, кривые жилистые ноги… Цезарь, принцепс, император… артист, поэт, наездник, музыкант… Первый кавалер империи — чем не мужчина, черт побери! Убийца матери, жены, сестры, трусливый, мстительный, расчетливый, слабоумный… О боги! Когда горел Рим (по слухам, подожженный им же), он стоял на башне Капитолийского дворца и, глядя на бушевавшее пламя, в поганом восторге пел «Гибель Трои».
Старик встретил его взгляд и повернулся ко мне. «Твоя очередь!» — сказал он. Рука моя потянулась взять кости, но остановилась на полпути. Я знал, если я возьму сейчас кости, — Юнии мне больше не увидеть. И я убрал руку.
Нерон взвизгнул и захохотал, дергаясь и тыча пальцем в старика: «Так! Так! Я вижу, и здесь твои успехи не так уж велики… (тут он назвал имя старика). Да… Маловато было времени для бесед. А может быть, тебя не слушают?.. — Он заглядывал в лицо старику, оборачивался к дверям, ко мне, улыбался, и, когда раскрывался его рот, между зубами и нижней губой натягивались белые слюни. — Ну что же ты молчишь, учитель?! — хлопал он себя по ляжкам, приседая и вздрагивая от возбуждения. — Расскажи нам про Эпикура! Научи не любить наслаждения!»
Евнух Спор и Пифолай тоненько похохатывали, поддерживая веселье. Спикул о чем-то тихо беседовал с Эй, другом. Старик сидел согнувшись и глядел в пол. Казалось, он не слышит. Когда Нерон замолк, он поднял голову и снова посмотрел на меня: «Твой ход!»
Я бросил кости.
Нерон подбежал и наступил на них ногой. Теперь он глядел на меня. Ласково положил руку на мое плечо и даже чуть присел, чтобы лучше заглянуть в глаза. «Она не любит тебя, дурачок! Она полюбила другого… — Голос был грустен и тих. — Ты знаешь, кого она полюбила, Габиний?» Тут от дверей покатился такой заливистый неудержимый хохот, будто целую стаю гиен выпустили из вольеры. Я прыгнул, но в последний миг несильный, точный удар в живот свалил меня на пол. Нерон корчился у дверей от нового припадка смеха, а Спикул стоял надо мной и ждал, не повторю ли я прыжок.
Я лежал на холодном полу, заглатывая воздух, как умирающая рыба, и мой рассудок не мог подыскать ни одной мысли, ни одного суждения, которые помогли бы мне справиться с унижением и растерянностью. Я вспомнил, как Юлла божился мне однажды, прижимая руки к испуганному лицу, что в день, когда Нерон умертвил свою мать, одна женщина в Риме родила змею…
Потом он снова подошел ко мне. Теперь они стояли рядом — Нерон и Спикул. Я видел их переминающиеся ноги. Нерон говорил. Смысл слов был неясен, но сами слова запомнились, и, придя в себя, я понял их задним числом. Он принес с собой цесты[8]. Мы устроим здесь, в камере, кулачный бой, если, конечно, я желаю этого. Спикул будет судить нас. Он надеется, Спикулу я верю. Я должен гордиться — со мной будет драться цезарь. Гордиться даже поражением. Хотя, разумеется, особой причины для боя нет. Из-за какой-то потаскухи, каких много. Но он готов, да, он готов, если я буду настаивать…
Я начал подниматься. Спикул не трогал меня. И меня больше не ломало ненавистью, и я не собирался нарушать правила игры. Я выбрал, и мне стало легче. Мы будем драться, и я убью его. Мы встретились взглядом, и что-то подалось в его глазах. Они помутнели и забегали. В минуты опасности он всегда становился сообразительным. Боя не будет…
«Собака!» — раздалось в затянувшейся тишине.
Нерон вздрогнул и поискал глазами Спикула. От дверей придвинулись те двое. Теперь они не смеялись.
«Собака!» — повторил старик и показал на кости. На всех четырех правда были единицы — «собака».
Несколько секунд стояла такая тишина, что было слышно, как переговариваются охранники в тюремном дворе. «Вот если бы ты ее увидел, тогда бы и говорил, — бубнил молодой, рассудительный голос, — а то не видит, а говорит, вот если бы видел, тогда бы и…»
— Тебе! — показывая пальцем в старика, хриплым голосом произнес Нерон. — Умереть вечером! Ты учил меня жить, помня о смерти, чтобы не бояться ее… — Лицо его стало серьезным, почти грустным. — Ты можешь доказать, что слова твои не расходятся с делом. Умри!
Тут он не выдержал, и на бледном, в красных пятнах лице его появилась знакомая усмешка.
— Тебе! — Его короткий жирный палец уперся в меня. — Тебе я даю один шанс, рогоносец! — Он подмигнул Пифолаю и снова заливисто расхохотался. Он долго опять дергался и приседал, потом обнял одной рукой педерастически выгнутую спину Спора и вдруг, мотнув головой, будто замахиваясь для клевка, схватил его зубами за плечо.
13
Я смотрю на вечерние огни Рима, слышу редкие голоса, которые доносятся снизу. Там, подо мной, — баня. Мне слышно, как кто-то поет там во все горло, и в животной этой радости мне чудится что-то тяжелое и чужое.
День идет за днем, и все меньше остается во мне желания отыскивать какой-то смысл и значение в моей прошедшей жизни… Тупая, застилающая память усталость кормит мою горечь и приходит на смену недолгому желанию понять. Пройдет еще немного времени, и, пожалуй, мне не надо будет уже ничего.
«Ночь утишила все и мирный покой даровала…»[9]
Был вечер. Я сидел на кровати старика и смотрел на его бледное лицо. Он вскрыл вены; мы ждали его смерть. Лицо было печальным и спокойным. Свеча, которую принес Эй, друг, освещала его в темноте. Кровь слабой струйкой сбегала в чашу, старик бледнел и дышал все чаще… Иногда он поднимал голову и произносил несколько слов. Голос был слаб и жалобен, как у ребенка, и в одно из мгновений у меня мелькнула стыдная мысль: «Боится!» Потом я подумал, что жизнь моя, и жизнь старика, и любого другого человека — соломинка, концы которой совсем рядом. Можно взять ее за середину и увидеть их — два обрубка твоего сиротства: твои рождение и смерть. «Как трудно… умирать…» — шептал старик, и в глазах его светилось одинокое пламя свечи.
Я ненадолго забылся и снова очнулся, когда почувствовал прикосновение его руки. «Может быть, ты и прав, — прошептал он, — может быть, и не надо ничего знать… Все одно…» Он умирал. Он умирал, а я не мог, не умел охватить замученным своим сознанием, что происходило тогда с нами. Мне казалось, я не мог оставить его в смерти одного. И все равно меня не покидало ощущение, что душевная работа, которая происходит сейчас в нем, останется тайной для меня. Хотя до последней минуты, почти до последнего вздоха он не забывал обо мне.
«Не бойся! Не бойся… Это не страшно».
Мир таков, каким его видит человек. Он умер, и смерть, принявшая его, уже не ждала никого другого. Она пришла в его мир и ничего, я знал, ничего не решала для меня. Никто на всей земле не мог ответить на вопрос моей сестры-весталки: «Зачем?» Зачем нужен «этот безудержный бег в темноте»[10], который мы так гордо называем жизнью?
14
Кто мог подумать в те дни, что я переживу не только старика, но и Спикула, и Спора, и самого Нерона, который обещал жить вечно, чтобы не сделать несчастным свой народ. Кто мог?.. Войска Гальбы шли к Риму, и Нерон чуял свою смерть. Мой старый Юлла видел, как на площади перед форумом он рвал одежду на груди и кричал, что все пропало. Все его приспешники отвернулись от него. Старая кормилица поднимала его с земли и утешала, гладя по жирной шее.
Тело старика вынесли, кровать его была пуста.
…Мне объяснили правила новой игры. Через три дня меня выпустят из клетки, и я имею право бежать, но охотники, среди них будет и Нерон, ожидающие сигнала на тюремном балконе, имеют право убить меня. Я буду свободен, если добегу до конца предтюремной площади.
Условие я принял. Мне оставалось еще два дела: увидеть Юнию и умереть.
Три дня меня водили на прогулки в тюремный двор и кормили так, как я не ел во времена дружбы с Руфрием. В последний ужин Эй, друг принес в камеру рыбу краснобородку в морской воде и бутылку моего любимого ретийского вина. Это было по-хозяйски, зверь не должен быть изможден перед охотой.
Ночью я заставил себя спать.
Я видел белую точку среди темноты. Она медленно, кружа, приближалась, и, долго с напряжением вглядываясь в нее, я понял — это наше Ахерусейское болото, и вон там, за рощицей, наш старый дом… Болото покрыто бледно-зеленой ряской и белым пухом одуванчиков, растущих на берегу. Виргиния в коротком платьице, тоже вся облеплена пухом, стоит, поджав загорелую ножку в греческой сандалии, и с притворной обидой оглядывается на отца. Отец сидит на крыльце, в руках нож и толстая палка, изрезанная белыми знакомыми фигурками, он смеется, глядя на Виргинию, а Виргиния крутит головой и отмахивается от пуха и тоже смеется… И я смеюсь и хочу спуститься к ним, но белая от пуха вода — не вода, это арена, и передо мной Руфрий с занесенным мечом и голый до пояса, и я лежу на деревянном настиле, руки чувствуют гладкие теплые доски, и я ползу, пытаюсь уползти от него… На трибунах кричат и показывают Pollico verso. Там Спор и мой старый Юлла; Спор обнимает его, целует в губы и что-то кричит, смеясь и махая пухлой рукой, а Юлла глядит на меня пристально и серьезно, и я вдруг понимаю, он смотрит на мертвого.
Я стоял на пороге. Было утро, первый час рассвета. Над болотом еще шевелились сумерки. Пахло гнилью и сыростью.
Передо мной было сто двадцать шагов убитой мелким камнем предтюремной площади. Эй, друг печально смотрел на чахлые деревья, тускло сереющие в самом ее конце, — граница, за которой начиналась моя свобода. Он молчал, зная.
Я не оглядывался. Вся свита Нерона и сам он были сейчас там, на крыше тюрьмы, на балконе, построенном именно для таких случаев: Нерон, Спор, Спикул, Пифолай и двадцать лучших стрелков-воинов из тюремной охраны — все с луками, невыспавшиеся и возбужденные. Предстояла славная охота!
Меня била лихорадка. Раньше, выходя на арену, я прощался с жизнью почти с облегчением, теперь же я трусил и до слабости в ногах хотел жить. В лицо мне глядела Юния, она надеялась и не верила, а я опять должен был доказать и заставить поверить: «Все правда! Все, все…»
Сверху упал красный платок, условный знак — я побежал.
Я бежал медленно, набирая воздуха полные легкие, впрок. Наверняка Нерон распорядился стрелять не сразу. Кому нужна легкая добыча! Смерть должна приносить удовольствие. Дрожь ходила у меня по позвоночнику и замирала в паху. «Боги, владыки морей, земель и бурь быстрокрылых!»[11] Спасите меня… Спасите, сберегите, отведите беду и напасть… Вот кустик травы, вылезший из пустой ячейки, на месте выщербленного камня — здесь я наметил рывок. Тихий толчок — чья-то нетерпеливая стрела вонзилась в правое плечо, и горячая сладкая боль, чуть помедлив, пролилась в меня, как хмель. Помоги мне, Юпитер! Вперед!
Теперь я не дышал, чтобы не сбавлять скорость лишними движениями. Стрелы взвизгивали над головой, две или три царапнули по касательной и отскочили, Впереди было шагов двадцать, и тут я начал делать то, что придумал накануне. Я побежал круто влево, и, пробежав шагов пять, согнулся, остановившись, и сразу, боком, на ходу разворачиваясь, кинулся вправо. Маневр удался — стрелы больше не свистели у меня над ухом. Стрелки не успевали нацелиться.
До деревьев, отделявших площадь от болота, где начиналась моя жизнь и свобода, оставалось совсем немного, и я сделал последнее, что мог, — прыгнул вперед, на руки и потом покатился по диагонали, обдирая локти и колени… Стайка стрел пронеслась мимо деревьев и плавно спустилась в болотные кочки. Дикая радость сбывающегося чуда рвалась из моего горла, и в миг, когда, вскочив на ноги, я взмыл в последнем прыжке между пограничными деревьями, — стрела, пущенная рукой мастера, одна-единственная (остальные растрепанной тучей пролетели далеко в стороне), стрела Спикула, кого же еще! — воткнулась мне между лопаток. Спикул разгадал мой маневр.
Я упал на влажную траву — свободный, с перебитым позвоночником.
15
Вчера в полдень, в июльские календы, в канун дня, когда мне исполняется тридцать два года, я смотрел на золотой дворец Нерона, блещущий солнцем и глупым своим великолепием, дворец, где живет теперь другой император, и вдруг понял — Юния никогда не придет ко мне. Тот, каким я хотел ее любви, умер, и его больше нет.
И все равно я жду ее… Я смотрю на облака и вижу ее лицо, ее губы шепчут мне слова последнего утешения…
Я жду Юнию. Я хочу, чтобы она обняла меня… Чтобы она провела ладонью по моей щеке, и снова увидеть ее глаза, чтобы потом я отпустил ее и не боялся за нее.
Я устал бояться.
АМУР И БЭМБИ
Бербель приносила щенков раз в два года.
На четвертый день, слепым, отец отрезал им хвосты ножницами, оставляя два позвонка, а Бербель зализывала ранки.
Щенки ползали по полу и пахли псиной нежно и приятно. К концу месяца тот, что родился первым, вставал на лапы и рычал; назавтра его забирали. Последнего же каждый раз мы собирались оставить себе.
В десять лет морда у Бербель поседела, как у дедушки незадолго до смерти, она стала бросаться на чужих, и отец, когда мы с Нинкой были на турбазе, отдал ее мужику с дальней станции охранять огород. Я догадывался, почему Бербель такая. За своими делами мы забывали ее выводить.
Мы вернулись с турбазы, и Нинка ревела, а я ринулся в клуб узнавать адрес мужика, но на станцию, где Бербель охраняла огород, я так и не поехал. Ко времени, о котором идет речь, я уже научился предавать.
Бербель мы привезли из Германии, с родословной, где были чемпионы мира и Европы. Местной чемпионке Люлю она стала соперницей в славе и любви.
Хозяин Люлю Зимаков гнал деньгу. Щенки были дорогие, и Люлю щенилась дважды в год. Еще Зимаков разводил черно-бурых лисиц. Клетки стояли у него прямо во дворе, лисы лаяли ночами и мешали соседям спать.
Когда в клубе выбирали новое правление, отец оказался единственным, кто голосовал против Зимакова. Я помню его одинокую руку над сплошным серым морем согласных. Зачем? — думал я тогда. Ведь все это липа. Поднимать руку, когда даже не спрашивают, почему ты против, — стыдно. Но рука отца торчала посреди как бы пустого зала.
«Большинство!» — сказал председатель.
…Мы идем по кладбищу. Мама, папа, Нинка и я. Сегодня родительский день, и на могиле дедушки мы покрасили оградку. У выхода с кладбища, у самой дороги — могила Зимакова. Вокруг нее ходит, выщипывает вылезающую травку постаревшая его жена.
— Сколько лет живет кладбище? — спрашиваю я у отца.
— Не знаю, — говорит он. — Не знаю, сынок.
Бербель была из второго помета. На «Б». Ее первые хозяева немцы хотели помнить всех, кто взял у них щенка. Алфавитный этот принцип попытались сохранить и мы.
Первым щенком в первом помете был Амур. Это он встал на четыре лапы и зарычал. Как и у Бербель, у него не поднялось до конца левое ухо и на груди росла белая шерсть. Его купили Макаровы…
Дядя Сережа работал в оперном театре танцовщиком, а с Сашкой мы сидели за одной партой. В общей квартире, где они жили, маленькую комнату занимала девушка Света. Она была стеснительной и некрасивой. Дядя Сережа говорил про нее: талантлива. При этом понижал голос — страшно!.. Вскоре Света вышла замуж за своего земляка, абхазца. Дети горских деревень считались способными к танцам, и их вербовали в балетные школы прямо на местах. Света и ее муж были из одной деревни. «Света пусть танцует, а я буду заниматься по общественной линии», — говорил муж. Его выбрали комсоргом театра. Потом Свету пригласили в Большой, и они уехали.
А лет через десять знаменитой примой она танцевала в нашем городе Жизель, и я увидел, как поет ее развившееся, прекрасное тело — виолончельный голос — о несбывшейся любви. Ведь я знал, что Света не любила мужа-комсорга.
Макаровы переехали в Свердловск — дядя Сережа танцевал там балетные партии в оперетте. Приходили открытки про Сашку и про Амура с приветом Бербель и мне. Мы увиделись еще раз — театр дяди Сережи гастролировал у нас, и про одну его артистку дядя Сережа сказал с понижением голоса: талантлива. Потом это оказалась Шмыга, но я уже не удивился.
С Сашкой мы сидели за одной партой. На него не «тянули» наши второгодники, ему улыбались учителя — Сашка всем нравился; и мне тоже. Подушечки на его пальцах Зяма Бейнихес объявил лучшими в нашем дворе для игры на скрипке, а наш сумасшедший учитель пения отобрал его в хор первым. Мы стояли шеренгой, у Сашки был хриплый раздвоенный голос, я был уверен, что его не возьмут, но учитель шел мимо меня, возвращался, прислушивался (я знал все слова, я хотел) и уходил от меня, слушал Сашку, кивал и брал его в хор.
На уроке алгебры я засунул голову в парту — подремать от скуки, но когда попытался вытащить назад, у меня не получилось. Это был позор. Сашка тянул меня за плечи и честно старался не смеяться. Нина Павловна, любимая учительница, тряслась толстым животом на своем стуле, а с задних парт поднималась уже на помощь Сашке усатая классная шпана. Урок был сорван. Я освободился сам, случайно повернув голову в нужное положение. Шея моя горела от ссадин, но заставить себя смеяться со всеми я так и не сумел. Года через три классные девочки вспоминали этот случай, только будто голову в парту засунул Сашка, а не я. Сашка жил уже в Свердловске, и я утаил истину. Тогда я понял: нас воспринимали с Сашкой как что-то похожее, живущее вместе, одно. Я понял, что память людей не совсем надежная вещь и что во многом картина мира зависит от собственной твоей искренности.
На литературном вечере в седьмом классе мы играли с Сашкой сцену из «Школы» Аркадия Гайдара. Я был главным героем, которого в кино играл Леонид Харитонов, а Сашка — «кадетом», пытавшимся вероломно меня обмануть. Сашка вероломно ударил меня поленом по голове, я упал и приходил в себя, чтобы потом выстрелить из маузера в завладевшего моим планшетом Сашку. Маузер был большой, в натуральную величину, с рифленой ручкой, лакированный — его делал отец, а штаны шила мама — махонькие кармашки на замочках-молниях. Выходя на сцену, я с трудом запихал маузер в карман. Упав от Сашкиного полена — в зале смеялись — и полежав немного для натуральности, я на пробу, незаметно для зрителей потянул рукоятку на себя. Маузер не доставался. Я полежал еще. И еще потянул. Маузер не доставался. Рука только подтягивала кверху правую штанину. Неужели опять? — думал я, переживший трагедию с партой. Я мучился, обмирая и потея холодным потом на полу, а Сашка стоял спиной к залу и играл паузу как мог. Переваливался с ноги на ногу, выкладывал на лавку вещи из планшета, изучал карту, застегивал лямку у вещмешка, «готовясь к трудному переходу», напевал даже для естественности какую-то печальную, как бы белогвардейскую песню, а я все царапал руку о мамину молнию, и черный туман временами застилал уже мне глаза. Наконец, опять — как и голова из парты — случайно, маузер выскочил, и я «выстрелил» дрожащей рукой. Зал вздохнул, а Сашка грохнулся на пол замертво, руки его разлетелись, как у борцовского чучела после броска через бедро, а правая кисть, присогнувшись напоследок, как у Плисецкой в «Умирающем лебеде», словно б подтвердила лишний раз Сашкино безнатужное надо мной превосходство. Я походил вокруг него со своим маузером — мне казалось, он смеется, может быть, — и, так ничего и не поняв, ушел наконец со сцены. Навсегда…
Сашка же, честное слово, стал настоящим драматическим артистом. Недавно тетя Валя писала маме, что в одном из спектаклей его партнершей была сама Элина Быстрицкая.
Вот такой щенок был Амур.
Последним во втором помете был Бэмби. Он родился тигровым, что ужасная редкость, и мама соглашалась его оставить для нас: пусть бы у нас было две собаки. Но отец выдержал, и Бэмби купили родители Славки Проворова.
Дядя Володя работал машинистом, а тетя Валя (тоже тетя Валя) комендантом в молодежном рабочем общежитии. Она была нервная и, когда ругалась на Славку, шипела, как гусыня.
Однажды дядя Володя посадил нас со Славкой в тепловоз, и мы поехали в Курган к моему деду Протасу Матвеевичу. Там, в Кургане, Славка встретил своего приятеля Женьку, тоже, как и он, пловца, и на Тоболе, на пляже, они при мне познакомились с девочкой, похожей на гуттаперчевую статуэтку. Маленькая, она натягивала на светлые свои кудряшки резиновую шапочку и кричала им: «Айда купаться!» И они плавали втроем, три молодых дельфина, и Славка с Женькой под предлогом игры трогали ее под водой. Я следил за ними, у меня сохло во рту, и было печально, будто скоро умирать.
Один раз я осмелился и подплыл к ним, но гуттаперчевая девочка выплюнула воду и сказала: «А ты куда, малолетка?»
Дедушке Славка не понравился, и тот действительно через два года попал в тюрьму. «Нападение на водителя такси». Групповое. Шофер следил за ними в зеркало и успел выскочить, когда сзади его попытались оглушить. Славка сел за руль — он единственный умел водить машину — и вел ее несколько километров, пока не съехал на обочину: навстречу шел милицейский «газик».
На суд его ввели с бритой головой. На ней были видны веснушки. Тетя Валя закричала на весь зал, как резаная, а меня вывели, поскольку мне не исполнилось еще шестнадцати лет.
С дядей Володей и тетей Валей мы ездили потом в колонию, и при встрече Славка поцеловал меня. Я понял, что настоящая взрослая жизнь уже началась.
Славка вышел «по одной второй», через три года, и родители сразу же устроили его в армию, чтобы оторвать от старых друзей. Провожали — пели. «И ранней порой блеснет за кормой…» И дядя Володя, и Славка, и тетя Валя тоже.
А потом Славка вернулся, и на его дне рождения среди полублатной компании я увидел девушку неописуемой, смертной красоты. В разгар веселья Славка подошел ко мне и серьезно сказал: «Там эта, слушай… Олька… интересуется… ты как?» Я не ответил со страху, но на другой день снова притащился к Славке, бормоча что-то дяде Володе про обещанную «той девушке» книгу, и узнал — узнал то, что было нужно.
Она работала продавщицей в магазине для новобрачных, который в ту пору только появился в нашем городе.
Боком я приблизился к ее прилавку и неслышно поздоровался.
На разговор, на какую-нибудь легкую изящную шутку — как это, мне казалось, принято в таких случаях — сил у меня недостало. Одно мгновение, я видел, она колебалась еще между впечатлениями, тем — у Славки — и этим, новым, жалконьким, а потом, не сказав ни слова, фыркнула, и в прекрасных черных ее глазах опустились шторки.
Однако я промямлил свои заготовленные слова. «Назначил свидание».
Я взял у мамы десять рублей и пошел на него, на безнадежное и первое свое.
Разумеется, она не пришла.
Мы просидели десятку с Сашкой Лапушкиным в ресторане, где с паузами говорили о женщинах и курили.
Я делал новые попытки. Все было ясно, но я заболел. У нее были огромные черные глаза — мне некуда было деваться. Я таскался за ней по улицам, узнал ее кавалера, я состарился и поумнел.
Кавалер ее был вором. У него были мелко-кудрявые волосы и мягкие незаметные движения. Думаю, он смог бы задушить меня одной рукой.
Тетя Валя умерла от рака желудка. От Славки, считает моя мама.
— От рака, мама, от рака желудка! — говорю я.
— А рак от чего?
И она смотрит на меня, а я пожимаю плечами.
Бэмби живет у охранника в колонии, где сидел Славка. Его отдали туда, чтобы Славке было не так одиноко. Славка вышел, а Бэмби остался там навсегда.
После второго помета алфавитный принцип нарушился: щенков стали называть кто как хотел. И мы ничего не могли уже с этим поделать.
МОРЕ
Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно.
Е. БаратынскийПомню: сад, сдали патанатомию… «Своею белою рукой, моя Оде-е-е-сса, ты помани, ты помани, ты по-ма-ни…» Под яблоней, в сторонке, детская коляска — там сын Бавильского. Сын спит, не мешает наша песня, песня из фильма «Цепная реакция». Бавильский супит белесые брови, топырит толстую нижнюю губу: «Свое-ю белою рукой, мо-я-а…» Когда-то, было дело, он учился в Одессе, в НМУ, низшее такое мореходное училище, да вот случилось — ушел. Теперь у него дом, семья, «лекции-шмекции» в медицинском институте, а в шкафу средь постельного белого белья застиранная до дыр старая его тельняшка. Моря, ясное дело, моря ему больше не видать… А для меня не все. Я, быть может, еще и увижу. В Одессе, в системе Азмор, работает стоматологом мой двоюродный брат Эрик. Четвертый, загибаю я пальцы, пятый, шестой курс, а там, глядишь, я и судовой врач: синее море, белый пароход и смуглые девушки в широкополых шляпах машут мне тонкими руками с Приморского, конечно, бульвара.
И проходит два года, и оттуда, из Одессы, от папиного брата дяди Вити — письмо: купите полдома!
Ты слышишь, Бавильский? Полдома в Аркадии, у самого моря, где в саду виноград и персики, где рыбачка Соня, и Гамбринус на Дерибасовской, и Беня Крик, и все-все, что вам угодно.
А?
Другого раза не будет — отцу в отставку, — и, поколебавшись, родители отправляют меня вперед.
…Поманила!!
Итак…
Итак, шел 19… год. В Одесском море нашли холерный вибрион. Выезд с побережья закрыт, и в разгар купального сезона я прибыл в знаменитый город в пустом вагоне.
Никто не купался.
Суда, завербованные карантинной службой, стояли на рейде, в них отбывали сроки отдыхающие, а по улицам, разгороженным веревками, поливальные машины брызгали на асфальт хлорамин.
Ко всему шел дождь.
В «нашей» половине — в той, что дядя Витя предлагал купить моим родителям, — на веранде, в сарайчиках, в садовых беседках — везде, где могла втиснуться раскладушка, жили квартиранты. По саду, чеша волосатые брюхи, бродили мужики в засученных трико, а во дворе женщины с грязным педикюром мыли под краном овощи.
Ничего, ничего, улыбался дядя Витя, скоро они уедут.
— Алексеич! — кричали из сараев. — Идем, тяпнешь!
— Не-е. Воскресенье!
В воскресенье дядя Витя не пьет. Он работает снабженцем на заводе шампанских вин и по воскресеньям отдыхает от всего этого.
Ну что ж, покамест не уехали квартиранты, меня поселили с Димкой, младшим дяди Витиным сыном. В беседке. С фанерных стен улыбались суперкинозвезды, Джина улыбалась Лоллобриджида, Димка тоже — жить было можно. Вот так, думал я, за тыщу километров живет брат, твой брат, под твоею живет фамилией, одногодок, двойник, можно сказать, — и «не ты»! Даже школьная кличка та же, даже ногти на мизинцах.
— А, брось, не бери в голову! — скалится Димка. — Оно тебе надо?
В Гамбринусе в самом деле играет красноносый толстячок в сером пиджаке. Скрипка в конце венгерского танца всхлипывает и неожиданно смеется по-человечески: «Хья-хья-хья…» Красиво одетые молодые люди кричат скрипачу: «Миша!» — хотя тому явно за пятьдесят, и суют в карман его пиджака бумажные деньги, а за соседним столиком сочный женский голос жалуется всем, кто желает его слышать: «Що ви з миня хотите? Я вже три дня не имела мусчину!»
Димка улыбается над кружкой: привыкай, это и есть Одесса.
Ну-ну.
В трамвае, по дороге в институт, у меня исчезает конверт с документами. В подкладке, у дна кармана — щель. Бритвой! Ровные краешки, аккуратная работа. Это меня обокрали, понимаю я. Так… И… как же теперь? Дальше? Перевод был в порядке исключения, шестой же курс, еле-был-елички. А если дубликаты документов не подпишут, не захотят больше?
Я тупо смотрю на страшную дыру. Меня тошнит. Да как вытащили-то? Ведь пиджак был застегнут! Они, выходит, тут надо мною… а я… я в окошко глядел?! Хорошо.
И вдруг ниже той дыры (господи, спаси!) я вижу еще одну дыру, такую же. Не думая, сую в нее руку до самых пиджачных недр, и — о справедливость, ты все-таки есть! — документы мои туточки, вот они! целенькие, беленькие, хоть и без конверта, но — все! До единого. У-у-ф-ф!
Вытащили, стало быть, поглядели и сунули назад. За ненадобностью. Не на пол, не в окно, а назад. Хоть и новый опять риск, хоть и «кому это надо».
Значит, это правда, думаю я.
Значит, правда — про Беню.
Привыкаю.
За обедом шампанское без газа. Приносил с работы дядя Витя.
Холерный вибрион, объяснял Эрик (тот самый, двоюродный, из системы Азмор), не выдерживает кислой среды. В кислой среде, по Эрику, вибриону приходит карачун.
Потому-то мы пьем шампанское без газа, кисленькое винцо.
И я пью.
Чтобы не терять золотое время, Эрик, помимо поглощения еды, занимается еще педагогикой.
— Вот вчера, — говорит он, — у меня был отгул, а я все равно ходил на работу. — Эрик смотрит на Димку: — Почему, думаешь? Потому что без работы — не могу!
Димка третий год сидит на третьем курсе, притом на вечернем. И это кошмар. Все понимают: кошмар, и не мешают сейчас Эрику. Кроме того, Эрика и вообще уважают. Помнят, как занимался он сам. Часами просто-таки, бывало. И теперь, пожалуйста — замглавврача по лечебной части. Хоть и стоматолог. Даже один раз встречал в составе группы правительственную делегацию.
Димка молчит над тарелкой. Ни слова.
Кира, жена Эрика, посмеивается. Ей смешно.
— Зачем, — обращается Эрик к матери, — зачем ты-то даешь ему рубчики?
— Вот именно! Ты-то зачем? — подхватывает дядя Витя. Он тоже чувствует за Димку ответственность.
Но тетя Зоя не отвечает. Собирает грязные тарелки со стола и уходит. Закончен обед.
— И ты слушаешь? — удивляюсь я Димке, когда мы лежим потом в нашей беседке. — Как тебе хватает-то?
Со стены надо мной улыбается красивая еще Лоллобриджида.
— А-а, пусть! — обреченно машет рукой Димка. — Нехай.
— Да и на фиг сдался тебе институт этот? Холодильные какие-то установки. Ты же футболист!
— Э нет, — серьезнеет Димка. — Диплом — это хлебная карточка! А футбол так… для души.
Дом наш в самом деле на крутом берегу. Внизу дорога в Аркадию, ниже ореховая рощица, а там, дальше, — каменистые пляжи, пустые сейчас. Отойди от края шагов десять: одно до самого горизонта море.
Начался учебный год. Старшие курсы снимали с занятий на борьбу с холерой. Меня и еще двух новичков послали бороться на рубероидный завод, в бригаду грузчиков.
— Ну и при чем же здесь холера? — спрашивал я Димку.
— А я знаю! — блестел он своими деснами. — Надо, вот и попросили у института под горячую руку. Тебе-то что? Плотют?
Что ж. Плотют.
Рубероид идет по конвейеру горячими рулонами. От него пар, а главное, запах как от свежего хлеба. Один из нас заходит в цех и бросает рулон на транспортер, остальные двое снимают и ставят в машину.
Потная работа и сменная.
Хорошо мыться в душе, хорошо идти через проходную с перекинутым на плечо дяди Витиным старым пиджаком, на который расщедрилась-таки тетя Зоя, — медленно, по пыльной дороге, по трамвайным путям. Хорошо, что платная, думал я.
Привыкну, думал.
Была, правда, одна штука.
В конце смены шофер поднимал капот и бригадир бросал туда рулон. Двадцать рублей.
Возвращаясь, шофер выдавал бригадиру трешку, а тот нам — по рубчику.
Ну что ж — успокаивал я себя. Дядя Витя приносит домой вино, а я пью же? Пью.
Холера шла на убыль. Квартиранты разъезжались. Я занял «нашу» половину — комнату, попросту-то, — купил картошки, луку, лапши и вечерами варил себе суп. Отец прислал еще конской тушенки — жить было можно.
Дядя Витя, веселый после шампанского своего завода, заходил ко мне. Хлебал суп, хвалил.
— А почему ты не хочешь есть с нами?
Я уже догадывался: для удобства человек живет в мире, где и он и те, кого он любит, выглядят вполне симпатично. Я даже подозревал, что и свой мир строю тем же способом. Но взять и сказать дяде Вите, хватит, мол, не будем, ведь я же вижу, с каким лицом накладывает в мою тарелку тетя Зоя, — нет, это было нельзя. Да дядя Витя, похоже, сам не шибко-то ждал ответа. «Ты знаешь, как она любит родню, я даже удивляюсь!» — искренне говорил он. А я кивал. Мне ли было судить тетю Зою? Я видел ее руки. Красные, в черных, забитых землей морщинках, с обломанными черными ногтями. Иногда она красилась, надевала нарядное платье — в гости! — и стояла так перед зеркалом, улыбалась на себя женской ожидающей улыбкой. И это было почти страшно по сути, стыдно с такими-то руками.
А вот Кира не такая, жаловался дядя Витя на сноху. Совсем не любит родственников. Раз в два года Эрик ходит судовым врачом в выгодный рейс, в Японию, еще куда-то, а Кира потом эти тряпки продает. Понятно? Все надо, надо конечно же, но плохо все-таки, что она такая жадная.
— А ты знаешь, что сказал про тебя Эрик?
— Что?
— Он сказал, будет распределение, и он поговорит о тебе с главврачом.
— И что? — Эх-эх, как я волновался в тот миг!
— А эта (Кира, понимаю я) и здесь выскочила. А, говорит, он, говорит, перебьется как-нибудь. Перетопчется.
Молчу. Молчу.
— И знаешь, что ответил Эрик? — дядя Витя кладет руку на мое левое плечо.
— И… и что же он ответил?
— «Это мой брат!» — вот, вот что он ответил! — Дядя Витя смотрит на меня, а в глазах его набираются слезы.
Да, да, конечно. А потом ведь, дядя Витя немного и того, после завода.
Десять лет назад Эрик приезжал к нам на Урал. У него был первый разряд по гандболу, и в ту пору он еще не заделался одесситом. Дом в Одессе купили потом.
Он сидел на перилах нашего балкона на Ленина, 1, внизу блестел черный асфальт, в нем плыли вечерние фонари, а он сидел и смеялся с Юлькой, подругой моей сестры: «А шо? А шо такое?» Это был мой брат, думал я тогда, мой брат. А потом мы поехали на Увильды к нашему общему дяде, дяде Лене, и я брался за Эрикино плечо, и мы заплывали по прозрачной воде.
В гости приходили Кирина сестра с мужем, капитаном дальнего плавания.
Капитан был маленький, лысый, и, когда шутил, Кирина сестра щурилась.
А мне капитан нравился.
Выпивали, и он пел дребезжащим тенорком: «Через весь океан, сквозь любой ураган…» — песню из кинофильма «ЧП».
— Спой, спой, сынок! — просил дядя Витя Эрика. Все знали, как Эрик хорошо поет.
— Вот так, что ли? — кивал тот на капитана.
— Возвратятся домой корабли… — допевал капитан в одиночку, не замечая ничьей иронии. И улыбался.
Вечером я все чаще спускался к морю. «Та-та-та-та…» И тихо спит Одесса; и бездыханна и тепла Немая ночь. Луна взошла. Прозрачно-легкая завеса Объемлет небо. Все молчит; Лишь море Черное шумит.
Холера, слава богу, кончилась. В поликлинике № 6 я проходил практический курс терапии.
Шефиню мою звали Таисия Аполлоновна. Она была низенькая и толстая. Пальчики на руках так и торчали у нее в разные стороны.
С утра мы вели прием в кабинете, а после обеда ходили по участку.
— Вчера Любка таки не купила кофточку! — сразу по утречку сообщала Глаша, наша медсестра, а Таисия Аполлоновна («Дышите! Еще, еще, пожалуйста, еще…») вытаскивала из уха фонендоскоп и оборачивалась:
— И что? И почему же?
Больной стоял руки в боки и дышал. Таисия Аполлоновна, с трудом удерживая в неудобном положении свое тело, не сводила все-таки с Глаши глаз. Глаша писала еще карточку, потом вдруг отбрасывала ее и кричала во все горло: «Она таки отказалась, дурр-ра!!»
Кончались эти разговоры, когда мы уходили на участок.
Почти все больные оставляли нам какую-нибудь мелочь: яблочко, кулечек конфет, шоколадочку. Глаша складывала подарки на подоконники накрывала простыней. Я в долю пока что не входил, но на участке и мне совали то авторучку, то книжечку, и я не умел отказаться. А может, и не сильно хотел.
«Та обижаете… Та возьмите…»
И я брал.
Терапия давалась мне плохо, и Таисия Аполлоновна пошла на риск: одолжила личный лекарственный справочник. Я приходил за ним к ней на квартиру.
Таисия Аполлоновна представила меня дочери — Свете. Один глаз у Светы косил, и, пожимая мою руку, она покраснела. Я догадался: ко мне присматриваются. Видимо, подумал я, на сообразительных местных джентльменов большой надёжи нет.
Предложено было не церемониться и заходить.
На тротуарах уже горели кленовые листья, пахло свежестью и концом лета. Наполеон, Раскольников и Жюльен Сорель по очереди предлагали мне свои услуги. Я бродил по узким одесским улицам и решал: меняться мне или менять.
Не сможет ли он достать мне Фрейда, спросил я Эрика. Давно, мол, охота почитать. Все-таки мы врачи с ним, можно сказать… Эрик помешкал, посуровел лицом и сказал:
— Тебе рано читать такие книги.
Да, понял я, мне рано. Ведь и он, и такие, как он, не будут их читать. Они и так, без Фрейда, знают, как им, да и всем остальным тоже, надо жить. И таким, как я, такие, как он, всегда будут говорить, что рано. Потому что другого выхода у них нет.
Но были и другие книги.
«Ступай теперь, — читал я ночью в своей комнате, — ступай и вверь свою душу ветрам, положившись на оструганную доску, удаленный от смерти только на четыре пальца или на семь, если доска слишком толста…»
Или вот:
«Покажите нам тот жар, который пылал в них, ту ревность к чести, то отвращение к пороку… Умеете ли вы забывать покой и спать в чистом поле, не снимая доспехов?»
В институте читали лекции, но я перестал на них ходить.
В разговорах одногруппников мне слышался тот же напев. Двое из них нашли в трамвае кошелек, но успели спрятать. И мужик, который его обронил, — не заметил! Такой оказался дур-рак.
А как-то я заблудился. Проезжал мальчик на мотоцикле, остановился. «Знаешь институт Филатова?» — спросил я. «И что будет?» — «Рубчик!» (Чего же еще-то?) И он пододвинулся вперед. Я уселся на багажник и обнял его за худенькие плечи.
Мы проехали метров с тридцать, свернули за угол и встали. «Вот он, — сказал мальчик, — институт Филатова!» При этом он протянул руку.
Я отдал рубль.
Дядя Витя, Эрик и Димка смеялись, когда я рассказал этот случай, а Кира отвернулась и что-то прошептала (я, кажется, догадывался что).
Но не все было так уж сумрачно. Тетя Зоя, кто бы подумал, чуть не запоем читала Тургенева, Димка писал стихи, а дядя Витя мечтал на самом деле, что придет день и мы поделим райский сад на две равные части по справедливости и заживем тут единой семьей. Что вечерами будем собираться за большим общим столом, а правительство, прослышав о такой великой дружбе, пожалует всех нас генералами.
Меня вызвали к декану.
«И не стыдно вам?» — спросил декан.
Нет, речь шла не о лекциях, как я было подумал. Нехорошо вот что, выяснилось: не возвращать чужие книги!
Таисия Аполлоновна, напуганная моим трехдневным отсутствием в поликлинике, не выдержала и позвонила в деканат. Справочник-то!
На сей раз двери открыла Света.
— Здрассте…
— Можно?..
— Да-да, конечно, вы… — Света еще краснела, а в конце коридора уже показалась Таисия Аполлоновна в длинном японском халате. Она, щурясь, посмотрела мне в лоб.
— Вы боялись, — спросил я, — что я не верну вам вашу книгу?
Она фыркнула и пожала плечами. Что отвечать? Не доверяться же ей человеку, которого она знает три недели! Дочь выдать за него замуж куда ни шло, ну да не дорогую же книжку…
Я положил справочник на полочку для обуви и вышел.
Как-то все становилось яснее.
Знаешь, Света, думал я, отчего человек толстеет? Я шел по опадающему скверу и пинал листья. Никакой Светы рядом со мной не было, но мне казалось, вдруг она меня догонит. Много, скажешь, ест? Нет! Потому что ест больше, чем надо, чтобы жить. Ест, и у него копится жир. И жир тоже просит. И тогда человек ест еще и еще. Пока не лопнет.
В лотке, по дороге домой, я купил шесть бутылок чехословацкого пива. Пошлю Саше, Алику, Юрке, Сереже и Бавильскому, решил я. Всем по бутылке, а одну себе. Они выпьют их на лавочке в нашем Детском парке возле школы, и Бавильский, быть может, запоет «Своею белою рукой…». И вспомянут меня, и скажут: д-да-а… Бутылки были маленькие, крепкие, в посылке они не разобьются.
У калитки на лавочке сидел последний квартирант Николай. Днем он лечился в институте Филатова, а ночью, когда кончался по телевизору футбол, ему ставили в гостиной раскладушку, поскольку в сарайчиках было уже холодно. Я предложил Николаю пива, но он отказался. Если выпьет, лечение пойдет насмарку, и тогда через несколько лет он ослепнет.
Потом он рассказал мне о девушке, ждавшей его где-то чуть ли не на Курилах, и вздохнул. Сидеть с Николаем было лучше, чем снова остаться одному. Нос у него был широкий, из тех, что можно заглянуть прямо в ноздри.
— Хочешь, я спою? — спросил он.
— Хочу, — сказал я и открыл бутылку, а он запел.
Я выпил все шесть бутылок, по очереди занимая их у своих друзей. А Николай ушел.
Где старая лодка на ржавой цепи, там есть ресторанчик, пустой из-за цен… Там стены все покрыты древесиной, а меж столов там ходят две собаки, две черные спокойные собаки.
И когда открывают там дверь, то слышно — чавкают волны…
Впрочем, я заказал бутылку шипучего и два бутерброда с черной икрой.
— Разрешите прикурить? — спросила девушка из компании, отдыхавшей за соседним столиком, единственной здесь компании, кроме меня. — Разрешите?
И отвела льняные волосы, чтобы они не загорелись от моей спички. А на стуле висела ее шляпа, трогая лентами пол. Ах, какая, в самом деле, шляпа!
Я подозвал собаку и стал скармливать ей бутерброд. Собака была сытой и ела только икру. Официантка ее прогнала.
Потом я ходил вдоль моря.
Утром пришлось идти за плащом.
— И что будет? — спросила официантка.
— Рубчик! — без запинки сказал я.
И в открытом кафе близ Дерибасовской я снова взял бутылку шипучего. Оно не было кислым, и холерному вибриону оставался в нем какой-то шанс.
Часы на башне пробили мелодию: «Когда я пою о широком просторе, о людях, умеющих верить и ждать…» Паузы были длиннее, чем в знаменитой оперетте, где поют эту песню, но так тоже было хорошо. Я вспомнил про маленького капитана, и мне стало легче.
Через столик сидел старик в сером пиджаке. Перед ним стояло полстакана темного вина. Я кивнул ему, он встрепенулся и перешел ко мне.
Его звали Жора. Я сказал: счастье — это внутри, а не снаружи. Он подумал и согласился. И мы взяли еще.
Не может ли он показать мне Молдаванку, спросил я.
Может, сказал Жора.
Мы пришли на Молдаванку, в бодегу, и заняли угловой столик. Сбылась мечта идиота, подумал я известными словами известных писателей.
Жора ушел за вином, а ко мне привязался парень, жлоб, как сказал бы Димка. Возвратившийся Жора пытался его оттереть, но парень упорно тянул и тянул меня «выйти». «Ну чё ты, ну чё ты?» — говорил он как в детстве. Ему не нравилось мое лицо. И тогда Жора показал мне подбородком на мужчину, что сидел вдалеке у самой стойки. Полный брюнет лет сорока пяти. Черный костюм и узкий галстук. Мы встретились глазами, и я понял: это и есть Король.
Никто больше ко мне не приставал.
Я подошел.
— Ты откуда? — спросил Король.
Оттуда! Я сказал.
Нам налили стаканы, и Король пальцем подтолкнул один из них мне. Глаза его смотрели в упор. Сталь, подумалось мне, в которую не влезешь босиком.
И я представил себе, как мы разговариваем.
Мне надо спросить, а он вот мне отвечает. Ведь он Король, на то и Король, чтоб знать.
Но я не спросил.
Я смотрел в роскошные сильные королевские глаза, и чего-то мне в них недоставало. Наверное, он знал примерно то же, что и Эрик, и Кира, и такая мудрая Таисия Аполлоновна, только, может быть, больше, гуще и еще лучше их всех. Ведь он был Король. «Что важнее, конечно, важнее любви…»
Жора тянул меня за рукав. Он чувствовал свою ответственность за меня. Я положил на стойку три рубля и поблагодарил Короля за компанию. Не глядя на деньги, он щекой подозвал молодого человека в белой водолазке и спросил, где я живу.
Институт Филатова я живу, объяснил я, институт Филатова, где лечится Николай, мой друг Николай, который теперь скоро ослепнет. Не хотите ли рубчик?
Король не обиделся. Он просто кивнул на прощание и отвернулся. Водолазка ласково повела меня к выходу.
Утром на руке у меня не оказалось часов, а в кармане денег.
Ко всему, на кухне, проходя вчера мимо, я выбил стекло, видимо протестуя против чего-то.
Тетя Зоя хмуро, но твердо отказалась от денежной компенсации за него, чем окончательно меня добила.
Вскоре приехала мама в тяжелой шубе (у нас на Урале была уже зима) и увезла меня домой.
Димка провожал нас до автобуса.
С годами я все реже вспоминаю те дни, мне уже не так стыдно за тогдашнюю прыть. Но вспоминая, я все еще хочу понять: неужто правда меня обокрали по приказу Короля? Иной раз я верю в это, а иной нет.
И еще. Через несколько лет после той моей жизни я случайно узнал, что капитан, муж Кириной сестры, — помните, он еще пел морскую песню из кинофильма «ЧП»? — что в одном из дальних рейсов он погиб в открытом море.
МОЙ ДЯДЯ, ДЯДЯ ЛЕНЯ
Когда в коридоре раскатывался его баритон, со мной творилось счастье. Я задерживался еще в комнате, как бы доделывая то, что делал, а потом потихоньку приближался к кухне, куда он обычно сразу же проходил, чтобы можно было курить, и слушал оттуда и взрывающийся смех, и полупонятное «Кочумай! Кач, кач…», и песни потом, когда с отцом они выпьют и запоют. И смех, и анекдоты, и запах одеколона «Шипр», и папиросы «Казбек» с темным джигитом по голубому фону, по которому дядя Леня еще постукивал папиросой, прежде чем закурить. Собственно, настоящее имя у него было Алексей, в честь нашего деда Алексея Иваныча, потому что он, дядя Леня, был в папиной большой семье младшим. Всем, и бабушке, и сестрам отца, и братьям, всем нравилось, что его зовут Алексей в честь Алексея Иваныча, а он вот стеснялся почему-то, и когда учился после войны в культпросветучилище, стал вдруг Леонидом, так, видать, ему казалось красивее. А дело, впрочем, кончилось тем, что и чужие и свои стали звать его Ленчиком. В сорок пятом его призвали в армию, и он отслужил свой срок на военном где-то заводе, а может, немножко и повоевал, я никогда о том его не спрашивал. Но документ участника Отечественной войны, сказала мама, у дяди Лени есть. На фотографиях той поры он похож на семнадцатилетнего Есенина — тот же невинный ждущий телячий взгляд, беспомощность и стопроцентная, абсолютная, безоговорочная красота. Это уж после, когда я живым запоминал его, он носил назад длинные, распадающиеся по бокам волосы, яркий шарф, перчатки и прочее все. Не говорю уж, необходимого фасона ремешки для часов, не говорю, галстук и шляпу. Шляпы, кстати, очень ему шли. Только годам к пятидесяти под его тонким кожаным ремнем появилось маленькое пологое брюшко… Да, разумеется, он был худощав, жилист; разумеется, то и дело смеялся, обнажая красивые, маленько обкуренные зубы. Он был красавец мужчина. Был и хотел им быть.
Вот, закрываю глаза: танцплощадка, по краям ее ползают отдыхающие обоих полов, и к ним с наклоненной к земле головой идет он, дядя Леня, медленно и изящно разводя в стороны руки. И вдруг голова его вскидывается, руки отбрасывают назад прекрасные его русые волосы, и он сильно бьет в ладоши: «Мужчины берут в руки стулья, женщины выходят на середину!..» И медленно-медленно потом он сводит руки к себе просто и повелительно, как хозяин, как мастер внутри своего дела, и женщины, загипнотизированные, идут, идут на середину, а мужчины покорно берут стулья. И мне кажется, начиная, он еще и не знает, что скажет дальше. Зато, знаю, — будет хорошо.
Он в самом деле был мастером своего дела.
На конкурсе культорганизаторов (так он сам называл это дело), в общем, на конкурсе массовиков-затейников, дядя Леня как-то занял в Москве почетное место, на чуть ли не предпоследнем даже туре. Он сам показывал нам медаль. Во всяком случае, в нашей большущей области второго такого массовика не было и не могло быть, это знали все. И сам дядя Леня тоже знал.
Вообще, по всему, дядя Леня был как бы неосуществленный до конца аристократ, но не в классовом смысле, а в душевном. Например, он любил красивый жест. Думаете, много их, тех, кто любит красивый жест? Нет, их мало. Но красивый жест это красивый жест, и может, потому и кажется, что их много, тех… Дядя Леня был аристократ-пятидесятник. Я хочу сказать, он был аристократом, или, если хотите, пижоном из пятидесятых годов, — нет, все-таки не пижоном. Артистом, что ли. Ну вот из тех, кто знает, что и как носят сейчас, какие слова, галстуки и прочее, прочее, чтобы было ясно, что человек понимает. Да, конечно, дядя Леня был глубокий провинциал с далекого курорта, где ему было тягаться с настоящими-то пижонами, но стиль от пятидесятых в нем задержался, и жил, и бродил в нем, как светлый легкий огонь, и все мы вокруг этого огонька, посмеиваясь, грелись и грели, простите, в каком-то смысле, свои руки. Итак, кочумай, одеколон «Шипр», легкое наружное презрение к женщине, а руки-то, гляди, у тебя, как у Печорина, говорил он, а сам косился на свои в самом деле бледные, с худыми длинными пальцами руки. Тетя Лора, жена дяди Лени, тоже была жертвой его аристократизма. Во-первых, всю их длинную жизнь он звал ее на людях только по фамилии, нет, не по своей, как любят иные самолюбивые мужья, а по ее, девичьей, и в том тоже был свой тех времен шарм. Тетя Лора была большая, красивая, но обыкновенная женщина. В ней не было изящества, по которому в глубине души тосковал дядя Леня. И он пытался, конечно, пытался ее приобщить. Он вытаскивал ее на курортную эстраду, заставляя плясать с собой испанский танец, и тетя Лора выполняла все как надо, и хлопок, и поворот, и взгляд через плечо испанки, но слишком уж как-то механически, как бы просто, без тайны. А дело-то было как раз в этом. Именно… Выход. Кураж. Красота и загадочная небрежность. Неужели непонятно? А размер обуви у тети Лоры тоже, как на грех, был не из изящных. И всю молодость свою, то есть все время высочайшего к дяде Лене уважения, бедная тетя Лора проходила еле переставляя свои стертые большие ноги с поджатыми пальцами. Дядя Леня, стесняясь, покупал ей туфли на два размера поменьше.
Я же говорю, он был аристократ пятидесятых.
В те времена еще не прогремела Софи Лорен в знаменитых туфлях на размер больше, чем нужно. В туфлях, столь необходимых для раскованной ее бессмертной походки. Но дядя Леня был аристократ своего времени, и душа его была другой.
Конечно, были и трудности.
Помню, в мой первый к дяде Лене приезд, ночью, на второй или третий день была ссора. Хорошо, говорил дядя Леня тете Лоре, я сейчас соберу чемодан и уеду, хорошо, хорошо. И стояла жуткая тишина, и мне было страшно на раскладушке, и куда же я денусь, волновался я, если дядя Леня уедет с чемоданом.
Но слышался шлеп босых ног, слышался шепот, и слава богу, думал я, слава богу, дядя Леня не уехал.
«Ругаются! — говорила моя мама. — А любят друг друга! Жить ведь не могут…» И улыбалась на них.
В тот же первый мой приезд я дрался с главарем местных курортных пацанов. Главарем был Витька, хороший парень, мы потом подружились с ним после драки. Была какая-то общая игра, мы заспорили, и Витька сказал: «Ну, городской!» — и мы начали. Иринка, единственная дяди Ленина дочь, бросилась за ним. И дядя Леня прибежал, дом был рядом, он прибежал, задыхаясь и зная, что я тут один. Нечаянно я попал Витьке по носу, и у него пошла кровь. Драка остановилась — тут и подоспел дядя Леня. И когда он увидал разбитый Витькин нос, он задышал еще чаще, не поверил в факт, а потом поверил, и, по-моему, кажется, он заплакал. Он поднял меня на руки и нес до самого дома, как толпа несет любимых футболистов где-нибудь в Южной Америке. Нес и глядел по сторонам, гордый и счастливый и за меня, и за себя, и за всю нашу родню.
Потом, приезжая к нам, он любил рассказать этот случай родителям и случившимся гостям, и Витька раз от разу становился все старше и здоровее, а к институту он был уже старше меня на четыре года и выше на голову, вот, вот на столько, показывал ладонями дядя Леня. Через несколько лет, приехав к дяде Лене на рыбалку, я встретил Витьку. Он был худенький и маленький и работал сантехником на дяди Ленином же курорте и тоже, между прочим, звал дядю Леню Лёнчиком.
А потом, случилось, дядя Леня меня обманул.
А возможно, это был и не обман…
Начинался пинг-понг. Уже не носили волосы назад, а носили «канадки», уже брюки, поколебавшись в ширине от колена до подошвы, снова становились широкими, обрастая бахромой, кистями и даже колокольчиками, но появился пинг-понг — настольный теннис — и для меня-то это и была главная победа времени. Я играл целые дни, играл один дома, стуча шариком об дверь, играл с сестрой Нинкой в нашем большом коммунальном коридоре, расчертив мелом пол, играл, выстаивая часовые очереди в доме через дорогу, играл в паре, в темноте, — и скоро, месяца через четыре, в нашем дворе меня могли обыграть только два взрослых парня, которые занимались в настоящей пинг-понговой секции на стадионе «Труд». Они даже пытались переучить меня и поставить мне удар справа (из-за роста я приучился при ударе поднимать ракетку вверх вертикально, а не внаклон по диагонали, как требуется для настоящего удара). Я любил играть и все, что касалось игры. И стол, и сетку, натянутую и упругую, любил китайские шарики с красными иероглифами, любил парней, учивших меня бить. Но, конечно, главная моя мечта была мечта о своей личной ракетке, которую уважающие себя теннисисты берегут, как охотник бережет ружье. И вот у дяди Лени на курорте они должны были появиться — новые иностранные ракетки, он сам мне сказал. Ракетка называлась сэндвич. Ах, что это была за ракеточка! Под пупырчатым покрытием там была губка. Мяч шел от нее неслышно и вмертвую. И дядя Леня пообещал. Но счастью моему не суждено было… ладно! Приехал муж тети Лориной сестры, перед которым в грязь дядя Леня упасть не мог (тот приезжал на Увильды в черной казенной машине), и дядя Леня не выдержал, дядя Леня подарил ему мою ракетку. На весь курорт-то их прислали три, и та, подаренная дядей Леней, только и могла быть моей. И больше ее не было. Он ее подарил.
Я не подал, конечно, виду, что обиделся, и дядя Леня мою неподачу принял…
Но не мог же он, думал потом я, не мог же он сдержать красивый жест, если тот шел, шел естественно, органично, если он был уместен, нужен, необходим. Не мертвый же принцип! Не голая же добродетель! Так я себя уговаривал, но все что-то сомневался. Наконец, я вспомнил, какая у дяди Лени зарплата, как зовет он к себе всех, кого полюбит, перед кем захочет щегольнуть, а стало быть, половину всех встреченных им людей… Да, да, ни разу, никогда ничего не сделал он ради смазной и вонючей выгоды, для гешефта, для этой пресловутой пользы, и в этом, конечно же в этом только смысле, он и не был никогда плебеем. Да, да, говорил я себе, жест-то ведь не жлобский, жест-то КРАСИВЫЙ!
Когда устраивался концерт, дядя Леня, казалось, держал его один. То есть те два-три концерта, которые «обслуживающий персонал» устраивал каждый заезд для отдыхающих, и были дяди Ленины звездные часы. Он дирижировал хором. Мужчин в хоре, кроме дирижера, было два: паренек-электрик с драматическим тенором и конюх, певший глухим народным голосом и так широко раскрывавший рот, что в зеве у него отражались лампочки. Дядя Леня, дирижируя, тоже пел, стараясь незаметно, и когда он тянул палочку (а он дирижировал палочкой) туда, откуда ждал себе спасения, он загибал ее вниз, а чуткий его хрящеватый нос поднимался тогда вверх и замирал на самых местах. А когда «получалось», он радовался и для эффекта встряхивал волосами, и все это было даже лучше, чем само пение. Потом он поворачивался к зрителям и объявлял следующий номер, причем, стесняясь, пытался сказать что-нибудь смешное, в стиле эдак Шурова и Рыкунина, с некоторой как бы растирочкой. Но получалось у него тяжеловато, слишком уж он волновался. А потом, через номер-другой, через какую-нибудь Трандычиху, через народную песню из двух сдавленных женских голосов, без объявления он выходил танцевать. Плясать. Исполнять. Русского, цыганочку, мексиканский, испанский танец. Но больше всего чечетку, морскую или обычную, просто чечеточку, ведь были ж годы, она была шиком, были — когда она уважалась зрителем. Обычно он танцевал один или два из этих танцев; первый с партнершей, а второй соло. Иногда партнершей, я говорил уже, была тетя Лора.
Но лучшее в концерте начиналось тогда, когда дядя Леня выходил совсем уже бледный, когда кивал баянисту и начинал: «Потерял я покой, а-да-на-себя д мах-хнул рукой…» Песню, петую Райкиным. Дядя Леня пел не хуже, пел серьезно, без юмора, который вообще-то в песне предполагался; и про потерянный покой, и про себя, и так, будто огнеопасная женщина, похитившая его покой, сидела тут же, на деревянных этих лавках перед эстрадой.
А может быть, простите, так оно и было.
И еще, после аплодисментов, он кланялся, сдержанно кланялся и все так же серьезно пел вторую. «Думал я, разлука помо-о-о-жет…»
«Вновь с надеждой взгляд тво-ой ловлю-у-у..»
Это была вторая его песня и еще лучше, чем первая.
Это была песня про тетю Лору.
А может быть, и нет, я не знаю.
После второго курса мы приехали к нему отдыхать, я и два моих товарища. У дяди Лени как раз гостил Юрка, племянник его с тети Лориной стороны, ну, помните, его отцу дядя Леня подарил мою ракетку? Юрка тоже, конечно, чувствовал дядю Леню, как чувствовал его я, когда был пацаном. Каким он на самом деле и был, дядя Леня.
Мы плыли на двух лодках по чистому озеру, и солнце малиновым пальцем рисовало нам дорогу. Дядя Леня скалил свои длинные зубы и подначивал Юрку, а также сообщал моим друзьям, что озеро это занимает четвертое место в мире по прозрачности воды и красоте пейзажа. Мы прибыли на остров, поставили палатку и вышли на вечернюю зо́рю. Тот, договорились мы, кто поймает больше всех, будет генерал, а кто меньше — ефрейтор. Остальные поделят офицерские чины. Стали ловить. Мы сидели с Юркой в маленькой лодке, и у обоих у нас не клевало, а дядя Леня уже кричал нам по воде из своей большой, не пора ли, дескать, позаботиться о костре для офицеров, потому что все они там у себя таскали одну за другой. Тогда мы с Юркой выбрали удочки и прошли на веслах вокруг острова, с кормы закинув дорожку с блесной. Я греб, как показывал мне один мужик-рыбак, загребая то одним веслом, то другим, и на втором круге у нас взяла щука. Наверное, это была первая и последняя щука в моей жизни. Мы тянули ее с Юркой, не веря, все не веря и вздрагивая трясущимися руками. Мы запутали леску. А когда она упала в лодку, огромная, страшно бия своим страшным хвостом, я бросился на нее животом и ножом чуть не отхватил ей голову. Я боялся, что она выскочит. Солнце село, стало полутемно, и дядя Леня причалил большую лодку, в которой, вытянув шеи в нашу сторону, сидели мои друзья. Они увидели, и их насмешливые голоса поменяли интонацию. Мы с Юркой беспрекословно стали генералами, а дядя Леня заметно приуныл. Потом выпили, ели уху из щуки, окуней и чебаков, называемую нами (не знаю, правильно или нет) тройной, а потом, сняв резиновые сапоги, уснули.
А часов в шесть я проснулся. Над самым моим носом покачивался хвост невиданного размера щуки, а там, выше, на фоне светлеющего голубого неба, смотрело на меня спокойное дяди Ленино лицо. Все было ясно. Он даже не улыбался. С трех часов он ходил в одиночку вокруг острова, пока не взял то, чего не мог не взять.
Он победил.
Вечером мы возвращались по четвертому в мире озеру, и остров покрывался позади своим вуалевым туманом, солнце пило воду на самом горизонте, а мы с дядей Леней были счастливы, и все еще было впереди.
Теперь у него другая жизнь. Он бросил курить, рисует и подумывает совсем уйти из массовиков-затейников, где уже ему тяжело. Только будто штатное место художника занято, и дядя Леня рисует пока пр договору. Пейзажики, озеро, лес… Тоже, поди, думаю, неплохо. Иринка его вышла замуж за хорошего парня, за начальника тамошней милиции.
Но… как бы это сказать, не артиста, что ли.
Начальник милиции ликвидировал дяди Ленино небрежное превосходство в семье, ликвидировал рюмку водки перед обедом и еще больше пристрастил дядю Леню к лесу. Нет, нет, дядя Леня не обижается, боже упаси. Он гордится зятем и самой ликвидацией, ему всегда нравились мужчины — мужчины. Ему нравится его зять. И все же будто чего-то жаль все время. Будто что-то такое уже закончилось и никогда-никогда уже не будет. Когда недавно Иринка попала под машину, когда подняли ее и понесли — домой почему-то, — дома был один дядя Леня. Она была без сознания, и сломанная ключица торчала у нее под кожей. Дядя Леня сидел подле, подле красавицы единственной своей дочери и дул ей в лицо. Как дуют на ушибленную руку, как дуют на чай или кипяченое молоко. Откуда ж ему было знать, что в таких случаях положено делать.
Но все обошлось.
Сотрясение мозга и перелом ключицы не худшее, что бывает с людьми. Через две недели Иринка из больницы вышла, а дядя Леня, который носит теперь какую-то старую простонародную шапку, снова зачастил в лес.
А еще помню вечер, вокруг упругая темнота, и везде, справа, слева, вверху — сладкая тревожащая тайна… И комары, и злой их звон, и шлепки по ним там-сям, а с эстрады поет мой дядя, дядя Леня: «Думал я, разлука помо-о-ожет…» Он поет, а я чувствую, предчувствую уже то, что с нами будет потом.
То самое, что теперь уж произошло.
РОС НА ОПУШКЕ РОЩИ КЛЕН (Кирик)
Все началось давным-давно: лет, получается, сорок, а то и больше тому назад. Кирик только народился, дядя Аким служил офицером в танковых войсках, а тетя Галя, жена дяди Акима, вела, что называется, домашнее хозяйство и воспитывала сына Кирика. Наш дедушка Алексей Иванович, получив от молодой снохи первое «семейное» письмо, спросил у бабушки:
— А почему ж «Галли»?
Письмо свое тетя Галя на аристократический манер Подписала именно так — «Галли».
— Та мэни шо? — пожала плечами бабушка. Ей такие штуки были безразличны.
Но дедушке — нет. Он был человек бедный, но гордый и решительный. Когда у него, к примеру, заболевал зуб, он сам вырывал его плоскогубцами, помочив их предварительно в водке. А однажды заколол вилами бешеную собаку. Все разбежались, а он взял в ограде вилы и заколол.
— Почему «Галли», а не просто «Г»? — еще раз спросил он бабушку.
И бабушка, конечно, закатилась. Она была хохлушка-хохотушка, посмеяться ей было только дай.
Дедушка — внук крепостного, сам всю жизнь проработавший стрелочником на станции Называевская (это по Омской железной дороге), с тех пор красивых тети Галиных писем больше не читал. А тетя, у которой в роду будто б и вправду водились какие-то польские князья, поняла «отношение» и обиделась навсегда. Ну и пошло. Все сношения между тетей Галей и нашей родней прекратились, и как она потом жила, о чем сама в себе думала, никто не знал и не интересовался. Дядю Акима жалели, но вслух ничего не высказывали: щадили его чувство.
Детей у Алексея Ивановича было всего семеро — четыре сына и три дочери. Нас же, внуков, родных и двоюродных, росло уже больше дюжины. Когда собирались у кого-то всем шалманом, постель для мужчин и нас, пацанов, стелили на полу — так нас было много. И допоздна, помню, все что-то мы смеялись, щекотались и радовались друг на дружку, пока не уторкивались кое-как к середине ночи и не засыпали. Про одного только Кирика знали понаслышке — тетя Галя не отпускала его к нам. Однако ж сами мы считали Кирика кровным нашим братом и все равно любили. Когда отец служил во Франкфурте-на-Одере, дядя Аким, как раз был в Польше, и летом, купаясь в немецкой реке, я все, бывало, выглядывал на польском берегу: а не гуляют ли там, взявшись за руки, дядя Аким опальная тетя Галя и незнакомый мне двоюродный брат Кирик.
Дядю Акима я увидел лишь на похоронах Алексея Ивановича.
Он приехал один, без семьи и сидел, когда мы вошли, в большой комнате за круглым обеденным столом. Гроб с дедушкой был в соседней комнате; дядя Аким держал в руке офицерскую фуражку и плакал.
На тех же поминках я впервые услышал, как они, четыре сына Алексея Ивановича, поют.
Никогда уж потом я не слыхал ничего красивее и лучше.
…Сперва шли украинские. Те, что пел когда-то сам Алексей Иванович. «Ах, поля вы, поля, да вы, широки поля, как на вас, на полях, урожаю нема…»
Потом «из Тараса Григорьевича Шевченко».
Мне, обрусевшему мальчику, от рождения не знавшему вовсе родового малоросского своего языка, в тех песнях слышался близкий и чувством угадываемый гул. Я словно чуял, о чем это и зачем.
Пели любимую дедушкину «Пшеницу золотую…». Дядя Витя и мой отец по очереди вели первый голос, а когда менялись, тот, кто получал свободу, взмывал вверх, в невыносимую жаворонковую какую-то высоту. Однако сложная гармония песни оттого не нарушалась, а добавляла себе еще одно ажурное кружево. Дядя Леня, единственный в семье профессионал (он работал на курорте массовиком-затейником), поддерживал то отца, то дядю Витю, дирижируя обеими руками или даже вилкой, а дядя Аким вторил всем звучным баритональным басом, будто жирной чертой отчеркивал снизу все выводимые остальными замысловатые фигуры и знаки. Казалось, медленно и осторожно надувают они вчетвером огромный хрупкий шар, и шар этот может лопнуть в любую минуту, а может улететь куда-то ввысь, высоко-высоко; к богу, быть может.
Я глядел на бледные, торжественные лица, делавшиеся всегда особенно похожими между собой на этой песне, и представлял себе человека, которому «хорошо вот здесь остановиться и, глядя вдаль, подумать, помолчать…», и человек тот был не то мой родной дедушка Алексей Иваныч, который умер, не то я сам, еще пока живой.
В завершение пели одно и то же: «Рос на опушке рощи клен».
По сути это была рассказанная песней сентиментальная история двух деревьев — березки и клена. О том, как в летний зной влюбленный мужественный клен укрывал березку своей листвой и как над ними «пели до звезды всю ночь весе-, всю ночь веселые дрозды». И когда «на рощу пал туман, поднялся грозный ураган», то, «березку белую-ю-у лю-ю-ю-у-бя, клен принял ви-, клен принял ви-хри на-а-а се-бя-а…». Я был маленький, и от благородства клена в этом месте у меня подступал к горлу мокрый ком. Березкой мне представлялась тетя Галя, а стройным и молчаливым кленом дядя Аким. На него, поющего, поэтому я старался не смотреть. Песня кончалась хорошо, вечностью. «Растет-цветет кудрявый клен, — подводился в ней итог. — Одной березке вере-е-ен он, и лишь для клена-а ка-а-аждый го-о-од березка стро-, березка стройная цве-тет…»
Собирались с годами реже. Половина родни жила на Украине, а другая здесь, на Южном Урале. Дорога старшим давалась все труднее. Чаще приезжали хоронить. Дедушку Алексея Ивановича, бабушку, мужа тети Марусиного — дядю Колю, мужа тети Лины — любимого моего дядю Костю. Собирались и по иным тоже поводам; на свадьбы, к примеру. Однако на них прибывали уже не все, а те, кто помоложе, кто жил поближе, кто в означенное время не болел и пребывал в соответствующем настроении. Песня про клен на свадьбах звучала пожиже, но — звучала. Дядя Аким приезжал не чаще и не реже других. Про Кирика он не рассказывал, но, по окольным слухам, Кирик рос балованным, и выходило, конечно, что виновата в том тетя Галя. На фотографиях он выглядел скуластеньким, нескладным, совсем не похожим на польского шляхтича, рисовавшегося мне по «Тарасу Бульбе».
…Собирались реже, но вкус родства, его какую-то незаменимость мы, младшие, успели-таки расчувствовать и отхлебнуть. Тети Линин сын Игорь, самый из нас, двоюродных, старший, одно время всамделишно горел мыслью организовать специальный Сбор Второго Поколения. Игорь планировал выступить на нем с речью. В речи он сказал бы про «эту штуку» и что мы — младшее поколение — обязаны беречь ее и «нести сквозь годы». Игорь был единственным из нас, кто при необходимости мог подменить в пении кого-то из Братьев, он был к ним ближе всех. К тому же у него как раз народился собственный сын Алешка. Игорь искренне хотел Сбора. Он чувствовал ответственность за продолжение нашего рода. Мне же, шестнадцатилетнему в ту пору, не верилось, что из его затеи сможет что-то получиться. Кроме того, по вопросу «этой штуки» я вообще держался иного мнения. «Ну, хорошо, — рассуждал я. — Любовь, бескорыстие, это все так, но с остальными-то людьми как же? С теми, кто не родственник? Им-то от нас, что же, любви-бескорыстия не нужно?» Но Игорь не желал понимать красивых сиих отвлеченностей. Ему на самом деле хотелось всех собрать. Ну да. И, разумеется, ничего из этого не получилось. Слишком далеко мы, двоюродные, поуходили уже от своего центра. У нас был не один-единственный общий отец, а у каждого целых два дедушки — через маму и через папу. Второй круг вокруг Алексея Иваныча выходил по сути пунктирным. Мы могли помнить, а могли и забывать про центр. Между нами стояло уже это самое «двою-». По спокойном размышлении становилось очевидно: еще одно-два поколения — и наш родовой ручеек незаметно вольется в океан человечества, растворившись в нем без следа.
Мне было шестнадцать лет, плоть моя бунтовала, и, как все юные эгоисты, я жаждал «понимания». Раздумывая о природе зла, о его, быть может, необходимости на свете (тут мне представлялись всегда камешки в зобу у курицы, которыми перетираются «твердые зерна жизни» на пользу для нее, для курицы, и на добро), я мечтал о деле Альберта Швейцера и порою думал, что все люди могут и должны жить как он. Я чуть не до слез волновался поступком князя Мышкина, как он НЕ ОТВЕЧАЕТ на пощечину Гане Иволгину, а, прижимая руку к ударенной щеке, только лишь говорит своему обидчику: «О, как вы будете раскаиваться в вашем поступке!» Про себя мне было уже известно: мне-то так не смочь. Однако догадка, что так прекраснее и выше, гораздо выше распространенного и уважаемого всеми «зуб за зуб», уже зарождалась во мне.
Но я сомневался. Меня, повторяю, мучили соблазны.
Опять и опять я РАЗРЕШАЛ в себе существование зла.
Люди — корабли, придумывал я, они плывут по морю жизни, погруженные по самую ватерлинию во зло, но зато верхняя надводная их половина остается свободной и чистой. Зло, выходило, как бы необходимость. Отсюда было уже всего полшага до знаменитой формулы «все так делают», а этих «всех» тоже можно было выбрать или представить по желанию. Дело известное.
И вот так — от одного к другому — я и жил.
Однажды, возвращаясь с очередной своей прогулки, на углу нашего дома я увидел парня, а вернее — молодого джентльмена, красивого собою и великолепно, непривычно для наших мест одетого. Я приближался медленно, разглядывая его и решая, откуда б такой взялся и к кому из соседей он мог бы, допустим, приехать. На третьем этаже, под нами, жило, к примеру, многодетное семейство слепого Жабрина. У себя в артели слепых Жабрин работал небольшим каким-то начальником и один кормил неработающую жену и все большое свое семейство. Жена Жабрина баба была вздорная, пьющая, как и он сам, и чуть не через два дня на третий под нами гремели скандалы: слепой, гневаясь, бросал в жену предметы. И еще, что внушало мне порою чувство безысходности, — от Жабриных к нам наверх неостановимо ползли клопы, как ни боролась с ними моя мама. Первое, самое сильное, помню, что поразило меня в наряде незнакомца на углу, были его бархатные туфли. Маленькие, изящные и остроносые — они были по самой последней-распоследней тогдашней моде, они, быть может, даже маленько забегали ей наперед. В таких туфлях, показалось мне, мог бы прогуливаться по Фонтанке сам Александр Сергеевич Пушкин. Не меньше. Да и в позе молодого джентльмена было тоже нечто для меня неотразимое, небрежно-изысканное, нечто не заботящееся о производимом впечатлении, а потому отдающее чем-то природным, независимым. В смуглом же лице молодого человека — я все еще шел к нему и смотрел — тоже словно мелькнуло выражение печали не печали, тоски не тоски, а как бы тихой, сосредоточенно-тихой о чем-то заботы. О чем-то, возможно, не совсем другим понятном, но самому ему очень-очень важном. И вместе выражение содержало кроткую, или, вернее, смирившуюся привычку эту свою заботу скрывать.
Я шел мимо прекрасного незнакомца, я изо всех сил старался не поглядеть в его сторону. Мне не хотелось выказывать своей симпатии. Тем более зависти.
И в самый момент минования возле моего — о, чудо! — уха раздался голос. Погрезилось мне или вправду так было, но только в нем, в голосе этом, были, входили в его состав две-три нотки, которые звучали в голосах и у дяди Вити, и у дяди Акима, и у моего отца, и у дяди Лени; которые жили в голосах всех взрослых мужчин нашего, от Алексея Ивановича, рода; которые в подростково-сиплом варианте прорезались в аккурат к тому времени и у меня.
— Женя? — было произнесено. Ну да — мое, мое имя.
Я обернулся, опасаясь ослышаться. Я знал, что я не ослышался, но я боялся на всякий случай, чтобы не сглазить.
— Я Кирилл, — сказал незнакомец, и в голосе его взлетели и лопнули воздушные шары тех самых знакомых ноток. — Ты не узнаешь меня, Женя?
Оба раза «Женя» Кирик — а это был он — произнес так, словно всю жизнь он помнил и любил мое имя и вот получил возможность свое отношение как-то обозначить. Он произнес его с нежностью, с какою взрослые старшие братья рассказывают чужим людям что-нибудь смешное про своих младших. С тою немного насмешливой самой к себе нежностью. «Кирик», знал я, образовано от «Кирилла». Так давным-давно придумала еще тетя Галя. Но в тот-то миг «Кирик» и «Кирилл» соединились во мне не сразу. «Кирилл» прозвучало совсем как-то свежо, как-то словно в стороне от нахоженных магистральных путей моего сознания и памяти. Я пробежал, если можно так выразиться, лестницу узнавания ступенька за ступенькой (кто это? кто это? кто?), один за другим отбрасывая варианты-тупики. Отбросив все, я понял: это мой двоюродный брат Кирик, потому что измененно «Кирилл» это и есть «Кирик», он приехал с Украины и ждет меня здесь, на углу, с коричневым кожаным чемоданчиком в руке. Ибо — и право же, жаль, что это так легко объяснилось — время еще рабочее, а я единственный, на кого можно сейчас рассчитывать, чтобы попасть к нам в дом.
Мы двинулись рядом. Мы шли, разговаривая.
Запросто, без всякой малейшей натуги. И на площадке, помню, третьего этажа, как раз напротив двери Жабриных, Кирик спросил меня, где у нас находится донорский пункт, чтобы можно было сдать кровь.
— Не знаю, — не понял я. — А… а зачем?
— Кровь сдать, — пояснил он спокойно. — В ресторан сходили бы.
Это, разумеется, было потрясающе!
Я ни разу в жизни не бывал в ресторане. От одной мысли пойти туда с Кириком у меня захоланывало внутри. Конечно, было в этом нечто и пугающее. Сдать собственную кровь, чтобы на вырученные деньги идти и пить в ресторане спиртные, вероятно, напитки. Было, чего уж, было от чего струхнуть. Поэтому, помимо восхищения, одно мгновение я переживал чувство, как если б Кирик предложил мне «уколоться», то есть испробовать на себе действие наркотика. Однако успокоился я быстро. Я вспомнил: Кирик совсем не выпивоха и не бабник (а в нашей родне водились и такие), хотя к нему-то, «стиляге» и маменькиному сыночку, свойства эти просились как бы сами собою. И я сообразил: в ресторан-то Кирик хочет пойти ИЗ-ЗА МЕНЯ. Скорее всего, он просто угадал, ЧТО со мною происходит. Он сразу заметил то, чего никто из окружавших меня пока заметить не хотел или не мог. И взрослость, и серьезность, и эту вот мою готовность к «большой» всамделишной жизни. Ну на кой ляд — думал я потом — сдался б ему я, салага мокрогубый, пожелай он и вправду поразвлекаться по злачным местам? Ну и что, что я еще не брился! — волновался я, поднимаясь по ступенькам вслед за Кириком и глядя на узкие пятки бархатных его туфель. Ну и что? Побреюсь еще! Эка невидаль-то.
В общем, Кирик, вероятно, разобрался правильно, и с рестораном получилось как надо.
Я открыл дверь английским ключом, и мы вошли в квартиру.
Пока Кирик ставил в коридоре желтокожий свой чемоданчик, пока устраивал на вешалке пиджак и переобувался в шлепанцы для гостей, я успел обдумать предложение сдать кровь для ресторана и с благоразумием от него отказался. Вскоре вернутся с работы мои родители, объяснил я Кирику, они будут очень рады вестнику с Украины и потому, дескать, не надо нам лишать их удовольствия и идти в ресторан, а поужинаем-ка лучше дома, все вместе, по-домашнему.
Я, возможно, был искренним, но все ж не до конца. В голосе моем звучали, видно, и смутные какие-то опасения. Кирик ничего не ответил. Он только без всякого на лице выражения мне кивнул.
В дальней комнате, куда мы с ним прошли и которая иной раз с разгону звалась еще в нашей семье «детской» (мы жили тут с сестрой Нинкой), в дверном проеме висела боксерская самодельная груша. Несмотря на любовь к безответному князю Мышкину, этой грушей я чрезвычайно гордился. Мало какой гость-мужчина миновал ее без соответствующих слов. «Стучишь?» — спрашивал гость понимающим голосом. «Есть немного», — со сдержанной и фальшивой скромностью рыбака, прикормившего верное место, отвечал я. «Ну-ну…» — суровел гость и с судорожным бабьим замахом молодецки по груше бил.
Кирик же моей груши попросту не заметил.
Он прошел в глубь комнаты, привалился ягодицами к письменному столу и огляделся. Здесь, в обыкновенной нашей обстановке, где простора и света было меньше, чем на улице, в растоптанных домашних тапочках, он выглядел гораздо проще и как-то будничнее. Я почти не стеснялся его.
Я ушел на кухню заваривать чай, предложив Кирику «располагаться», а возвратившись, застал его с раскрытой книгою в руках — одной в ту пору из трех-четырех с моего письменного стола, что я читал и перечитывал. Улыбаясь, Кирик взглядом пригласил меня послушать и прочел:
— «Известно, что с тем, кто не обрел доброй славы у себя на родине, нечего толковать о высоких деяниях, равно как, не зная об умении коня мчать колесницу, нельзя судить, хорош он или плох. Вот я и спрашиваю: какую службу может исполнять у нашего принца Цзин Кэ, ныне издалека прибывший к нам? — Так Ся Фу хотел исподтишка задеть Цзин Кэ».
Это была моя любимая китайская легенда.
Храбрец Ся Фу проверял на царском пиру вновь прибывшего доблестного мужа Цзин Кэ. Цзин Кэ должен был держать ответ и как-то оспорить, повернуть по-другому казалось бы безоговорочную истину, высказанную Ся Фу. Для этого Цзин Кэ нужно было провозгласить нечто более глубокое, чем речь Ся Фу. Глядя на читающего Кирика, я почему-то припомнил его дикое желание «выучиться на дамского парикмахера», которое в трудолюбивой нашей родне вызывало самые богатые по оттенкам усмешки. Слушая, как громко и с выражением, словно шестиклассник, читает теперь Кирик мои любимые строчки, я подумал, что к его поступкам наши, как это водится, приставляли мотивы низкие, а мотивы могли быть и иными. Кирик почитался у нас в родне паразитом, «лентяем и бездельником», как пелось в одной популярной песенке тех лет. Песня называлась «Рулате-рула», и в ней пелось, что «если ты просто лентяй и бездельник, песенка вряд ли поможет тебе…». Кирик считался лентяем, бездельником и паразитом и вместе с тем странным, смешным немного типом. Этот его отказ учиться в школе после девятого, эти длинные безработные паузы при очередной смене трудовой деятельности, когда взрослый здоровый мужик, по выражению моей мамы, сидел, свесив ножки, на шее у пожилого отца. Эти проросшие зерна, которыми он, бывало, питался взамен обыкновенной еды. Эта его сауна. Йога. Увлечение театром… Ах, всего ведь и не перечесть! И последнее это: «на дамского парикмахера», В общем, было. И теперь Кирик читал вслух, как ответил доблестный Цзин Кэ храбрецу Ся Фу, который исподтишка хотел задеть его.
— «Мужа редкостных в мире достоинств, — читал Кирик ответ Цзин Кэ, — не годится равнять с жителями его родной деревни. Коня, по всем статьям равного тысячеверстному скакуну, не следует впрягать в колесницу. Жеребец быстроногий, когда возит соль, — бездарнейшая кляча. Но заметь его конюший Бо Лэ, и он обернется тысячеверстным скакуном…»
Кирик остановился, закрыл книгу и положил ее на стол.
— И ты так думаешь? — спросил он меня.
— Да, — сказал я.
— По-твоему, деревня не видит, кто в ней живет? — усмехнулся Кирик. — Не понимает?
— Что-то видит, — краснея, выдавил из себя я, — а чего-то и нет…
— Э-э, вряд ли! — покачал он головой. — Человека и снаружи видно, и не только одному конюшему Бо Лэ. Чего бы там человек внутри сам себе про себя ни навыдумывал.
Я не стал спорить — Кирик говорил так уверенно! Возможно, это был как раз случай, когда верно и то и другое. Но в глубине души я чуял, о чем держал свою речь доблестный Цзин Кэ. О разнице между кажущимся и истинным. О том, что ВНЕШНЕ благообразный поступок не означает поступка хорошего ПО СУТИ. Что моральное наполнение любого нашего действа знаем только мы сами.
Коротая время до прихода родителей, я показал еще Кирику схему, которую вычерчивал для Игоря. Шестнадцать прапрапрадедушек, восемь прапрабабушек, два деда и одна мать. И в другую сторону: две дочери, четыре внука, шестнадцать прапраправнучек и сто двадцать восемь опять прапрапрапрапраправнуков. Получалось, человек — это некий «перекресток» человечества. Он явился, каждый, из бесчисленного множества людей, из тысячи, сотен тысяч, из миллионов, и что от него его частицы тоже уходят в миллионы. Что понятие РОДНЯ вещь временная. По той простой причине, что если деда своего ты еще помнишь, то прапрапрапрадедов уже — их у тебя тридцать два — прапрапрапрадедов уже нет. И если внук твой тебя помнит, то прапраправнук… и прочее.
— Гениально! — рассмеялся Кирик.
Ему даже, кажется, захотелось хлопнуть меня по плечу, но он удержался, к сожалению.
Мы стояли у стола рядом. Я видел белые, необыкновенно какие-то ровные, блестящие в улыбке зубы Кирика и думал, что, поди-ка, такие и должны быть у настоящего тысячеверстного скакуна. Ну конечно — должны! Хоть я и не конюший Бо Лэ. Хоть и могу думать так лишь предположительно.
Поощренный высокой оценкой, я и еще кое-что сказал Кирику. Например, что, раз человек это «перекресток человечества», то получается, каков окажется каждый отдельный человек, таким будет все человечество, по крайней мере «и таким». Что каждый из нас в этом смысле вариант человечества и именно по сей-то причине плохие люди чаще всего пессимисты.
— Погоди! — остановил меня Кирик. — Ты считаешь, есть «хорошие» и есть «плохие»?
— А как же? — не понял я.
Я не понял вопроса, но мне хотелось продолжать. Мне не терпелось сказать Кирику про нашу обреченность на любовь к человечеству, что родственную любовь мы должны научиться распространять на всех людей вообще.
Но Кирик уже не слушал меня. Он задумался, провалился куда-то в себя. Мне оставалось притормозиться и подождать, когда он вернется.
— А может, и так, — сказал он, очнувшись через минуту. — Возможно, ты, Женя, и прав. Есть «хорошие», а есть и «плохие».
Для меня-то это было пареною репой. Хорошие, плохие… Разумеется, разумеется! Мне было шестнадцать лет, я искренне верил, что в щелочки своих глаз я прямо и непосредственно гляжу на саму объективную истину. Если кто-то и видел ее другою, то это было не мое, а его личное несчастье. Не мог же я сомневаться в собственном великолепном зрении!
Пришли родители, и я обрадовался им больше, чем ожидал. Наверное, я утомился от роли хозяина, от впечатлений. Но было еще не все. Начался ужин. Когда гостей в нашем доме было немного, располагались на кухне. На кухне сели ужинать и теперь. Мама по-быстрому разогревала что-то на плите, я принес из серванта рюмки, а отец вытащил из холодильника припасенную на такой случай бутылку. Уже через десять минут стало ясно, что Кирик вовсе не такой отдельный человек в родне, как это можно было предположить. Он знал про всех наших с Украины все, что необходимо для такого вот застольного разговора. Он даже рассказал две-три смешных истории про общелюбимых родственников, сумев их при этом и не задеть и не обидеть.
Я видел, что отцу Кирик нравится.
Отец вспоминал, как они носили с дядей Акимом одни по очереди валенки в школу, как все равно все выучились боле-мене ничего, слава богу, и какая все-таки тогда была хорошая, расчудесная просто жизнь. Лошадь была.
Мама подкладывала Кирику в тарелку то и это, а он благодарно ей кивал и вновь переводил слушающий взгляд на отца.
Попробовали петь.
Ой, у лузи, та ще й пры дорози Червона калына. Спородыла молода дивчына Козацкого сына. Вона ж его та й спородыла В зелений диброви. Та й не дала тому козакови Ни щастя, ни доли…Отец, кроме самых начальных слов, больше не помнил, он лишь подвывал потом и улыбался на Кирика, и Кирику пришлось петь практически в одиночку. Голос у него оказался глуховатый, не такой красивый, как у дяди Акима, но точный и без всякой специальной старательности музыкальный. Словно он забыл, что сидит и поет песню, «исполняет» ее, и потому получалось вроде само собою и хорошо. Наверное, я подумал, Кирик любил ту песню про козаченьку. Лицо его побледнело, и глаз своих от стола он так и не поднял, пока не допел.
Не дала ему, козакови, Ни щастя, ни доли. Тилькы дала тому козакови Лычко билэ, черни брови…Отец припомнил две последние строки, и они допели их вместе, на два голоса, повторив еще раз:
Тилькы дала тому козакови Лычко билэ, черни брови…— Так-с! — потер руки отец, когда они закончили, и налил себе и Кирику по стопке.
Потом пели:
Плывэ човэн, воды повэн, Та й накрывся лубом. (Три раза) Ты не хвастай, козаченько, Кучерявым чубом… (Три раза) —песню, которую певали молодыми дедушка с бабушкой на пару. Отец и Кирик спели ее, тоже разделив голоса. Отец пел первым, а Кирик вторым. Конечно, это было не то, что выходило у Четверых Братьев, но все же это было прекрасно — настоящий праздник. Правда, до «Клена» дело не дошло. Отец постукал ногтем в опустевшую бутылку и сказал, что «если б было чего еще, то…». Но мама его не поддержала. Она сказала, и слава богу, что «чего еще» больше нету. А Кирик глядел на них обоих ласково и немного как бы грустно. Меня весь вечер не покидало чувство, что маленько он все-таки скучает. Что душою он и рад, но будто бы не весь, не всею душою. На другой день он уехал.
Кажется, Кирик поехал к дяде Лене на озеро Увильды.
Если б не школа, я тоже, поди, поехал бы с ним.
Утром, когда я проснулся, раскладушка, на которой спал Кирик, стояла сложенной и прислоненной к письменному столу. Тут же, на столе, лежала записка: «Женя! До свидания. Увидимся когда-нибудь, но если и нет, все равно я очень рад…» А внизу, сбоку от раскладушки, стояли рядком, раздвинув острые носы, черные бархатные туфли, в которых мог бы гулять по Фонтанке Пушкин.
Это Кирик, уезжая, сделал подарок — самый крупный из подаренных мне за жизнь.
Мне было шестнадцать лет, и меня мучили соблазны. Нет, нет, я бы не украл и не убил старуху, как Раскольников. Мне не хотелось этого, и не было в этом нужды. Но я — допустим — мог бы обмануть девушку. Нет, конкретно я не собирался пока никого обманывать (девушки не было), но вопрос ТАК ЛИ УЖ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ БЛАГОРОДНЫМ подвергался во мне в ту пору первой ревизии. Я мог бы обмануть свою девушку не теперь, а через год, два, три или четыре в зависимости от того, что бы я решил. Я мог бы даже не обмануть, а лишь ЗАХОТЕТЬ или РАЗРЕШИТЬ СЕБЕ ЗАХОТЕТЬ такого обмана. Или, обманув уже, убедить себя в том, что виноват не я, а жизнь, жизнь (это-де жизнь так устроена), или что бедная девушка сама желала обмануться. К тому же ни воровать, повторяю, ни убивать мне не хотелось, а стало быть, сделав пакость, я смог бы подкрепить чувство собственной, пускай пошатнувшейся, честности, и с этой всегда безусловной стороны. Хотя, мол, у меня и есть недостатки (а у кого нет?), однако я не ворую и пока что никого не убил.
Словом, я смог бы сделать так, чтобы сознание и совесть работали во мне на мое удовольствие.
И… и надо ли было иначе?
Те из меня окружающих, кто смотрел на вопрос не с одной юридической точки, решали его голым ощущением. Противно тебе что-то делать, с души воротит — не делай! Верный способ, о чем тут говорить. Однако ж не безупречный. По блату доставать противно, а куда денешься? Некуда! И какой же выход? Простой: тебя воротит, а ты держись. Делай, что надо. А если подпустить еще нечто этакое, обезоруживающее, мол, не для себя же, исключительно только для малых детушек, то и вовсе терпимо получится. И прочее. Короче, по размышлении становилось очевидно: если надо, если очень хочется — отвращение преодолевается.
Выходило, что чувство не надежно.
Нужно ЗНАТЬ.
И позднее-то я узнал. Обыкновенное, как трава у крыльца дедушкиного дома. БОЛЬШЕ ВСЕГО ХРАНИМОГО ХРАНИ СЕРДЦЕ СВОЕ, ИБО ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ. И никто никого, кроме тебя самого, никогда не обманет и не обхитрит. Потому что из него, из собственного твоего сердца, а не из пресловутых сосцов и корытец с одуряюще вкусными их запахами берется и начинается жизнь; и честные родители нужнее-таки детушкам, чем любая добытая ими копченая колбаса.
Но это все потом, потом.
А мне нужно было ТОГДА. Мне очень хотелось это знать. Дозарезу. Пусть не названным пока, но учуять, услышать хоть отголоском, отголосочком, и поверить, поверить.
Бабушки во дворе, не желая вникать в тонкую красоту моей обновы, окрестили туфли Кирика домашними тапками. «Вишь чё, домашни, што ли, тапки таки?..» Я слышал за спиною их не стесняющиеся, не жалеющие меня голоса, и мне было обидно. Но что же было делать? Мы жили далековато от мест, где ковалась тогдашняя мода. Бабушек можно было понять. В школу я тоже ходил в другой обуви. Школьная одежда туфлям Кирика была явно не под стать. Зато вечерами, отправляясь в одиночку по улицам, я надевал туфли Кирика и шел, и бродил в них, ступая бархатными носами на опавшие листья и краешки луж. Я размышлял о том и об этом и втайне думал, что я ношу туфли Кирика в его честь. Лишь через год, когда в левой подошве протерлась дыра, а правая вовсе оторвалась от бархатного верха, я эти туфли выбросил и начал носить на прогулки что-то другое, теперь уж и не упомню что.
КРУГ
Бежал, неловко перебрасывая ноги со скамьи на скамью; доски, покрытые инеем, скользили, на бег этот уходили последние силы, и, временами забываясь, он забывал о погоне. Нога соскользнет, просунется между лавками, он всей тяжестью навалится на нее. Он представлял себе это: нога соскользнет, боль пронижет ее до паха, хрустнет кость, он так хорошо представлял себе это, что несколько мгновений не знал: лежит ли он впрямь со сломанной ногой, беспомощный и уже погибший или бежит. Бежит! Он еще бежал! Бежал, ничего не видя перед собой, кроме трех-четырех белых от инея скамеек, и лишь порой, когда поднимал голову, впереди, у края трибуны маячил в глазах низенький зеленый заборчик, до которого он и рассчитывал добежать.
С самого начала, с первого шага он знал: его догонят. Уже догнали. Но сознавать это было так страшно, так непосильно сейчас, что, отвлекаясь, он нарочно заставлял себя думать о другом. Не поскользнуться!
Последние метры, не выдержав, он полз на четвереньках, оскальзываясь ладонями и раз или два стукнувшись щекой о мерзлое дерево. А у заборчика встал, набрал в легкие воздуху и обернулся.
Стадион пустой фарфоровой чашей белел в черноте ночи. Их не было. Не было! Они все-таки забыли про него. Он сумел, сумел их запутать!
Закинув ногу на перильце и чувствуя животом его холодную гладкость, он перевалился туда, в черное. Воздух свежил щеки, он падал, па-а-адал, и он был свободен. И когда ступни горячо ударились о жесткое, когда он повалился с размаху на бок, он вдруг совсем успокоился и чуть не рассмеялся от облегчения.
Все! Он спасся.
Лежал и не спешил что-то тут менять, медленно, миг за мигом впитывая в себя счастье.
Но они были здесь!
Сразу, всею кожей он почувствовал это — они здесь. Они были здесь, и он, он это знал. Они давным-давно были здесь, а он всегда, все это время знал это. Одного только себя он и сумел запутать.
Они почти с жалостью смотрели на него. Он давно и полностью был у них в руках, и они с жалостью смотрели на него. Они смотрели на него. В темноте, посреди черно-теплой ее гущи он лежал, их взгляды ползали по его коже, и ужас, которого он так трусил и ждал, грянул в конце концов. Он закричал и задергался, испытывая почти уж любовь к ним, к своим мучителям, и почти тотчас спасительно устал. И все опять стало безразлично. Все.
Зубов проснулся. Стукали колеса, покачивало, и это был поезд, верхняя полка, и видел он сон. Старый, привычный его сон, о котором и не просыпаясь, случалось, он знал: сон, сон же ведь, — однако каждый раз переживал по-настоящему.
«Хр-л-л… Хр-л-сп-л…» — храпел снизу старик. Пахло улежалой постелью, теплым чем-то, сладеньким.
Зубов качался, успокаивался потихоньку.
Было полутемно, лишь над полкой студента светил фиолетовый ночник.
Сквозь платок в нагрудном кармане Зубов нащупал тверденькие, точеные носики ампул и, унимая пошедший, побежавший по телу озноб, удостоверяясь, пересчитал. Раз, два, три… Э-эх, спасибо Витяне! Маловато, — риск! — ну да ежели не гнать, если с растяжечкой, да по уму, хватит Зубову и четырех «беляшек». А уж дома-то, там, он в землю зароется, добудет. Первые в тюряге дни, кумарясь без, он чудом разве не подох на этот раз. Орал, грыз стену, на карачках по камере лазил, парашу, нарываясь, в надзирателя ширанул. Когда же почуял, что выскочит, что вылазит уж, похоже, помаленьку, сам же больше всех и обрадовался отрыву. Отдых, отдых, получалось. В колонии засыпал, и сердце у него гораздо реже кололо, а сделали бригадиром (худо-бедно, а монтажный техникум у Зубова-то), время и вовсе зажурчало незаметным прозрачным ручейком. Бегать, орать, распоряжаться, это ему, Зубову, что на дудочке…
Сквозь поднимавшийся волнами храп Зубов услышал какой-то шорох, что ли, а затем стон.
«Точно! — не успев напугаться, сообразил он с ходу. — Баба! Беременная, та, с брюхом».
Ночью вчера — спали уже, прогромыхала дверь, и проводница впихнула словно б под шумок. «До утра, мальчики, честно-пионерское, до утричка…»
Старик так и храпел, как сейчас, без задних ног, а студент вскинул только облепленную пухом осовелую башку да сразу молча и отвалился. Зубову же, недавно перечитавшему последнее письмо отца, было и совсем наплевать. До утра так до утра! Хоть до вечера. Глядя ей в глаза, он пожал плечами. Заметил, понятно, и блестящие, жирно крашенные ее, проводницы, губы, и как улыбалась ему, да настроенье, как сказано, было у него не то. «Вот ты все уговариваешь, — писал отец, — успокаиваешь, берегите себя, а в остальном будет нормально, а когда будет нормально — и конца пока не видать. Вот ты пока находился, — писал отец кривыми разваливающимися буквицами, — двух твоих дядьев похоронили, и уже очередь подошла наша. Веселые шутки, проводы зимы и печальную новость твоего дяди Пети…» В конверте лежала еще газетная вырезка, где руководство, партком и профсоюзный комитет извещали о дяди Петиной смерти. Перечитав письмо с вырезкой, Зубов улегся на живот. И вот лежал, глядел в белесое от напотевшей мути стекло и думал себе про дядю Петю, а проводница и втолкнула эту бабу.
Стон повторился, и Зубов свесился в проем.
— Эй, ты, дама! Ты чего?
В сизом свете ночника — темные по лицу волосы, голубоватые пальчики на губах и огромный, бугром вздыбившийся под одеялом живот.
Пальцы, когда окликнул, пошевелились, но ответа так и не последовало, хоть он и ждал.
«Ну и черт с тобой!» — откинулся Зубов обратно в глубину.
Ему и глядеть туда не надо было — так ясно! Зовут, зовут, пути-дороги! Р-романтика, понимаешь! Стройки-магистральки! Знаешь, мама, он такой черненький! Или нет! Он такой беленький! Может, не поедешь, Милочка? Что ты, мамуля, ведь мы же решили! А по прошествии: «Дорогая редакция! Мой друг Вася Птичкин матрос, и видимся мы редко, три недели в год. Но я всегда его очень жду. Я прошу исполнить для моего Васи его любимую песенку «Шаланды, полные кефали». И, по прошествии: «Мамочка! Ты не переживай, я воспитаю ребеночка сама, он ни в чем не виноват». И, ну да, да и хмурый дедушка, играя желваками, усыновляет «ни в чем не повинного младенца». Ох, знал, знал Зубов эти все шаланды.
Год назад жена, теперь уж бывшая, прислала тоже — фотографию. Сидит, на лице эдакая вселенская грусть, а возле — мальчик. «Папа, — на обороте ее почерком, — мне уже полтора года, а я тебя не видел…» Придумала! У-ух, показал бы он ей полтора года! Когда пришла бумага о разводе, ни секунды не пожалел, ни полсекунды вот.
Женщина снова застонала.
Зубов приподнялся на локте и долго, напрягая зрение, вглядывался.
«Дама» лежала как-то полубоком и по-рыбьи, с сипом вглатывала в себя воздух. Голубые пальцы вцепились в уголок стола.
«Рожает же!!» — бабахнуло в Зубове. Он открыл было рот окликнуть ее, да спохватился: с него достаточно — он ведь уж интересовался.
Через проем сопел на своей верхней полке студент. Или разбудить? Фиг-два, и студента тоже трогать он не собирается. Вчера краем уха долетело до него, как травит тот о геройских подвигах на какой-то там «практике». «Практика, практика… Мы на нашей практике…» О героических, словом, буднях скромных героев в белых халатах, и его, Зубова, тошнило от всего этого. Когда умирала его мать, нагляделся он на них. «Разбирайтесь…» — решил он и отвернулся к стене.
И тут женщина закричала. Громко-громко, в голос.
Зубов вздрогнул, но не обернулся. Он как бы и ждал уже этого крика. Желал. Теперь-то все так или иначе должно закончиться. «Ну, давай! — подгонял он ее. — Ну! Ну?»
Наконец полка под студентом заскрипела. Вчера они между собой так и не познакомились. Зубов не захотел. Такое вот напряженное незнакомство с людьми и доставляло иногда Зубову удовольствие. За вечер вчера он на промолвил ни единого слова.
— Что с вами? Плохо, что ли? — послышался снизу сочный голосок студента.
Женщина что-то отвечала, но Зубову не слышно было что.
Пришлось двигать подушку поближе к краю. Интересно все-таки!
Студент сидел рядом с женщиной и обеими руками ощупывал живот.
— Не раздави! — вырвалось у Зубова.
И тут же он об этом пожалел. В молчании было преимущество, а так он его терял.
Голова студента качнулась от окрика, как от подзатыльника, но он выдержал, не обернулся. И тогда Зубов разозлился уже всерьез. Он сложил физиономию в любимое свое идиотски-серьезное выражение и свесился в проем.
Студент, словно не замечая, продолжал осмотр, а женщина скользнула по нему бессмысленными глазами и отвернулась; уж ей-то точно было не до Зубова.
И все равно он висел над ними, раскачиваясь, как змея. Таращился. Шипел. Иной раз в ресторане он любил вот так подойти к каким-нибудь пижонам и, топыря в брюках карман, негромко сказать: «Быстренько платим по счету и гуляем. Две минуты!» И никто ни единого разу не задержался из них.
Студент закончил и обернулся к Зубову.
— Вы не смогли бы сходить за проводницей?
Ты мог бы сходить за проводницей, Зубов?
— А ты сам, а? Козлик?
Глаза у студента сузились, а веки дрогнули. Зубов тоже смотрел и улыбался. Он знал, понимают его правильно.
— Мы после поговорим, если хочешь, — выдавил студент. — А сейчас сходи.
— У-тю-тю-тю!
Становилось интересно. Рано или поздно, а все равно перестанешь притворяться, думал Зубов. Знал он этих мордастеньких, с детства пузатых маменькиных сыночков. Никого они не любят, кроме себя, эти вежливые ребята.
— А-а-ав-ва-а-ау! — завопила женщина. Пальцы ее сжимали ладонь студента.
Тот привстал и, не отнимая руки́, грубо потряс другой укрытого до макушки старика. «Добре, сынку!» — одобрил его мысленно Зубов. Без булды.
— А? Что? Чиво? — заперебегали с одного на другое красненькие испуганные глазки.
— Одевайтесь быстро, и за проводницей! — отчетливо скомандовал студент. — Роды у нее.
— Ой-ей, вот тех-тех. Дела-а! — старикан, суетясь, но довольно сноровисто оделся, прикрыл постель и, вскользь глянув на женщину, исчез.
Стуком двери, хлопнувшей за ним, будто что-то закончилось для Зубова. Он откинулся на подушку, сцепил под затылком руки и прикрыл глаза. Лежал, качался, а потом по привычке, появившейся в колонии, начал вспоминать. Лица, руки, голоса… Лучший способ улизнуть от происходящего. Был, к примеру, монтаж. Это называлось «монтаж». Их, самых голосистых и грамотных, выстраивали на сцене по случаю какого-нибудь юбилея, и они, якобы от своего имени, читали стихи. Взрослые в зале слушали и умилялись. «Здесь всё, всё, всё, от верстака до ящика с гвоздями, — читал маленький Зубов, боясь поднимать глаза в зал, — всё нашим создано трудом, своими сделано руками!» А следом сзади звенело уже: «Мы на лыжах, на коньках мастера кататься. В разных студиях, кружках любим заниматься!» «Мы изучим всю округу, все тропинки обойдем, или камень, или уголь обязательно найдем…» Потом Зубов шел домой и во дворе двухэтажного соседского дома видел ту собаку, большую немецкую овчарку, с черной спиной и желтыми подпалинами. Хозяева привязывали ее к березе и забывали, наверное, покормить. И собака ела свой кал. Ела медленно, равнодушно, не реагируя на проходившего Зубова, и кал этот с каждым днем становился все светлей. Собака эта потом куда-то исчезла, и Зубов решил, что она сошла с ума.
— А говорила, рожать через два месяца! — послышался голос проводницы. — Ну вот зачем обманывать-то?
Зубов усмехнулся.
— Тихо-тихо-тихо, — остановил проводницу студент. — Не нужно шуметь.
— Да кто шумит? Кто шумит? Сами же! Так бы и говорила сразу, так и так. Врать-то зачем?
— А вы б ее сразу-то посадили? Сомневаюсь что-то.
Лица студента Зубову было не видать, но голос его сейчас ему нравился.
— До станции два часа. Скоро она? Не успеем? — спрашивала проводница.
— Нет! Воды отошли.
Зубов насторожился. Ох, показалось, не надо б ему всего этого! Ни к чему бы.
Некоторое время было тихо. Свет до сих пор не включался, и в сизом полумраке слышался один стук колес.
— Сделаем так, — заговорил студент. — Дайте объявление по радио. Вдруг в поезде врач?! Я-то… это… не совсем еще.
И тихо. Хлопнула дверь, и тихо.
Зубов почувствовал: подбирается.
Отвернулся к стене и плотно-плотно прижал коленки к животу.
Рука легла на его плечо, и, не оборачиваясь, он догадывается: это студент.
— Простите, вы не могли бы выйти в коридор?
Ты не мог бы выйти в коридор, Зубов? Нет? Нет! Он не мог бы.
— Нет! — сказал он с каким-то даже наслажденьем, и рука ушла с плеча. Где-то он вычитал, якобы пауки сжирают за год мух на вес, равный весу человечества. Интересно, думал Зубов, а вот интересно, сколько же вытянет человечество, если его взвесить?
Он достал сигаретку и, чакнув самодельной зековской зажигалкой, закурил. Приоткрыл окошко, если уж что, и нюхал, покуривая, свежий ветерок.
Женщина внизу что-то молвила, он сразу не разобрал, что к нему. Но она обращалась к нему.
— Уйдите, уйдите, пожалуйста… — так она сказала.
Эх, спел бы я песенку, да голосу нет. Склевал бы я зернышко, да волюшки нет.В туалете холодно и нечисто, но от лампочки зато светло.
Зубов повесил пиджак, вытащил шприц, ампулки и сел на крышку унитаза, предварительно придавив ее коленом. Через краешек обломил платком носики и набрал. Руки с непривычки тряслись, и с пол-ампулы он пролил. Потом, закатав рукав рубахи, долго искал, где вколоться. Вся ямка была в белых точечных шрамиках — настоящая чернильница. Наконец, попал.
Поршень шел неохотно, вена испорченная тоже, ну да у него получилось. Иглу и оставшиеся ампулы завернул, убрал и, раскатав рукав рубахи, откинулся к стеночке, — три года и еще сто дней ждал он этого мига! Нежно-ласковая, жемчужная волна обдала его изнутри, ушла, сделалось зябко, тревожно, но тут же все опять вернулось, прихлынуло и, вслушиваясь, вчувствоваясь в себя, Зубов прикрыл затяжелевшие веки.
В тамбуре, дымя самокруткой, курил старик.
— В очко играем, папаша? — нарочито громко спросил Зубов: ему хотелось разговору.
— Нет, — словно б не узнавая, не оглянувшись на него, ответил старик.
За окном уже светало.
— А в буру?
— Нет, парень, не играю. Не умею.
— А чем же ты со старухой вечерами занимаешься? Телявизыр хлядишь? — раздражался уже Зубов.
— Ничем, — старик все не оборачивался к нему. — Померла моя старуха.
«Вот! — мелькнуло у Зубова. — Во опять! Сговорились они, да?»
— А че ж ты по новой не женишься? Никто замуж не берет? — не отставал он.
Старик не отвечал. Смотрел все.
— Тебе говорю… — начал было Зубов, но старик неожиданно повернулся и близко-близко приблизил к нему свое лицо.
— И отколь вы такие взялися, засранные-то?! Кто вас родит-то таких?
— Ты чё, дед? — отпрянул Зубов.
— Этот, Петька мой, тоже, приедет и давай надсмешки все, улыбочки. Чи кто обманул в чем их! Пьфу! Ну чиво вот ты давеча изгилялся? Жалко тебе, женшына ро́дит?
Старик покраснел, дышал часто, жалко было на него смотреть.
Зубов не обиделся. Слова эти он по привычке отправлял туда, где хранилось у него все неприятное, чего на свой счет он отнюдь принимать не собирался.
— «Жалко», — лишь повторил он слегка царапнувшее его слово. — Нет, деда! Не жалко! Пусть рожает, коли охота ей. Только вот зачем?
— Зачем?! Детей родить зачем?
— Ну. Детей.
— Ты чё говоришь-то? Думай. Эк тоже-ть сказанул. Зачем!
— Ага, зачем?
— Вот те так. А как же люди жить будут, коли детей не станут родить?
— А зачем им жить?
— Вот тех-те, приземлились! Зачем? — Старик задумался. Был уверен, что ответит. По лицу было видно.
— Ну дак зачем? — улыбнулся Зубов.
— Чтоб радоваться, — не очень уверенный прозвучал ответ.
— Радоваться! — подхватил Зубов. — А много ты радовался-то? Небось пахал в своем колхозе от зари до зари, да картошку жрал с семечками. Петек вон еще наделал грамотеев. А они теперь своих наделают. И сызнова опять. Порочный круг!
Последние слова Зубов выговорил тихо, шепотом почти.
Семь лет тому Зубов с Витяней Булаевым усаживали на лавочке двух мертвых мальчиков. Привалили их друг к другу, и с одного упала шапка, и Витяня ее подобрал. Была холодрыга, голова на глазах становилась синей, и Витяня разорвал завязки на шапке и натянул ее на самые глаза. Зубов держал мальчика за плечи, чтобы тот не упал.
Мальчики были с ПТУ и в доме у Витяни наглотались какой-то бурды из таблеток. Витяня целый день рысачил по городу, и те хозяйничали без него. Витяня и знал-то их только в лицо… На лавочку Зубов положил шприц, вокруг они разбросали несколько пустых ампул, чтобы милиции легче было соображать, а потом ушли.
Старик дергал его за рукав.
— Какой круг?
— Что? Круг? Какой круг? — не понимал Зубов.
— Какой круг-то, говорю? — светлые выцветшие глаза глядели серьезно, спрашивали.
Зубов вспомнил.
— Порочный, дядя. Бессмысленный, значит.
Старик промолчал и ничего больше не спросил. Курил, согнув неловкую спину. Будто и не было разговору у них.
Дверь отворилась, и в тамбур вошел студент.
— Все, мужики! Готово. Парень!
— Да ну? — старик так и всколыхнулся к нему. — Ну-у, парень? От так-так! Ух, язвио! — Можно было подумать, что это у него родился сын. Он хлопнул студента по плечу и испарился.
— У тебя курить есть? — спросил студент. Глаза у него были спокойные, крепкие сейчас, — не забоится, коли что, определил опытный Зубов. И протянул пачку. Студент благодарно кивнул, затянулся (Зубов чакнул ему зажигалкой) и тряхнул коротко стриженным своим котелком. Ясно, охота было рассказать хоть бы Зубову, чего натерпелся он с этой бабой.
Зубов плевком потушил окурок, выбросил в ящик и, как бы «весьма сожалея», покинул тамбур с героем.
«Та-ак!..»
В купе было тихо. Как-то торжественно-тихо, будто в церкви. Проводница держала на руке дитя и морщещеко, некрасиво улыбалась. Старик тоже — этаким бескорыстным Иосифом гордо посмотрел на вошедшего Зубова. В оборвавшемся их споре отыскался, значит уж, завершающий, непоколебимый отселе аргумент.
Не обнаружа пиджак, за которым он явился, Зубов решил, что оставил пиджак в туалете, — аж и смешно стало на подобную подсказку судьбы. Не уходя по-прежнему, он прислонил лоб к прохладному боку полки и глянул теперь вниз, на мадонну. Из черных подглазий, из опустелого, как зимнее поле, личика сияли на Зубова с тихим исполнившимся ликованием ее глаза.
«Вот, вот оно как!..» — словно б догадался он о чем-то сам про себя.
В коридоре у окна еще постоял. По календарю весна, а грязно-дырявый снег у путей и не думал пока таять.
— И-эх, дела! — раздался у плеча Зубова сипло-бодрый знакомый тенорок. — Ты, парень, чё зажурився-то?
Зубов отвернулся и, не ответив, зашагал прочь. Так же молча и не поднимая глаз, пропустил он мимо и встретившегося в конце коридора студента.
Туалет был свободен, и пиджак тут.
Игла вошла с приятной болью; сразу. Еще не сомневаясь, в расслабленности он спокойно ждал, не волнуясь и не трепеща на сей раз. Потом понял — не будет. Мозг, откликнувшийся после перерыва, «вспомнил» прежние лошадиные дозы и молчал. Доза «не его», и он, похоже, попался, Зубов, он вляпался.
Странно, однако, что это почти и не испугало его сейчас.
…Пальцы росли, делались тоньше, тоньше. Делались тонкие и хрупкие, как макаронины: задень тот об этот, и треснут, а то вовсе обломятся, чего доброго. Из зеркала смотрела, ухмылялась ему какая-то удаленная рожа. Он встал, крышка с деревянным стуком откинулась, и, вскрикнув как обезьянка, он отскочил в угол. Потом упал. Потом, сориентировавшись, прижал снова крышку и вполз на нее. Он доедет, Зубов, он добудет себе. Кто тут сомневается? Мягким обмылком, облепленным какими-то волосьями, он долго мылил-намыливал себе пальцы; затем мазнул ими по зеркалу — убрать рожу. Затем он снял с крючка вафельное грязное полотенце и тщательно, один за другим вытер десять своих пальцев. Они были целенькие, были живые. Он доедет, Зубов, он доберется, на станции его встретит отец и будет Зубову рад, страшно рад, до слез и до дрожи в губах. Оба будут рады и оба будут делать вид, что все хорошо и все нормально, но оба, и отец и он, будут знать, что это не так.
Он намотал на руку полотенце и тычком ударил по застывающему белому мылу. Появилась дырочка, а от нее пробежали кривые лапки трещин. Через кончик полотенца он ввел в дырочку два пальца и, боясь обрезаться, выломил себе осколок.
Держа его смычком, он провел им повыше запястья. Боли не было почти. Кровь собралась в струйку, закапала было, но отчего-то тотчас и остановилась. Что ж, разве и в этом откажет ему всемогущий? И, вложив испачканный осколок в рану, закрыл глаза и, не переводя духа, сдавил. Мышиный тоненький такой писк.
Струйкой, алым тугим фонтанчиком побежало, поднялось теперь и полилось, ширясь, по руке, по брюкам на пол. Он прикрыл снова веки и, уверенный, попробовал представить что-то себе давнишнее, быть может, детское. Но из темноты вновь замелькал опять зеленый знакомый заборчик, и он бежит, прыгает по скамейкам и вот-вот уже опустится, ослабев, на белые доски. И все же что-то на сей раз поменялось в этом его беге. Выход, какой-то выход! Он уже не помнил какой, но выход, точно, был. Он бежал, прыгал, и надежда уносила его.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
1
Капе было четырнадцать, когда умерла мать. Сосед Иван Трофимыч взял над ней опекунство и переселил к себе, а Капину комнату с кухней отдал Витьке, сыну. Дом жактовский, Капа бросила пока школу и помогала тете Паше управляться. Семья у Ивана Трофимыча вроде большая, но, кроме Капы, помогать было некому.
Старшая дочь Зинаида жила отдельно, в кирпичном доме, с горячей водой, с канализацией. Мужа у нее не было, но приходила она редко — оставлять Ляльку. Зинаида работала на почте приемщицей и знала разные «умные» слова: «безусловно…» или «я вас прекрасно слышу, можно и потише». Лялька стучала пятками по всему дому, дергала Капу за подол и просила грубым голосом: «Капацка! Дай хлебца!» Капа хлеба давала, но играть с ней не могла: скучно.
Вторым по возрасту шел Виктор, а третьим Василий. Василия Капа любила и радовалась, если приходил. Он был сапожник, хороший мастер, хоть и молодой еще, и, когда приходил выпивши, пел песни и подмигивал Капе с пониманием. Тетя Паша ворчала и давала ему деньги в долг.
Потом шла Ольга. Она вышла за офицера, жила где-то в Польше и приезжала только в отпуск. Тетя Паша жаловалась ей тогда на Ивана Трофимыча и на Василия, а Ольга всплескивала красивыми руками и расстраивалась. А ночью просыпалась и ходила. Тетя Паша уводила ее к себе на постель, шептала, успокаивала. Муж, офицер, сидел весь день на кухне и читал газеты.
Пятой была Рита, последыш, восьмилетняя. Ее Иван Трофимыч жалел больше всех.
Кормили хорошо, не обижали, но первый год Капа вспоминала мать и плакала ночами, укрывшись одеялом. В свою половину ходила редко. Там стоял сундук, где хранились материны платья и икона с богородицей. Юлька, Викторова жена, стеснялась, когда Капа приходила сидеть на своем сундуке. Но было приятно, будто у нее, у Капы, своя маленькая сила, которую кто-то уважает.
В конце улицы была поляна, а на ней бревна, заготовленные для столбов, да какой уж год зимовавшие так. На бревнах девки лущили семечки и прыскали, когда кто-нибудь из парней заводил беседу. Здесь к Капе начал приставать Юрка Бобриков, по прозвищу Бобер. Он работал на заводе, где и мать раньше, курил настоящие папиросы и сплевывал, как взрослый мужик. «Без рабочей косточки ныне куда? — солидно спрашивал он. И сам же отвечал: — Никуда!» Или: «Материальное производство, где оно? А вот оно!» И показывал свои широкие желтые ладони. От него пахло потом и слесаркой.
Юрка ходил в вечернюю школу — заставляли в цехе. Раз в шутку позвал ее с собой. «А чего? Пойдем!» — ответила Капа. «Люблю за смелость!» — сказал Юрка серьезно, и пошли.
Записалась снова в седьмой класс, боялась, будут смеяться. Но проучилась месяц, и перевели в восьмой. Теперь учились вместе, в восьмом «В». Потом в девятом, а в десятом Юрка сделал предложение. Все это время они дружили, ходили в кино, на танцы, целовались, но глупостей она не позволяла — и вот, пожалуйста: «Я прошу тебя, Капитолина, быть моей законной супругой и женой!» — дождалась.
Вечером за ужином сказала Ивану Трофимычу, хочу назад, в свою половину. «А то в райсовет пойду!» — припугнула. У Юркиной матери был свой домик, но со свекровью жить — век не дожить — а тут свое. Иван Трофимыч был с похмелья, да еще Василий пропил недавно казенные колодки, на него подали в суд — и Иван Трофимыч испугался, велел Витьке вернуться назад. Юлька плакала и не смотрела на Капу — второй раз уж ходила на сносях. А с Виктором столкнулись в сенях, и он сказал: «Сука!» Она покраснела пятнами, но в сенях было темно.
Обжились. Кроме материного сундука да стола (Виктор и на нем накорябал то же слово), Юрий притащил от себя кровать с периной, шифоньер и этажерку. А с завода на свадьбу подарили приемник «Балтика». Стол Юрий проолифил и покрыл лаком — буквы стало почти не видно. Да и кто их увидит под клеенкой.
Потом Юрий служил в армии, а Капа всех удивила — поступила в медицинский институт. Сдала на пятерки. «Молодчага!» — прислал телеграмму Юрий. С завода пришлось уйти. Училась, дежурила санитаркой в больнице — зарабатывала на хлеб. Тетя Паша не здоровалась, а Иван Трофимыч, когда напивался, грозил убить. Но она не боялась, — знала, они безобидные.
Пришел из армии Юрий, поддержал: «Учись. Набирайся знаний». Она и училась.
На шестом курсе родилась Валечка, а потом, когда отрабатывала в районе три года, — Олежек. Юрий заделался теперь шофером, зарабатывал хорошо. Мать его продала дом и заняла Капину половину, беречь казенную жилплощадь. Ну и Капа себя не щадила — работала на полторы ставки да еще дежурила. Так что в город вернулась со своей машиной.
И все бы хорошо, да в больнице, куда она устраивалась, не было места хирурга. Главный врач, солидный и серьезный человек, уговаривал ее переквалифицироваться в анестезиологи — появилась как раз такая в медицине специальность. Юрий тоже советовал — не ездить же на двух автобусах, не мерзнуть. В общем, согласилась.
Теперь, конечно, она была не Капа и не Капка, а Капитолина Ивановна, доктор, уважаемый человек, и она следила, чтобы юбка была поглажена и ногти чистые, подстриженные. Домашнее хозяйство она не любила (опротивело со времен тети Пашиной кухни), но на работе показать себя могла. Оставалась, надо было, и после срока, не спорила, если среди ночи приезжала «скорая помощь». Старалась.
А когда на собрании вручали грамоту и главный врач мягко пожал ее скромную большую руку, она покраснела пятнами и чуть не заплакала.
2
По субботам приходили Борис с Дусей. Борис работал с Юрием на автобазе и считался лучшим другом. Капитолина Ивановна и Дуся скучали на своих стульях, потому что больше двух маленьких рюмок выпить не могли, а Борис, когда открывал вторую бутылку, хлопал. Юрия по плечу. «Ты знаешь, кто ты есть? — спрашивал. — Знаешь? Ты гад и сволочь и мой первый, самый надежный друг. Давай закурим, друг? А?» Они курили, а Капитолина Ивановна отмахивалась от дыма, и ей хотелось, чтобы пришла «скорая», а утром на рапорте Аркадий Аркадьевич ласково смотрел бы на нее и шутил: «Опять, Капитолина Ивановна, не дали вам поспать?» И голос его теплел и из низкого, мужского становился бархатным, трогающим что-то неразбуженное, щекотное. Но «скорая» не приходила, а Юрий вставал и шел на кухню, где мать укладывала детей. Выводил ее за руку на середину комнаты и громко объявлял: «Моя мать! Она меня родила!» Свекровь выдергивала руку, но не обижалась. А Борис хохотал и хлопал в ладоши, как на концерте. Потом они с Юрием пели песню. «Ле-е-е-е-тять у-уттки… — пели, — ды-ы два-а гу-уся…» И было страшно, будто они кого-то пугали этими утками и могли, если понадобится, смерть за них принять или убить. В стену стучал Иван Трофимыч, но Борис в ответ стучал тоже, и петь не переставали, пока Дуся не начинала дергать Бориса за рукав и звать домой.
В воскресенье Юрий болел с похмелья, но Капитолина Ивановна его не жалела. Она вообще не была жалостливой. Больных привечала, но больше так… — нравилось, как в институте делала это одна ассистентка: «Потерпи, хороший мой, сейчас, сейчас, мы тебе поможем…»
Ехали на машине в сад, копать грядки. Юрию нравилось — свои овощи в доме. Затевали еще с Борисом построить тут финскую баню, чтобы париться и пить пиво по воскресеньям. Участок выделили от больницы, Капитолина Ивановна думала отказаться, но Юрий настоял. Теперь она жалела, что послушалась.
Дети подрастали. Валечка ходила в школу, и все бы ничего, да уж очень тесно было жить. Юрию квартиру обещали, но как-то не верилось, что скоро дадут.
Тут как раз выбрали в местком, казначеем, а потом заместителем председателя. Заметили, какая она добросовестная. Теперь можно было видеть Аркадия Аркадьевича в любое время. «Все спасаете? Не жалеете себя? — улыбался он, сталкиваясь с ней в коридоре. — А я вам аппаратик новый выписал…» И наклонялся, ласкал «эр», понижая голос: аппар-р-ратик. Будто тайну сообщал. И она волновалась, и красные пятна выступали на лице.
А потом приехали подшефные из Мултанова, и местком совместно с администрацией устраивал вечер. Капитолина Ивановна, как женщина и хозяйка, произносила приветственную речь. Аркадий Аркадьевич сидел в первом ряду и смотрел на нее. Голос, ее вздрагивал, раза три она запнулась.
После вечера он, хоть и был выпивши, повез ее на своей машине и свернул по дороге куда-то не туда. Ей и хотелось «не туда», боялась только, увидят. Но по ноге уже кралась мягкая горячая рука, и Капитолина Ивановна сжала ее коленями — захлопнула капкан.
Через полгода въехали в новую трехкомнатную квартиру. Дали ее от больницы, хотя приняло участие и Юрьево начальство. Квартира была большая, но неудобная. Одна комната длинная и узкая, с окном в торце — в ней поставили телевизор и тахту, где спали Юрий с Капитолиной Ивановной, — другая, совсем маленькая, для Валечки и свекрови, а Олежек остался в проходной, и некуда было поставить его детский столик, потому что кругом двери и окна или стоит сервант. Но кое-как все, слава богу, разместились, пришли Борис с Дусей и принесли в подарок табуретку.
— Ты знаешь, кто ты? — спрашивал Борис. — Знаешь?
Вот если бы у Аркадия Аркадьевича умерла жена, думала Капитолина Ивановна, он бы взял меня к себе. У него в квартире нет таких длинных комнат и мебель чехословацкая, там нет Юрьевой матери и не приходят по субботам Борис с Дусей. Ей стало жалко себя и свою несчастную жизнь, и когда Борис с Юрием запели про своих уток, она подумала: если Юрий узнает — убьет, а свекровь наверняка уже знает, только боится, потому что квартира все-таки ее, Капитолины Ивановны, и дети тоже. Потом вспомнилось, как хотела однажды прийти к Аркадию Аркадьевичу с сыном, как тот мялся и увиливал. «Нет, с детьми не возьмет, а оставлять их с Юрием нехорошо, что люди подумают…» Да и жалко, особенно Олежека, который приходил иногда под утро и просился: мама, мне страшно, можно я с тобой.
Как-то привезли Капитолину Ивановну на «скорой» в больницу, и на столе в операционной лежала Рита, дочка Ивана Трофимыча и тети Паши. Рита была уже взрослой красивой женщиной, матерью двоих детей — живот у нее большой и дряблый. Она никого не узнавала, бредила и все звала какого-то Алексея. «Алексей… Алексей…»
На другой день прямо домой пришел Иван Трофимыч, сидел на кухне и мял кепку. Он был теперь пенсионер и слаб на слезу. Просил пособить, просил извинить его за неправильное поведение, и сколько может, сказал, не обидит. Капитолина Ивановна от слез его не шибко расстроилась, а от взятки категорически отказалась, хотя у Юрия, когда Иван Трофимыч говорил про «сколько может», было преувеличенно равнодушное лицо. «Будем стараться!» — вот и все, что могла сказать в утешение. Иван Трофимыч мешкал в коридоре, руки ходили ходуном, хотелось, видно, сказать, а может, плюнуть напоследок, но пришлось сдержаться — он был уже старый старик, а она не девочка.
Рита умерла.
Аркадий Аркадьевич хмурился, на Капитолину Ивановну не глядел. «Вот это получилась клякса!» — сказал при всех в ординаторской. Капитолина Ивановна обиделась: с кем-кем, а с Ритой она возилась как могла. Одной плазмы шесть флаконов вызвонила, сама за кровью моталась в два конца… Упрекнул!
Но все равно. В главный корпус все равно ходила. Все уже знала, бабник, врет, есть другие женщины, и все равно, все равно… Где-нибудь в больничном дворе, на тропинке, встречались случайно, стояли на виду, не касаясь, не в силах разойтись. От нее передавалось. Он тоже волновался, молчал, говорил про работу, а мимо шли сестры и улыбались, она знала, улыбались, отворачиваясь. По утрам на оперативках он шутил, ругался, протирал очки — она смотрела на пальцы, руки, слушала голос — все было настоящее, солидное, как… как в кино. Хирурги ошибались на операции — звонила. Звонила домой, вечером, ночью — сказать, трубка падала из рук от сладкой муки. Голос со сна теплый, хрипловатый, слушать, молчать, погружаться, плыть… о том, все о том же… Иногда он приходил, делал распоряжения, посылал «скорую» за завом или в клинику, и было спокойно — пока он здесь, все будет как надо, как положено.
3
Капитолина Ивановна немного постарела, но была еще хоть куда. На официальных банкетах — на Дне медика, к примеру, на нее обращали внимание солидные мужчины, и она видела, это приятно Аркадию Аркадьевичу. Теперь она была бессменным председателем месткома, распределяла путевки, ковры, с ней здоровались почтительно. Мать Юрия стала совсем старушкой, по дому ей помогала Валечка, а Юрий стал много пить и совершил аварию — наехал на легковую. Пострадавший лежал здесь же, в четвертой палате. Капитолина Ивановна старалась ему угодить, и все, слава богу, обошлось: суд присудил условно — один год. Заработок, конечно, снизился, но она как раз защитилась, получила первую категорию, так что ничего — бюджет выровнялся.
И как-то, входя в ординаторскую, услышала: «Да что с нее взять! Она же рептилия! Влюбленная рептилия…» Это было про нее. Имя не назвали, но поняла: про нее. И — страшное.
Доработала день и из больницы пошла к Аркадий Аркадьевичу. Жена его была в санатории, и впервые она шла к нему без уговора. Зачем они так? Ведь она никого не обижала, старалась, заведующему в прошлом году путевку в Кисловодск выбила, а они… За столом в большой комнате сидела красивая, накрашенная женщина (где-то ее видела) и пила чай с ложечки. Аркадий Аркадьевич мелко суетился в коридоре, пройти на предложил, молол что-то про однокурсницу, хотя женщина с ложечкой была моложе его лет на пятнадцать. Капитолина Ивановна извинилась за вторжение, хотела, мол, уточнить только, пойдет ли завтра машина в город или нет, а то Муромцев из шестой отяжелел, кровь нужна, и с завода уже звонили.
Дома у Олежека был день рождения, исполнилось двенадцать лет. Пришли Борис с Дусей, приволокли взрослый велосипед с рамой. Борис купил недавно тяжелый мотоцикл, велосипед стал не нужен — не пропадать же. Стол стоял накрытым, Валечка и свекровь все сделали, и было неловко, что могла забыть про день рождения сына и ничего не принесла в подарок.
Олежек сидел худой, причесанный на пробор, точь-в-точь Юрий в молодости — Бобер, и глядел на мать приветливо, не обижаясь. Привыкли — мама работает, работа у мамы самая-самая.
После третьей рюмки Юрий с Борисом запели про свои утки, и стало совсем плохо: вспомнила — под клеенкой… Захотелось спать, забыть, и еще вдруг жалко Олежека, зачем он слушает эту песню. И что тут можно было сделать, и она встала из-за стола и спустилась по лестнице вниз, к Марии Михайловне, учительнице, — попросить энциклопедию на «Р». Мария Михайловна — пожалуйста, пожалуйста, — охотно дала, потому что два года назад Капитолина Ивановна доставала для нее пирроксан.
«Рептилия — это пресмыкающееся животное. Класс рептилий включает в себя ящериц, хамелеонов, змей, черепах и крокодилов».
— Чего вы плачете? — спрашивала Мария Михайловна. — Вас обидели? Расскажите мне, может быть, я сумею помочь.
Но Капитолина Ивановна попрощалась и вышла на улицу. Солнце уже село, но краешек неба был еще красный, и Капитолина Ивановна пошла на это красное и почему-то вспомнила отца, погибшего в сорок втором под деревней Васильевкой, молодым еще, моложе, чем она сейчас. Они не хотели обозвать меня хамелеоном или крокодилом, думала Капитолина Ивановна, они хотели сказать, что я толстокожая и ничего не умею чувствовать… И стало опять обидно до слез, будто она маленькая беззащитная девочка-сирота, и захотелось под одеяло, вспоминать мать.
У подъезда стояла «скорая», наверное, кто-нибудь из соседей заболел, но знакомый шофер уже махал рукой, и она поняла — за ней. И впервые в жизни почувствовала: не хочу.
На столе лежал мужчина лет тридцати, бледный, в шоке, сразу ясно — работы много и неизвестно, чем кончится. Часа через полтора давление поднялось, хирурги уже плескались в тазиках, мужчина пришел в сознание и улыбнулся Капитолине Ивановне, Глаза у него были голубые, как у Олежека и какие были у отца. Вот так же лежал он где-нибудь в медсанбате на грязном столе и улыбался, чтобы не заплакать. Он был веселый. Приходил с работы, поднимал маленькую Капитолину Ивановну на руки и кричал: «Капка! Пришел твой папка!» И они смеялись, а потом она показывала новые платьица и одеяльца, которые вырезала ножницами. Он лежал на столе и…
На подставке белела большая мускулистая рука с въевшейся в ладонь металлической пылью, с толстой иглой, вколотой в голубую вену, папа, папочка, родной мой, не умирай, папка… — она вскрикнула и громко, в голос разрыдалась.
Позвонили Аркадию Аркадьевичу. Капитолине Ивановне прислали замену.
А она бежала домой и все плакала, хотела разбудить своего Олежека и успеть сказать ему. Успеть, пока жива.
ГОСТЬ
1
— А идэ ж вони три мисяци булы?
— А нидэ! В кабинэти сыдилы да кнопки нажумали. — Дядя Ваня выпрямляется и оттопыривает большой палец на уровне пупка («Биии…»). — Приземлылыся на Луни! Вин, значит, с кабыны выйшов, жмэню зэмли взяв и сюды. Побачитэ. А мы слухаем. Да як бы вин выйшов, з його мокренького б не осталось!
Мы на кухне. Дядя Ваня, тетя Шура, моя жена Таня и я. Это дяди Ванин дом. Мы его гости. Пьем чай из травы материнки.
— А ось по радио пэрэдавалы, — говорит тетя Шура. — Одна девочка, Раечка, спрашуе, як воны пэрэходять с корабля на корабль, так вони…
— А по виревцй! — перебивает дядя Ваня и прищуривает глаз: эк, мол, взовьется! Но тетя Шура только машет рукой: «А-а…»
Тетя Шура сестра моей тещи Марии Сергеевны. Их четыре сестры: тетя Шура, тетя Женя, тетя Миля и Мария Сергеевна. И еще есть дядя Митя — родной и единственный их брат. На тете Шуре женат дядя Ваня, на тете Жене дядя Паня, а на тете Миле — дядя Гриша. Запомнили? Ничего, я тоже не сразу разобрался. Скоро все сюда придут: познакомитесь. А пока дядя Ваня рассказывает про свою деревню. Лет сто назад здесь, на Алтае, ее начали сибиряки. Потом пришли хохлы и в нескольких километрах от «Сибири» заложили свою. А перед войной сюда же прибыли немцы с Поволжья. Кое-кто женился вперекрест, но потоки до сих пор сохраняются: русские, немцы, хохлы. Интернационал. Наши — хохлы.
Правда, за годы украинский язык пообтерся. Иные слова вообще, мне кажется, выдуманы заново: бирульник, к примеру, или оглоготина. Но — было бы понятно, другого тут не требуется.
— Тетя Шура, а на праздник все у вас собираются? — спрашивает Таня.
— У нас, у нас… — вздыхает тетя Шура. — Ось колы мы с дидом сляжем, тоди скажуть — нехай воны лежать, не будемо их бэспокоить.
Да, дом у дяди Вани здоровенный. Строился в расчете жить всем вместе. Ленька, Васька, Людка, Зойка и Танька. Дети. Всех их можно не запоминать — в деревне живут только Ленька и Людка. Вместе жить не получается. «Вот якшо б Ваську да Ленькину Марусю — тоди б можно», — комбинирует дядя Ваня. А пока в доме гул. «Огурцы уже убрали, думаю завтра полоть картошку. Как вы там! Когда приедете?» — пишет Зойка из Промышленного. Иногда они, правда, едут. Через Новосибирск, с тремя пересадками. Там дядя Ваня пьет «Жигулевское» пиво, читает газеты. А дня через три тетя Шура сама говорит: «Ну шо, дид?» И они возвращаются. К корове, телку, двум свиньям с поросятами, к овцам, гусям, к курям… Дядя Ваня считает, главное — корова. «Будэ корова, и я знаю, шо буду сыт».
Была, правда, еще одна девочка — Зоя. Имя ее перешло потом к младшей сестре. Она была младше Леньки, но шустрая, держала его в строгости. В сорок втором, когда дядя Ваня был на фронте, Зоя с Ленькой заболели брюшным тифом, и их отвезли на телеге в район. Они выздоровели, но в больнице Зоя заразилась коклюшем и умерла.
2
Хожу по дяди Ваниному дому. Горница, или «гостина», — две кровати, стол, комод в белых оборках, проигрыватель с кучей пластинок. На одной химическим карандашом: «Поговори хоть ты со мной…» — перевод с цыганского. «На память тяте и маме. 197…» — тем же круглым почерком на фотографии за стеклом в буфете. Красивое девичье лицо. Улыбка. Ямочки. Любимая дяди Ванина дочь. Татьяна.
Спускаюсь по широкой лестнице на кухню. Ходики, радио, которое никогда не выключают («В Муслюмовском колхозе закончили раньше срока…»), календарь с Юрием Гагариным, «косинацем» (дядя Ваня называет космонавтов «косинацами»). Белый роскошный китель с подполковничьими звездами.
Где же, думаю я, где она живет, дяди Ванина душа?
Работа. С детства и по сей… Умно, быстро, честно, страшно. Нет, не это.
Перед войной погиб отец тети Шуры — он взял к себе Марию Сергеевну. Она была девочка и убегала назад к матери; он приходил и молча ждал ее у порога.
Не то…
Пуля задела плечевой нерв. Пулю отдавали — на, отвезешь домой, покажешь. «Оставьте сэби цю пакость!» — сказал дядя Ваня.
Нет.
Вот.
После войны поставили кладовщиком, потому что пальцы на правой руке согнулись и шоферить он не мог. Нюрка (была такая родственница) упросила дать для мужа справку. Справку, что, мол, выдал то-то и то-то. А не то мужа посодют, а дети… Не давай, говорили дяде Ване, — подведет. А как не дать? Подвела. И на суде божилась, что никакой справки не брала, сам он, и все. Дали дяде Ване пять лет. Вывели с суда, руки назад. Нюрке он (вот, вот оно!) ни слова не сказал. Ни тогда, ни потом, когда вернулся через десять месяцев по кассации. Дети-то у ней остались.
Тети Шурина кровать. Над ней деревянная витринка. Там, за стеклом, все: и дед Фокей, и бабушка, и лёля Паня в кепке. Тут и моя Таня в пионерском галстуке. А вот и дядя Ваня. Ему лет двадцать. Лицо из-под шапки, как нос корабля — бесстрашное и чистое. Таких почти и не бывает. А я вот, думаю я, видел.
3
Гости. Лёля Паня с лёлей Женей, дядя Гриша с тетей Милей, дядя Митя и Хоробровы, Вовка и Людка.
Леля Паня как бы сельский интеллигент. Работал комбайнером, заведовал молочнотоварной фермой, а перед пенсией — колхозной пасекой. Он носит кепку с пуговкой, пиджак и аккуратно выглаженную лелей Женей рубашку. Дядя Ваня наливает ему рюмку, и он отодвигает горлышко на половине. Пусть водка, пусть ликер иль пиво — половина. Принцип. «Ну дак а як?» — смеется дядя Ваня. Нет, половина.
Зато дядя Гриша пьет полную. Он — конюх. В детстве болел полиомиелитом, ноги испорчены. Он ходит, нагнув худосочное тело над самой землей, и радостно вскидывает его, когда видит любимых своих племяшей, целует их и крутит пальцем пшеничный свой чуб. Дядя Гриша. Григорий Потапович. Любимая тема за любым столом в этой деревне — дяди Гришины легенды. Их рассказывают, помнят и хранят.
— Раз иду в Бийск, подъезжаю до моста, бачу — затор. На конях бабы. Рев. Шо такэ, думаю. Подъезжае до мэнэ пидполковник: «Григорий Потапович, разрешите обеспокоить, помогите…» Я кажу: «Мэк! А що?» А вин тыче мэни в небо. Дывлюсь, а там! Немецки самолеты так и кружать, так и кружать… Я тоди пийшов и розигнав затор.
— Так немцев сроду над Бийском и не было.
— Цыць! Ты ще малый таки свэдения имэть.
Тетя Миля крупная, здоровая, веселая. В молодости, говорят, дядя Гриша по пьянке ее поколачивал. И она позволяла — из уважения. Сам дядя Гриша про свою силу рассказывал чудеса. «Хлопци разбалуются, так я брав с кого-нэбудь шапку, пиднимал рукою амбар и пид угол — шоб не баловались». Конечно, такая силища была в молодости. Но и сейчас дядя Гриша не вянет. Держится размашисто, голос низкий, командный, с хрипотцой. «Иду раз, вже писля войны. Останавлюется черна машина и мэнэ два здоровых хлопца беруть под руки и у двэри… Тю! Я поднакоживсь та шубу и растебнув. А пид ней ординов!.. Страшное дело».
Больше всего дядя Гриша любит коней. Последнего жеребца он выкормил из соски, и колхоз разрешил ему держать его у себя. Если коней в подворье нет, дядя Гриша за стол не сядет.
— А зачим я буду без коней исты?
— Дядя Гриша, вы казак?
Он крутит свой тонкий волнистый чуб и отвечает медленно и твердо:
— Козак.
— А какой: донской или кубанский?
Задумывается.
— Я — кубаньский.
Вовка Хоробров, дяди Ванин зять, курит на лесенке и посмеивается. Черноволос, смугл, красив, как голливудский ковбой. Леля Паня зовет его «Хоробра».
— Ничого в ей там не вырастэ! — слышится от печки голос тети Шуры. — Ж… там у ей вырастэ!
Если дяди Гришины истории лучше все-таки слушать в пересказе, то дядю Митю надо слышать самого. «На улице рыли канаву для канализации, — начинает дядя Митя, и глаза его загораются предвкушением. — Мы идем с Петькой Долговым после рейса. А в канаву попали два учителя. И кобыла. Один учитель пения. Дождь, темь, ну черно. Потрогает руками — там земля, там кобылья морда». И он, учитель-то: «Родина-мать, я твой сын, слышишь, как я плачу?!» Дядя Митя хватает руками по канаве, и мы все смеемся. «Мы с Петькой учителей вытащили, а кобылу не стали. Ее утром трактором вытащили. А второй был учителем всеей истории…»
Дядя Ваня снова наливает. Леля Паня закрывает рюмку. Дядя Ваня щурится и смеется: «Ну а як?» «Ну идэ твоя Пушишина?» — кричит он тете Шуре, к печи. Тетя Шура достает свою рюмку-обманку с пузырем в стекле — подарок бабки Пушишиной, а дядя Ваня верной рукой наливает. «А тоби, дид, хватэ, — говорит тетя Шура, — а то ты будешь пьяный». Дядя Ваня в лице выражения не меняет, наливает. Людка подкладывает Вовке, он тоже охотнее пьет, чем ест. Но Людка учительница, в голосе у нее металл. Мимо нее трудно.
4
Помню, лет десять назад, на втором курсе, моросил дождь, сапоги приходилось поднимать высоко, налипала грязь, и работа казалась прихотью начальства — вечная ошибка подневольного. К концу дня, жалея руки, мы затаптывали картошку в землю; в душе шевелилось, не хотело, но ты наступал каблуком и поворачивался — картофелина исчезала, а ты наступал на другую.
Вшестером мы жили не в клубе, как все, а в деревянном сарайчике. Мы покупали в сельмаге сладкое вино «Лидия», не пользовавшееся спросом у местного населения, и пили его вечерами. Шура Баланов бил восьмеркой по струнам, и мы пели про давнюю память, которая легла на плечо зеленой тушью. Приходила Оля, красивая девушка, потерпевшая крах любви, слушала, и мы провожали ее по очереди. Приходил хозяин, странный мужичок, выпивал вина и веселил нас словами: «Другой бы обиделся, скандалил, спорил — я не буду».
Мы не замечали ни коровы, жившей за стеной, ни свиньи, ни кур, ни Оли… Не слышали петухов и не видели деревьев. Мы были молоды. Мир неразрезанным тортом ждал нас впереди. Все дело было в том, как за него ухватиться.
5
Леля Паня и леля Женя уезжают на четыре дня в Усть-Пристань, на свадьбу внучки, и мы остаемся у них на хозяйстве. Это решено. А пока поживем у них и поучимся.
Дом у лели Пани устроен по-другому. Кипения и стройки, как у дяди Вани, здесь нет. По чистому двору ходят черные утки с белыми грудками и аккуратно, сыто крякают.
Вечерком, когда свободен от хозяйства, леля Паня ходит по дому с мухобойкой на плече, бьет мух.
— Ну что, сколько набили? — спрашиваю для разговора.
— Три, — серьезно отвечает он.
После вечерней дойки кто-нибудь приходит. Садимся на стулья в большой комнате, всем видны лица всех — кругом, начинается беседа. Сегодня в гостях дядя Митя.
Речь заходит про деда Мирона, умевшего предсказывать погоду. Раз, рассказывает леля Женя, его позвали на пожар, так он походил вокруг дома, почитал «Отче наш», только сзади наперед, — и пожар стих. «Совпало!» — улыбается леля Паня. «Кто знает…» — леля Женя в прекрасной неуверенности.
Еще новость. У магазина одна женщина, немка, рассказывала, внутри у нее жаба. Что, мол, просветили рентгеном, а там живая жаба. Леля Женя смотрит на меня: может такое быть?
Потом дядя Митя тоже рассказывает пару историй. Смешных. Потом выпивает стакан медовухи и уходит. Когда умерла бабушка, на похороны он опоздал. Жил тогда в другой деревне, в Кемеровской области. После похорон сидели все у тети Шуры, одни свои, и вдруг заходит дядя Митя — опоздал. Накинулись на него — «единственный сын», а он расстроился: без него схоронили. Пошли еще на кладбище, а он «вот эдак, как упадет на локти, на могилу… «Мама!».
А она ему деньги завещала, рассказывает леля Женя, сто рублей. Как самому бедному. У нее и было-то — сто.
6
Перед отъездом хозяев опоросилась свинья Машка. Я видел, как родился последний, седьмой, поросенок.
Машка долго ходила по клети, грубо дышала, собиралась. Потом напряглась — появилась зажмуренная головка с прижатыми ушками, еще потуга — и он, мокрый, вылетел на пол, побежал, приволакивая заднюю ногу. Генетический урод. Один из семи. Копыто на правой задней ноге вывернуто задом наперед.
Леля Паня чешет палочкой Машке бок, поросят осторожно забирает. Леля Женя обтирает их тряпкой, складывает в деревянный ящик. В ящике темень, возня и визг. Родился послед, Машка ложится на бок, карий глаз в белых ресницах зажмуривается, открывается и медленно-медленно закрывается опять. Намаялась.
Когда поросят пускают к матери, они долго тычутся тупыми рыльцами в соски, не понимая. Почему-то это страшно. Потом они научаются. Только тот, с повернутым копытом, еще долго лазит у Машки за спиной — не может найти место, свой сосок. Пять кабанчиков, сказала леля Женя, и две свинки. А леля Паня взял того, с копытом, и положил к свободному соску.
Насосавшись, они легли, прижавшись, как дрова в поленнице, и засопели.
7
Кроме коровы, которую надо дважды доить, встречать и провожать в стадо, у нас еще телок, утки, тринадцать штук, куры, свинья Машка с поросятами, собака по имени Мухтар и две кошки — серая и рыжая, и у каждой по четыре котенка.
Рублю сечкой кабачок (оставил леля Паня) и бросаю уткам; с дикой жадностью они набрасываются на куски. Машке — вареной картошки и воды, там порядок. Мухтару — ломоть черного хлеба. Он хоть и здоровенный пес, трус и притворщик. Громко лает на незнакомого, но подходишь ближе, делает вид, что его это не касается, лезет в свою будку. Кошки тоже интересные. Молоко пьют только парное. Пробую дать им утреннего — рыжая лизнула и обиженно ушла, а серая сидит рядом с банкой, ждет корову. Котята лежат у них вместе, в одном гнезде, матери возятся с ними по очереди. Под вечер приходит телок. Глупый и порывистый. Заранее наливаешь в ведро воду с молоком и ставишь у калитки, чтобы сразу попил. Чтобы знал дом. Любил.
Самое страшное, думаю я о Машке, полюбить ее.
Таня читает книгу на скамеечке во дворе, ждет корову. Ей доить. Книга у нее — «Американская новелла XX века». Я представляю себе: в кухне у лели Жени сидят они — Капоте, Сэлинджер, Воннегут, Апдайк… Ржут, сложив ноги на лели Женин круглый стол, дымят сигарами, а леля Женя испуганно таскает им медовуху.
А может, они и не смеялись бы.
Вечером мы гуляем. Здороваемся. Старухи подолгу смотрят нам вслед: «Ой, та это ж Таня! Ой, да кака ты стала. А это ж кто ж?»
По горке ходит коричневый жеребенок, поднимая хвост. Он так хрупко-изящен, так безмятежен, что становится тяжело. Будто он знает об этой жизни лучше, чем ты, а тебе этого уже не понять.
На одной из тропинок к нам пристает чья-то свинья. Худая, длинная, она останавливается и стоит, когда останавливаемся мы. Люби свинью, думаю я, потом убей ее. Вот жизнь.
На лавочке возле дома учительницы Марии Васильевны сама Мария Васильевна с сыном. Она держит его на коленях, большой кулек из одеяла, глядит на стриженую бессмысленную голову. Двадцать шесть лет сидит она на этой лавочке. Сынок ее молчит, только подсолнухом поворачивает лицо к закатному слабому солнцу. Мария Васильевна смотрит на него и крепится.
На улицах ребятишки. Таня узнает их, кто чей. Немцев я тоже отличаю: белобрысые, красивые, с тевтонскими носами и подбородками. «Ты Донов?» — останавливает Таня черноглазого тихого мальчика. «Донов».
Жизнь рода, думаю я. Молодые заботятся о продолжении. А пожилые толстые женщины с изношенными ногами — о том, чтобы росли семена, побеги… Они не могут уйти, пока не вырастут, не окрепнут дети, внуки, правнуки. Жизнь пузырится водою в дождь. Другие дети, другие лица, улыбки, глаза… и та же, та же мелодия, та самая. И дети рожают детей, новых, еще — стало быть, соглашаются с жизнью, с такой, какая она есть.
8
Леля Женя вышла за лелю Паню, когда он был уже вдовцом с дочкой Валей на руках. Валя была хроменькая, леля Женя ее жалела. Валя выросла и вышла замуж за Николая Джумалинова; он приехал поднимать целину, да так и остался в Воеводском. И родилось у них с Валей три дочки-калмычки, три красавицы, три здоровенные девки. Николаю с Валей на первых порах не покоилось, пробовали жить в других местах, и Галка, старшая дочь, росла пока у дедушки с бабушкой. Потом, когда Николай совсем обосновался в Воеводском, Галка не захотела уйти от стариков. Так и жили.
Вот эта Галка и выходит сейчас замуж в Усть-Пристани. Начало там, у родителей жениха, а конец должен быть здесь, у нас. Вчера вернулись хозяева — и началась подготовка. Там — весело и богато. И у нас должно.
Николай заколет свинью. Водка куплена. Пиво будет. Теперь женщины займутся стряпней, а мы, свои мужики, поставим во дворе у лели Пани «палатку», где и будет свадьба. И просторно, и воздуху хватит, и дождь не замочит. Лет пять уж в деревне такая мода.
Дядя Митя берет у себя в заготзерне три брезентовых куска, Николай привезет их сюда. Завтра начинаем.
Собрать своих на дело, с которым один не справишься, — «помочь». «Собрать помочь». С утра помочь и собралась.
Я еще сплю, а уж дядя Митя с дядей Гришей вырыли ямки по углам и поставили столбы.
Года полтора назад выходила замуж средняя дочка Николая, Светка. Гуляли тоже у лели Пани. Дядя Гриша тогда поклялся, что ноги его здесь больше не будет. Потому не будет, что его на той свадьбе страшно оскорбили. Взял он непочатую бутылку водки и только закусил уже пробку, как его остановили, есть, мол, открытые, не надо. А было как раз надо. Надо было взять бутылку, спокойно, как он есть здесь основной и главный родственник, открыть ее зубами, плюнуть пробку, налить стаканы и стукнуться с мужиком, что сидел рядом. «Ты на каком фронте воевал?» — спрашивал мужик. Дядя Гриша думал, смотрел на свои ноги, щурился: «А яки тоди булы?» — «Ну, Центральный, Белорусский, Украинский…» — «Я — на Украинском!» — чуть тише говорил дядя Гриша. «Ух ты! Значит, мы с тобой с одного фронта!» — удивлялся мужик. Тут-то дядя Гриша и тянулся за бутылкой, тут-то и нужна была замашка. Шваркнуть по сто с фронтовым другом. А Вовка Хоробров: «Вот, дядя Гриша, есть же открытые!» И леля Женя: «Что ты, Гриша, есть же…»
Дядя Гриша еще поколебался: и разговор хороший начался, и выпито всего ничего — но душа не стерпела. Встал, схватил шапку. «Ноги моей…»
Но сегодня дядя Митя по просьбе лели Пани зашел за ним, и дядя Гриша, польщенный, пришел, не помня обид.
Я выхожу на крыльцо и шутя спрашиваю дядю Гришу: «Чего ж основных-то работников не подождали?» — «Мэк! — не принимает шутки дядя Гриша. — Пока цэ мотор работае (он стукает себя по груди) — основны тут!»
Привозит брезент Николай, подходит дядя Ваня, подъезжает на новом «Запорожце» Ленька. Он похож на тетю Шуру — маленький, черный, бу-бу-бу.
Дядя Гриша кричит дяде Ване: «К обиду, значит?» — «А як же! К обиду, — говорит дядя Ваня. — А як же ты хотив?» Он берет топор. Я пытаюсь пристроиться рядом. Работа без отвеса и угломера, но доски на столах и лавках ложатся у дяди Вани как струны. Он пригибается, ставит свой голубой, прозрачный глаз на уровень будущего стола и говорит мне: «А ну, жмакни по тому». Я жмакаю кувалдой и раскалываю кол. «Це тоби нэ пинцет держать!» — смеется дядя Гриша. «По центру бей!» — ласково успокаивает Николай. Друг степей, он говорит с легким украинским акцентом, и мне это кажется прекрасным.
Я пробую затесать кол. Дядя Гриша мягко, как бы кивая на мое неумение, улыбается и подзывает меня рукой. «Возьми этот!» — говорит он грубым голосом и протягивает топор. Ясно, другого такого топора в деревне искать бесполезно. Бритва. Сам рубит. Сам-то сам, но рука моя через пять минут становится чужой, пальцы разгибаются — все. Дядя Гриша, улыбаясь одной щекой, ухватисто берется за топорище: «Танюшка, наверное, рассказывала… Звитциля не выпадет».
Обед. Мы выпиваем по рюмке водки, заедаем резанным прямо с кожурой луком. Хорошо. Леля Женя с Валентиной ухаживают за нами. В войну в соседнем селе объявилась молдаванка — гадала про мужиков. Тетя Шура тогда идти отказалась: «А на черта! Так я работаю. Дитэй кормлю. А скаже вона, так як я обратно пойду!» А леля Женя, послабже, — не выдержала, пошла. И ей сказала молдаванка — жди в сорок пятом. Так и вышло. До сорок пятого леля Паня был в плену. Они лежали под дождем на одном боку и переворачивались на другой одновременно, все, кто лежал. Одному было нельзя.
Помидоры, тушеная картошка, сало. Я предлагаю дяде Ване ложку, — удобнее. «Возьми!» — поддерживает дядя Гриша. «Ничего, — отвечает дядя Ваня, осторожно цепляя вилкой помидор, — так культурнее».
После обеда дядя Гриша почти не работает. Сидит на жердине, кричит: «Еще, еще, выше, поднимай…» А Николай старается. Бьет, пилит, тешет. Мы все меняемся ему в пару. Слушает он дядю Ваню.
Мы с дядей Митей пилим колья. Отрезаем их от мягких тополиных жердин. Простое дело. Дядя Митя не то что ленится или не может другое, — он как бы не имеет своих строительных идей. Со стороны, без нахрапа. Дядя Митя женат второй раз, и, кажется, неудачно. Трезвый он растерянный и печальный.
Мы приносим напиленные заготовки, и, если топор не занят, дядя Митя берет его. Потом Николай или дядя Ваня топор забирают, и дядя Митя снова стоит, пока кто-нибудь не окликнет пособить.
Когда основное сделано, незаметно уходит дядя Ваня. Дядя Гриша садится в Ленькин «Запорожец», но Ленька что-то медлит, и дядя Гриша не выносит, выскакивает наружу и идет пешком. «Якшо надо будэ, — кричит он леле Пане, — я — дома!»
Топится баня. Скоро здесь, в палатке, будет куча народу, шум, топот, черт знает что. Леля Женя говорит, надо положить доски на землю, чтобы было где плясать. Леля Паня слушает. «Надо!» — говорит леля Женя. Леля Паня и сам знает. А где их взять? Тес, что приготовлен на крыши к улийкам, — жалко. Тес хороший, новый. К соседям идти — нехорошо. Да и не дадут, знают, что тес есть.
— Ты бы, дид, дал тесу на такэ дило? Не пожалив? — спросит потом тетя Шура дядю Ваню в порядке обсуждения.
— Я? Тесу? На такэ дило? Ны в жисть бы не дав! — ответит дядя Ваня.
Я рассказываю Тане, как Николай топором попадает в то место, куда хочет — ни полсантиметра вбок. Леля Женя обижена: «Мой и не работал плотником, а всегда попадет в то же место». Понятно, в чем тут дело. Ревность! Эх, Галка, Галка, что ты натворила! Не раз тебе ссориться с отцом, не раз целовать бабу в щеку, успокаивать и гладить по плечам, говорить, что любишь больше всех на свете, даже больше, чем своего Гену. Любовь — река, свои запруды и мели, свои рукава. Пока любишь — есть от чего болеть сердцу и радоваться, а разлюбил — и не надо ничего.
Закрепив последнюю веревку, подходит Николай. «Хорошо плясали у сватов, — говорит леля Женя. — У нас тут Николай спляшет». Николай думает, качает оливковой головой: «Нет! От нас Анатолий[12] плясать будет!»
Все разошлись. Палатка готова. Только леля Паня еще долго ходит по двору, метет, подбирает щепочки, не может успокоиться.
9
В семь утра зашел Николай. Идем колоть свинью. Я несу паяльную лампу и волнуюсь. Помню, как рожала Машка, помню ту длинную… Люби свинью, потом убей.
Валя улыбается нам с крыльца. Улыбка у нее внутрь. Вроде «все так, да не так, а сами знаем как». Джиоконда. У Николая улыбка тоже не простая — глаз нет, белые зубы наружу; душа не вышла, а спряталась за ней, за улыбкой.
Мы кладем на чурбаки две плахи — стол для разделки туши, идем к сараю. Свиньи, три сестры, почуяв нас, забеспокоились. Две, что побольше, заслоняют маленькую, третью, обреченную. Николаю не жалко. Для него она несделанная работа, и только.
Заманиваем их в пригон, потом двух, тех, что побольше, выгоняем назад.
И Николай берется за переднюю ногу, мне велит заднюю — рраз, на пол, и быстро, точно, привычное дело, нож под левую лопатку, рраз… Держу ноги, они дергаются, а я держу.
Дважды мы опалили шкуру паяльной лампой, оскребли, потом Николай вспорол живот, бросил потроха псу.
Говорим про радикулит, замучивший Николая, про осень, когда визжат на подворьях свиньи, потому что приходит такая пора. «Грязь не сало — потряс, и отстало!» — чистит сапоги Николай, прячась за своей улыбкой.
Я шел по деревне. Дяди Ванины сапоги, обутые на мои ноги, скользили, когда я сворачивал с улицы на улицу. Прошел дождь, все было вода и грязь. Страшные догадки бродили у меня в голове. Жизнь свиньи от родов до смерти стояла позади. Люби свинью…
«На то она, свинья, и создана!» — сказала соседка.
А человек? — спросите вы. Не знаю.
От свеженины я отказался.
10
Ну вот она, свадьба!
Входят жених с невестой. Высокие, молодые, красивые. Глаза у жениха смеются, синие, из-под соболиных бровей. Жуть. Гости по лавочкам — скромно, тихо. Раскачиваемся. Встает папа жениха: за жениха и невесту… чтобы все, значит, у них хорошо, прошу, дорогие гости. Пьем, едим. Тихо. Спрашиваю, нет ли чего другого, кроме водки. Нет. А чего, водка-то пока есть, пей…
Дядя Ваня в синем в полосочку костюме, в сапогах, в новой кепке. Леля Паня с лелей Женей за почетным столом — в центре. А вон и дядя Гриша. С утра они с Ленькой искали пропавшую телку. Дядя Гриша давал Леньке коня, да и сам ездил верхом, не утерпев. Телка найдена, потому к свадьбе Ленька с дядей Гришей хорошо выпивши, и дядя Гриша клонит уж свой чуб над холодинкой и только вскрикивает порою непонятными словами, широко взмахивая правой рукой. Тетя Миля ругает его в ухо, но, встретив чужой взгляд, улыбается — «ничего».
Еще выпили. Еще. «Обходят». Крестный подносит рюмку водки, гость пьет и говорит подобающие слова. У крестной большой фартук-мешок — подарок летит туда, до кучи.
Встает дядя Ваня, пьет стопку, желает, чтобы «ноги у невесты, значит, исключительно не мерзли», и бросает в фартук пимы своей работы.
Оживело. Рядом садится Вовка Хоробров, рассказывает, улыбаясь белыми зубами, как женился на дяди Ваниной Людке, как плакала на свадьбе мать. «А вдруг они тебя ругают?» — плакала, когда пели свои непонятные песни наши хохлы.
— Деревня моя, деревянная, дальняя… — запевает чистый женский голос.
Дядя Ваня потихоньку сбегает от тети Шуры за другой стол. Там завяжется беседа с каким-нибудь приличным стариком. Тяжело подле тети Шуры. Она не возражает. Ей тоже неприятно смотреть, как он пьет.
А на помосте, на новом лели Панином тесе, уже стучит каблуками тетя Миля.
Ох, дед, ты мой дед, Плоховатенько одет. Я морковки захотела, В огороде такой нет…Дядя Гриша подымает голову, хмурит пшеничную бровь, но шея не выдерживает тяжести, голова снова ложится на стол. Дядя Митя наяривает плясовую, резко, задористо дергая гармошку за бока. Рядом крестная пилит вилкой по стиральной доске, а леля Женя, в глазах у нее слезы, на губах улыбка, бьет с переборами на ложках. Оркестр. Леля Паня улыбается: хорошо.
Выходят на помост бабы. Подбочениваются, бьют каблуками в доски. Мы дико, испуганно смеемся, забывая закрывать рты. Частушки приводить здесь нет решительно никакой возможности. А жаль.
У центрального кола дядя Ваня беседует с отцом жениха. Дядя Ваня называет его «сватом», хочет сказать хорошую, умно-веселую мысль, но «сват» не понимает его — кивает, не слушая, будто дядя Ваня глухой или ребенок. Водку он тоже не пьет, чокается, делает вид. Дядю Ваню тянет за руку тетя Шура, дяде Ване хочется выпить, но он глядит голубыми глазами на «свата» и делает такую штуку: отпивает глоток от большой стопки и ставит ее на поднос. «Спасибо! — говорит он. — Нам достаточно!»
Нам достаточно. Уходим. Кончился первый день. Позади слышится хрипловатый голос дяди Мити.
Наутро сбор к десяти. Есть и потери. Не пришел Вовка Хоробров. Поругались. Людка одна, грустная. Дядя Ваня сразу садится подальше от тети Шуры. «Страмець!» — говорит тетя Шура.
Похмелились. Пиво. Мясо.
Разговоры. Душевность. Ко мне подсаживается Николай. В улыбке у него печаль. «Я так много чувствую… Я хотел бы обо всем этом написать, но я не умею». Потом он поет, мы вместе поем: «Под вечер запели гармони…»
Нас перебивают. Поет молодежь. Друзья и подруги молодых. Песни даже моего поколения они поют как поэтическую старину. Держатся они слегка свысока, как бы жалея. Почему, думаю я. Им, верно, кажется, старики завидуют им — ведь у них, молодых, столько ее, этой завидной соблазнительной жизни впереди. Целый торт.
Слышно, как из-за палатки, из-за дальнего угла, поет дядя Митя.
На помосте опять частушки. Бьют каблуками. Эхма! Врежь, Надюха. Обнажи нам жизни суть.
С гармонями, с женихом и невестой пошла свадьба по деревне. На тачке везут деда с бабкой — лелю Паню и лелю Женю — топить. После свадьбы внучки, считается, они больше не нужны. На берегу реки сидит уже с гармошкой дядя Митя, поет на известный морской мотив: «Фуфайкою труп обернули…» Начинается купанье: деда, бабку, тетю Милю… Смех, веселье, радость Диониса.
А там, в углу палатки, — лучшее, что может быть на свете, — тетя Шура и с ней две старухи:
Посияла огирочки, близко над водою, — Сама буду поливаты дрибною слизою…11
Мы снова в дяди Ваниной кухне. Завтра отъезд, а сегодня дядя Ваня вспомнил, что у него день рождения. Семьдесят лет. «А шо, — говорит он, — шмарганем, дядя Володя, по чарке горилки?!»
Я слышу, как пахнет от дяди Вани. Пот, сено, стружки, навоз, овчина. Так пахло от моего деда. Тополь живет сто лет, думаю я. Зачем живет тополь? Чтобы дать семена новым, которые будут стоять свои сто, и блестеть листвой, и шуметь от ночного ветра. Зачем работает дядя Ваня? Чтобы есть. А ест? Чтобы были силы работать. Круг. И в нем еще свадьбы, встречи и рождения детей. Леньки, Людки… А у тех свои Гальки и Сережки. Мудрая жизнь растений, являющая собой основную природную мысль — живи.
Завтра с утра он снова пойдет поднимать покосившийся сарай, метать сено, таскать свинье. И жизнь идет, как ей надо идти. И если ночью случится проснуться, руки сами найдут, что им делать — подшить валенки, еще ли что…
«Гудит в голове, — рассказывает дядя Ваня о своей беде. — Гуулл, гуулл, этот самый гуулл…» И в длинном этом «у-у» мне тоже слышится гул, мешающий жить дяде Ване. Ничего, думаю я, ничего…
Мы уходим. Дождь и солнце. Деревня, умытая, блестит нам вслед крышами, тополями и свекольными листами огородов. Я знаю, придет вечер, загорится окно в дяди Ванином доме, застучат ходики, и тетя Шура спросит, зевая и прикрывая темною ладошкой рот:
— А ты че ж, дид? Опять читать?
— Ну.
— Читальщик… Уси давно сплять.
Будет гореть окно среди темноты, и теперь я знаю, что там, за его далекими стеклами.
ГРЕТХЕН Фуга
Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.
А. ПлатоновЧАСТЬ I
1. За дверью шаги — вниз, вверх, мимо. Я один. Мама ушла в магазин; сказала — скоро, а уже долго, а ее нет. Страшно, но будто понарошке, все равно она придет. «Раз, два, раз, два — от тети Полиной двери до туалета; раз, два — назад». За дверью Валя утром делает уроки, и ей нельзя тогда мешать. А из кухни пахнет луком. Дядя Ваня любит картошку с луком. Картошка поджаристая, оранжевая, вкусная, наверно. Наевшись, дядя Ваня целует Валю в щеку — мпц! — губы тянутся, как улитки, красные, но она терпит. А в коридоре уже совсем темно. А в подъезде холодно и пахнет мокрым, и еще пылью… А вдруг она не придет? «Несет меня лиса за синие леса, за высокие го…» Нет! Она придет! Вот это… мамины шаги — цтук, цтук, цтук, — у нее высокие каблуки, ближе, я же говорил! я сразу узнал… «Это тетя Поля, это тетя Поля, это тетя Поля!» — шепчу я заклинание, а вдруг все-таки не она? Ключ окунулся в замок — клчзго! — белое облачко, и да! мама! в снегу, счастливая мне, прижимает к холодной шубе. Мама, мама… Рука теплая изнутри, нежная, гладит мои волосы. И еще из сумки, в бумаге, хрустит (неужели?), да-да, машина, зеленая! Пахнет!!
Мы жили на Ленина, 1, на четвертом этаже. В большой комнате окнами были два балкона из гранита, шершавые и холодные. Внизу, далеко — земля, скверик и фонтан с маленькой цаплей. Демонстрацию можно было смотреть отсюда.
Вечером шли из бани солдаты. У Люды на столе в проходной комнате горела оранжевая лампа, а солдаты пели глухими голосами, будто одним: гхо, гхо, и, когда замолкали, было слышно, бум-бум-бум, как бьют сапоги по асфальту.
Людин велосипед висел в коридоре, на веревке, и там же тети Полин, с красной сеткой над задним колесом.
Они грохнулись, когда отец ударил дядю Ваню.
Дядя Ваня сидел у стены. Тетя Поля молчала, а Валя заплакала.
Люда сказала, что дядя Ваня написал на отца донос и Валя его не любит, хоть он ей и родной.
Фонтан в скверике иногда работал, из зеленого клюва у цапли била толстая струя; мы купались, если жарко и не мешали взрослые.
Однажды я гулял по скверу, и по небу между крышами пролетели мужчина и женщина. Такие большие, что стало темно.
Мужчина летел впереди, лица его не было видно, а женщина смотрела вниз и улыбалась.
2. Потом переехали в Курган, к деду. От отца приходили открытки, а у нас родилась Нинка.
Мы жили в собственном дедовом доме, вокруг тоже были деревянные дома с огородами, как в деревне.
Здесь пахло не так, как дома. Будто это была другая жизнь. Будто я родился еще раз.
От деда пахло овечьей шерстью — в подполе он катал валенки. От бабушки пахло кислым и сладким. В печи она пекла для нас «яишню». Под корочкой яишня нежная, а в белую воду от нее можно макать хлебом.
Еще по воскресеньям бабушка стряпала булочки с конфеткой-подушечкой. Если откусить с краешком конфетки — вкусно, а если зубы не дотягивались, булочка так себе, как хлеб.
Бабушка звала деда «дедушко».
У бабушки был сын, мамин сводный брат дядя Витя. Он пропал без вести на войне. Когда дедушка был пьяный, он пел «Трансвааль». «Малютка сын, пятнадцать лет, отец, пусти меня…» На «пятнадцать» дедушка понижал голос, потом голос прерывался, и он сипел: «Я жертвую за родину младую жизнь свою…» Тут уж он не мог петь, только поскуливал и морщил лицо. И еще — самое лучшее:
«За кривду бог накажет нас, за правду наградит».
Когда шел дождь, мы выскакивали на улицу и кричали: «Дождик, дождик, пуще! Дам тебе гущи!»
На окнах были синие ставни.
На дворе трава, на траве дрова. Там теперь они и будут лежать, в том дворе.
И с дедом в баню, и ждешь его из парной, где он отходит после загула. Потом он парит ноги в кипятке, а ногти на них похожи на маленькие черепашьи панцири.
А потом вода с малиновым сиропом, а у него пиво, и тебе странно, почему ему так хорошо.
3. Вернулись. В тот же дом, к дяде Ване.
Новая старая жизнь. Девочки тянут руки на уроках — бабочки-капустницы над полянкой, трепещут.
У соседки по парте натоптыш на среднем пальце от старательности, от чистого писания. «Кустракиты над рекой…» Что такое кустракиты?
Карнавал в школе. Костюм Петрушки. Отец подарил к нему две маски. Одна — очки и усики — тонкое, собачье, подловатое, страшное. Угаданное. А костюм шила мама, лучше всех, да тут еще маска. Ого-го-го какая маска, страшно в зеркало глядеть.
Но круг за кругом, и все, кроме зайчиков и снежинок, уже под елкой, а меня — «его» — не видят. Круг, еще, еще круг — нет, не видят. Ладно, сдаюсь. У меня есть вторая маска, вот! Теперь я с красным носом, с хлебными привычными усами. Грубый, заметный, не страшный.
«Какой у нас Петрушка! Наградим Петрушку?! А ку-ка, Петрушка!»
Повели под елку, дали кулек.
Не нужен подлый человек!
4. Саня Митин. На русском — придумать синоним к прилагательному «ядреный». Славная осень, здоровый, ядреный… Саня, редко поднимавший руку, привел пример — «ядрена бабушка».
Под лестницей прятали пустые бутылки, вода в буфете без стоимости посуды. И Саню поймали.
Классный час. Саня слушает, наклонив голову. И я, «сын культурных родителей», встаю и сознаюсь в соучастии. Дальше класса — не пошло. Я и знал, что не пойдет. Но Саня оценил.
В кино. Котовский, Щорс, Олеко Дундич. «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой…» Бурка его летела с экрана, и мы сжимали кулаки.
В нише перед входом в нижний зал панорама — «Последние дни Пушкина». Три застекленные витрины.
Дрались тут с кирсараевцами. Двое с тремя. Лежа в снегу, Пушкин целился в Дантеса. Курчавый напомаженный затылок Дантеса. Санино бледное лицо в веснушках.
Мы победили.
— Передайте, я прощаю его.
Нет. Мне хотелось, чтобы Пушкин убил. Или потом, Лермонтов, вызвал бы и убил.
Любил ходить к Сане домой. Там пили кофе без молока, заваривая его, как чай, и отца приводили вечером под руки.
Санина мать меня привечала и надеялась на нашу дружбу. Но в седьмом Саня остался на второй год, и она перестала улыбаться на мое «драсте».
5. Ночь накануне пионерлагеря. Пред.
Новая еще раз жизнь — завтра. Радость в страхе — горох в стручке.
Первый день. Чужая свежесть. Чужие лица, которые, уже знаешь, будут родными. Все смазанное, уютное от мелкого дождя. Взвешенность. И охота домой, и уже ясно: кончится и это неначавшееся.
Дождь. Сырые доски столиков для шахмат.
И земля в хвойных иголках, пахнет.
Как пахнет земля у озера?
Как она пахнет там, у волейбольной площадки, где в песке застыли рубчики от слепого дождя?!
И Генка, мой друг, с белым баяном в смуглых руках. Одно в другое, ах, неуловимо… Иди, иди ко мне, сюда, на самый край — не бойся, посмотри. Это музыка. Это играет Генка, это темные мышцы перекатываются на сутулых его плечах. Помнишь?
6. Пришел день, и Сашка Макаров подал шарик из нарезанной лентой бумаги. Игрушка-раскладушка. Украшали елку. Сашка спросил: «Чувствуешь?»
Держал ее в обеих ладонях, как держат воду перед тем, как плеснуть в лицо. И ладони сомкнулись — понял! Она была осторожно округла.
Пальцы задрожали. Да. Да.
Пробилось.
7. Люди.
Глаза. Губы. Нос.
Две половинки. Две.
Красота. Зачем?
Рисую руку. Пальцы, ногти. Идет урок биологии… «Каждый второй глоток воздуха подарен нам деревьями». Голос тягучий, плоский, на одной оскомной ноте.
Рисую руку. Сухожилия, сосуды. Куриная лапа, корни дерева — чувствилище. Что вы хотите им чувствовать, сэ-р?
Глаза. Чем они выражают? Зрачком? Радужкой? Морщинками у глаз? «Она шла, покачивая, м-м, бедрами, стылая ненависть стояла у нее под радужкой». М-м…
Уши. Уши, уши, уши. Не видят, привыкли, не прячут, а это… это ж звериные, мышиные, крысы, волки, собаки, торчат — уберите! Нет, не уберут. Забыть.
Ходить, бродить, молчать. Бред отношения. «Я» такой, какой, мне кажется, я глазами других. А «я» — не такой! «Здравствуйте» — тяжелая работа. Разожмите губы, мистер X. Нет! Отвернусь, пройду мимо. Чужие сознания — холодная вода. Смотрят, подгоняют под свои тавра. Каждый кулик предлагает жить в своем болоте. Море болотной воды.
Агрессия сознаний. Держись!
И вечером, у приемника — зеленый глазок, мрак и стеклянная планочка с красной шкалой. Мир рвется к тебе и лопается бомбой на коленях.
Стойте! Погодите.
Люда дала книгу. Девушка-работница и студент на каникулах в чужом доме. Англия. Девятнадцатый век. Поцелуй в саду и драка с конюхом, тоже имеющим виды.
Ее ладонь, жесткая от грубой работы. Жжет.
Ну что ж… Будет!
8. Саша Лапушкин. Друг, понимающий все. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его…» Саша кивает. Идем по красной листве, по желтым листьям. «Листьям древесным подобны сыны человеков». Тление. Запах мертвых.
Время, говорит Саша, время. Время — линия, время — кольцо, времени нет.
Говорим. А вот еще, еще! Нюансы. Обрываем, когда совсем тонко. А вдруг не понят? Тогда все зря. Обрывали.
Женщина — сверкающая неприкосновенность. Начало беды.
Книги.
«Князь Андрей был лучшим танцором своего времени, Наташа танцевала превосходно». Пик надежды.
Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром. Иди, иди сюда, на самый край…
И — в одиночку, по городу, в скверы, в кино, где в вестибюлях стареют любимые лица.
Дружба. Многозначительно-сдержанные песни с магнитофона. «И женщины глядят из-под руки — вы поняли, куда они глядят». Слушали. Одна беда на всех. Мужская. «Три товарища», Эрих — Мария — Ремарк.
Остроты. Белая рубашка с расстегнутым воротом. Карты. Одна беда на всех. Вы поняли, какая тут беда!
Румынское вино в эмведевском магазине, детский парк, лавочка, сирень. Юрка читает стихи. «Играйте, Пестель, Глюка…» Слушаем, щуримся.
Стоять в канатном квадрате на свету, стирать перчаткой счастливый пот; фотографировать мутные деревья; уйти в вечернюю школу, работать в цехе — дядя Валя уже договорился с мастером.
На работу идти в толпе. Пожимать ладони, ежиться от озноба.
Хотелось.
Стоял, не проглатывался ком — плакать — любви — чего же?!
9. Урок физики. Мел клюет доску.
Даете мир, думаю, даете и объясняете его. А будь он другим, вы объяснили бы по-другому. Вы объясните что угодно. А почему так, почему не иначе? Без «априори». Мы знаем, что… Известно, что… Предположим, что…
Игра без первого хода.
Доска рябится в глазах мелкой водой в штиль. Никто больше не видит этих волн. Они мои. Это мой мир. И будет день, когда узнаю — все это было только в моей голове. Пластинка, где иголкой кружит твоя память.
Не надо!
— Почему же? Если пространство и время не во мне, то в перекрестке их бесконечностей я ноль, и всё ноль.
Во мне миры, и, может быть, я сам лишь клеточка живого тела мира.
А жизнь человечества, «устремленного к звездам», — самонадеянная плесень на крошке тверди, пена, эпизод, миг.
Зачем?
«Цель человеческого существования заключается в прохождении цикла жизни, приводящего к потере жизненного инстинкта и к безболезненной старости, примиряющей со смертью» (!).
Стало быть, в прохождении… ладно, допустим, это моя. А общая? Сохранение рода. А для чего его хранить? Ну как, хочется же! А почему «хочется» рода важнее, чем мое? Его «хочется» больше? Значит, сто собак правее, чем одна? А если все собаки бешеные?
И почему же, почему надо быть хорошим?
Чтобы выжить, чтобы «хочется», даже роду выгоднее не… нехороший. Добытчик…
Радость чистой совести? А больше ли она нечистой? То есть я хочу сказать, больше ли она, чем радость при нечистой. Да и если радость чистой больше, стало быть, совесть — выгода. Какая ж это совесть?
И почему же нельзя? Увидят, засудят. Значит, если не видят — можно?
— Живи по душе! Как просит она, так и живи. Не мудрствуй.
А тело? Я говорю, а то, что просит тело?
Какое такое тело? С ума сошел!
Разумеется, это плохо?
Кто тебе сказал: плохо?
Все… И… я же чувствую — стыдно.
Чем больше женщину мы любим, тем нам трудней ее обнять! Фу!..
Завязывай.
Вас проинструктируют, как надо. Вы не первый. Стерпится, слюбится, смелется, сбудется — мука будет.
Спасибо, живу-то я. Я.
— «Я, я…» — заладил. — А когда будет «мы»? Мы ведь живем, и ничего. Вон какие!
— Живите.
Физичка кладет мел и вытирает тряпкой руки. Итак, сила равна массе, помноженной на скорость в квадрате и деленная на два.
А-а. Вот как.
10. В трамвае, подошла сзади, из 9-го «В» — тугая, выгнутая, глаза с поволокой, прижалась грудью: «Выходите?»
— Да…
«Не узнала».
Тш… В лопатки два упругих шара. О-о… Молчи… Молчи и чувствуй. Стой! Вот оно, господи. Смотри в окно, видишь, дом, кирпичный, красный, баня, деревья, что это? Холодное, скользкое — рыба, о-о… — бедро сквозь плащ. Холод, жжет. Молчи! Тайный холод, жгучая струйка от позвоночника в кровь. Стой. Грех мой, тайна моя, Гретхен. Молчи! Вот оно — сквозь — жги!
Она же… Вглядись. Намазанная, с кем-то уже таскается.
«Все такого, как ты, воображала — доброго, честного, хорошего и ТАКОГО ЖЕ ГЛУПЕНЬКОГО». (Вот!)
— Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас — обожаю!
Ну, тогда уж — БУДЬ ЧЕСТНЫМ. Поворотись и скажи: «Ненавижу похабные глаза, зеленые пуговицы, притворство, презираю! Хочу трогать, прижимать, кусать, бросить на плечо и нести, как волк унес ярку, Григорий Аксинью, хочу!» Можешь?
О нет! Нет. Не могу. Что подумают люди? А она?
Это же такая игра. Она сама себе не замечает таких штук. Никто же не видит. Бога-то нет. Мы без свидетелей. Она глядит в окно. Тесно, понятное дело. Никто не виноват. Ребенок родился случайно.
Правая рука не ведает, что творит левая. Удобная вещь!
— Ничего. Она дура. С нее не спросится. А ты, ты скажи. «Стесняюсь, — скажи, — уважать себя хочу. Душой любить. Весь. С телом. Весь, понимаете?»
У-у-у… Эк тебя!
Без вранья не вынешь рыбку из рванья! Да-да. Хотя бы себе. Так наври! Ведь смерть же… будет. Однова́! «Разрешаю вам убийство по совести!» Ради такого серьезного дела.
— Спасибо.
Ну, поворачивайся. Не лукавь.
Нет. Не могу. Слабо́.
Не могу.
Нет.
Терпеть.
«Выхо́дите?»
Да-да… Как же.
11. Весна. На асфальте растут сухие пятна. Идем из школы, с Сашкой. Библиотека, Госбанк, а дальше, перейти Кирова, Брод (Бродвей!), вечерняя улица, звериная тропа. Там есть свои короли, там вечером плавится истомой темнота, там ждешь, там смутная надежда.
А сзади догоняют два типа. Мат. Должно быть, будет драка. «Не уступаем!» — говорю я Сашке про дорогу. Тут его и толкают плечом. — В чем дело? — Чё? — В чем дело? — Чё? — Бьют. Бьет. Сашка. Все дерутся. Кроме меня. Я нежданно для себя вдруг тоненьким голоском: «Не смейте бить!» Сильное средство. Один из типов, длинный, с интересом оглядывается. И — пауза. Конец первого раунда. Мы проиграли его по очкам. Сашка, по молчаливому уговору, уходит на Брод быстрым шагом, а я, притормаживая, веду типов, заговаривая зубы. Они ругают Сашку и хвалят меня. Они уже не такие гнусные. У маленького красные губы-улитки, бакенбарды и совсем собачий взгляд. Где-то я видел это лицо. Не в зеркале ли? Длинный шутит: «Ария голодных из оперы «Дай пожрать». Нормальные дураки. Смеюсь для дружбы. Сворачиваем за угол, и тут, на Кирова, догоняет Сашка. С ним двое. Один настоящий, зовут Толик, а второй вроде меня, так. Типы смотрят в мою сторону: «Вот курва!»
Потом стояние, говорение слов. Настоящий парень Толик не бьет. У длинного в кармане кастет.
Когда остаемся вчетвером, Толик — у Сашки: «А чего вы? Вас же двое было?»
Да, машет Сашка, так получилось.
Дома смотрю в зеркало. Еще и трус.
Потом танцую с Сашкиной девушкой. И… опять. «Уйду с дороги, таков закон — третий должен уйти». Лучше уж не пой таких песен, идальго.
«Можно ли подлость с подлецом?» Можно! — твои слова. Око за око. Если ты подлец.
«По жизни… — говорил Сашка, — надо жить по жизни».
12. День рождения Ленки, дочки настоящего писателя. Слушает Юрка, я подслушиваю. Есть три способа писать, поглаживая лысину, говорит писатель, о новом по-новому, о новом по-старому и о старом по-старому. Первые гении, вторые таланты, третьих большинство.
Слушаю. Щемит в груди. Кто-то гладит там сердце, шепчет неясное имя.
На стенке в кабинете писателя картина. Обнаженная женщина, белое тело, искусство защищает наготу.
Смотрю в угол. По лицу не заметно: через десять лет и я буду жить у моря. Вечером в окно будет стучать дождь и Маргарита в грубовязаной кофте будет сидеть рядом и поднимать на меня знакомые глаза.
13. Ощущение полета! — делился Юрка в мужской компании. Черная зависть, прерванный вдох, но все равно у меня будет по-другому.
А почему?
Два человека расходились во мне все дальше. Тот, что немножко попахивал псиной, хотел Гретхен. Гретхен с тугой шеей, с толстыми икрами. А другой… другого ждала Маргарита.
По ночам они душили друг друга кошмарами и мужали.
14. В окне троллейбуса — девушка. Точь-в-точь. Серые бесконечные глаза. Скулы по впалым щекам сбегают в подбородок. Она. Троллейбус отходит, тыкаюсь в закрытую дверь — стой! Лифт несет в темную шахту, в животе лопаются сладкие шары. Есть!
И до ночи по городу. Смеялся, пугая прохожих. Есть!
На другой день в то же время, там же — нету. Завтра — тоже. Послезавтра — нет. После недели дежурств охолонулся. Поразмыслил. Ведь если ее нет, значит, она есть, а если будет, еще неизвестно. Мысли-компромысли.
И все-таки уже можно. Шептать, трогать руку, целовать чуть слышно в сгиб второго пальца, УЕХАТЬ ВМЕСТЕ.
Ах, идиот.
Пока ее нет, не бойся, все будет целым.
15. В июне, пешком, по тополиной аллее. На душе — тоска. «Жил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел…»
«Мама, дай, дай ему карту звездного неба, — смеялась вчера Людка. — Они будут гулять и смотреть на звезды!»
Если бы.
Пинать тополиный пух, тополиное легкое семя.
Вниз от школы — трамвай, вверх — троллейбус, прямо — можно идти пешком. Меняю маршруты. Гретхен — Маргарита, и… а вдруг они соединятся? Ведь это же одно имя. Вы читали «Фауста»?
16. Пляж… И вот она, девушка, вычерченная по твоему лекалу. Иди, иди к ней, на самый край…
Ноги вязнут в песке. Боишься?
Прыг-попрыг, на мостки, раз-два-три, в классики, откидывает волосы, тренировочные штаны до коленок.
Нагнулась. Осина под ветром. Запаздывая и шелестя.
— Идет сюда.
Цепляешь палочкой гальки. Качается, качается на листе банана лягушонок маленький.
Ближе. Мизинцы приподымаются на грубой гальке, с опаской.
Здравствуй! — Здравствуй. Мы одной крови, я и ты, здравствуй.
Проходит мимо, в двух шагах, широкие сбоку, мокрые лодыжки, прилипшие золотые волоски, блеснул темный глаз, качнулась в бедре, гуттаперча, мелькнули нежные пятки. Ушла. Не будет!
А что тебе надобно, старче?
Гретхен.
ЧАСТЬ II
1. Ночами курил, смотрел на портрет Нефертити. Жило еще, не хотело сдаваться сразу.
Но нет, ее не будет. Решил.
Решил — хватит. Вон чё, другие-то!
И чем будет хуже, тем легче. Хорошее отношение снимает гнусную возможность.
Это, это ощущалось гнусностью.
Тянуло, взаправду, к тупым, задастым, с ускользающими глазами. Исчезли камни, исчезла трава. Маленький такой зверек, не то кролик, не то кот, теплый, гладкий, прыгал на грудь, ласкался, лизал в губы. Дьяков смеялся, отбиваясь. Но вот из узенькой пасти пахнуло сырым мясом…
«Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».
Хватит. Решил. Убийство по совести.
Остановите!
И
красивая, с обгрызенными ногтями, грязная Маска: тонкие усики, запах псины, водка из граненого стакана.
Разжигай похоть — не хочет возникать. Все равно. Нельзя Больше Так Жить.
А теперь — беги.
Туда, назад, в неразрешимость, в муку грязной своей чистоты. Пустите!
— Оглянись.
В комьях серой постели пухнут красные губы… Твои… Кролик, с которой ты…
Ничего не было, не было! Твой пес не послушал своего услужистого хозяина. Даже водкой — слабо́.
Но ты — покусился.
Плащ летит долго, второй этаж, слишком долго, чтобы не струсить. Решетка под окном. Двери снаружи запер Вовка, друг, он хотел помочь тебе, дурачок. Прыгни, прыгни.
Прыгнул.
И — хриплая женщина в белом халате, с кольцами на прокуренных пальцах:
— Когда в последний раз имели половое сношение?
???
Вспомни, Дьяков. Может, забыл?
Все. Тебе девятнадцать лет, и ты болен венерической болезнью.
Замри и не давай себе думать. Никому. Слишком страшно. Займись самолечением, стань хроником. Хроник-девственник Дьяков. Профессор-венеролог брезгливо сморщится от такой самонадеянности: «На втором курсе, как же, мы все уже профессора!» И тогда ты поймешь, что попался. Все. Впереди мрак, мужское бессилие, и главное, никогда-никогда не будет Маргариты. Все. И никто не узнает, как ты много ставил на себя.
Плати.
«Возложи вретища на чресла свои и веревки на голову свою».
2. Из дому. Дворник метет снег:
— Здравствуйте! — Улыбается.
— Здравствуйте!
3. Снова: сквер, парк, аллея. Притихло, спряталось — не отвечает. Ну да.
На свете счастья нет, а есть покой и воля. Те витрины убрали из кинотеатра. Теперь там гладко, и просто стоит цветок.
Брод. Бродвей. Гирлянды и неон. Пап-пап пап-пара-ра пап-пап. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей.
Шел, продираясь, в горячей толпе. Девушка засмеялась, заглянув в лицо. Тоже засмеялся. Неужели я умру?
4. КВН. Клуб веселых и находчивых. Студенты на преподавателей. Преподаватели на студентов. Битва. Здесь и твой друг — профессор-остряк-венеролог-находчивый. Он желает победить. Он лысый и рыжий, и ему хочется. Понимаете? Очень. И студенты тоже молодцы. Острят, веселятся, находят. Примолкают с улыбками джентльменов, но охота ведь победить, охота молодцам. У всех одно выражение.
Муравьиная куча. Грибы. Клубень.
Шел, пиная листья. Допустим, справедливо, и со мной покончили по ошибке. И мы все одно, из одного корня, вот с этим, что пьет газировку, проливая и захлебываясь. Но — нас же надули! Всех! Вы не заметили? Нас придумали грибами. Много-много грибов с осклизлыми шляпками. Грибница, клубень. Да! Да. Сознание — бабочка-однодневка над земельным нутром коротенького нашего бытия. А высоко, птицей, ему не взлететь. Где уж… Земля и сырость. Вот наше место. Хотеть, желать, истекать. Даже экскременты — подлость и смерть — это условия. Мы не можем без них и друг без друга. Единая плесень грибов. Навозная куча с глазами. Грибы.
Червивый гриб, Дьяков.
5. Стоял среди одногруппников в морге, не слушал, в чем там было дело. Смотрел в угол, мерз. Там, на крайнем у стены, — девушка.
Сквозь тошноту, бубнеж преподавателя пробилась, стояла, вздрагивала последняя точность линии — гениальный изгиб гениальной работы.
Утонула. Исчезла. Отвернулась к стене. Лежи…
Вышел. От халата пахло формалином.
Помнишь, в троллейбусе, на пляже, сто раз ночью и тысячу раз днем, помнишь?
Кто обещал тебе, что она должна дожить?
С чего ты взял, что мир устроен справедливо?
Справедливо. Ведь это ты — предал.
Закурил. Ну.
Значит, это я ее убил.
Глупости. Почему ты решил, что она для тебя?
Потому что она прекрасна?
Потому что умерла?
6. Пить.
Друзья, апостолы. Рестораны, общежития. Стра-ашно. Хватался за старые книги, держал перед глазами. «Князь Андрей был…» Давил, увиливал, прятался. Не думать! — все стало проще. Не нужно смотреть в их лица. Мясо. Эрос. В чистом виде. Антипод смерти. Все.
Из узоров на стене выглядывали рожи. Глаза, губы, уши, уши, утекающие рты.
Отлеживался, снова напивался. Таскался. Она, оно, они… Слава богу, оказался незаразным. Вспыхивала, реже, надежда: лекарство, врач… попробовать. Обратись, Господи. Журналы, картотеки. Симптом Рейтора, ну-ка, ну-ка… Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены.
Брал гитару, фальшивил, пел. Апостолы слушали, разливали, поднимали брови — такие страсти-мордасти. «И не мешают больше пятна плесени, и профиль Нефертити не задет…» Пел. Слушали. Заражались. Уйдут, забудут, все у них так, понарошке. Он — останется.
«В четвертом измерении — любви, уже не жду я никого навстречу».
7. Чужая девушка, Юркина, посмотрела на него из-под челки: «Ничего не поможет тебе, Дьяков, ты пропал».
Да-да. Прощайте, королева Марго.
8. Да-да. Утратили волосяной покров, встали на задние лапы, всунули их в какие-то боты — клыки маленькими, глаза хитрыми. Мимикрия.
Ваша любимая порода?
— Моя? Доберман-пинчер. Исключительно доберман-пинчер.
А вы сами… похожи.
Правильно! Хозяева похожи на своих собак. Разве вы не знали?
— Молодой человек, выходите? Ах, это вы, девушка, извините.
— Не работают, не учутця, пьють.
Ах, извините, проходите, обознался, баушка.
9. На спор, пьяный, вошел в трамвай, огляделся — сидела у окна, глаза крашеные, слабые, провалились от его соколиного взгляда. Вывел за руку в заднюю дверь — трамвай не успел тронуться.
— Чистая работа.
Протянул просто руку, взял ладошку с колен. Вел на глазах вагона. Ни единого слова.
Выиграл. Гордый.
В постели старался запомнить имя. Потом ели и пили, и она смеялась. Холодный ручеек в его раскаленную глотку.
Манон.
10. «Ох, да-д, это-д не по мне — краса в чужом окошечке…»
Устал.
Пить, снова пить, каяться, чего уж… Червоточина, сказала тетя Лина, червоточина внутри. Червивый гриб.
— За что все-таки? Знаешь.
Было. Было. Ошибка в расчете. Расчет.
Кто тебе сказал, что ты можешь что-то решить за себя? Откуда такая уверенность?
«Цель человеческого существования заключается в прохождении…»
По жизни, говорил Сашка, по жизни надо.
А чего ж они? Ведь Гретхен и Маргарита — одно и то же имя. Или вы не читали «Фауста»? Зачем же вы их поделили?
— Это не я.
А кто?
Это, это…
11. Из двора — музыка. Тревожные звуки прекрасной музыки… Скрипка. Иди сюда, ко мне, на самый край, не бойся…
В арку, в ржавые ворота, дальше. Стихала, убегала, снова. Двор, улица, еще, мимо бабушек — потел, дышал, задыхался. Вот…
В окне второго этажа, по пояс голый, стоял белокожий мускулистый парень со скрипкой на плече. Иди, иди сюда…
В курчавых волосах серели два маленьких крепких рога.
12. Манон впереди, с подругой, сзади Дьяков с одним Из апостолов. Понимаешь, говорит Дьяков, когда я смотрю на ее руки, пальцы в морщинках, мне, мне… Пьяный Дьяков. Апостол слушает. Понимаешь, я ее не люблю, но мне нравится, как она смеется. Она не притворяется. Она Манон, но она…
13. В ресторане. Напротив Доберман, тот самый. Белая кожа, подробный рельеф мышц. Красивая рука.
Разливает.
«Я не ты. Не напьюсь, не подерусь, не ляпну. У меня звоночек! Видишь?»
Ногти с голубыми лунками, подпиленные, чуть отпущенные. Белая кость. Доберман.
«Я же знаю, чего тебе надо. Ты умрешь — а им на… чхать — даже не заметят. У них тьмы. И тебе обидно».
Официантка принесла бифштексы. Тяжелое бедро вдавилось ребрышком стола. Спасибо.
«Им начхать, а ты тут переживаешь! Так? Совесть, Да? И прочее. В том-то и штука».
Так его ненавижу, что чувствую виноватым. Вот ведь!
Ты пойми, раз и навсегда, это (то есть совесть) пятая колонна, способ подчинить тебя изнутри. Понимаешь? Веками культивировалось, как полезное роду, как домашнее животное. Понимаешь?
Каким умным он сейчас себе кажется! «Понимаешь?!» Каждый кулик предлагает жить в своем болоте. Вино и вата — вата и вино, вот что я чувствую.
«Но это всему, понимаешь, всему роду? О тебе лично речь не шла!»
Все-таки послушай.
Слушаю. Интересно, мог бы он убить человека?
Белые пальцы поглаживают горлышко. Нежность. Перстень на втором. Вот она, нежность.
«Добро — зло! Глупость! Кто это выдумал? Ну какое такое добро и зло? Это же элементарно! Договорились — провели черту. Сегодня здесь, завтра там. У арабов многоженство добро, у нас — зло. Глупость!»
Про арабов я уже где-то слышал. Водка теплая. Чего это он так нервничает? Вино и вата — виновата. Нет, она не виновата, так как есть вино и вата.
— Ты смог бы убить человека?
— Что?
— Я говорю, ты мог бы убить человека? Ты? Не араб?
— Не надо… Не надо проституировать своими мозгами.
— А что надо?
— Жить. Просто жить. Любить жизнь. Баб любить.
Смеется. Господи, они смеются! Болото на весь мир. Постиг. Губы в уголках не сходятся — красные щели. Мокрые щели Добермана.
Я ударил ее, думал Дьяков, ударил за это — за измену. Мне. Она была виновата и промолчала. Шел дождь, и на асфальте была вата.
Прости меня, Манон, я не смогу больше любить тебя.
— А ты что, любил?
Нет, но теперь — всё, всё.
— Ты ее любишь? — Рука опять на бутылке. Красивые пальцы джентльмена красивой джентльменской руки.
— Не знаю.
— Не знаешь? Это ты-то?
Люблю на нее смотреть.
Кто тебе сказал, что надо говорить правду? Всем, всегда, хоть кому, хоть Доберману?
Люблю слушать, как она смеется, вздрагивает, когда целуешь там, за ухом, у самых волос, люблю, когда…
— Я СПАЛ С НЕЙ, — сказал Доберман. Глаза его стали честными.
— Ты?
— Да… На праздник… Она сама…
«Уйду с дороги, таков закон…» Да-да. Могла. Вот оно! Могла.
— Брось ты, выпьем!
— Да-да…
— Жизнь одна, Дьяков, ты-то знаешь, ты же мудрец, бери.
Не обижайся, старик, я ведь знаю, ты сам…
У-ух.
Красные губы, красные десны, мокрые… Все, все.
Поеду, поеду.
Там, там.
— Куда?
14. Из вытрезвителя, такси. Серые, синие, желтые. «Несет меня лиса за синие леса, за жел… за высокие горы». Неси меня, лиса. Цык, цык, зык, на счетчике, цып, цып, цып… Расплакался, расплатился, свободен, свободен, гони.
Повернись-ка ко мне, водитель. Мне твой взгляд неподкупный знаком.
— Саня, ты?
Санин нос, глаза с пленочками у переносицы. Саня Митин. Знаменитая конница.
Съехали на обочину. Саня открыл багажник, вытащил бутылку. Счас.
Дьяков выпил. Легче. Потом хорошо. Саня отвез домой, денег не взял. Они встретятся, когда кончится Санина смена. Они выпьют, они вспомнят.
— Нет.
Что-то там, наверху, опять переиграли.
Проспал встречу.
15. Пустое, гулкое. Свежее, непочатое. Ботинки грохочут по чистому асфальту. Роса на рукавах.
Забыл на минуту все, что знал о себе.
Качается, качается На листе банана Лягушонок маленький.16. Точно и не помнил. Кажется, сперва вбежала девушка, а потом уж те, двое. Маленький сразу бросился к ней, в угол, и не то лапал ее там, не то грабил. А длинный задержался еще в дверях, глянул на Дьякова, что, мол, не возражает ли? И отвернулся, видно, решил, нет, не возражает. А потом Дьяков увидел зеленую болоньевую руку, державшую поручень, а над ней — глаз. Большой, в длинных, загнутых, как мушиные лапки, ресницах. Радужкой, зрачком и морщинками вокруг, он звал Дьякова на помощь.
В троллейбусе никого. Водитель — женщина, усталая лошадь-блондинка. Смотрела в зеркало, когда он бросал свой пятак. Ночь. Начало ночи. Ну что? Вставать?
Чего ж они хотят от нее? Ограбить? Изнасиловать? Неужели можно в троллейбусе? Нет… Показалось. Чем там может выражать глаз? Радужкой? Зрачком? Наверняка они вместе. Шайка-лейка. Показалось. На следующей выходить. Пойдет по снегу: жив, жив, жив… И никто не узнает.
А как же пятая колонна, ведь она столько культивировалась? А? Ведь никто же, никто не узнает, кроме бога. А его-то и нет!
С задней площадки возня, см… ма… похоже, зажимают рот. Представил: подходит, трогает длинного за плечо: эй! Тот оборачивается, ух ты! Брови ползут вверх, и бьет легонько по лицу, несильно, ласково.
— Не смейте бить! — кричит он, и длинный, усмехаясь, гляди-ка, толкает локтем маленького. Ах ты курва, селедка вонючая, отвлекается занятой человечек, ах ты… Толстое личико разгорается, обидели, оторвали, и — в правом боку лопается, плывет горячим. Все.
Хорошо представил.
— Вставай. Встанешь. Они ведь не знают, что ты с червоточиной. Они ведь не знают, что девушка твоя утонула и теперь русалка. Они не знают, что ты ждешь их всю жизнь. Вставай!
Встал.
Око за око. Зуб за зуб. Нет, нет, я не простил его. С подлецом надо быть подлым. Нас теперь трое, господа! Полный троллейбус доберманов.
Встал. Бурка хлопает по ветру. Нужен только первый удар.
Качнуло. Эх!
Длинный увидел его — до. Но все-таки, глядите, испугался маленько. Решительное лицо производит впечатление.
Так и вышло, как он представлял. Длинный шлепнул по щеке: несильно, ласково. Еще удар! Удар тоже надо заработать.
Повис на поручнях и изо всей силы длинного в живот: кхха!..
Есть. Согнувшись, тот лег в проходе.
Тоненько взвизгнула девушка. «И-и-и…» Рот, стало быть, свободен. Ну, что дальше? Ага… Маленький стоял рядом, низко у бедра держа нож. В лезвии двигались огни.
«Отнеси платок кровавый…»
Попятился вдоль прохода. Потное личико. Мокрые губы. Ненависть и решимость. Решимость и ненависть.
Задние огни машин, земляника на летней поляне. Покачивающаяся земляника. Стоп, отступать больше некуда.
И тут, когда они были у кабины, троллейбус бросило назад (спасибо, милая лошадь!), и маленький повалился мимо, царапая ножом эмаль. Дьяков вывернул липкую руку и рукояткой дважды долбанул по засаленной голове — туп-туп.
Бить хотелось.
Тогда сзади сдавили горло, стал падать и уже на полу, почувствовав рвущие мерзкие пальцы во рту, — ударил.
В шею.
Аа-а-а… Или: ы-ы-ы… Длинный стоял на коленях и качался в молитве. Шея хрипела, изо рта шла розовая пена. Ы-ы-ы…
Открылась кабина. Черная туфля переступила лужицу.
Ты сволочь, шептал Дьяков, сволочь.
Убил.
17. Лежал на боку, смотрел в стену. Глаза, уши, губы. День, два, три. Рыжий следователь, товарищ Пинчер. Мы понимаем, улыбается, «око за око», понимаем, но и вы поймите. Ведь вы же взрослый человек, газеты читаете! За превышение самообороны… Ах, вот как? Ну что ж. Да-да, теперь ясно.
Хватит. Хватит.
Выходил на кухню. В углу на стене стучали дедушкины часы.
Курил. Смотрел в пустое окно. Часы от дедушки идут, оттуда, от него.
Обложили.
Милый дедушка, возьми меня отсюда.
Все.
К вечеру вышло тихое солнце. И ветер понес дымки из труб. Хорошо прислониться к дверному косяку. После ночной попойки моей.
19. А через неделю — по городу. Трезвый, спокойный. Апостолы пели туристские песни. Печалились, наслаждались, прощаясь. Они не очень-то любили его. За что его было любить?
Мимо домов, мимо школы, детского парка, мимо кинотеатра Пушкина, мимо, мимо.
Навстречу Манон. Надо же. Снова одна, печальна и нетороплива. После нового краха любви. Бедные, бедные ножки, пальцы в морщинках, ноготки без маникюра. Старушка Манон.
Друзья прошли дальше.
Манон взглянула, рассмеялась. Серебряный ручеек в его раскаленную глотку. Взял за руку, повел.
Родители спали. Провел ее в свою комнату (с некоторых пор была своя комната) и не включил свет.
«Скажи, скажи…» — просила Манон.
Папа, у меня гость. Слышу, хрипло сказал папа.
Наконец-то было хорошо.
Было хорошо.
Я знаю, что ты задумал, говорила она. Не надо, Дьяков, не надо, все пройдет. Гладила по щекам жесткими ладошками.
«Не надо».
Огонь моих чресел. Агония моих…
20. Вдоль озера километра три. Камыши, ряска. Берег и вода, все в тополином пуху.
Веточки, костер. Ждать ночи. Вот такие жгли на Тоболе, глядели в огонь, что-то слушали — слышали ли? Жарили гальянов. Обычная банка со скрученным толем, а каково тянуть ее было за веревку?
Огоньки поднимались по веточкам. Темнело быстро.
Смерть, подумал, это как выключают свет: в ванной, в коридоре, на кухне. И тишина. Ни зги.
Зга. Раньше думали, все утонувшие девушки становятся русалками. «Здравствуй, князь! Здравствуй, князь ты мой прекрасный!»
Здравствуй, мы одной крови, я и ты, здравствуй.
УЕХАТЬ ВМЕСТЕ.
Вода холодная, хотелось выйти, надеть штаны, к костру. Ну-ну, что ты, что ты… Спиной к озеру, лицом к лесу. На ногах ласты.
Из леса кто-то смотрел, затаившись.
Все равно.
Когда вода дошла до бедер (до середины бедер), повернулся и прыгнул вперед. Уф-ф!
Кролем: раз, два, три, четыре, вдох. Потом брасс. Ф-ф… Пух лез в рот, горький, похожий на вату. Плевался, раздвигал руками. Вода теплая, мягкая, гладко-живая.
На берегу, справа, загорелись огоньки. Кто-то там еще…
Лег на спину. Выступили звезды, малиново сияла луна.
Вода от ласт всплескивалась, оставаясь.
Я возвращаюсь, господи. Страшно, но будто понарошке, ведь все равно она придет, мама…
Опустил голову в воду, открыл глаза, раз, два, раз, два, прошло.
Пух кончился. По зеленой воде — малиновая дорога. А помнишь женщину над домами? А девочку, что приходила на горку с красными санками? «Черная влага истоков, мы пьем ее на ночь, мы пьем ее в полдень, и утром мы пьем ее, ночью мы пьем ее, пьем, мы в небо могилу копаем — там нет тесноты…»
Звезды грелись и росли. Он плыл на спине.
«Волос твоих золото, Гретхен. Волос твоих золото, Гретхен».
Когда ноги совсем отяжелели, остановился и снял ласты. Они ушли вниз, и стало страшно. Теперь по-настоящему. И он засмеялся и запел. Громко, как мог.
«За кривду бо-ог накажет на-ас, за пра-авду на-гра-дит…»
ЧАСТЬ III
Пройдет +++ лет. И мы уедем. В другую, еще одну жизнь. Море, трава и камни у берега, все вернется.
На берегу Тобола тоже росли тополя. В июне летел пух и плыл по воде нерастаявшим серым снегом.
Я знаю теперь, ты будешь со мной. Мы вернем, мы поверим, и мы спасемся.
И поляна, где кончалась улица, и трава-конотопка, и подорожники в пыли.
В клубе, в пионерлагере, дощатый пол — иди, иди ко мне, сюда, на самый край, не бойся — мы танцуем с тобой под аккордеон, и дождь стучит по крыше, когда замолкает музыка.
Лети, вали, тополиный пух, тополиное щедрое семя! Наметай сугробы, поземка! Во мне моя пятнадцатилетняя любовь.
Ах, сударь! Будет.
Будет или нет?
СЕНТЯБРЬ Повесть
Я не убивал.
Я не был причиною слез.
Я никому не причинял страданий.
Я чист. Я чист. Я чист. Я чист.
Из «Книги мертвых»ДОМ, КОТОРОГО НЕТ
Вытащил чемодан, снял с вешалки куртку (поезд уже сбавлял ход) и к окну — ну, давай! Красное кирпичное здание в копоти со времен еще паровозов, заводик старенький, подъемные краны во дворе, будка стрелочника, закапанные бурым маслом гальки между шпал… Знал ведь: будет. И вот — было. Изжитое, истертое когда-то глазами (изглаженное, хотелось бы сказать), входило снова, оттаивало по закоулочкам, воскресало. Вливалось старым вином в старый мех. И все-то он, мех, оказывается, помнил: и запах, и цвет, и вкус. Оглянулся, не выдержал, расплескиваясь, приглашая в свидетели, видите, это он, мой Город, видите! И соседка с нижней полки, баба в платке, в самом деле приподнялась: «Глянь-ка, дождь, поди-ка, был?» — и села, отвернулась как прежде. Но кто-то все равно отделился от нее, прилип за спиною, дышал в ухо, слушал. Свидетель. Вижу, вижу, кивал свидетель, действительно Город, как же, как же! Вот это вот депо, показывал ему Женя (свидетель как бы дышал за плечом, а он ему показывал), — ходили сюда пацанами глядеть на поезда. Загадывали число вагонов — двадцать один, двадцать два, двадцать три. Кто угадает. А ночью по радио переругивались диспетчеры, раскатывалось над голыми путями их ПА-А-АБ-Б-Б-Б-БА-АБ-Б… а под железные двери депо тянуло сквозняком. И пахло углем, холодом, железом и бессонной ночью. Вот видите, эти вагоны, показывал Женя, шпалы колодцем, сваи… это и есть… и есть.
Тот (свидетель) грустно сочувствовал из-за плеча: я вам сочувствую. Я вам сочувствую.
Еще бы! И переезд, и худенькие эти деревца, и мост вон, и перрон… и перрон, где стояла Катя.
Она была в шлепанцах на босу ногу, на шлепанцах черные помпошки, а было холодно, осень была — как выскочила из дому, так и…
Поезд толкнулся в мягкое и затих.
ПРИБЫЛИ. Кто-то так и сказал в коридоре: «Прибыли…» А внутри еще ныло (та-та-тант), летело, не хотело, та-та-тант, остановиться. Еще, еще, еще. Хвостиком сна с открытыми глазами.
Маленькая, в затылок, очередь до тамбура, ах, скорей все-таки, ну, скорее!
Вниз с высоких ступенек.
Встречают (нет, не его), смеются, выхватывают вещи. А там, за толпой, за новеньким поездом на первом пути мелькнуло уже, пыхнуло в глаза (забор? вокзал?) знакомое, детское опять и радостное, — чего и не угадал бы и не знал раньше, а вот ведь помнил, помнил, оказывается, всегда. Ф-фух!
Два курсантика стукнулись с разбегу грудью и захлопали, забили друг дружку по погонам-плечам. Радость! Радость.
Подхватил чемодан, пошел. В затылке где-то лампочками: СБЫЛОСЬ, СВЕРШИЛОСЬ, НАКОНЕЦ. Граф Монте-Кристо после десятилетней разлуки прибыл в родной город. Ба! Ба. Прибыл. Вернулся. Возвращается. Идет. Входит. И да, да, конечно, теперь: медленно и не спешить. Граф желает вчувствоваться в это дело. Ощутить.
Ощущал.
Рядом со старым вокзалом новый, свежепостроенный. Белый, легкий, безейный какой-то. Скользнул по нему глазами, а кивнул, не удержался, старому, потеснившемуся (сутуловатый, проверенный на надежность отец рядом с дурковатым акселератом-сыном; сын — блондин), в котором, бывало, пили пиво, едали, бывало, беляши. Горячие, с мясом — пожалуйста, пожалуйста! В котором столько напроисходило всего. Катя, Катя прибегала сюда. «Здорово!» — кивнул, слегка бледнея, и без того бледнолицый граф старому обсыпавшемуся зданию, знакомому с детских графских лет. «Привет», — равнодушно моргнуло то, выплюнув из узенькой двери кавказского строгого человечка с авоськой. Нет, нет, не узнавая графа. Но все тот же, тот же это был старый вокзал — зелененький, — и спасибо ему.
Граф шел.
Через площадь, через скверик, по левой стороне улицы Свободы. И серое небо. И мокрый в трещинах асфальт. Пусто, чисто, и пахнет пионерлагерем, где до горна еще два часа и бежишь в туалет по влажной от росы траве во вздетых через ремешки сандалиях. Где потом назад, под угретое одеяло… тяжелое, царапнет шею, спи, поспи еще, Женечка.
Дождь недавно прошел… это свежесть дождя…
Эта свежесть и свежесть любви. («Господи, господи, да нужно ли так-то?»)
Четыре шага вдох, четыре — выдох.
Шел.
Аптека с гематогеном. Школа 121 с олимпиадой по физике. Продовольственный магазин с томатным соком, с серой солью на кончике ложечки (в отрочестве граф занимались фигурным катанием, пили после тренировки сок). И желтеющие листья на влажных после дождя тополях. Ну нет, никто никуда не уезжал. Он просто умер, а теперь народился опять. Нарождался.
Как трава нарождается каждой весной.
Наливается зеленью в сухие ее стебельки.
Да, это Твой Город. Любимая фланелевая рубаха, протертая в локтях. Молоко в алюминиевой маминой кружке.
Да, да. Да-да! И телефоны-автоматы в ряд честь отдают под козырек. Рады вас приветствовать! Рады приветствовать! Мы рады вас приветствовать, сэр-р! Отсюда, с одного из них он звонил тогда Кате. Катя, сказал, я уезжаю. И черные потом ее помпошки на сером перроне, мокрые две собачки, и лицо ее, лицо ее — конус острием в темь.
НИЧЕГО НИКОГДА УЖЕ БОЛЬШЕ ЭТОГО НЕ БУДЕТ.
А потом… по той вон улочке два квартала вверх и — каток. Запах льда и белый в черном небе снег, проколотый прожекторами. Задний вираж полукругом, въезд в середину, взлет широким махом и… висеть, зависать на высоте трех с половиной метров (ну, хорошо: двух, двух с половиной), распластав ноги над далекой землей. Висеть. Секунду, две, три. Под музыку из кинофильма «Леон Гаррос ищет друга». Да, и плашмя потом об лед — «Здз…». Так и объявляли в микрофон: «ЕВГЕНИЙ ГОРКИН. ПЕРВЫЙ ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД. МУЗЫКА ИЗ КИНОФИЛЬМА «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА». «Первый юношеский» в ту пору не звучало беспомощно и музыка вызывала уважение, ее объявляли. Евгений Горкин заходил задним виражом под музыку («Ти-та-ти-та-та… Ту-ау-ау-ти!..») — ищет, ищет-де благородный покинутый Гаррос своего закадычного друга. Заходил и прыгал. Делал свой Прыжок.
Пластинка была короче времени на произвольную, и с четвертой минуты Гаррос начинал все сначала.
Падал, падал…
Оп-па! (Это взлет.) А потом «здз…». И поднимался, левой рукой отряхивал штаны на ягодицах, а правая, отбитая, повисла. Он же, настойчивый, упрямый француз Гаррос снова заходил — вираж, въезд… Ничего, кроме Этого («Прыжок во вращение» официально), делать он толком не умел. Вращался плохо: с треском, с крошем. Двойные выпрыгивал через раз на обе ноги. А тут получалось. Собственно, даже не «прыжок во вращение», а просто прыжок в никуда… Прыгнуть и зависнуть. И повисеть. Зрители не могли понять поначалу: нарушение законов? Гуттаперчевый мальчик? Фокус-покус? А он заходил на него, на свой коронный, и знал лучше всех: сколько раз он прыгнет, столько и шлепнется. Что-то изначальное, зародышевое делалось им не так. Потому-то и падал. Но потому и взлетал и парил потому. Расчета на приземление не было. А судьи, публика, да и сам он, краешком тоже всякий раз ждали чуда. Выпрыга из прыжка. Приземления. Выезда. И всякий раз маэстро падал. Была, стало быть, мера, граница какая-то, и он ее нарушал. Выпрыгивал из нее. Падение и было платой «за». И все же, когда на соревнованиях, в конце произвольной делал это, заходил, взлетал на свои три, зависал когда — тишина, шш-ш, токала в ушах, не дышали на трибунах, затаивали дыхание. И потом, когда все же падал — облегченное с выдохом «Ффу-у-у…». Будто он их всех пожалел. Сжалился над ними.
Похоже, после все пошло по той же самой схеме — и вираж, и въезд, и взлет, и «здз…». Разве прибавилось еще выражение на лице, будто упал случайно. Будто, может, даже это и не ты — шлепнулся. И то, и первый его вуз (политехнический), оборванный на третьем курсе, и семейная нынешняя жизнь без детей, а стало быть, вполне бессмысленная, и главное, главное «рисование» его, рисунки, в которых год от году труднее становится обманывать себя. Ну да… те же все вираж, въезд и «здз…». И хошь — заходи снова, а нет — снимай коньки, закон уже открыт. С Катей-то, по крайней мере, было так. Именно.
Теперь вот он приехал. И шел. И вспоминал. Он, кажется, желал попробовать снова.
Вираж…
Гостиница «Южный Урал».
Когда-то он приходил сюда в парикмахерскую. Из-за маленького роста ему не давали пятнадцати его, и он стеснялся. А кругом носили уже «канадку». Замирая, сесть в прохладное затертое чернокожее кресло и, да, да, сказать, пожалуйста, канадку, а мужичок-парикмахер в белом халате с диагональной вороньего крыла волной по темени (сам кудрявый или уложено так?) будет солидно над тобою кружить и стучать ножницами, по временам щурясь и откидываясь коротеньким туловищем назад. Неловко: такой серьез по такому поводу. А потом р-раз! простынь с шеи жестом тореадора и: «Пожалста!» — и: «Спасибо!..» — и: «Пожалуйста…» — и неизбежное: «Освежить?» М-мм… Освежал, освежал… до рубля. Куды было бороться! И кто б подумал тогда, в ту-то пору, что не пройдет и ста лет, и он приедет, и пойдет мимо (оттуда, из закутка парикмахерской так и пахнуло «Шипром»), поднимется по лестнице в пустой номер, где деревянные буржуйские кровати с мраморными простынями и клозет-т, и будет смотреть на улицу, где в урнах те еще, кажется, окурки, и все нормально, так и надо и само собой, и пожалуйста, можно и душ — по голубому кафелю стекают капельки воды… И внизу в ресторане мясо, кофе и свежая (дневная) улыбка официантки: ЗАХОДИТЕ, ЗАХОДИТЕ ЕЩЕ, МСЬЕ МОНТЕ-КРИСТО, и опять снова на улицы… на истоптанные легконогой твоей юностью, ею, ею. О юность легкая моя!
Кинотеатр «Знамя».
Смотрели тут с Катей «Чапаева». Катя хваталась за рукав, а Чапаев стоял на дороге и молча смотрел, как уезжает Фурманов. Вокруг кричали, махали руками и шапками, а он стоял не шевелясь, расставив на пыльной дороге ноги, и что ему было до выражения чувств. Он их испытывал.
И библиотека.
Сюда можно было сбегать с уроков. Репродукции с Рембрандта, Брейгеля, с непостижимого Леонардо.
И детский еще парк напротив школы. На физкультуре по этой вот аллее бегали стометровку, и Катя на финише кричала ликующим захлебывающимся контральто: «Женька-Женька-Женька-Женька!!!» А на выпускном пили тут на лавочке портвейн, и он поцеловал её, и ничего, ничего хорошего в самом деле в этом не было.
И вот здесь же, по Кирова, шли с Акимом и вели разговор. Зачем рисовать? Зачем? «Ну, скажи мне, зачем?» А Аким молчал и кривил, улыбаясь, свои умные губы. И знал ведь, поди, зачем. Он все тогда знал. Еще говорили о женщинах. О девушках. Взволнованно. Страшно. Окольными все путями. Боясь что-то там оскорбить. В замирающей целомудренной какой-то бесконечности. Ему, дураку, пятнадцать, Акиму семнадцать. А Кати еще нет. До Кати еще год и одно тысячелетие. До Кати разговор.
Улицы, дома… Тусклыми рыбами в сереньком воздухе-воде. Выступающие как в ванночке с ослабевшим проявителем. Было ли все? Не было? Снилось ему?
Броди, выбраживай. Пей его, Город свой. Погружайся. Дыши.
Вернись, поменяй назад кожу, душу, глаза… Возвернись назад, Женечка!
Нет, не очень-то выходило.
И к вечеру, к началу темноты, пришел все-таки к Дому.
Сидел во дворе на лавочке. Глядел в подъезд. Там, в подъезде — вспоминал — было прохладно, там пахло мокрой пылью и не только осенью, как сейчас, но и в самую июльскую жару. Крикнешь, бывало, громко, на шестом этаже взбухнет, покатится вниз по лесенкам эхо, и тоже будто мокрое. Катю сюда приводил. Вот так же темнело и над двором (только нет их сейчас) летали летучие мыши. Странные… Иногда казалось, это просто клочья тьмы, это ночь опускается клочьями, или это просто птицы, воробьи или стрижи, или вообще это мерещится. Но это были мыши, мыши. Они метались над двором, вспархивали… Молнией, кленовым листом. Они чиркали собою по фиолетовому небу. Воздух шелестел. «Чего бояться? Обыкновенные летучие мыши…» Да, да, чего? Такие были смелые. Не боялись. Ни мышей, ни крокодилов — все, дескать, надобно в жизни испробовать. Однова живем! Мудрость мудрых мудрецов. О господи! Принесли как-то простыню, растянули вон там у второго подъезда и поймали одну — разглядеть. Разглядывали… И в самом деле что-то тут такое. Что-то, что будто могло быть, а могло и не быть. Тайное. Жуткое. Только впусти его в себя. Голое… Перепончатое… Без дна, без перил. Из сна, когда сорвешься с крыши. Пропасть. Темь.
И еще у этой мыши были слепые глаза.
Катя трогала пальцем: «Холодное!..» Почему, спрашивала, почему они летают? Ведь они же не птицы, Женька! И слепые… Зачем? И смотрела, смотрела на него черным своим из-подо лба — ответ давай. А он злился, а придумывать он не умел. «Хочется — и летают!» Он и не знал тогда, как близок к истине невразумительный этот ответ. Хочется — и летают. Что хочешь, то и можешь.
«А тебе… тебе хочется?»
И ему хочется. И ему.
Ду-рацкий вопрос. Дурацкий старый двор. И ровно век, как от Пьеро сбежала его Коломбина. Как умерла последняя летучая мышь.
Теперь бы он ответил так: «Мадам! Иной раз нужно ослепнуть, чтобы потом научиться летать».
И вздохнул бы с пониманием жизни, и почмокал бы эдак губами. Не зная, мол, броду, не суйся, друг, в воду. Или: не было бы счастья, да несчастье, вишь, понадобилось.
И прочее.
Из подъезда вышла Любовь Васильевна, управдомша, бывшая соседка с третьего этажа. Толстая, поседевшая, побывавшая будто в рассоле. Нет, нет, подумал, ради бога не надо меня узнавать. «Ой, да это ж Женя!», «Ой, да какой же ты стал!», «А мама как, а папа, а Людочка?». Нет, нет, проездом, инкогнито, скромный граф Монте-Кристо, не более того. Извините меня, пожалуйста. Проходите, Любовь Васильевна. И он прикрыл глаза.
Прошла.
Не взглянув. Переваливаясь на опухших ногах.
Старушки с соседней лавочки ей поклонились. «Любовь Васильевна, Любовь Васильевна…» Заметив, что граф провожает ее глазами, они улыбнулись и ему. И тогда-то он спросил: «Простите, а кто теперь в этом дворе дворником?» Сам не ждал, что спросит… О-ох, как набросились! Натосковались, бедные, по свежему-то человеку. «Мокшин, Мокшин, кто ж еще-то! Аким Алексеич, он!» Двенадцать лет сплошной Мокшин. Заспорили даже. Одна сказала: двенадцать, а вторая поправила — нет! У Риточки родилась Раечка, стало быть, не двенадцать, а тринадцать. И одна (та, что за тринадцать) нервно закурила беломорину, а вторая (помоложе) так и впилась в графа глазами — уж не узнавала ли?! Но как бы ни было, узнавала она или не узнавала, пришлось встать, обтряхнуть штаны и идти туда, к полуподвалу. К Акиму. К Акиму Алексеичу. Это вроде не входило в планы, но он шел, и ноги двигались. «Мужчина аккуратный, — неслось сзади, — не пьеть…» Это хорошо, подумал, не пьет. И спохватился: ему-то что — пьет, не пьет. И понял: еще в Москве, задумывая вояж, про себя он знал: к Акиму зайдет. Это было ему важнее, чем увидеть Катю. Во всяком случае, до встречи с ней. Зачем-то было надо. И сюда, в старый свой двор, он шел именно за этим (к Акиму), а вовсе не для сентиментального свидания с милым сердцу очагом.
Старушки что-то там еще говорили громко, а он стоял уже в каменной яме (Аким жил в полуподвале, в ведомственной дворницкой квартире) и трогал пальцем облупленную коричневую дверь. Десять лет назад вот здесь же, у этих дверей, он стоял, и песок… песок скрипел под его ботинками; он простоял тогда час или, может, десять минут, переминаясь, как лошадь в стойле, а в груди, тяжело раскаляясь, грелся тогда у него кирпич. А он стоял и не уходил. А потом все-таки ушел. Хотя ничего не изменилось, только кирпич провалился ниже, в живот, а про себя он так и не понял, зачем приходил. Убивать?
Кого же, если… Акима? Катю?
Было около двенадцати ночи. Он пришел домой, тихонько открыл ключом дверь, и, когда доставал из шкафчика деньги, мать подняла голову: «Ты чего, сынок?» И… ничего, ничего, мама, шепотом, а в руке уже была десятка, и задом, задом, на цыпочках, побыстрее вон. Белая лестница в полуподвал синей была под синей луной. Хорошо соображал. Как зверь. Зверь, проглотивший кирпич. У таксиста на площади сторговал бутылку водки. Таксист пить отказался, но стакан дал, и конфетку, и даже дал закурить. С тех пор граф, между прочим, и курит. Он выпил стакан водки и шел по пустой улице, задирая голову в небо, и ржал. «Бу-гха-гха, — ржал, — бу-гха-гха!» И фальшь была, и пакость, но задирал и все ржал, ржал, будто кому-то там назло. А потом стучал в облупленную дверь, бил кулаками в нее, ботинками, лбом. «Откройте, — кричал, — открывайте! Убью! Убью, суки!»
И Аким открыл ему. Он был в плавках. Белая кожа светилась под синей луной. Бело-голубой торс над черными плавками. И спросил тихо, еле слышно, как полчаса назад мать:
— Ты чего?
Аким сидел за кухонным столом и ел картошку. Молодую, зажаренную прямо с кожурой. На губах, между сжатых губ, было молоко. Он был совсем новый, лысый, лысина до шеи, живот. Совсем, вовсе новенький, только хуже. Ах, как он изменился! Страшно. Словно в фуфайке он сидел.
— Мхм… — попытка поздороваться у графа. — Змгмхмг…
И, как обычно в серьезных случаях, голос его сглох. А Аким уже поднимался; вставал из-за стола и шел, и в глазах его поднималась и шла пузырем от дна радость (да, радость!) узнавания.
— Женька, — сказал он. — Это ты.
И дошел, дотронулся до ворота графовой нейлоновой куртки, осторожно дотронулся, нежно почти. «Женя…» Кажется, так и сказал: «Женя…» И улыбка, целая люстра, тоже была ему, Жене.
И кто его просил улыбаться?
— Вот так да! — сказал Аким еще.
А потом, когда от волнения без всякого приглашения граф нагнулся к своим заляпанным родимой почвой ботинкам, он забормотал, заспешил с какими-то придыханиями, со страстной исступленностью: «Не надо, не надо разуваться! Не разувайся, не нужно…» Будто бы давным-давно ждал он именно этого гостя и вот дождался-таки. Будто что-то теперь непременно произойдет. Вовсе не знакомые интонации, не знакомый человек. И еще грузный, лысый. В кацавейке какой-то без рукавов, Аким. Одни глаза те же. Глаза снежного барса, в которых не дотаяли еще отражавшиеся в них когда-то льды.
Голос наконец-то прорезался.
— Шел мимо, дай, думаю…
Пошутил вроде. И сам же отвернулся. Не хотелось улыбаться навстречу.
Аким понял и тоже притушил.
— Пошли, — сказал, — пошли в комнату.
И пошли.
На полу (раньше не было) лежали два домотканых половика. Поперечные полосы на них — синие, зеленые и красные — напоминали порезанную ломтиками радугу. Пол был из бетона, сырой и холодный, поэтому половики лежали правильно. Но раньше их не было. Это граф отметил. Он ступал по половикам ботинками и думал: зря не разулся, зря послушался хозяина, теперь словно одолжился и виноват, а зачем это? И тут же он себя успокоил: плевать. Впрочем, если подразумевалась драка, это и хорошо, что не разулся. Кто же дерется в шерстяных носках?
— Завтра уборку делаю, — сказал Аким. Он угадал эти мысли. Облегчил гостю, деликатный человек.
Ну да, а он, Женя, гость его и есть.
Каменный.
Пахло, несмотря на сырость, приятно. Травой какой-то, лесом и травой. Не то зверобоем, не то мятой.
— Ну? — Аким усмехнулся как бы. Слегка, кончиками губ. — Может, за бутылкой сходить?
Хорошо бы, да, хорошо бы.
— Да, — сказал громко. — Сходи.
Аким кивнул. И опять будто усмехнулся, нет, не над графом (боже его упаси), граф это понял, а так, над ситуацией, над обычаем тоже: вот, дескать, «за бутылкой».
— Ладно, — сказал, — посиди тут минут пять.
И дверь за ним стукнула.
Ну вот… эта комната. От старого тут один, кажется, приемник «Балтика». Полки, книги, и не так уж много, а доски не ошкурены, само дел, лень хозяину на мелочи силы тратить. Хотя он и аккуратный. Деликатный и аккуратный. И шифоньер тоже самодельный с циновкой вместо дверей. Кругом одни циновки. Все стены в циновках. А раньше вот здесь, в самом центре, верчмя висела лосиная шкура, а книги стояли в углу на газете. А под шкурой на табуретке стоял магнитофон «Айдас», а под потолком бельевые висели веревки. Когда никого не было, когда магнитофон не работал, хозяин прохаживался туда-сюда из угла в угол, писал на четвертушках бумаги «мысли», а потом цеплял их к веревкам прищепками. «Сушил…» А после подходил срок, все снималось, тасовалось по папочкам, и — в дело. Хозяин в те поры создавал свою философскую систему. Ага, при всем своем снежном барс-тве. И вечером приходили другие разные мыслители (койоты, шакалы, фенёчки всякие) и… бабье. Аким был у них завроде лидера. И даже не у мыслителей больше, а у бабья. Глаза, понимаешь. Мышцы. Злость. Ну и остальное все, что надо. Чтоб восторг, чтобы слюну сглатывать и замирать. Сесть, скажем, за фоно (и где он, гад, научился?), расправить на клавишах пальцы. Или там с вышки пятиметровой фляк. Хоп-п! Без брызг. Или по морде кому-нибудь, чтоб тот аж проехался ею по белу снегу и чтоб снег у него бурунчиком над носом.
Умел. Мог.
Мог. Умел. И баб этих, само собой, презирал, как и должен джентльмен такого уровня. Ну а тем, само собой, это-то больше всего и нравилось, мадамам.
А раньше, до ухода в армию, он жил возле арки в шестом подъезде и был совсем другой. Во дворе любили его и уважали. А больше всех — граф. И футбол у железных ворот, и гаражи, на которых играли в баши, и депо на вокзале, куда Аким водил их всю пацанячью компанию смотреть на поезда. И планер из досточек, и рыбалка на Первом озере, и жареный сахар, и пинг-понг. И сколько раз Аким заступался за него, и с кем, единственным, можно было разговаривать о главном, когда наконец-то они все-таки выросли?
— Значит, приехал?
Аким стоял в дверях. В плаще и кепи. Ни лысины, ни брюха сейчас заметно не было. Выложил на кухонный стол бутылку водки, две банки консервов, хлеб, пачку масла и плавленый сырок.
— Ну что? — спросил. — Где будем, в комнате или тут?
— Давай тут.
Первая пошла колом, отвык, давно не пил. Впрочем, он и не умел никогда. Зато Аким выпил хорошо. Не жадно и без гримас. Как надо. Все как надо умел, гад! «Ах да ты ж Акимушка, да милый же ты мо-о-ой…» И это-то и была секунда, когда он чуть не ударил его. Он ударил бы его левым крюком, вставая и сразу, а потом бы смотрел, ждал, когда тот поднимется. Но он не ударил. Вторая (до нее молча жевали) пошла легче, почти соколом. Граф закурил. В душе и потеплело, и поотпустило. А после третьей, когда подошло такое времечко, он спросил Акима, через десять, выходит, лет.
— И что же ты, — спросил, — наделал, сучий сын? А?
И ожила, и забила крыльями у облупленной двери старенькая слепая летучая мышка, закачался в углу на свежей паутине молодой голодный паук, и помешкало время, и снова пошло.
— Ты о чем? — Веки у Акима вздернулись и остановились.
— О том…
— А все-таки? — Аким смотрел в глаза. Спокойно.
— О ней… Я о Кате говорю.
И тоже смотрел. В светло-зеленые льдистые радужки, в бурые такие крапинки по ним. Он мог бы смотреть в них столько, сколько понадобится.
— О какой Кате?
— О моей, о моей… О моей Кате! — Еле сдерживаясь, сам уже не зная от чего — расплакаться, разбить что-то, ударить. Мог и ударить, чего уж, мог, мог.
— Я НЕ ПОМНЮ ТАКУЮ.
И это и было то самое. Он не помнил.
Выпили еще, Аким налил. Допили бутылку. Дух перевели.
— Так это ты из-за нее ночью тогда приходил?
— А ты не знал?
— Не знал.
Аким не знал, что Катя Катя, а он — что Аким не знал.
Вот, оказывается, как бывает. Вот оно, оказывается, как.
— Расскажи, — попросил Аким.
Рассказывал, а Аким глядел в стол, гладил белым жилистым пальцем хрупкую рюмочную ножку. Опять лысый.
В девятом классе у графа была девушка. Мерседес. Акиму он ее не показывал, боялся, видать, отобьет. «Я ее…» — сказал он. Он хорошо к ней относился, граф. «Ты ушел в армию, а у нас, у меня и у девушки, или, лучше, девочки, ничего такого не было и быть не могло. Хотя могло, понимаешь?» Аким кивнул, он понимает — хотя и могло. «Потому что я был тогда кретином, потому что эта штука во мне тогда разделялась. Беатриче, понимаешь, край одежды — и то, другое, плотское-скотское». То есть это тогда так было: скотское. Это был взгляд. Ощущение. Ева и Лилит. Чистота и гнусь. Именно: гнусь. Середины не было. Он и сам не знает, откуда это взялось в нем. Черт знает откуда. Такой был тип. Только и мог, что рисовал ее на уроках. Только и мог. Один раз целовались на выпускном — так плохо, плохо было. В общем, так шло до второго курса института. Он учился в политехническом, Мерседес в медицинском. Все как положено. И он уже домечтался до благородного брака до гробовой, разумеется, доски; он уже приискивал комнату, собираясь сообщить со дня на день о знаменательном решении родителям, а ему все еще больше хотелось ее рисовать, а не трогать руками. Хотя других, прошу заметить, трогать руками ему вполне хотелось. Даже, может быть, слишком хотелось. Такой был тип. И тут вернулся из армии ты, Король! Господи, да я сам же, дурак, только о тебе ей и рассказывал: ух, Аким, ах, Аким, ох! Ну, да… а ты… ты вернулся уже дворником. В общем, на том же втором курсе, в сентябре, она к тебе пришла. Вот сюда вот, в этот самый проклятый подвал. И ты, добрый человек, ее принял.
Аким ушел. Он сидел за грязным столом и ждал Акима.
«Убить бы его, — думал, — а я с ним пью».
Но Аким вернулся, и они снова пили, а потом даже пели. «Под снегом-то, братцы, лежала она…» пели. И еще, другую: «Долго бились они-и-и на крутом берегу. Не хотел уступить воевода врагу».
— А я потом… — шептал граф, — а я потом…
И, пьяные, они терлись лбами, как это делают, кажется, пожилые львы, и Аким провожал его в гостиницу, и по дороге они запели опять: «Сначала я в девке не чуял беды…» В общем, было.
Автобус шел среди полей.
После вчерашнего мутило, но, задумываясь, граф про это забывал. Вдоль дороги чуть не до горизонта желтела не убранная еще рожь. Нет, граф не жалеет о вчерашнем. Он едет теперь к Кате, они, конечно, увидятся, и он будет с нею говорить. Не зайди он вчера к Акиму, неизвестно, как сложился б этот разговор. Иначе, быть может. Он продолжал бы думать, как думал все протащившиеся эти, пролетевшие эти годы, и «прощать», держа и пряча в душе два предательства вместо одного. Да, то, что выяснилось вчера у Акима, оказывалось вдруг чем-то очень-очень важным. Граф это чувствовал сейчас. Чем-то, что давало ему… ну, хоть не надежду, а какую-то возможность ее. Ведь из того, что Аким не знал, выходило, что Катя не сказала ему, чья она невеста. Получалось, что Аким вовсе не так уж виноват, как считалось графом раньше. Он злился, он ненавидел, он считал Акима единственной причиной своих бед, а Аким не знал. Аким вообще, может быть, не был виноват! Кто кого имеет тут право винить? За что? За то ли, что Аким был «так не чуток» и «не заметил чужого горя»? Что мог бы вот, да не заметил? Так кто ж его, чужое-то, замечает? Не ты ли уж, Монте-Кристо Справедливый, приехавший платить по векселям? Ну да. Держи карман. Если б так, разве пошла б твоя Катя в подвал, разве б (тут пришлось делать усилие) полюбила она Акима? Господи, неужели, неужели она любила тогда Акима? Ну хоть час, минуточку. Десять лет задавал он себе этот вопрос: «Неужели?» — и всякий раз малодушно бежал от ответа. Страшно! Страшно было. В глубине души, глубже страха, здравого смысла и оскорбленной его ревности, где-то в самой-самой глубине души, он знал, уверен был: Катя всегда, всю жизнь любила его, его одного, он ее суженый, а все, все, что случилось с ними, только беда, бред и летучие мыши. Но когда он начинал размышлять, он сомневался в ее любви. Он сомневался в ее любви, и в нем поднимались ненависть, и отвращение, и нежелание больше жить. Потому он старался не думать и не размышлять, а прятался и терпел. И почему, почему он подумал: «Предательство»? Почему именно этим словом? Разве предавала его Катя? Разве предательством зовется то, что произошло с нею? Ведь чувствовал же он, граф, — в том, не сказанном про него Акиму, было что-то прекрасное, что-то и дававшее ему сейчас надежду.
Средь ржи стояли золоченные по вершинам березы. Длинные гибкие их веточки, опущенные вниз, тихо шевелились.
Какая печаль ее одежды припомнить.Какая печаль, какая там печаль, ничего не осталось, пепел, пепел воспоминаний… вираж, въезд, оп-па. Ну, да… и десять лет сплошное тупенькое «здз…». И тут же снова, не веря себе: нет, нет, не «здз…», не пепел! Он едет в Волчью Бурлу, к ней, к Кате, к единственной своей на свете Кате, и ничего, ничего другого больше нет.
Какая печаль…
Школьная форма, ее одежды. И ныне и присно и вовек.
В шестом классе он решил: будет девятый, отворится дверь и войдет она. И в девятом, вводя ее, директор Владимир Абрамович сказал, улыбнувшись: «Вот Бакунина Катя. Она будет у нас учиться. Прошу ее полюбить…»
Есть бог?
Есть!
Бакунина Катя, Бакунина Катя… Покатый гул.
В душе моей покатый гул.
Нет, не была красивой, это-то он вчера Акиму наврал.
Школьная форма ее одежды, не коричневая и не темная, как у других девочек, а светлая, с кружевным воротничком, светло-коричневая, беж.
Ее посадили впереди. Он на предпоследней, а она на две — через проход впереди. Гляди, мол, Женечка, коли охота. Гляди не наглядись. Хоть лопни, пожалуй.
И глядел.
Весь девятый и весь десятый.
И руки-то от плечей как у птицы.
И глаза из-под бровей — черным. И главное то, круглящееся (ухо? локон?), чего и понять никак не выходило… синей волной головой повела, синяя сила, тьма! Догадываться: что там? — за кромочкой. Постигнуть все хотел. И из детской песочницы (шесть остановок на трамвае до ее дома) вечерами тоже смотрел. Мерз. Голые высаженные липки мерзли рядом. Ее окошко, ее окошко… лепил, вылепливал сам себе — такая, такая, такая. Маленький хитрый Пигмалиончик. Уйти и потом вспоминать, уйти и думать. В жизни, живая, она даже мешала ему. Лишнее, лишнее! Эти вот слова, этот вот жест. Лишнее убрать. Оставался один и убирал. В мыслях и воспоминаниях она была такой, как ему хотелось. Дур-рак! Ох, дурак. Лучше (если б он мог понять тогда), она была лучше, чем смог бы он выдумать, даже если бы умер от напряжения! Лучше, чем можно было придумать. Сосны были ее родственницы, ее род. Чуть-чуть как будто внешне нечеткое и тяжелое изнутри. Кожа ее и волосы и кора их золотисто-блестящая. Светло-коричневые волосы и то, женское, круглящееся… не схватить, не дотянуться… кромка. Все менялось вокруг, поворачивалось, стены, вещи, свет, обретало устье, втягивалось в нее, в Катю, как в воронку. Конус острием в бездну.
Три дня назад толстая тетка крикнула ему в метро: «Горкин! Женька! Ой, не могу, Горкин!» И он, бедненький, не узнавая еще, кто это и зачем, почуял: скажут сейчас. И сказали. И про Волчью Бурлу, и что «одинока Катерина, слышь?», и локтем даже поддели в бок, чего, дескать, ждешь, дубина, тебя касается-то?! Это была Катина подруга по институту, славная баба, фамилию он ее позабыл. В Москву, понимаешь, на специализацию, и вот на́ тебе, чуть не первый же встречный Горкин-Горочкин! К счастью, к счастью, и смех с хрипом (куряка), и локоть опять в бок, ну! Хорошая просто баба, дай ей бог, да Катя с «плохими» и не дружила. И хоть в нем сто лет все уже решено было и подписано (он не должен видеть ее), сразу же, у метро еще «Новослободская», не оставшись даже один, понял, знал наперед и трясся уже весь от этого знания — поедет, поедет, поедет! Завтра же, сегодня же, сию же минуту.
И ехал… Ехал вот.
Дорога петлилась в горах. Вялый, ненужный здесь вовсе серпантин. Горы серенькие, не страшные, хоженые-перехоженые в мелких пионерских еще походах. Всего и навсего, что полторы тысячи метров над уровнем моря. Но горы, горы… А внизу, в ложбине, городок. Дымит все, милый, и тоже там что-то такое, на экскурсию, ездили, кажется, на завод. Сколько напроисходило всего в разных местах за это время, а он, трудяга, гудит, тужится все, лязгает в самом себе… Когда выехали наконец на равнину, автобус остановился. Женщины-пассажирки, не оглядываясь, пошли к лесу, а мужчины завернули тут же к задним автобусным колесам. Закуривали, давали друг дружке огоньку. Мда, говорили, погодка, погодка, едрена вошь! Оказывается, дней уже шесть шли дожди. Что ж, так и должно, осень. Когда-то, года три-четыре назад, пофартило, дали иллюстрировать книжку Баратынского (работал тогда внештатником в издательстве детской литературы), повезло чуть не впервые; там такие были стихи: «Сентябрь, сентябрь, и вечер года к нам подходит…» И как ему тогда работалось с душой, и получалось, и как радовался он. Деревья, полуоблетевшие, ждущие, терпеливо такие спокойные, и листья, свернувшиеся совочками, и еще что-то там тихо-печальное, баратынское. Получилось же, сам чувствовал, получилось на сей раз. Но оформление его не приняли, отдали другому, и как он переживал, и как теперь это не имеет никакого значения. Трава вчера из поезда была зеленой, а сегодня бурая, опустевшая изнутри, и все бы, кажется, ясно, и пора с пониманием усмехнуться, да трава (он знал уже) затаится, забудется потом под снегом, а весной нальется опять зеленью в те же стебельки. И попробуй пойми! Смерть, смерть, а глядишь — и жизнь. И вот он увидит Катю. Реки потекут от моря к истоку, солнце поворотит своих коней, земля понесет звезды, а огонь родит воду. Он увидит ее, он увидит. И он увидит ее.
К площади дорогу вынес мост. Мост этот походил на незаконченную восьмерку, где одна сторона нависала над другой. Автобус взъехал по мосту на площадь и остановился. Это была Волчья Бурла, рабочий городок, где жила его Катя. Сходить теперь с моста пришлось по боковой лестнице, по стершимся грязным ступенькам. Внизу, на краю сизой пробензиненной лужи, начинавшейся сразу за дорогой, стоял, покачиваясь, пьяный мужик в шапке и решался: прямо ему или обойти. На вопрос, где тут в Волчьей Бурле гостиница для приезжих, он поднял голову и серьезно ею мотнул — там! Гостиница, беленный известью дом с покосившимися низенькими крылечками по торцам, внешне походила на барак. Раньше тут, наверное, жили экскаваторщики с местных рудоносных карьеров, бульдозеристы. На работу их возили в крытых грузовиках с деревянными лавочками в кузове, а жили по комнатам, у каждого из коридора своя, с семьями, пацанами, с двухрядными гармошками-хромками по субботам, со скандалами и драками, бабьими сплетнями на общей, увешанной бельем кухне, с пропахшим жаренной на свином сале картошкой, человечьим в складчину теплом, которое разнесли теперь по горсточкам в такие ненадежные белые панельные дома.
— Вы корреспондент, да ведь? Из газеты?
Из-за деревянного, доведенного марганцовкой до цвета «под дуб» барьерчика улыбалась навстречу женщина, дежурная, по-видимому, или администратор, а может, даже директор гостиницы. Потом оказалось и то, и другое, и третье. Вместе.
Нет, сказал он, я не корреспондент. Я так просто. Сам по себе.
Но женщина улыбаться не перестала, хоть и не корреспондент. В комнате, где стояло шесть пустых свежезастеленных кроватей, она предложила выбрать ту, что будет ему по вкусу. Он и выбрал — в углу, у стеночки. А до больницы (на его вопрос), объяснила она, отсюдова рукой подать. Через пустырь, через двор, где стройка, и как раз направо и будет больница.
— А я думала, вы корреспондент, — добавила она еще. — Тут позвонили, корреспондент, сказали, будет, вот я и подумала.
Нет, сказал он опять. Он не корреспондент, он просто.
И женщина рассмеялась. Сверху у нее не хватало зуба, и она смеялась, стараясь не поднимать верхней губы, стесняясь дефекта.
— А как вас зовут? — спросил он тогда, и она засмеялась сильнее, и губа все же поднялась.
— Меня? — засмеялась. — Да раньше Дунькой звали, а ныне вот Евдокией Афанасьевной заделалась. Скучно на пенсии-то.
Ну и слава богу, думал, и слава богу, что так.
Через час, в свежей рубашке, выбритый и оглохший от волнения, он вышел из гостиницы.
У придорожной лужи на сей раз ходил большой черный ворон и поводил ноздристым здоровенным клювом — тоже, кажется, примериваясь: не перейти ли? Он ходил враскачку, как начальник средней руки, заложив за спину крылья, смотрел недовольно. Ему словно не хотелось, чтобы были свидетели столь решительного дела. А когда граф на него оглянулся, ворон подпрыгнул и в два взмаха перелетел водное препятствие. Могу, дескать, и летать, не думай, пожалуйста!
Пустота в животе росла, санки неслись с горы во весь опор, и ноги у графа Монте-Кристо вздрагивали. Шел…
В больничном дворе курили мужики в синих застиранных халатах поверх пижам. Они приопустили руки с окурками и поглядели со вниманием на нового человека.
Страшно было идти по двору.
В приемном покое дышала за столом огромная толстая баба.
Впрочем, лицо у нее было красивым. Даже благородным.
— Простите, — выдавил он. — Мне Екатерину Ивановну можно?
Голос, конечно, пропал.
«Операция… Специализация… В военкомат вызвали…» Землетрясение, чума, война… Мало ли?! Господи спаси, сделай, чтоб она была. Спаси меня, господи!
— Обождите! — баба перестала дышать и оглядела его с ног до головы. От ботинок. Кивнула. Ничего, мол. Сойдет. Левой рукой придвинула к себе телефон. Курносый, обгрызенный палец вошел в круг, поднялись в упор суровые, невидящие уже глазки — и п-р-р-пык, п-р-р-пык и пуооп! И еще не закончился гудок — сняли.
— Алло! Лена? Слушай, Лена, попроси-ка сюда Катерину Ивановну. Скажи, приехали к ней (снова огляд от ботинок вверх). Хто, хто — дед, скажи, Пихто! — Трубка легла на рычаг. Баба посмотрела на него и засмеялась собственной шутке.
Во дворе он отошел от крыльца шагов сорок. Чтоб смотреть.
Чтобы смотреть, как она — к нему.
И в эту-то минуту (он потом это помнил), именно тут, до встречи еще, до всего, ясно и почти даже устало вдруг понял: будет! Все у них с Катей будет, и все, все будет теперь хорошо. На самом деле.
И в халате, в накрахмаленной высокой шапочке, она бежала уже, полы захлестывались на тугие ноги. Ее движения, все ее движения, свободно и чисто, ее, ее! Бежала по асфальту (двор был весь в асфальте), через лужи, прыгнула, запнулась, выпрямилась сильной спиной…
Стоял, а она бежала — так, так! И лучше не было еще, и не будет.
— Женька!
Женька.
И тут же, о господи, обняла его, среди двора, среди всех, прижалась, всхлипнула. Отстранилась, посмотрела в глаза. Есть? Есть. «Женька…» И никто, никто не знает, кроме.
Гладил, жег до волдырей ладони об холодный ее крахмал, натосковавшиеся свои ладони. И не жить больше, а так остаться.
— В гостинице ты? — спросила. Голос ее загудел в нем длинно и медленно, словно в колоколе — «…ницеты-ы…».
Он кивнул.
— Я сама за тобой зайду («…ай-ду-у-у…»). Через час. Или, самое большее, через два. Иди. Ты иди сейчас, Женя.
И еще улыбнулась. Вздернулась губа. Катька.
Закрыл глаза и ушел.
А может, все было и не так.
ОТОШЕЛ — И ГДЕ ОН?
На пятиминутке разговор снова шел про Холодкову. Не спит Холодкова, сказала Лена, от «наркотики» отказывается, боится, видать, что привыкнет. Ясно: сидит Холодкова всю ночь на койке, округ храп до посвист, а она трет сидит ногу, трет и плачет, и кто ее горю пособит? Козлов, лечащий Холодкову врач, так и рубит — хватит лямзиться, надо Холодкову брать, а сама Холодкова — лицо в сторону, в глаза не глядит: «Как вы, Катерина Ивановна, скажете, так и будет…» И плачет, плачет. «Я вам, Катерина Ивановна, доверяюсь!» Вот так, думает Катя, собачья наша жизнь, к свиньям собачьим такую жизнь, речь-то ведь об ампутации, второй уже. И на каком уровне ампутацию эту делать. Козлов хочет сразу — выше колена. Правильно, в общем, но, если только пальцы пока убрать, хоть на костылях будет можно, а коль и эту, вторую ногу, выше колена, то ведь и ползать ей тогда вряд ли! И куда потом? В дом инвалидов? К сыну? Сын-то молодой, возьмет ли еще? Не таких не берут. А уберешь пальцы, все равно потом выше придется. Сосудистые хирурги — грубые, так и сказали: придется все равно.
Взяла Холодкову в перевязочную: смотрела, смотрела.
Прав Козлов! Надо оперировать.
Позвонила на аглофабрику, сыну ее. Пусть-ка придет. И посоветоваться, и посмотреть еще разок — можно на него Холодкову доверить или нет.
— Я не могу! — ответил в трубку Холодков-сын. — Начальник меня не отпустит.
Гляди какой дисциплинированный!
Отпустит, подумала, отпустит тебя начальник, и уже хотела позвонить Пете Зубову, знакомому с аглофабрики главному инженеру, да спохватилась: не надо. Как раз Пете-то и не надо звонить. «Начальника мне, — сказала, — пригласите, пожалуйста, к телефону начальника цеха». Вот так. «Слушаю!» — рявкнул тут же (будто ждал рядом) начальник. «Я Бакунина, — представилась Катя, — заведующая хирургическим отделением. У меня просьба: отпустите, пожалуйста, на полчасика слесаря Холодкова — мать у него завтра оперируется». — «Што?» — не понял начальник. То есть он, конечно, понял, но как бы тогда она догадалась, что он — сила? «Мать у него…» — «У него мать, а у меня план!» (Так и рвалось уж наружу: «Мать вашу так!..») — «А план у вас для кого? — тоже уже заводилась она. — Для кого план, для кого?» Молчание. Молчание. На сей раз, видать, не поняли и соображали, опасаясь ошибиться. Даже, кажется, сопели. «Ну вот что, если вы… — И тут она тоже подышала: вдох-выдох, вдох-выдох, успокаиваясь. — Если вы…»
Но начальник уже струсил. Где ему! И пришел Холодков. Здоровый такой парень. Плечи, руки, и левый глаз немного вбок, как у матери.
— Ну что? — сказала она. — Мама ваша будет без ног.
И смотрела: что? Ударила и смотрела.
Вмятинка на лице. Глубже, еще, еще… держись, паренек!
Выдержал.
— А протезы… это, можно ей?
— Нет, вы же знаете, Протезы при ее болезни нельзя.
Справился, справился и с этим. Выправилась вмятинка, и уже твердо, спокойно:
— Пусть. Делайте как надо.
Хороший ты парень. Хороший. Не зря ж Холодкова плакала по ночам молча. Зря ничего не бывает, и какова яблоня… И легче сразу стало. Легче жить.
Поговорили с Козловым, потом с анестезиологом. Поготовить денек-другой, анализы обновить, и с богом!
…Оперировать решили послезавтра.
Да, дома в постели она еще вспоминала иногда, выдумывала себе. Хоть и «прошло сто лет и пруд зарос», как пели, бывало, в пионерском лагере.
Серенький такой день, ветер, листья плещутся в тополе алюминиевой своей изнанкой… и это как орган, Бах, одно в другое, одно в другое, и не кончаясь. А там, за в белом инее мостиками серый туман, и подмерзшей пахнет землей, мертвые под ногами листья — красные с осин, желтые с берез, и это утро и тот сентябрь.
— Как тебя зовут? — смеется Аким. — Катей, поди?
Это тоже так и надо — чтобы он не знал, а потом, после всего, спросил.
— Катей.
«Ка-ак зову-ут тебя, дивчи-и-ина? — поет потихоньку он. — А дивчина говорит: и-мя ты мо-е услы-ы-шишь из-под то-по-та копыт…» Голос влажный, коричневый, дрожью в ее позвоночнике. И смешно ей, смейся, смейся, а он ее целует. И голова кружится, упала бы, ох, упала бы, но нет, нет… такие у него руки. А потом, когда все пройдет и уляжется, она снова засмеется, и смех ее затихнет в тумане у воды. В тумане у воды.
А за неделю до Озера, в ту-то ночь — так:
Вошла, и дверь сзади закрылась сама, подтолкнула в спину: иди! Иди к нему, в темь, к белым плечам. Задохнись!
Закрыла глаза, зажмурилась — ну? И как в воду — бух!
И качнулись качели, и понесли. Выше, выше и о-ох — бросили. Падала, па-да-ла, а земли не было, все не было, и так узнала: это как сон, и она не умрет. Молча, молча тихой сапой, грех, грех (знала!), а там через край выхлестнуло… и все. Горело и лопалось, вот тут, у сердца лопалось — пропадай, пропадай, девочка! Погрусти, погрусти, милок, о невесте, о картонной невесте своей.
Это уж к Жене.
Потому если она Коломбина, а Аким Арлекин, то Женя-то — Пьеро, конечно же Пьеро, кто же как не Пьеро, хотя и ни капельки на него не похож. Но потом об этом, это уж потом.
И на другой день пришла к нему снова.
Улыбнулся: узнал!
Обрадовалась, как сумасшедшая, как же, узнал! Тронута была. И ничего-то, мол, ей от него не нужно, никогда и ничего. Пусть. Пропадай, Женечка, пропадай пропадом, мамина мудрость. Бунт! Бунт на корабле.
И озеро, и листья, и туман. И белые эти мостки, как белые плечи в сером тумане, и он, он, Аким. «Едем, — сказал, — на озеро?» — «Едем!» Не позвал, не пригласил — сказал: завтра едем с тобой на озеро. И поехали. Поманил собачку: мпц-ц! И побежала собачка, завиляла хвостиком. А ночью плакала (жили на летней базе у знакомого его сторожа, где в сентябре уже никого), заплакала от холода и еще чего-то, а Аким тихо всхрапывал рядом, а от стены дуло.
Водила рукой по шершавым доскам и плакала, плакала картонная невеста, долго, так что он проснулся.
— Плачешь? — спросил.
— Холодно, — сказала она, — и ты меня прости.
Он встал перед ней на колени, лунные его волосы заластились в ее руках, дышал на ноги, смеялся, тер их жесткими ладонями: ну-ну, чего ты… глупая? И в горле влажный тот же голубиный ворк.
«А у тебя красивые пальцы…» (На ногах — поняла она.)
Ну и что?
Какой смешной: ну и что — красивые, ну и что?
Ничего себе, смешной! Целовал, целовал ее.
И опять… Провалилось.
И вот тридцатилетняя женщина в одинокой постели, одинокая женщина в одинокой постели, в черной ночи, в тмутараканьем своем городишке, одна, одна, и звезда в окошке вспоминает свои грехи, такие вот грехи. И встает, и идет на кухню, сама себе делая вид, что попить. А потом стоит и трется головой о холодное балконное стекло — и кто ее горю пособит?
О-ох!
А утром танцевали под транзистор.
Теплое его плечо через свитер.
Плачь, плачь… и никто не скажет: «Чего ты, глупая?» И если даже сорок раз или сто, все равно никто не скажет и не спросит: чего ты? ну чего ты? И тут-то и придет старая, надежная и простая мысль, мысчалочка ее, выручалочка: «Хочешь — живи! — такая мысль. — Живи, делай что-нибудь, а нет, никто тебя тут за руки не держит, исчезай на здоровье, уходи, стирайся с лица земли. Высыхай капелькой».
Жалеть-то себя приятно.
Все бы жалели. Только б тем и занимались, что жалели.
Да нет, нет, она пробовала. Куда деваться, шебутилась, как говорит Козлов. Заводила себе… куклы. Свои куклы в своем домике. Игралась девочка.
Черепаху вот завела.
Приручить дракона (говорили древние китайцы) — не уплывут рыбы, приручить единорога — не убегут звери, а приручить черепаху, священную приручить черепаху — не растратятся человеческие чувства.
А то вдруг (иронически думала) да растратятся еще!
Но — завела.
Черепашка была маленькая, в сером рифленом панцирьке, глаза пустенькие, кругленькие, где-то уж такие видела, язык красный, зубы как у щуки, и лапами кривыми до стены: туп, туп, туп, разворачивалась и опять, снова — туп, туп, туп. Чудище! Или поднимет голову и замрет слушая: «Где ты, где ты, где ты, друг любимый мо-ой?» Или (если по-другому у хозяйки шли дела): «Ой, ой, ой, чего это там за стеной?»
И так далее.
Развлекалась.
Сидели в своих панцирях и ждали.
Заводили вот даже любовников.
Петя Зубов, например. Тот самый. С аглофабрики. Богатенький, красивый, умный, цветы дарил, духи, варежки. Да беда вот — семейный. А семья — это свято! Делал такое лицо: свя-то! Губы сжимал. «Жена, — говорил, — у меня хорошая…» У всех у них, понятное дело, жены хорошие. А как же! Правда, Петя даже как бы и мучился. Вот, мол, и тут, и там. Нехорошо. А она ему не помогала. Ему «нехорошо», а она хоть бы хны, не помогает — не говорит: да брось ты, Петух, расстраиваться, не бери в голову! Не мучься, однова ведь живем! Не помогла! И теперь вот у него уж другая — для души.
А второй любовник был шофер. Васька. Этот был ничего. «Айда купаться?» — «Айда!» Простой человек, морду за нее бил. Но и он уполз, как черепаха в траву. Приходил ночью, морщился на себя, а спирт просил. Спирту не жалко, но Васька застыдился в конце концов и приходить перестал.
Так обстояло дело с любовниками.
А потом, живя далее, поняла: слухи преувеличены.
Можно и одной.
Можно это даже полюбить — одной.
К тому ж если у тебя священная есть черепаха и ты научилась вспоминать.
Все тот же сентябрь, и в мединституте у них диспут. Аким сам предложил пойти на него вместе.
Ох, как это было!
Народу полно, диспут называется «Мозг и психика».
На сцене стол в красной скатерти, у края ее кафедра, а за столом президиум из преподавателей — в центре Попцов, декан Катиного курса, физиолог и почти доктор наук.
— В прошлый раз, — говорит он, — когда наши местные фрейдисты потерпели полный разгром… — И Катя смотрит на Акима, не тяжела ли ему такая манера. Будто ей отвечать и за институт, и за Попцова, и за все, что здесь сейчас будет.
Но Аким спокоен, он слушает.
Выходит на кафедру Титаренко. Или — Титарь. Тоже со второго, с Катиного курса. Лидер этих самых затюканных фрейдистов. Адепт, так сказать, и апологет.
— Фрейд просил, — как бы запнувшись, начинает Титарь, — просил, чтобы те, кто не хочет понимать, вообще его не читали!
И Титарь косится слегка на Попцова — вот так, мол!
Зал шумит: как это? как это? как это?
А Попцов, здоровый мужик (играл когда-то центрового за сборную города), усмехается: какой наив! Это ж наука. Какие такие могут быть просьбы! Есть — есть, нет — нет. Наука!
И в повадке у него серьез, а щеки брылями.
Кроме всего прочего, он ведь и со стипендии может снять.
А у Титаря голос невычесанной шерсти — сваляный, пыльный, с репьями и хрипом. Он играет маленько, показушничает, но волнуется по-настоящему. И ясно, дело тут не во Фрейде, дело в несогласии. В красоте несогласия.
— И потом, — говорит он, — я не помню, когда это нас разгромили.
Смелый все-таки парень Титарь!
А через проход, где группкой засели остальные «фрейдисты», мальчик-первокурсник, глядя в пол, выкрикивает вполголоса: «Есенин был алкоголиком! Есенин был алкоголиком!» — тоже, видимо, в защиту поруганного Фрейда.
Но поутихло.
Выступили отличники со старших курсов, члены научного студенческого общества: про ретикулярную формацию, про опыты Зиммермана с крысами, про Ивана Петровича Павлова. Все пошло, как принято на таких диспутах. Но зал, видать, разбередился. Там-сям катались по нему диагональные шумы, что-то будто наметилось и уже могло. Могло! Титарь заложил-таки живую ноту.
И вот рядом с Катей поднялась рука. Белая, сильная, с ясными мышцами под тонкой кожей. Его. И сердце взбухнуло, и ударило, и стало слышно, как оно бьет. А Аким стоял уже на сцене, склонясь к столу президиума, и спрашивал что-то у завкафедрой психиатрии, скромной библиотечного вида женщины, сидевшей с краю.
— Громче! — крикнули из зала.
— Я спрашиваю, — повернув лицо в зал, отчетливо сказал Аким, — что является методом в психиатрии?
Вот это-то она и рисовала себе потом раз за разом. Сцена, на ней люди, а среди них Он. Ясный, точный и законченный, как узор снежинки или дубовый лист. Там, рисовала, на озере, на мостках, где, покачивая плечами, он бил перед нею чечетку, и вот тут, рядом с красноскатертным столом, с Попцовым.
Психиатрине не нравилось, что ее спрашивают. И кто? И зачем? Но диспут — это диспут, как сказал бы сам Попцов, — пришлось ответить.
— Ну, эксперимент, наблюдения…
Катя встречала ее потом, здоровалась и почему-то стыдилась, будто в чем-то провинилась перед ней навсегда.
Аким сказал: «Метод — это…» И процитировал, кажется, Канта или, может быть, Гегеля, она тогда не запомнила кого. Зато запомнила, как он это сделал: просто, ясно, так, что даже, наверное, она его поняла. Метод, поняла она, — это то, что рождает Новое. И в зале, чувствовалось, тоже поняли и маленько вроде растерялись. Ведь одно дело экзамены сдавать по философии, а другое вот так.
«Сам ты мой метод, — подумала она тогда. — Метод ты мой любименький!»
Такова была дурища.
А потом еще… Жизнь, сказал он, с точки зрения второго закона термодинамики, вообще явление Невероятное!
«И невозможное возможно, дорога дальняя легка, когда мелькнет в пыли дорожной…» Ах, как это было хорошо! Все так, думала она, все так! «Дорога дальняя легка…» Так и надо. Именно так. Именно так.
А в зале молчали.
И Попцов молчал.
Он сошел со сцены по трем ступенькам. Раз, два, три. В почтительной, почти испуганной тишине. И шел, шел по проходу. И сел рядом с ней.
Она, бедная, и не знала — что?
А на другой день девчонки из группы налетели: ну, парень, вот так парень! А кто он, Катька, кто?
ОН, подумала она, это ОН.
И все.
В Волчью Бурлу она попала по распределению. Куда послали, туда и поехала. Но предполагалось, не явно, а так, в подспуде: начнет здесь, потом ординатура, аспирантура и лет через десять: фыр-р! — взлетит. Мадам Юдина[13], нумен-суперсайентист, резекция желудка тридцать две минуты. Ну, тридцать три. Мраморный зал, зеркала, и она в длинном до полу лиловом платье, потрясенные сухощавые академики целуют ее руку в перчатке до локтя. Было. Было и другое. Хотелось, например, и просто нужное дело делать. Но и это было. Ходила в морг, редко, правда, все ж таки район, оперировала трупы. И запах, и на лица смотреть… но крепилась, мучила себя. Вязала на спинке стула узелочки простым, морским, хирургическим. Тряпочки сшивала в верхнем ящике стола. Вслепую чтоб. Тяжело в учении, и прочее. И в книжном магазине ее знали: «Вот, Екатерина Ивановна, не хотите ли?» Хотела, все хотела. Выписала три хирургических журнала: Москва, Ленинград, Киев… А как же?! Готовилась. Выращивала себя, поливала. Если, мол, с личной жизнью так, это еще не значит!.. «Скажите, Екатерина Ивановна, а что помогло вам стать такой знаменитой?» — «Что? Ах, что помогло?! Да так, знаете, одно обстоятельство…» И посмотрит этак с экрана в глаза ему. Жаль только, нет там в полуподвале телевизора.
Счастье, прочитала в какой-то книге, — это когда развиваешь качество, дающее превосходство. Ясно? Наполеон тоже, мол, начинал с изучения пушечки. Тщательнейшего! И чем кончилось?
Бить, бить в одну точку. Бэм, бэм, бэм! Настойчиво, целеустремленно. Стремиться!
…А потом был Сева.
Аппендицит на фоне диабета.
Чуть не с трех лет кололи ему инсулин, и в двенадцать он выглядел как второклассник. А может, в самом деле он учился во втором. Она не спросила. Много ведь, поди, пришлось из-за болезни пропустить.
Хотя Сева был умный. Ему вообще, наверное, можно было не учиться.
А капля гноя в такой живот — граната без кольца.
И взорвалась граната. Не пощадила ее, Екатерину Ивановну.
— Если б вы знали, — сказал он как-то и отвернулся к стене; она так и не поняла — о чем.
А потом, дня уже за два:
— Я умру…
И опять отвернулся.
Лежал маленький, недорослый, как ранетка. Мальчик-старичок. Уходил из своих глаз, уплывал.
И уплыл.
Стихло.
И лиловое ее платье, и мраморный зал, и вся лестница, ведущая вверх к самому полуподвалу… Надулось и лопнуло. Зеленым болотным пузырем. Качество, дающее превосходство.
Даже возненавидела поначалу. И себя, и все это белохалатное фарисейство. Омерзело. «Доктор, мне сегодня что-то хуже!» — «Что ж, милый, это же болезнь!» А следующему или тому же на другой день: «Доктор, мне сегодня лучше!» — «Ну, а как же! Мы же вас лечим!» И на полном серьезе.
Мало — во всем так! Сами себе про себя… какие все хорошие.
Жрать, хватать, еще кусочек, еще. Денег, славы, речей на могилке, саму могилку, где похоронят — там или вон там… и все заботушка: как бы не обошли, как бы не обделили!
Господи, да зачем?
Маленький мальчик лежит в земле. Вы, вы не смогли его сберечь, и вы еще чего-то там… рассчитываете? Недодали вам чего-то?
Ладно!
Успокоилась понемногу.
Никто ведь, в сущности, не виноват.
Но хоть глупость-то свою понять, хоть подлость.
Гляди вон: трава, листья желтые. Пахнут.
Женщина улыбнулась — твоя, ты вылечила. Ну, не вылечила, подтолкнула плечом, и вот… улыбнулась.
Не хватит тебе?
Хватит, хватит.
А в том сентябре еще к нему приходила. Еще раз.
Опять улыбнулся: пришла! Просил остаться (гости были), вот, сказал, знакомьтесь, это… и забыл, как ее зовут. Смутился, покраснел, а она испугалась (будущее предпоняла), но ничего, виду не подала, сама представилась: Катя, Катя. Катя. Третьей в круге была женщина. Красивая, взрослая. Сидела на диване, нога на ногу, а руку пожимала — ладонь пружинкой, горячая, и глаза ласковые, посмеиваются: «У-тю-тю, девочка!» И заговорила, потек ликер, сладко, липко, но и она, Катя, тоже не сробела, — да-да, мол, спасибо за приглашение, я в другой раз, извините! — и ушла. И бродила потом по двору, у гаражей, у трансформаторной будки, и видела, как выходила эта баба, как шла, покачивая замшевыми рыжими бедрами. И все тут, тут, в Женькином Дворе. Где еще недавно летали летучие мыши.
И ночью написала письмо. Единственное свое на эту тему.
Акиму Алексеевичу Мокшину.
«Я все понимаю, — писала (и ревела, конечно), — я все понимаю, но что если я Вам нужна, а я буду всю жизнь, потом всю жизнь о том жалеть…»
И вот идут он и она, скверик за памятником Ленину, серый асфальт и скукоженные желтые листочки. И ломаются с нежным хрустом листочки, косточки ее, и пахнет, пахнет умирающей травой, и голос его коричневый мерзнет в словах.
Черное, Белое, — говорит он. Добро, Зло. Добро переходит в Зло, а навоз нужен, чтобы выросли деревья и цветы. Нет одного без другого, и сама Земля, чтобы знать — есть еще Небо. «Понимаю!» Но Смерть, — говорит он, — но Ложь, но Подлость! Видеть, как предают, как обманывают, лгут, лгут себе и друг другу, и жить, посмеиваясь или покачивая в осуждение головой. Хоронить и жить дальше. Видеть, понимать и все равно жить!
Или не видеть?
Не жить?
И смотрел, смотрел, страшный, в самые глаза.
Не знаю, пожимала она плечами, я не знаю.
Знаешь! — аж закричал. Знаешь. Жить… Жить — подло! И ты знаешь, ты сама ко мне пришла. Ты согласилась. И ты пришла. Сама…
Остановился, схватил за плечи, и в глаза: знаешь!
Бледный, ах, какой бледный!
Она и не слушала. Ступала. Кусочки листьев липли к чистому асфальту. Кончилось, думала, все кончилось. И ничего-то он не понимает, умница. Ни-че-го.
Я выбрал, кричал он. Я выбрал. И ты выбрала! Ты тоже. Ты живая, а значит — предашь.
А в ней уже все ждало, когда же он уйдет.
Напрасно он так кричал.
Вот уйдет он, и ударит ее это, и повалит, и, может быть, даже убьет. Где-нибудь здесь же, на одной из этих лавочек.
Но он вдруг притих, отвернулся, и ПРОСТИ МЕНЯ сказал, ПРОСТИ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ.
Она молчала. Она ступала и смотрела на листья.
А не сможешь, снова заорал, ТАК мне, стало быть, И НАДО! Я ведь НЕ ЖАЛЕЮ. Понимаешь? Не жалею, что ты приходила. И вообще — ни о чем. Нет!
И ушел.
И ветер стих.
И деревья вытянули ветки в редких своих листочках. И зазвенели.
Она села на лавочку и тоже замерла.
И я не жалею, подумала. И я.
— …Ленка! Я сегодня иду отдаваться!
— Ой, что ты! Ой, Катька! Ох, ненормальная… кому?
Дело на лекции по гистологии. Бу-бу-бу, читает преподаватель. Из чего состоит живая клетка, когда она мертвая. На предпоследнем ряду, в сторонке, две девушки. Катя и Лена, и одна из них, Катя, шустрая. Лихая баба. Бабец.
— Есть тут один, — шепчет она небрежно, — тип. Со всего района бабы бегают. Вот и я… желаю.
Грубо, конечно.
Зато решено.
Ленка, хорошая, в общем-то, девка, вылупливает на нее голубенькие свои глаза. Шутит, мол, подруга или так, придурь?
— А как же Женя? Как же Женя?
А так. Никак. При чем тут Женя-то?! Не замуж же она идет! Разница понятна? И потом, Жене она не нужна. Ему Нефертити подавай, мадонну Сикстинскую. А она, извините, не мадонна! Ей девятнадцать уже, и… господи, да откуда ж я знаю, но отчего ж, отчего ночью такая тоска? И хватит, решено. А Женичка — так его мама ее звала: ЖЕНИЧКА — пусть будет целенький. Пусть! Пусть!
— Ой, Катька!
Заладила.
«Живая, а значит — предашь…» Вот оно!
Что ж, и предала.
Потому, если оно, ЭТО, в ней есть, а делать вид, что нету, то кто же она, делая-то вид? Грех грехом и будь. К чему же врать, обряжать?! И еще, липконькое, шевелилось сбоку: а правда ль-де, что такой уж растакой этот-то? Неужто в самом деле понял что-то, умник?! Что-о? И еще одно, Последнее. «НЕЛЬ-ЗЯ!» Вот оно-то и притянуло пуще всего. Почему ж, дескать, так уж и нельзя?! А может, можно? Сама свершу, сама и расплачусь за себя. Это уж после, потом… через тыщу и одну ночь дотумкала: никакою не собой, не сама. Женей! Им, им. Кровию его, агнца жертвенного, заплачено.
Подошел парень с усиками, улыбнулся. «Ну чего вы, мадам? Глядите, какое солнышко!» И рядом, и руку, само собой, на спинку лавочки; так вроде бы, случайно, от раскованности. Но солнышка-то как раз и не было. Было холодно, и деревья, топольки и березки, изо всех сил тянули свои ветки — выдержим, выдержим, выдержим!
Выдержим.
Зачем вот только?
Подул ветерок. Парень проследил, как задрался плащ у нее на коленках, и рука со спинки лавочки коснулась ее плеча.
Господи! — скучно.
И когда уходила, сзади грянул смех и одно знаменитое слово.
Ну и правильно — а чего она?
Научилась одной.
Пожила, попривыкла… Черепаха ее была пока при ней.
К телефону не бросалась, стука в дверь не ждала, и праздников не ждала, и хорошего кино по телевизору. Работала. Научилась. Без подвигов, без грандиозных планов. Просто. На операциях руки сами делали, только не мешать, и знала уже теперь: хочешь, чтобы тот, о ком заботишься, выздоровел, если вправду, если до самого-самого донушка — будет! Выздоровеет. А о себе жалеть не надо, вообще о себе — поменьше, все само к тебе возвратится и придет: и силы, и надежда, и то, что одно почти и нужно человеку на белом свете, — любовь. Вообще… ко всему, ко всем. Благословение твое. И когда думала так, в душе в самом деле порой ширилось и светлело, и было не страшно, и хотелось еще и еще. И любви, и делать, и всего, всего.
Вставала в семь, жарила глазунью, потом пятиминутка («Почему опять вместо горчичников Холодковой банки?»), обход («Ну-у, как у нас сегодня дела?»), потом, если были, операции, перевязки и снова, если не дежурство, домой, в панцирь, в дупло, восвояси.
Сдвигала шторы, тушила свет и черную большую пластинку осторожненько на серый круг — «Тыдымм!..». И с краю, из тьмы подкрадывалось, росло, и еще, еще, и вспыхивало, и рвалось, И валилось вниз, а потом, утомившись, успокаивалось, сливалось и будто ждало: будет, будет, будет!
И было.
— Катенька, что ты? Ну, Катенька! — плакала мама, гладя по плечу. — Ну, чего ты, Катенька!
Шли шестые сутки после той беседы в скверике, и Катенька не спала. В бровях, под ногтями узенькие такие щели, в них заползают рыженькие маленькие муравьи, а в позвоночнике тоже зуд, и туда они тоже лезут. И голова изнутри светится, и будто болит, всплескивается там с болью какая-то бутылка, и в глаза давят пальцы, шершавые чьи-то и горячие, а Катенька умирает и тянет изо всех сил рученьки свои — выдержим, выдержим, выдержим.
Мама вызвала скорую, «психушку» — сделали укол» Если, сказали, Катенька не уснет, пусть приходит на прием к психиатру, в кабинет номер восемь.
Нет, не уснула все равно.
И пошла, мама повела, в восьмой кабинет.
Красивенький, сытенький мужичок в квадратных затененных очках (они только входили тогда в моду) шутил с ней, играл баритончиком, отзывал в сторону маму: «Любовь, да? Любовь, наверное?» Выписывал с росчерком рецепт, толковал, старался быть любезным. А на прощание улыбнулся: «Влюбитесь!» Клин, мол, клином. И в кого — тоже ясно. В кого же еще-то тут?
Уснула. Таблетки в самом деле помогли.
А проснулась — странно! Первое ощущение: а что, собственно, произошло? Об чем речь, товарищи? Будто и не было — не бывало никаких страданий-муравьев. Жалко даже. И тут еще сюрпризом: аборта тоже не надо. Обошлось.
Все обошлось, и все миновало.
А психиатрик всерьез стал делать вокруг нее круги. Раз сделал, два… Цветы принес (от пациентки, видать), хотите, говорил, в поход с вами сходим? Гитару возьмем, я на гитаре могу, и товарищи у меня богатые внутренне люди, а? А?
Нет, не пошла в поход.
И цветы тоже не взяла.
Но на душе полегчало. Будто мутило долго и вот удалось наконец стравить. И даже турист-психиатрик сообразил вдруг и отстал, хоть и не знал, разумеется, чем это он может не понравиться.
Во мне еще много, подумала она тогда, я еще поживу!
А Женя уехал.
И это тоже, конечно, помогло.
Потому что когда другому хуже — легче со своим.
Все… Кончилась музыка. Иголка ходит по пустой канавке, вспышивает в стереоколонках: пыш-пыш, пыш-ш. Теперь встать, включить свет, сунуть теплую пластинку в скользкий мешочек, и в коридор — пойдем-ка, Катенька, гулять! В коридоре тесно, едва повернешься, но и это хорошо: дупло, стены близко, панцирь ее, берлога. И по лестнице вниз, хлопая ладонью по тоненькому перильцу. Сей, сей семена с утра и руке до вечера не давай отдохнуть, ибо не знаешь… И не думать, не думать. Хватит! Ибо не знаешь.
Ах, прогулки по Волчьей Бурле!
По улицам — медленно, медленным шагом, втягивая косом запахи земли…
«Здрассте, Катерина Иван-на!»
«Здрассте!»
Чего тебе еще?
Свой человек в своем городе. Матерый Волк Бурлак.
Волчица Бурлачица. Сме-е-шно! Самой же и смешно.
А то и в лес. Зимой по снегу, по тропинке, летом в горы, по дороге, а осенью, в сентябре, по тротуарам, по желтым высыхающим листочкам.
И не жалеть.
Не жалеть.
Накануне снилось: девятый класс, Город, и Женя купил им, себе и ей, щенков, семимесячных двух курцхааров. Обручиться! Обручиться — ведь они поклялись.
Гибкие, странные, несутся курцхаары по незастроенному полю за маминым домом, круг, еще круг, еще, а в середине, замерев, стоят они, жених и невеста, Женя и Катя, обручаемые навек. Прыг-прыг-прыг, дугою поджарые тела, стег-стег-стег, коричнево-серое кружево, и хлопают мягкие уши, тянутся острые лапы — в честь, в честь, в честь жениха и невесты! И впереди Катин, а позади Женин, и Женин кладет на спину брату легкую морду, чистую свою морду…
Ах, Женька-Женька-Женька!
И темь, и тишь, и слезы по ушам.
Вернулся тогда с моря и простил ее. Она себя не простила, а он простил.
И все эти годы, все… знала: сними трубку, скажи только — приезжай, слышишь, Женька, приезжай! Приедет. Сразу. Не мешкая. Пешком, вплавь, один на всем свете… Женичка.
Но нет, не позвонит она, а он не приедет.
Слишком много всего. И стен, и рвов, и прочего.
На работу вышла рано. Загодя.
Брела потихонечку, внюхивалась. Вот, думала, листья умирают, а свежо, как будто начало. И у больничных ворот дядя Ваня, возчик, хлопнул ей в знак приветствия вожжами и улыбнулся, тоже будто что-то сегодня обещая. Спина у лошади блестела влагой, как росой.
Операций плановых не было.
Поутру сходила с Козловым на обход, а потом по очереди в перевязочную. Вначале чистые перевязки ее, потом Козлова, затем гнойные снова ее, снова Козлова.
Йод, мазь Вишневского, человечина… Хорошее это дело — перевязочная!
И на гнойных заглянула Лена:
— Катерина Ивановна, вас вниз просют.
Кто бы, кто бы, думала, родственники чьи-то? А сама уже неслась, почуяв, тьфу-тьфу, не сглазить, сон в руку, сон в руку, и разве может на свете такое быть! По лестнице («Здрассте, здрассте!..»), мимо приемного покоя, где заулыбалась толстючая Клавдия Васильевна, и в тамбуре меж дверями споткнулась, ударилась плечом об косяк, и сердце не выдержало, грохнуло с крылечка: бах! и покатилось по ступенькам осколочками. Отменили, отменили ему, сердцу, смертный приговор!
Стоял у ворот, в курточке, тот же самый на затылке вихор, и смотрел на нее…
Женя.
АКИМ
Дверь гостиницы, за которой исчез Женя, была в резных завитушках, вся в потрескавшемся темном лаке, а ручка рифленая с длинной, похудевшей от тысяч рук талией… Расчет был довести Женю до номера (мало ли?), но ресторан уже закрыт, и тех, кто тут в гостинице не живет, за порог не пускали, за резную эту дверь. Швейцар, отстранившись, дал Жене дорогу, а ему преградил, для верности толкнул даже в грудь — неча, неча, мол, ходют тут всякие. Захлопнул перед самым носом. Хоть и брал, скотина, водку два часа назад, хоть и тот же самый швейцар. Стой вот теперь, гляди на эти завитушки, на довоенное сие рококо. А губы, как в детстве, тянутся еще в улыбку («Ну пропустите, дяденька, ну пожалыста!..»), а водка, остаточки, догорает еще в крови да со дна откуда-то поднимается уже муть, которой и не надо бы, ох не надо бы сейчас подниматься. Развернись и уходи побыстрее. Дома, как он услыхал про эту Катю, сам от себя спрятался — потом, потом, не сейчас же о том думать, перепугался. Спать, решил, пойдет сегодня к Карине, и не думать и не вспоминать ни о чем. Так себе решил в голове. Проводит Женю, погуляет чуток и к ней двинется, к Кариночке. Испугался, стало быть, всполошился не на шутку, лысый хрен. И было отчего. Когда Женя рассказывал, в руке его вдруг вспыхнул синий шар — большой, размером с волейбольный мяч — и трахнул, ударил в лицо, в самые куда-то глаза. Как будто электрический разряд или молния шаровая… Кто знает, может, и шаровая. На секунду даже сознание пропало: и тишина, и темень в глазах с зелеными поплывшими пятнами, и стук еще какой-то вдалеке, деревом словно по дереву. А после оказалось, опять они за тем же на кухне столом, и Женя все еще рассказывает и кивает сам себе головою, как старушка. А возможно, что и померещилось. Все возможно. Да только вот Женя теперь ушел, и швейцар ушел, и стой теперь тут перед чужой дверью дураком, и гнусно. Что ж, пошел к остановке. Если бодрым шагом, до Карины здесь минут тридцать пять, но не хотелось, однако, пешком, лучше троллейбусом. И глаза, и голоса все-таки, и кто-то, может, спросит про время. Сколько, спросит, сейчас времени, и скажет после «ага» и кивнет. Предночная уютная жизнь городского транспорта. Приготовился было ждать, но почти тут же выкатил из тьмы знакомый улыбающийся троллейбус под номером 5 и подставил дырявой дверью бок: садись, Аким Алексеевич, чего уж. Сел. Свободных мест было много, время-то позднее, имелась даже возможность занять место у окна на предпоследнем сиденье, на любимом. Уселся, отер рукавом испарину со стекла, комфорт так комфорт. А ведь Карина ему вовсе не обрадуется. Не-а. Иди, скажет, уходи отсюдова. Или хуже: а-а, скажет, это ты-ы… Явился не запылился. С легоньким как бы презрением, устало даже. Но он все равно не уйдет, стерпит. А ей не хватит злости его не впустить, не хватит, не хватит, поди. И сядут они в ванной, рядышком, так просто, незаметненько, не он вроде бы и не она. Покурим? Покурим! Отчего ж не покурить. И покурят, покурят. Ну как, спросит он, как тут у вас Сашка поживает? Ох, Сашка, закачает она головой, ох уж этот мне Сашка! И зевнет. «Сашка опять…» И разговорится, разболтается, и про работу свою, и про кто что сказал («А я прям так ей и ответила…»), развеселится даже, расхохочется мелким по крыше дождичком. И он подождет немного и примется ее целовать — молча, молчи, помолчи-ка, да замолчишь ты или нет наконец? А там: или — или. Как у нее настроение. Ладно, думал, хватит об этом. Что будет, то будет. Все равно.
За окном ночь. Фонари мажутся по стеклу светлыми длинными кляксами. Катит троллейбус, покачивает своих пассажиров.
Вон женщина георгины везет. Мест свободных полно, а она не садится, стоит с букетом своим, задумалась. О чем, спроси, думаешь-то, — сама не найдется ответить. А красивая! Красивая, хоть и не молодая уже. И не злая, спокойная красота, без раздражения, без тревоги, тихая. И георгины под стать — розовые, тяжелые, будто все еще влажные. И ковыльная тонкая травка вокруг. С дачи, наверное, едет, припозднилась. Муж откроет, у-у, скажет, припозднилась-то как! А она ему в нос букет — видал?
А пьяный спит. Тоже домой, видать, добирается. Привалил к окошку голову и спит себе. Спи, спи, пьяный, не просыпайся пока. Может, сон тебе вещий приснится!
И все-таки… что там за Катя еще за такая? Неужто вправду он забыл? Или нарочно? Очень хотелось забыть, очень уж гнусно на себя было — и забыл. Забыл.
В день, когда голодал я,
Ко мне, виляя хвостом,
Голодная подошла собака
И морду ко мне подняла.
«…И глаза — глаза, омытые будто дождем изнутри, чистые, ясные…»
Нет, не помнил он. Забыл… Забыл.
А Женька (усмехнулся) — странный все ж таки парень! Через десять лет откуда-то оттуда, из конченного вроде, из окончательного, приходит, здрассте, тот же самый Женька, приходит и говорит: ты, говорит, — подлец! А ты подлец… Молодец, малыш! Браво. Так нам, подлецам, и надо. А какой был мальчинька-то. Сыночек маменькин. Даже не маменькин, мамусенькин. Пухленький, кучерявенький, ка«хрл»тавил, букву «р» не выговаривал. Пузырьки от духов собирал. Женечка, Женюрочка. «Хрл, хрл, — полоскали горло, дразнили пацаны, — эй, пахрлашют!» А он обижался, маленький. «Ну что, ну что, — плакал, — хрлаз у меня такой похрлок!»
Порок, вишь, у него.
Теперь ничего, чисто разговаривает.
Победил свои пороки.
— Э-эй, дай нюхнуть!
Ага, это пьяный проснулся. Выспался, дружок.
— Слышь, ну дай нюхнуть! — морщеное личико прозрело и тянулось к цветам. Человек желал понюхать цветы.
Женщина с георгинами заулыбалась.
— От тебя и так хорошо пахнет, — молвила она. Как-то даже ласково, будто рукой погладила.
— Дай! Ну дай! — оживляясь на такое отношение, загнусавил тот и, желая, видно, повеселить ее, распустил мокрые губы. В игру такую играл: «Сильно пьяный человек».
Женщина рассмеялась. Смех низкий, приятный, с хрипотцой. Георгины качали розовыми головами и тоже будто посмеивались.
— А ведь трава у тебя для мертвых! — брякнул вдруг пьяный.
Женщина, не досмеявшись еще, повернулась и поглядела на него с вопросом. Шутка, что ли? А мужик, будто дело сделал, прислонил опять голову к окошку и успокоился, закрыл глаза.
Плохо, плохо это… Про траву.
И пора уже выходить.
Встал, радуясь, что что-то надо делать, идти вот, пошел к передней двери, а пьяный (словно ждал) поднял голову и громко на весь троллейбус выкрикнул вслед ему: «А ты, л-лысый, не умрешь!» Совсем уж как-то безобразно. Но он справился, не оглянулся. Пусть, подумал, пусть, все равно уж. Дверь отворилась, и грузно, с приседом, он соскочил на мокрый асфальт.
— А-а, это ты, — сказала Карина. — Пришел?
Пришел, двигаясь было в ванну, кивнул он, но она остановила его. «Раздевайся!» — раздевайся, присжала руку повыше локтя, раздевайся, раздевайся. И это тоже ясно: кофе на кухне, беседа, Акимушка и все остальное. Бывало, отчего ж, бывало и так. Реже, правда. И вот нежданно-негаданно потянуло вдруг в горле; задвигался, заопускался там лифтик — слабый, запуганный, уставший человечек, и вот впустили, приласкали… Еще немножко, он в самом деле расплакался бы.
Ладно-ть! Разулся, надел шлепанцы с дыркой над правым мизинцем (от мужа, еще ее) и следом за хозяйкой на кухню. Как и положено по программе:
— Ну как Сашка? — усиливаясь голосом и усаживаясь на обычное свое место меж столом и холодильником, спросил: — Что новенького?
И опять усмехнулся на себя. «Как дела? Что новенького? Как жизнь?» Приехали-таки. Научился. Укатали сивку крутые горки.
Карина ставила на плиту воду в знакомой серой кастрюльке. Для кофе. По вечернему японскому ее халату летали золотые птицы.
Сладкоголосые птицы юности. Фэх-х… По широкой ее спине.
— Ну как же Сашка-то? — повторил он вопросец. Голос уже звучал потверже.
— Ждал тебя, — обернулась она с улыбкой. И фраза, и в особенности улыбка явно были заготовленные. Нежная такая улыбка с принахмуренным лобиком. Как бы страдающая, как бы понимающе страдающая, но никого не судящая, что вы, нет-нет, никого не осуждающая. Жертвенная как бы. Ох, черти! А ведь он опять чуть-чуть не попался! Как же. И тепло, и впустили, и даже маленького приласкали. Как не попасться? Даже и выгодно. Будь попьянее он сейчас, так и вышло бы оно. Скушал и спасибо сказал. Растроганное. За живое движение «сострадательного человеческого сердца»! Ага. «ЖДАЛ ТЕБЯ…» Ну да, и едва как бы заметный в голосе укор, и лицо — горьковатая нежность. Улыбка горьковатой нежности. По телевизору, видать, что-нибудь такое показывали. Как «она» — кроткая и все терпящая, а «он» ее обманывал. И ведь знал же, всякий раз знал наперед все эти ее «возможности» и все равно сам себе опять и опять наряжал елку. Наряжал и (специально, что ли?) забывал потом, что сам. Каждый раз фальшь первой же фальшивой ноты нарождалась для него будто впервые, и он заново еще и еще ее опять переживал. Как дурак. И главное, главное, плебейская эта хитрость на ладони — «ЖДАЛ…».
Но глупо было на нее злиться.
На золотых ее птиц.
Сашка, поди, в самом деле ждал. Поверилось почему-то. Или хотелось уж очень опять поверить?
А она подошла уже к нему, прислонилась коленками: «Акимушка…» И снова в горле потянуло.
— Ты сказать чего-то хочешь? — выдавил. Рука ее забралась к нему под свитер, к шее, поглаживала, пощипывала там кожу. И пошли, шли, ползли уже мурашки по позвоночнику — будет, будет, вечное его, убогое его БУДЕТ, и не спрятаться и не остановить. — Ты… — голос захрипел, — Ты сказать чего-то хочешь? — И он прокашлялся.
— Хочешь, — сказала она. — «Хочешь» сказать.
Шутила…
— Ну? — и будто не заметив сам, положил на ее бедра руки, не выдержал. Широкие, крутые, и шелк халата, и то самое, ускользающее, лопающееся под заслабевшими сразу пальцами.
Но она отстранилась.
— Послушай!
— Слушаю.
— Правда слушаешь? Ну погоди-ка… потом, погоди!
Она обдумала его предложение. Какое? Ну то. Предложение выйти за него замуж. И она согласна.
Так.
— Но, — тут она лукаво улыбнулась, — с условием! С одним только условием.
— Ну? — Он знал, какое условие.
— Ты должен сменить работу.
— Да? — Он смотрел на нее.
— Да, да, да.
Не может же она (сказала она) быть дворничихой! Ха! Смешно подумать. Хоть и много их теперь, умников дворников, развелось. Не может же она! Нет, не может. И мама сказала. И папа.
«Домой, что ли?» — подумалось. Ночь, холодно, ветер в перекрестках… Троллейбусов уже нет, поздно. Идешь, а листья мокрыми тряпочками по асфальту, идешь, а они молчат.
Прижавшись к моему плечу,
Среди снегов
Она стояла ночью…
Такою теплою была ее рука.
Нет, нет, только не сейчас, только не сейчас. Страшно. Опять страшно ему. Все равно уж подлец. Больше цветочком, меньше — все равно.
— Зачем мне менять работу? — будто не слыхав болтовни ее, спросил.
А рука сама уже к птицам на бедре ее — эх, веревочкой с причалившего корабля. Женщина — гавань, мужчина — корабль (и кто сказал?), корабль подходит к гавани и бросает веревку. Держи-и-и-ы! И левая рука его не ведает, что правая такая птицелюбка.
— Зачем мне менять работу, Карина? — спросил опять, чуть двигая ее к себе, на себя.
А она улыбается на него, глупого; на обеих щеках ее ямочки.
— Как это «зачем»? Люди ж смеются!
— Ну и что?
— Как что? Стыдно ж.
Сты-ыдно! Ах, вон что, стыдно. Ну да, она стесняется. Муж у нее будет дворник. Орать в троллейбусе «Середина же свободна!» она не стесняется, ей не стыдно. Влезть потом, втиснуться и снова орать, назад уже: «Куда прешь, пустой сзади идет!» — это мы пожалуйста, ничего, это нам не стыдно. Ох, милые, милые вы мои! В том-то и дело, в том и дело, что его грехи — это всегда его грехи, а она (кх-х) всегда, почти всегда невинна. Какую бы пакость, какое бы предательство… и… сама себе не заметит. Не увидит, сумеет или сможет «не увидеть». И потому она будет не виновата, а он ВИНОВАТ.
Вишь ведь (усмехнулся опять на себя), обидно стало. Завидки взяли. Вот до чего дело-то дошло.
— У меня же квартиру отберут, — выговорил наконец. В тот еще раз должен был сказать, в тот — когда замуж звал ее; да струсил тогда, сам не верил, что согласится.
А сна согласилась.
Ах, если б проскочили сейчас этот риф, — все еще, может, наладилось бы.
Вряд ли только… Слабо́ ей!
И опять представилось: холод, фонари… листочки-тряпочки на сыром асфальте… бр-р! Нет, неохота.
Она давно отошла от него, смотрела в окно. Золотые птицы так и встопорщили перья. Задумалась понимающая нежность. «Квартиру отберут…» Раньше, в забубенные еще годы, в ресторане, после отгремевшего веселья, он любил пригласить на танец самую толстую в зале женщину, самую чтоб самую, и молча — танец. И сдержанность, и значительность, и как бы тайная на лице печаль. Танго, танго, разумеется. И что ж? Ни у одной, самой пузатой, не зародилось на свой счет ни малюсенького сомненьица, ни такусенького, ни разу. Верили! Да, да, с ней, именно с ней-то и мечтал танцевать он всю свою жизнь. Остальные, до него, все, все, кроме него, просто ничего в ней не понимали… Слаб, чего уж, слаб человек. Легко ему себя надуть. Песня еще была в те годы: «Танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине…» Ну вот и закончилось танго. Непокорная синьорина глядит в окно, где раскачиваются облетающие сентябрьские деревья. Она решает его судьбу. Решает судьбу. «Квартиру отберут…» Квартиру отберут, плохая, конечно, полуподвал, но с ее полуторкой был все же для обмена вариант, а… втроем тут тесно, лучше уж вдвоем. И если он даже останется дворником, все равно меняться, выходит, нельзя, квартира-то, получается, служебная. Следил, как шли эти мысли по отраженному в оконном стекле широкому ее лицу. Словно электрические буквы над старым зданием горисполкома: «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВОЗРОСЛА…» Нет, видно уж, обождать еще надо. Авось вдруг кто-то получше подвернется, не дворник, она ведь молодая еще.
Ясно, ясно, читал он. Раз-любила, разлюбила назад.
Все! Вопрос закрыт. Все коты остаются при своих масленицах.
Ах, тоска-то какая, господи боже мой. Прямо тоска.
— Ба! А кофе-то!
— Да, да, кофе.
Быстрая струйка выпрыгнула из-под вздувшейся бурой шапки и забегала-зашипела шариком ртути по горячей плите. Ладно, не пропадать же напитку, думал с разгону за нее. Не пропадать.
Не гнать же его теперь на улицу!
Ну да, ну да.
Попили кофею, поулыбались.
Допили, доулыбались.
Не пропадать же.
Она ведь, Карина, тоже была из тех, из толстых. Не шибко чтоб толстая, скорее пышная, роскошная скорее женщина, но так совпало уж, так случилось, что в тот-то день она оказалась са́мой. На ней и кончилась красивая его привычка.
— Фэх-х! Поставь-ка на пять, — попросил он, когда в постели Карина подняла будильник к глазам. Она была близорука, а он не хотел опоздать на работу. Жизнь продолжалась, несмотря на.
Запах теплых волос, живой кожи, запах пойманной дичи и выдуманного его убежища, и страшно, страшно, и сперва до того, что чуть не разбудил было ее, королеву, раскинувшую по подушкам прохладные свои руки, спящую, по-королевски не помнящую свои дары. Но не разбудил, стерпел, и вот уж легче, легко почти… и вполне-полне можно ее, жизнь, продолжать. Лежал возле, Держался за прядь, за мягкий пучочек ее волос, сжимал его средним и указательным, а в окно заглядывала голубая голова луны. Ухватившись за прядь, — за бревнышко в океане ночи, матросом с потерпевшего крушение корабля, лежал. Ха! Вот тут-то и вспомнить бы ту девушку Катю! Левой рукой за Каринину прядь, а правую на лысый потный лоб… и думать, думать-вспоминать, и припомнить-ка себе все.
За ширмой у окна заскрипела коечка, заворочался там Сашка. «Ты зачем к нам ходишь? — вспомнился вместо девушки широкий Сашкин голос. — Скучно тебе?» — «Ага, скучно». — «А ты оставайся, не бойся, у нас хорошо!» — «Спасибо, Сашка, я подумаю…» — «Подумай! — И тащил, тащил за карман к своему столику: — Вот, гляди, как я рисоваю!» Да, да, и дом, и два окошка с кривыми рамами, и зеленые ставни, а сбоку труба, растянутой карандашной спиралью дым. Кто ж ее, эту картину, не узнает? Только слева б еще птиц, вот так, из крыльев дужек, раз-два, раз-два, а справа в углу солнце желтенькое, с лучами. Господи! «Сашка, Сашка, — прошептал он, — иди ко мне, подойди ко мне…» И тошнотой, трусливой холодно-потной слабостью поднялось по ногам, подступило к горлу, фэх-х, фэх-х… Встал и на высоких босых цыпочках пошел по шершавому ковру — туда, к нему, к Сашке. Горой к Магомету. Магомет спал, разметав в одеяле крепкие ноги с зеленкой на ободранных коленках, и подушка под горячей его щекой была смочена слюной. Глисты, вспомнил, жаловалась Карина. Глисты, наверное. Ну и что глисты? — спал сейчас Сашка. — И что? Не боялся ни с глистами, ни без. Спал, уважая себя, как отдельного человека. «Рисоваю…» И отбитым от борта шаром отскочил на кухню, в лузу свою, — в стул, меж столом и холодильником. Выбросило.
На столе в голубом, перекрещенном рамой ромбе стояли грязные кофейные чашки, пепельница с окурками и две оставались еще в пачке сигареты.
Закурил-с.
Над правой бровью буравчиком сразу ввинтилась боль, но не сильная, легонькая, почти приятная. Водка все-таки, кофе, и события, события, конечно.
На дворе лежал снег. Оказывается, пока он страдал, выпал снег и лежал, светясь на крышах, песке в песочнице и на листьях, не успевших еще как следует облететь. Холодно, холодно, поди, листьям-то! И как же это он прозевал снег? Местами снежинок не хватало: там-сям (где не хватало) виднелись черные дымящиеся в асфальте проплешины. Курил, смотрел, боль над бровью с каждой затяжкой усиливалась, но он курил и думал, к утру снег все равно растает (куда ж ему деваться в сентябре), и никто, кроме него, сидящего тут у чужого окна, про то не узнает. Был, и где он? И потом увидел большую серую собаку, похожую на овчарку, но не овчарку, дворняжку все-таки, с облезлым, испуганно поджатым хвостом. Задерживающейся тихой рысью бежала от мусорных баков, а за ней черными цветочками по белому снегу печатались отчетливые следы. Перед тем как скрыться, собака подняла голову и поглядела к нему в окно. Заметила, верно, огонек. Заметила и как бы кивнула, а-а, кивнула, это ты-ы, ну-ну, сиди, и потрусила себе дальше. Исчезла то есть.
И боль над бровью тоже вдруг будто растаяла, мягко затупляясь изнутри, и заиграли откуда-то скрипки и еще гобой. Потом стихло.
Он бросил в форточку недокуренную сигарету и потянул ноздрями снежный сладкий и чистый из нее дух.
…Поездов ночами было меньше, и снег к утру не успевал почернеть от копоти. Собирался, когда откроешь стайку, белой легкой возле нее кучей; бери лопату деревянную, кидай — так и разлетится снова на снежинки. И тянуло оттуда навозцем, сеном сопревшим, лучше запаха потом и не было уже. У матери черные блестящие резиновые сапоги. Она берегла их, редко надевала, такие были красивые. Дом по штукатурке окрашен желтой краской, а ставни в самом деле зеленые, как Сашка и нарисовал. Вечерами всей семьей садились за лото, и Нинка, сестра, кричала, доставая теплые деревянные бочоночки: «Тлидцать тли…» Мать проверяла у нее белые, в черных квадратиках линий карты и незаметно закрывала бумажками те, которые Нинка не замечала. Печку топили углем, старыми шпалами, которые отец привозил со станции на лошади. Лошадь звали Серко, а отец был путевой обходчик, контуженный раньше на войне. Потом, перед смертью уже, он работал составителем поездов, потому что немного вышел из доверия. Он говорил плохо, больше руками, да еще мычал: м-м, ммы, но глаза имел умные, про жизнь, казалось, ему известно все. И петь, когда выпьет, он тоже мог, и слова тогда выговаривались, и мать не ругалась на него, хотя сама же говорила, что пить отцу, контуженому, не надо бы, что больно сильно он, пьяный, расстраивается. Отец сидел, расставив по столу тяжелые локти, наливал себе, зажевывал капустой и пел: «Мой старший сын, старик седой, убит был на войне. Он без молитвы, без креста-а зары-ы-ыт в сы-рой зем-ле…» И когда начинался скулеж, уже и слезы, мать подталкивала локтем старшенького, иди. Он подходил, и отец клал ему на затылок горячую, потресканную, черную от угля руку. Ногти были на ней выпуклые, огромные, а концы пальцев не разгибались от долгой работы. «Малютка-а-а на-а-а позицию-у ползком па-атрон при-нес…» — выпевал тоненьким дребезжащим голоском отец, а после только уж шептал, сипел и всхлипывал, только кивал сам себе головою. И дышал, дышал в лицо сивушным, отстойно кислым, тошнотным. Когда он умер (вагонами раздавило в гололед), из города приехала его сестра Елена Михайловна, «мама Лена» потом, приехала просить старшенького к себе. Матери тяжело будет с такой-то оравой, а они с мужем обеспеченные, бездетные. Акимушке у них хорошо будет. За сына он им будет, в радость, в радость. Уговорила. Мать плакала, вытирала глаза, куда деваться, отдавала, сама, поди, собиралась вскорости помереть. Отдала. Он парнишечка смышленый, он учиться в городе будет, в институт, гляди-ка, поступит, а отец… отец доволен бы был, не к чужим людям, к сестре, чай. Увезли, а мать в тот раз не умерла. Перебрались всем табором в деревню к бабке, в деревню Лазаревку. Бабка еще тогда живая была.
А его увезли.
Дома… сотни, тыщи, а в них меж перегородками люди, бездны и тьмы. Не мог, не получалось постичь. Словно это черви на рыбалке: спутано, перепутано, как сами-то разбираются, кому куда?
И потом не постиг, перестал просто думать.
Как бы новое получалось рождение. Второе. Новые рождения после повторяются еще раза четыре, но не так уже заметно, не явно, для новорожденного-то. А тогда явно, куда заметнее. И запах другой, и цвет, и время. Скучал по матери, по Нинке, по младшим братьям, ходил на вокзал, смотрел, как уходили в их сторону поезда. Сбежит, сбежит, само собою, когда подрастет маленько, когда не обузой, не лишним ртом, а помощником вернется. Но дни шли, меняли шкурки, попривык, притерпелся, а там и успокоился. Маму Лену тоже жалко становилось.
Булочки со сливочным маслом, абрикосовый джем.
Сытое, серое, но не подлое еще по сути время. Мир божий, как яичечко, целенький, законченный; нет у тебя от него тайн, нет тайного недоброжелательства.
Муж мамы Лены подполковник в отставке. Шершавенькие холодные звезды на кителе в отполированном шифоньере. Усмешечка его пунктиром от завтрака до вечерней газеты. «Зачем убиваться-то?! С такою к себе любовью племянничек живо на шею к тебе сядет и ножки свесит…». Мудрость. Но мама Лена усмешечки мудрой не видела, не хотела ничего видеть. Словно дорвалась. Трепетала. Мужа обидеть не хотела, но трепетала, трепетала аж. Книжечки эти ее («У лукоморья дуб зеленый…»), иголочка с ниткой во вздрагивающих от нежности губах, теплое ее дыхание над ухом, чирканье мелом по плечам. Очередной костюмчик-матроска Акимушке.
О, де-е-е-етство! Пресловутое золотое. Фальшивая задушевность отвзрослевших дураков. Зевок в одну тысячу дней. Скучно, бесправно, зато тепло.
Однако вскоре перестал скучать. В районе открылась новая школа. Для разросшегося политехнического института построили за парком культуры и отдыха новые белые корпуса, а старое здание отдали под школу. Приказ гороно: всех живущих ближе, чем где учился, перевести! Школы сориентировались: избавились под это дело от «золотого фонда». Это был шестой класс, Акимушка учился прилично, его бы оставили при желании в старой 121-й школе, но наивная мама Лена привыкла уважать распоряжения. Бедная, как бы она напугалась, узнай, что на третий уже день два шпанюги-второгодника держали ее Акимушку за руки под лестницей новой школы, а третий, Чарли, бил его в живот серией. В поддых, по ребрам справа и опять в поддых. Красиво и без следов. А то еще пожалуется, пиджачок. Последнее, впрочем, зря. Не пожаловался бы. В деревенской школе, куда он ходил за восемь километров и где в классе с черной круглой печью в углу учительница, как шахматист в сеансе одновременной игры, занималась сразу со вторым и четвертым классами, жаловаться считалось позорнее, чем воровать. Чарли мог не волноваться. Но прощать Акимушка тоже не собирался. Придет время, тихо решил он, и все отсчитается назад. Вся красивая серия. Иначе — куда? Иван Сергеевич, классный руководитель, видно, догадывался про эти дела. Догадывался, но словно не хотел догадаться. Хлопотно, чай, было бы. Акимушка слушал на уроках (Иван Сергеевич преподавал историю) напористые его фразы и как-то чуточку уже усмехался. Однажды, когда те двое подержали его снова за руки, а Чарли плюнул за шиворот, он проснулся ночью и подумал: а почему, собственно, так уж надо быть хорошим? Почему не плохим. Живет же Чарли, и плевать ему, хорош он или нет. Лежал и думал. Завтра, думал, он ударит Чарли перочинным ножиком, подаренным мамой Леной, ударит прямо в классе, возле доски, чтоб видели, чтобы Иван Сергеевич видел, а Чарли пусть лежит на полу, скулит и умирает на глазах у всех. И когда представил — Чарли лежит и умирает на полу, понял: убить не сможет. Не из-за трусости или боязни последствий для себя (в гневе забывалось про то и другое), а еще из-за чего-то. Где-то в глубине души будто зналось откуда-то: убивать НЕЛЬЗЯ. Откуда, он и не пытался в ту пору понять, но чувство ощутилось, и он, не раздумывая, поверил ему. Он решил, что не будет убивать Чарли, и успокоился. В те дни он возобновил свои походы на вокзал. Стоял на переходном мосту, глядел на целующиеся железные пятаки буферов (они и раздавили отцу грудь, когда он поскользнулся), вспоминал желтый их домик и как они жили и немного плакал. Через десять лет в одном из знакомых дворов в центре города он встретит Чарли. С идиотски важным видом тот будет тереть тряпкой старый, явно вручную пересобранный «Запорожец», и по тому, с какой тщательностью и любовью это будет делаться, станет ясно, что машина у Чарли собственная. Подойти, остановить грязную снующую знакомую руку и отсчитать серию назад. В живот, в печень (по правой реберной дуге) и снова в живот. Один к одному. Зуб за зуб. Но — вот странно! — теперь ему не захочется этого делать. Он будет стоять и смотреть на Чарли, и не испытает к нему ничего, никакого чувства, даже брезгливости. Чарли вдруг окажется пустым местом, и дело будет словно в чем-то совсем ином.
Но нарождалось и другое.
Каток зимою… Изрезанный до канав желто-серый на поворотах лед, звенящий, шваркающий под канадами, дутышами, беговыми. Разудалая музыка из четырех репродукторов над большим полем, в раздевалках стук коньков по деревянному полу, гомон, люди. И этот запах, снежный запах приближающегося праздника. Будет, будет, вот-вот случится, еще немного — и произойдет, наступит. А что? Что?? Не понимал, не мог понять. Хотя и ждал, все ждал. Вон девочка упала, подал руку, и рука ее — странно плотным, истаивающим в рукавичке теплом. Рвалось в душе. Дух захватывало. Не рвалось уж, кажется, — нарывало. И когда исполнилось четырнадцать, отдушиной и прибежищем пока — бокс. Бокс! В синем углу ринга Аким Мокшин, второй спортивный разряд, из тринадцати боев в восьми одержал победу. И реакция, оказалось, и ноги, и удар. Тренер с мамой Леной (и тут она, мама Лена) пророчили. Да! Работал в открытой стойке, как Моххамед Али, как наш Агеев, и левый хук получался у него в прыжке. «Уф-ф! Просто уфф!» Но… надоело. Сразу как-то, впрочем, как и все, что быстро получалось. И потом, ну да, это было в девятом классе, шел по улице Кирова, кругом сверкали лужи с солнцем, все щурилось и чему-то улыбалось, а он подумал, нет, даже не подумал, а весь словно восчувствовал: «А зачем, собственно?» И лужи эти, и весна, и солнце? Зачем? И тоска его зачем, ночная тощища, и неразрешимое неизвестно чего ожидание? Зачем? Зачем (и это и было главным) не быть человеку подлым? То есть тот же чарлинский вопрос, но на новый теперь лад. Только на сей-то раз он уже не успокоится. Тебе хочется подлости, и что-то тебе мешает. Что это? Страх наказания? Невыгода? Рефлекс опасности, воспитанный веками? А если хочется сильно? Очень? Если можно, допустим, обмануть и наказание, и невыгоду, и рефлекс? Ну и прочее. Сразу не оформилось тогда, но неким попахивающим освобождением, предчувствием или, наоборот, капканом, ямой волчьей, а может, и погибелью будущей поселилось в душе. Наука ответ на вопрос «зачем» не дает. Сказав, что тела состоят из атомов, а те из протонов и нейтронов, а те в свою очередь еще из чего-то там, мы ответ не приближаем. Уходим, скорее, от ответа.
Но для чего, спрашивается, ответ-то так уж понадобился? На вопрос «зачем».
Очень просто.
Если мир не имеет смысла, то и «не подлым быть» смысла тоже нет. А «подлости» ему хотелось.
Где-нибудь в автобусе, на улице видел женщину, изгиб этот, бедро, ноги тяжелые, и захолонывало дыхание, болел, болел потом всякий раз.
Нет, нет, не любовь, зачем врать, понимал разницу. Это подлость, подлость…
— О-ох, подружился б ты с хорошей девушкой! — вздыхала, чуяла беду мама Лена.
Подполковник усмехался: знаем, знаем мы ваших девушек. Подполковник будто тоже знал, что происходит, только на свой лад. В нем тоже сидело это (рыбак рыбака — Акимушка знал), но подполковник сам себе в этом как бы не признавался, и получалось — у него этого как бы и не было.
Мать приехала из деревни навестить. Сидела на кухне, плакала; прости, прости меня, сынок, ты прости меня, сы́ночка! За что?! Будто вправду виновата перед ним. Мы теперь хорошо живем, плакала, возвернешься, может? Не знала, бедная, что уж и говорить ему. Нет, нет, испугалась мама Лена, что вы, что вы, он в институт будет поступать, у него способности. И плакала, плакала тоже в соседней комнате, чуяла беду.
А он, сумасшедший, сидел, ждал, когда отревут. Другое было на уме.
Думал: мир управляет человеком двумя способами: силой (и тогда он пугает) и удовольствием (тогда соблазняет). Если страх или сулимое удовольствие выше человеческой возможности, человек предает. Возможность не высока. Во всяком случае, у каждого в заборе есть участок, где она почти равна нулю. Не то, так это. Матери было страшно, и мать его «отдала» маме Лене. Маме Лене страшно отдавать назад, и она врет про институт, хотя знает, что он не будет в него поступать. Обе хитрят. И это лучшие еще, это самые чистые. А подполковник? Чарли? Иван Сергеевич? Врут, предают и нарочно сами себе не замечают. Чтобы удобнее, чтобы не стыдно.
Ночами летал еще. С трудом. Ниже, ниже.
Мать уехала, а он бродил дальше, выбраживал себе позволение. Зачем, зачем, зачем?
Будто стоял на пути к желанному ручью забор и назывался НЕЛЬЗЯ. «За-а-а-ачем» — долбал он его ломом. «За-а-а-ачем?» — раскачивал. Подло, не подло, какое дело, если всех, все человечество ожидает какая-нибудь энтропийная смерть. Смешно же.
Книг набрал. Лежал на диване, читал, читал. Конечно, были теории (и он по возможности с ними ознакомился), по которым с совестью жить получалось как бы выгоднее, чем без нее. Но как-то и ясно было, с точки зрения выгоды, лучше-то все-таки без. Без нее. Ну а стало быть, зачем? За-а-а-а-ачем? Не понимал. Отказывался понимать. Завязывал глаза черной тряпочкой. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать.
Ну да, это и получился его способ завязывать себе глаза.
В институт идти отказался, как мама Лена ни упрашивала. В армию пошел. Себя ли так боялся, предчувствуя, или, может, насилия над собой хотелось для индульгенции, тоски ли. Но пошел. В общем, пошел.
С тем мама Лена и провожала его, остриженного, со старого с зелененького вокзала, с тем и плакала, стараясь улыбаться; с тем и махала желтенькой своей косыночкой.
Ну а вот и армия.
— Па-а-адъем-м!! — И кросс в противогазах, и портяночная вонь. И снова подъем, шуточки в курилке, редкие письма от матери, частые от мамы Лены. В обед ешь мясо, а после кашу, потому вдруг мясо потом не успеешь, вдруг тревога? И свежесть по утрам, и строевой строем шаг, а в воинские праздники марш под духовой дивизионный оркестр, под бескорыстную музыку идущих на смерть, под летящую ее, под зависающую в тишине с оттяжечкой барабанную дробь. Тррраррам, тррраррам трррарррарррраррррррам-м. И приглашение после ужина в каптерку, где уважать службу научат тебя отслужившие полсрока старшие твои товарищи, «старики». Снимай, салага, штаны, учителя будут бить по розовому твоему заду ложками, каждый всего по разику. Разик на старичка. Раз, два, три. Ложка алюминиевая, легонькая, чего там? Неписаный закон, не мы придумали, не нам отменять. А не всхочешь, сержант ведь тоже «старик», наряды, наряды, наряды, и сам же будешь изгой среди товарищей. Вишь какой гордый… мы-то не гордые! И прочее.
Что же, стерпи, солдатик, потерпи, станешь через год атаманом, сам ложечку возьмешь. Неписаный закон, логика жизни. Ах, подлость, подлость… долга ж твоя боль!
«А я не хочу!»
Понял, повезло догадаться загодя — догадался, зачем ведут в каптерку. Глянул на лицо того, ведшего, и понял, вдруг: «на ложки»! И у самой уже двери — ударил. Хук слева, в прыжке. Они, старички, повыскакивали, захлопала каптерочная дверь, он успел попасть еще двум-трем, и, хотя их было много, человек пятнадцать, они струсили и отступили от него. Кошка чует, чье мясо ест. И к тому же битва была не в каптерке — там бы они его смололи. Это-то он сообразил, когда врезал вожатаю своему хуком.
Из офицеров, впрочем, никто битву не видал. Дело обошлось.
Его невзлюбили, но больше не трогали.
Дисциплина ж, порядочек (как любил сказать сержант Колодочкин) вполне ничего, поначалу даже понравились. Не думать тебе, не выбирать. Выполняй приказ — и все дела. Тут тоже таилась, конечно, беда. ТРУБА. Он ощущал это как эффект «трубы». Снаружи крепко, железно, не согнешь, дисциплина снаружи, порядочек, а внутри, в сути своей, хоть те ветер вей — пусто. Вполне можно было жить и с подлостью. Вполне.
Приказы, мол, не обсуждаются.
И начальник твой побольше знает, чем…
Зачем же тогда «не быть» (то есть, подлым)? Если начальник не узнает, если никто, допустим, не узнает. Зачем? Какая выгода-то? Подполковник, мама Лена писала, советовал в танковое училище поступить, содействие обещал («…раз уж все теперь у нас в семье военные!»), и соблазнительно бы, логово ведь, лежбище трубное, и заработная плата хорошая, и обмундирование. А? Хоть фальшиво звал подполковник (мама Лена тут, ясное дело), да можно же отвращение-то и преодолеть! А? Ведь зачем же не преодолеть, если выгода? С преодоления б и начал. Карьеру-с.
Но не смог пока.
Не дорешилось еще. Держался забор.
Отказался все-таки от танкового училища. Вежливо. Зачем же, написал, беспокоиться? Не надо. Ему вполне подходит служба в войсках связи.
Как-то в увольнительной, гуляя по незнакомому городишку, забрел на местный мясокомбинат. Собственно, не на комбинат еще даже, на дорогу к нему, на подъездные пути. На дороге стояли грузовики, а в них, за криво прибитыми досками, коровы. Не быки, не телята, а коровы. Самки. Мясная порода. Маленькие, длинношерстные, специальная, понял, порода с неразвитым, с не кормившим ни разу выменем. И одна корова смотрела на него. Просто, между досками, без всякой даже тоски. И видно было, что она знает. Все. И про себя, и про тех, кто рядом. Про специальную всю свою жизнь с маленьким выменем, про смерть свою скорую. И стоит. И те, другие, тоже.
Он не выяснял тогда, группами убивают их или поодиночке. Есть ли человек, который бьет им кувалдой меж рогами, или сразу втыкает он под лопатку им нож. А может (он не знал еще), повалив и запутав ноги им толстой веревкой, этот человек просто перерезает сонные артерии на шее. Но и не выяснив еще ничего, он догадался, догадливый: есть коровы, есть, выходит, и человек с кувалдой, а есть он — есть и другие. Те, для которых он старается.
«И если я могу…» — подумал он.
И если я могу есть, жевать ее мясо, стучать костью по ложке, добывая себе желтоватый такой вкусный ее мозг, могу вытирать потом щеки, крякать и жить, жить дальше, если могу, видев уже ее глаза, когда мы смотрели с ней друг на друга и оба знали, чего же я не могу тогда?
Впрочем, особенно не рассуждал. Просто лопнуло, растеклось что-то теплым в душе, финиш, финиш. Если, дескать, и не позволяем себе кое-что (подлостью называем), то это лишь такая наша игра, иллюзия для жизни. Игрушечки для тех, кому скучно жрать свое мясо, не играя. Или кому нельзя.
Пока она стоит там в грузовике, за досками,
И я могу жить, пока она стоит там,
Я могу всё. Всё.
Мне не нужны иллюзии.
Он еще туда ходил. Его тянуло. Он узнал: их гонят по винтовой лестнице. На мясокомбинате пять этажей, и их гонят по винтовой лестнице с первого на пятый этаж. Их гонят двумя прутами загонщики. В прутах электрический ток. Они бегут, добегают до коридора, в котором их должны убить, и, почуяв кровь, бегут назад. Поворачивают всем стадом и бегут назад. Загонщики стоят у наружной двери и снова суют в них свои железные палки. И тогда они снова бегут наверх. И так много раз. Потом одна корова (может быть, та, что устала бояться) выбегает все-таки в коридор и мужик сверху (он давно поджидает ее) бьет ей в лоб железной пешней, или в загривок, иль куда попадет, а в пешне тоже ток с огромным каким-то (забыл цифру) напряжением, и корова падает, и за ней еще.
«Еще живых» их поднимают на дыбу и с живых машина сдирает с них шкуру, надрезанную на лодыжках, а уж потом…
Впрочем, чего уж.
— Умный ты, Мокшин, а дурак, — сказал сержант Колодочкин, — не знаешь, что такое счастье.
— А что такое счастье, товарищ сержант?
— Счастье, Мокшин, это баба!
И Колодочкин сводил его кое-куда в увольнительную. Оказал услугу. Он тоже когда-то немного боксировал в первом среднем весе; они были одновесы. После драки у каптерки их связывали сложные, как бы дружеские, отношения.
Сводил…
Решилось. Все «быть» и все «не быть».
Да, да. Забыть бы.
И не забыть.
Ничего никогда не забыть. Это точно. Вот это-то уж точно.
И через месяц пришло письмо от Нинки — умерла мать.
— Езжай-ка, — посуровев лицом, сказал Колодочкин, — езжай, старик, посиди на могилке. Матушка ведь! Матушка ведь, — сказал, — все-таки…
Он дал тогда Колодочкину по морде. Наотмашь, без всякого бокса («Себе бы дал…»). И Колодочкин в драку не полез, нет. Он засадил одновеса на гауптвахту, потом выпустил и снова засадил. И опять выпустил, и опять засадил. И еще, еще. Пока не устал. И одновес никуда не поехал. Ни на какие могилки.
А перед дембелем умерла Елена Михайловна, мама Лена.
…В поезде, возвращаясь в город, видел сон. Люди, смех и будто бы все его в чем-то упрекают. Он не знает в чем, но в чем-то стыдном, нехорошем, а главное, несправедливо, несправедливо упрекают. И еще, они, смеющиеся и упрекающие его, не имеют, он знает, не имеют права это делать. И тут откуда-то собака. Откуда ни возьмись. «Бешеная, бешеная!» — кричит какой-то парень. И визг уже, и крики, и теснение вокруг. А на руках почему-то рукавицы, грубые, дворницкие, и он сует, поджав пальцы, левую руку собаке, та хватается, виснет, а он распрямляет в рукавице пальцы, просовывает их дальше, в горло ей, подхватывает другой рукой нижнюю челюсть и рвет-раздирает собаке пасть. Как Самсон. И злоба в нем, и злость, и сила от злобы. И вдруг все проходит, ему уже жалко собаку, и зачем он ввязался в это дело? Он бросает ее от себя, наземь, собака вскакивает на лапы и, поджимая к животу грязный свалянный хвост, скуля, бежит, убегает со двора прочь. Все, все вокруг, кто видел, молчат. И опять тут будто какой-то упрек ему. Справедливый теперь. Заработанный.
…В руку был сон.
Возвратился в Город и стал дворником.
В те годы идея дворничества была свежей, не расчухали еще; и жилье тебе, и деньги какие ни на есть, а главное — время, свободное, главное — время. Любовь Васильевна, управдомша, соседка и хорошая мамы Лены, знакомая, выслушала его и напугалась поначалу: «Да ты что, милок, да как же так можно-то?» Но он ее убедил, можно, можно, Любовь Васильевна, уверил, и Любовь Васильевна, добрая душа, согласилась, хотя маленько и поревела для порядку. Такой ведь он еще (поревела) молоденький, и Лену, Елену Михайловну, подружку закадычную, жалко, ох жалко, совсем мало пожила… Подполковник, оказалось, успел уже поменять, квартиру в другой район, ближе, как сказал Любовь Васильевне, к лесу. И жениться уже успел. У него, оказалось, все последнее время, когда мама Лена болела, был запасной аэродром, любовница молодая. Как управдом, помочь Любовь Васильевна могла и тянуть не стала, помогла. Его приняли сперва дворником неподалеку, обслуживать три четырехэтажки у кинотеатра Пушкина, дали в общежитии койку, а потом, месяцев через восемь, перевели сюда, в старый их дом, в родной. Прежний-то дворник, Семеныч, пояснила Любовь Васильевна, вовсе запился.
Началось то, что он давно придумал себе сам.
С утра рано работал — мел, греб, скреб и таскал. Снег, лед, песок, мусор и всякую другую дрянь. А после, умывшись, приодевшись и причесавшись, шел либо в библиотеку, либо в институт. Попервости он слушал лекции в двух институтах, физику и высшую математику в одном, биологию и историю в другом. Считал тогда, все нужно. Особенно почему-то дифференциальное исчисление. В библиотеке же первые два-три года просиживал вообще каждый божий день, кроме санитарного, последнего в месяце. Читал в основном философию. Помимо прорезавшегося вдруг страшного голода к образованию, под спудом сидел в голове все тот же вопрос: зачем же человеку не быть подлым? После смерти матери, после смерти мамы Лены, после Колодочкина в ответе он не сомневался (незачем), но вопрос все же сидел в нем, не умирал почему-то, и на него-то, на наивный сей вопросик, он и нанизывал полубессознательно все, что читал теперь и слушал. Чем дальше, чем труднее слушалось и читалось, тем сильнее оживали опять сомнения. Все будто плыло, уплывало куда-то, и цель, и смысл, все «относилось», делалось необязательным, нетвердым. Будто мир мог бы быть, допустим, одним, и его объяснили бы (нашли как), а потом он изменился б — или его заменили бы другим, а его все равно с тем же блеском объяснили бы опять. Плелись искусные прочные кружевные сети, долго, тщательно и умело, а потом (казалось ему) либо забывалось, для чего они плелись, либо за разговорами их не успевали доносить до воды. Сети как бы сами становились целью и радостью, о них спорили, ими восхищались, завидовали узору и прочности, их смаковали, как произведение искусства, а жизнь… она текла, где-то там внизу, тихо и медленно, как река под наведенными мостами, спокойная, сама в себе знающая, куда ей течь.
Зато здесь же — в библиотеке, в буфете ли за бутербродом с чаем, в курилке или в длинных прохладных коридорах, где так сладко, так чисто пахло книгами, виделось ему иной раз, мрелось вдали некое непостижимо-прекрасное Единство, гармония всего и вся. Ключ, разгадка, Выход, и не для него только одного, а для всех, для всего не любимого им в ту пору человечества. И чем длиннее накануне вечером отпускался поводок, тем сильнее потом мечталось в такие минуты, лучшие его за все годы.
А вечерами…
Приходили гости (завелась тараканья компания), он выпивал граммов сто водки и глядел на большую кружку с серебряной надписью по белому фаянсу «Дорогому сыну Акимушке в день рождения от его мамы Лены», нарочно выставленную, глядел и тихо злился. Кружка была трофейная, добытая верным другом Любовь Васильевной у подполковника-молодожена. И стыд, поскребыши сусечные, и последние заборные тогда его сомнения уходили, и, как музыка, как вода в прибрежный песок, входила, подступала и несла его на себе сладкая, неразрешимая, любимая уже втайне тоска.
Разрешите?
«Разрешите пригласить вас, синьора?»
И танцевал в обнимку с какой-нибудь, которую даже и уважал за простоту отношения к факту.
«Па-бам, па-бам, па-бам…» — под хриплый, под нескончаемый звериный голос негритянки, под старенький магнитофон, и давайте-ка, братцы, без лиц, я не знаю вас, девушка, и губы, и колени ваши, и плоские блестящие ваши глаза. Потанцуем, просто потанцуем. Простота отношения к факту.
Гости уходили, а эта, или другая, оставалась у него до утра.
«Они хоть не врут, — думал, — хоть не делают непонимающего выражения…»
Иногда, впрочем, в самом деле походило на праздник. Пир во время чумы. Вальсингам улыбался, молодые люди острили, дамы смеялись. Пропасть, пропасть, думал Вальсингам, ты подходишь к ней на цыпочках, наклоняешься, камешки сыплются из-под твоих ботинок, уф-ф-фэх! Темное, стыдное, темное, стыдное перло ночами изнутри, и оттого, что сознавал: стыдное, — перло еще шибче. А иной раз… Горячая к горлу волна, чуть не слезы, и свежий, как в щелку издалека, ветерок. Какую-нибудь крашеную, глупую, с сорванным хриплым голосом, жалел. «Хочешь, — говорил, — поженимся? Хочешь?» Аж трясся. Тогда ведь казалось, «порядочные» — это просто жертвы общественного мнения, а эти вот, пренебрегшие мнением, лучше, честнее, не скрывают, по крайней мере, суть. А возможно, и не потому. Нежность, нежность даже. «Прости меня, — шептал, — прости. Ты хорошая, ты лучше их, лучше, чем я, я люблю тебя, хочешь, поженимся? Хочешь?»
До слез пугал бедную.
…Так и не вспомнилась ему в ту ночь Катя.
Письмо какое-то, глаза, будто ждут чего-то, серые, отмытые, будто дождем, изнутри. Было? Было ли?
Нет, он не вспомнит.
Не надо.
Из форточки, из оконных не заткнутых еще на зиму щелей тянуло холодом. Сидел в чужой кухне, босые ноги в чужих разношенных шлепанцах давно уже у него, оказывается, замерзли.
Я спрашивал мудрецов вселенной:
«Зачем солнце греет?
Зачем ветер дует?
Зачем люди родятся?»
Отвечали мудрецы вселенной:
«Солнце греет затем,
чтоб созревал хлеб для пищи
и чтобы люди от заразы мерли;
ветер дует затем,
чтоб приводить корабли к пристани дальней
и чтоб песком засыпать караваны;
люди родятся затем,
чтоб расстаться с милою жизнью
и чтоб от них родились другие для смерти».
«Почему ж боги так все создали?»
«Потому же,
почему в тебя вложили желанье
задавать праздные вопросы».
В коридоре стучали ногами, калоши надевали, топт, тупт, топт, и шептались — нежно, влажно, как и могут только мать с любимым ребенком. Сашка говорил что-то басом, а Карина прыскала, пс-с, пфрс-с, зажимала, видно, рот кулаком. К нему, гостю, это было так — мешать мы тебе не хотим, спи, коли спится, но и стеснять себя особенно не собираемся. Наш дом, хотим — смеемся, желаем — басом разговариваем. А ты, гость, перетопчешься. Плевать. Потом Карина (открыв дверь, стало быть) выкрикнула на лестницу, не сдерживаясь больше: «Смотри у меня, Сашка, гляди у меня там!» Голос ее жирный так и покатился по ступенькам вниз. Детсад тут — во дворе. Сашка ходит в него самостоятельно и выходит из дому без десяти, между прочим, восемь. Выходит, гость проспал, опоздал, опоздал-таки на работу!..
Хлопнула входная дверь, ушел Сашка.
И, улыбаясь еще, явилась не запылилась она, Каринушка.
— Ну что? — умытая, подобранная, щеки-помидоры блестят, в утреннем легоньком халате. — Проснулся, работничек?
Ирония такая.
Это-то было понятно. Она сейчас мать. Не остывшая еще, горячая, из самой главной-главнеющей той жизни своей. Деловая, нужная, устало почти презирающая таких вот с-краюшных дворников всяческих, гостей кобелястых. Еще чуть, чувствовалось, и она начнет хамить.
— Ты храпел, — сказала и сама рассмеялась.
Ну вот! Просто и трогательно.
А когда пили на кухне утренний чай, началось то, чего, труся, он ждал со вчерашнего вечера.
— Слушай, — сказала она. — Ты не приходил бы больше… а?
И поглядела на него сбоку. По-хорошему, мол, прошу, по-человечески.
Мазал маслом хлеб, слушал.
Интонация была такая: я-то знаю, что ты подлец, но ладно, не в том сейчас дело, я тебя не сужу. Бог, мол, с тобой, черт с тобой, но катись, пожалуйста, к чертовой матери.
Положил еще на масло кусочек сыра.
— А почему? — спросил.
Не удержался. Сам не ожидал, что будет спрашивать.
Она, похоже, тоже не ждала. Улыбнулась (в сторону глаза), пожала широкими плечами.
— Сашке вредно… И вообще. Я другого себе найду.
Ни-че-го! Ничего себе, подумал, откровенно сказано. Да, да, сильная и откровенная женщина. По мере, конечно, сил.
— Может, нашла уже? — не выдержал все-таки, сорвалось с языка опять. Знал ведь, утонет. Да барахтался, барахтался. — Нашла уже, говорю, может?
И сам поморщился. Господи, ну зачем? Зачем все это? Чего хватается-то он так?
А она улыбалась и не отвечала. Не удостаивала ответом, умница, не удосуживала удостоить.
— Ну хочешь, уедем? К Нинке, в деревню. Сашка в школу пойдет, школа хорошая, хочешь, хочешь?
Барахтался, падаль. Боролся за женщину. За последнюю надеждушку.
Голос сипел, бился где-то сбоку от стола. Он слушал его со стороны, со страхом.
Голос, как боксер в гроге, поднимался и опять снова падал. «Вот ведь, — думал себе, — вот ведь дело-то до чего дошло».
— Никуда ты не поедешь! — сказала она.
Спокойно так сказала она.
Он был убийца в наручниках, а она судья. Судья демонстрировал понимание священного долга. Стальное понимание. Что ж, что выскальзывала злорадной змейкой у него меж зубов маленькая личная радость, что ж, по-человечески это было понятно. Преступник все равно ведь получал по заслугам. К тому ж радость, экая радость, так приятно иногда поглядеть все-таки сверху, свысока этак, жалеючи, даже как бы почти уж и не судя.
Ах, баба… баба ты моя, бабариха!
Мог и ударить ее. Мог просто уйти. Она, презирающая, и не догадывалась, какая сейчас над нею тучища. Она, дура, упивалась, что ли, победою? Торжеством, что ли, братцы вы мои?
Отодвинул чашку (кусок он уже дожевал), обошел стол и поднял ее, тяжелую куклу, за упругие щеки. Удобно было поднимать. Она билась, хватала длинными ногтями по рукам, шипела, кричала — он поднимал и поднимал. Медленно, долго. Столько, сколько ему хотелось это делать.
— Ну, вот что! — сказал.
И впился ей в губы.
…Мылась в ду́ше, смеялась оттуда из-за дверей. «Ну ты даешь! Ну даешь! Ну даешь!» Перетрухала, но голос радостный, веселый, лукавый даже. Зауважала опять. Вот она, подлость-то!
Теперь было проще.
ЖЕНЯ
Ну, что ж… Они шли по дороге, он и Катя, по мокрой дороге, мимо новых панельных домов и Катиной больницы, мимо голубооких деревянных домиков и вангоговских картофельных полей. С гор жиденьким молочным киселем сползал туман, слева на бугор поднимались сосны, а справа в болоте оставалась зябнуть бурая, отжившая уже трава.
— Раньше я работал в издательстве, — рассказывал он, — внештатником. Шмуцы рисовал, обложечки по заказу. А потом ушел.
Катя кивала: да-да, шмуцы… ушел…
Он смотрел на нее сбоку и думал: Катя, Катя, господи, это Катя.
«Когда рисовал хорошие книги, Катя, я тебя помнил… И… и надеялся…» — хотелось сказать.
— Когда я рисовал плохие книги, — вслух сказал, — я тебя забывал.
Это он заготовил сказать. И про «рисую», и про «забывать».
И получилось фальшиво.
Нет, она не остановилась. Задержала ногу, переступая, и слегка на него оглянулась. Не то, не то, думал он, все не то. Разве так мы должны говорить? Ведь я же знаю, я видел ее глаза и как она бежала ко мне, — зачем же я лукавлю?
Остановиться и обнять ее!
— А я совсем другая стала, — тихо проговорила Катя, когда он остановился. — Я как белка в колесе… Я… Я тоже все хочу забыть и не чувствовать.
И заплакала.
Взять за плечо ее… Взять за плечо, и в коричневые, в сосновые, в родимые ее глаза — Катя! Не плачь, Катя. Прости меня, Катя. Ну прости меня, прости меня. Если бы знать. Если б знать! Свет в окошке моем, вода в пустыне моей, детство мое…
Туман спустился с гор и стал теперь недалеко от них. В пяти шагах спереди и в пяти сзади. Они были как в комнате, и когда опять пошли, комната двинулась тоже. Катя перестала плакать, хотя так и не услышала от него слов утешения. Может, и хорошо.
— Ты их любишь, больных этих? — спросил он.
— Люблю, — она достала платок, вытерла нос и улыбнулась ему поверх всего. — Извините.
— «Все минется, сказал апостол, останется одна Любовь!»
Он произнес это бодро, даже насмешливо, но Катя не заметила, не захотела заметить насмешку.
— «Все отпадет, что было лживо, — кивнула она, — Любовь все узы сокрушит!» — И улыбнулась ему. — Да это так… Иначе не́куда.
И помолчали.
— Я хочу, понимаешь… до донышка, — сказала она. — Вылюбиться! И тогда уж все.
— А… бывает донышко?
— Бывает. — Она снова улыбнулась и тут же, перебивая себя, нахмурилась. — Гляжу на них иногда, им больно, а мне не жалко.
— Это, думаешь, донышко?
— А что же? Что?
И опять захотелось обнять ее, спрятать в себе, такие стали у нее глаза. Храбрая маленькая девочка с корзиночкой и сто один вокруг волк. «Скрывать, убаюкивать, волосы гладить…» И вспомнилась почему-то жена, улыбочка ее, когда врал ей про «творческую командировку на Урал», про поглядеть на родимые, мол, места и проч., и у Кати ведь тоже, подумал, тоже, наверное, кто-то же есть, а там, в больничном дворе, когда она бежала к нему по асфальту и ветер развевал ее халат, то, сиявшее неожиданное счастье, да, да, оно показалось ему, оно было просто так, понавыдумывалось, потому что очень уж им хотелось, чтобы оно было.
И… не выдержал.
— Аким говорил, — сказал, — понять Истину — значит согласиться на гибель. — И добавил, потише: — Правда, давно говорил, лет десять назад.
И отвернулся.
Говорить про Акима, да вот так еще, было ниже пояса. Ниже пояса удар. Женщине. Кате. Выговаривая «Аким», чувствовал: не надо, нельзя, но говорил уже, и замирало сердце, и пусть, думал, пусть!
Нет, она не вздрогнула. Нет.
— Аким? — переспросила.
Аким.
Ничего он ей, Кате, оказывается, не простил, все он помнил и ничего, ничего не собирается прощать, благородный человек. Такой оказался великан.
Проходили как раз мостик над речкой-ручейком. В тумановую комнату их попала березка, внаклон росшая у берега. Белая, тонкая, в нежно-желтой листве, и веточки у нее висели вниз, затупленные на концах, как человеческие пальцы. «Плакучая береза, — подумал он, — может, потом нарисую».
— Значит, я не могу понимать Истину, — сказала Катя. — Мне жить нравится! — И засмеялась.
«Что же это, что же с нами происходит-то?» — думал он. Он совсем запутался.
И опять шли молчали.
— А впрочем, не знаю! — Катя улыбнулась и махнула рукой. — Иногда, черт с ним, думаешь, с этим вашим миром… Катись все! Ага.
И опять засмеялась.
А он послушал. Смех ее стал глуше, но еще красивее, показалось ему, чем раньше. Из самой откуда-то глуби, и чистый, девчоночий и вместе женский.
— Ты его видел? — спросила она. (Его — это Акима.)
— Видел.
— Ну и как он? Постарел?
И смотрела в глаза, мужественная женщина. Прямо.
Ничего мне не надо, думал он; только бы ее, только ее.
— Да нет, не сильно. Красивый такой же. Здоровый. Деликатный. Водку с ним пили.
Молчала. Молчала о чем-то.
— Знаешь, — сказал он, стараясь поестественнее. — Я думаю, виноватых вообще нет. Каждый сам себе наказание.
Глянула. Не то благодарно, не то недоумевая; не понял. И как-то вдруг потух внутри. Устал, что ли.
— Или все виноваты, — как бы про себя выговорила Катя. И тут же спохватилась: — Кроме тебя.
Тут уж он усмехнулся: ну, ну. Знала бы она.
— Пойдем назад, — попросила Катя. Почувствовала, что он потух.
И повернули назад. Комната из тумана двинулась в другую сторону.
И тут вспомнилось, по-видимому, из-за «кроме тебя», выражение лица, с каким входил он, бывало, к художественному редактору, к начальнику своему и работодателю, вспомнился фальшивый благообразно-независимый тон, взятый им с тещей, и жена, ужимочки ее, лукавый этот огонек в глазах (знаем, мол, знаем, все мы всё друг про дружку знаем), а главное, свои, свои эти вспомнились вежливо-достойные улыбочки и как он, растроганный, однажды сказал редактору: «Спасибо!» — когда у товарища его забрали книгу, престижную книгу, и передали рисовать ему. Как он тогда поклонился за это, господи, поклонился!
Почему, ответь, почему я стал таким? Катя!
Десять, девять лет назад, когда прибежал на автобусную остановку, с которой ты уехала от меня, сбежала, после той твоей записочки… что же? Плохим я тогда был? Виноватым? Или впрок меня судьба наказывала, в запас? Знала, что буду сволочью? Так? Так? Да. Да. Слабаков наказывают впрок. Их наказывают впрок, и они становятся слабаками. Это верно, верно. Это справедливо. Это ведь кто ударил тебя вот только что ниже пояса? Я, слабак. Не смог не ударить. Стало быть, верно все, правильно, и так оно и есть. Каждый сам себе наказание.
Остановился.
Катя прошла вперед и тоже остановилась.
Она была все та же Катя. Она была лучше. Точная, гибкая, живая. Она вся теперь высвечивала насквозь, как восковая фигура с лампочкой внутри. И сейчас, здесь, на этой чужой дороге, он снова смог бы, как тогда, умереть за нее, если это понадобится… Правда, теперь это стало легче сделать, потому и стоило дешевле. Ничего, завтра он уедет отсюда, из Волчьей Бурлы, и все с этой историей будет покончено. Навсегда теперь. Она по-прежнему любит Акима, а он, он, бедный Горкин-Пьеро, оказывается, до сих пор не «простил» еще ее, легкомысленную свою Коломбину.
— Смотри… смотри, какая дорога! — обернулась она радостная. Ему радостная, как давно, как в девятом когда-то классе («Ах, бедная… Бедная моя девочка!»). И как это страшно, господи, что завтра он уедет отсюда навсегда, и… и бывает разве так? Неужели все, и опять погибель ему. Окончательная уж теперь. «Дорога как дорога, — хотелось саркастически сказать, легко эдак. — Мокрая дорога, ведущая в рай! Ха-ха». И пнуть камешек. Чтобы камешек допрыгал до тумана и исчез. Чтобы исчез, как завтра сделает это господин Пьеро.
— Дорога как доро… — начал он и замолчал. Не осекся, а просто замолчал. Расхотелось говорить саркастически.
Катя на него смотрела. Вглядывалась.
— Интересный у вас мост! — попытался он заулыбаться. — На восьмерку похож.
Катя (видел по глазам) понимала, что это разговор уводится в сторону, и она ответила на вымученную его улыбку, и разговор «в стороне» состоялся. Она, стало быть, догадывалась, что он решил уехать от нее, и, похоже, она не хотела ему мешать. Едешь, ну и едь.
— А знаешь, что такое восьмерка, — продолжал он про мост, — восьмерка, если ее положить набок, это знак бесконечности. Вечность — другими словами.
— Понимаю, — кивнула, не глядя ему в лицо, Катя. — А Козлов говорит, он у нас вот на что похож, мост этот! — и она положила согнутый указательный палец на большой. — Теперь, если подвести под эти два три остальных, получится известная и тоже символическая фигура. Фига.
Но он не засмеялся. Он вспомнил, какие у нее пальцы. Он их вспомнил и понял, что никогда больше он уже не сможет никого полюбить. Такие пальцы были на свете одни, и больше никогда и ни у кого их не будет.
— Это кто Козлов? — спросил.
— Работает со мной.
— А-а.
На входе в город им встретились три девушки в штукатурных испачканных штанах. «Где сибирские камни омывает вода…» — пели они на три голоса, и хорошо пели, в лад.
— Раньше девушки казались такими поэтичными, — сказал он.
— Да? — Катя улыбнулась (для того и сказал).
— Пели… Делали такие лица… — он приподнял бровь, показывая, какими были раньше девушки.
И она засмеялась наконец. В полную.
Согнулась пополам и смеялась, как тогда, как когда-то, как в былые их времена. До всего.
«Катька, — подумал он, — ах ты Катька! Ах ты Катька моя!» Записать бы ее смех на магнитофон да слушать когда. Слушать… Тут-то как раз и начнешь подыхать по-настоящему. Нет, нет уж, лучше уж как есть, помнить и забывать. Забывать, а потом вот так: слушать. Ведь кто же знает, как оно лучше-то.
Он обернулся на дорогу, по которой они прошли. Солнце спускалось за гору, туман плавился в розовом закатном огне. Что ж, думал, кончилось, кончилось, выходит, все, что никак не кончалось до сих пор. Теперь закат окончательно станет инфракрасным (или каким там?) излучением, а ручьи потекут вниз, потому что они жидкие. Десять лет крошечкой крошилась, замучивалась его надежда, и вот, кажется, теперь все. Все! Мир станет плоским и понятным до последнего шурупа, и связь вещей распалась наконец!
— Ты… — сказала, будто запнувшись, Катя. — Хорошо, что ты приехал.
Они стояли у ее подъезда, и она так сказала.
И тут он ее обнял, потому что не мог удержаться, опять не смог. Потому что он был слабак. Мрак, мрак, холод, и вот… гавань твоя, возвращение твое. Пусть хоть придуманное. Покореженный в бурях корабль, сломанная мачта и три мертвеца на борту. Держись, капитан!
Она, Катя, не шевелилась. Неужели все, думал он, неужели ж все?
Чувствовал подавшееся ее тепло, дыхание. Нет, нет, он не целовал ее (хоть это-то смог), он держал ее в руках, держал и держал, набираясь сил перед последним своим заплывом. Последним, потому что завтра он все-таки уедет, потому что он не верит больше себе. Ее шарф трогал его щеку, а он не верил, не хотел верить, что доплыл.
И Катя ушла.
Он вернулся назад, на дорогу, и пошел по ней теперь один.
Тумана не было, дорога в мокром асфальте блестела под фонарями черной резиновой змеей. Он ходил по ней туда-сюда, стараясь не заступать круг последнего фонаря…
…— Чего ты? — спросил Аким.
Приподнялся на цыпочки и, не отвечая на вопрос, заглянул за белое Акимово плечо: есть кто или нет. Никого там не было. Катя пришла сюда на другой день. Она вообще не пришла бы, не напейся он в тот вечер и успей увидеть ее. Но он не успел. И все, что могло случиться с ними, случилось.
— Ничего, так… — сказал он Акиму и побежал из каменной его ямы. Аким тоже ничего больше не спросил.
Бутылка с водкой взбулькивала во внутреннем кармане пиджака, давясь, он допил ее в троллейбусе, из горлышка, а потом, в троллейбусном парке, его разбудил водитель — попросил освободить салон. Он освободил. Освободил и шел, запинаясь об сиреневые в фонарном свете урны, шел на огни телевышки, синим плывшие в глазах. Там, за ней, за телевышкой, должен был быть вокзал. «Скрипка стонет под горой… В сонном парке вечер длинный — вечер длинный, Лик Невинный, Образ девушки со мной…» На вокзале он уже послонялся по переходному мосту, понюхал копоть. Под мостом уезжали поезда. Можно было спрыгнуть в открытый вагон и уехать куда-нибудь.
В залах ожидания, открыв усталые рты, спали транзитные пассажиры, а в мужском туалете мужик с мягкой синью вместо лица выслушал от него все.
— Ну вот что, — сказал (бог его храни!), — езжай-ка ты, кореш, в Ригу.
И объяснил — про море.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В РБФР (Рижская база рефрижераторного флота) инженер по приему на работу даже и улыбнулся: в море? Запрос, значит, на характеристику в институт, где числился студентом, запрос на справку от терапевта в поликлинику, где жил с мамой, с папой, а пока, пожалуйста, зубы будешь лечить и учиться. На матроса второго класса. И не надеялся, что так повезет. Характеристику могли не прислать (академ в институте был не оформлен), но прислали. И справку из поликлиники тоже могли, но тоже прислали.
Учился пока в школе матросов и писал письма: матери и Кате.
А потом вышли.
Ах, как это было! Море, море… синяя вода. Фиолетовое, аквамариновое, зеленое, голубое (там и начал снова рисовать). Месяц шли только по Балтике. Пролив Бельд. Швеция. Дания. Норвегия. Мир бо-о-о-ольшой! Северное море, и дальше, дальше. Ла-Манш. Англия, огни городов… Доброе утро, джентльмены! Привыкал. Привыкал к качке. К простору. Ко всему теперь новому. «Здравствуй, Катя! — писал. — Я привыкаю к мысли…» Нет, нет, пока не так. Рвал, писал опять, опять рвал. Ребята сочувствовали, хотя скрывал вроде свою историю. Тут, на судне, как в маленькой деревне, знали друг про друга все. Даже и вида не делали, что не знают. Хитрил поначалу сам с собою. Работал до одури. Рассчитывал задавить в себе. Давил, задавливал, кидал в трюме пустые пока бочки. И как-то ночью, месяца через полтора пути, не смог больше лежать и вылез из ящика наверх. Отражающийся от луны край моря вдали и сама луна, голубым обмылком скользящая сквозь полосы свалявшейся ваты облаков. Луна падала и падала сквозь них и никак не могла долететь до воды, а по морю, пропадая в ложбинах меж волн, тянулась голубая лунная ее дорога. Он стоял и курил у подвешенной на правом борту шлюпки, нечаянно вдруг словно поняв и шум воды, и тишину темной этой беспредельности. Словно собственное его прошлое и будущее превращались в это море, словно время раскрутило наконец свою пружину и стало пространством. Память оживала и тухла маленькими тоже морями-озерцами, в них плескалась, чмакая, настоящая, живая голубая вода, а он не вспоминал, не пробовал пить эту воду, он только обрадованно знал, что она есть. И потом, когда начало оживать вымерзшее за ночь небо, когда он увидел оранжево-розовую в полнеба и в полморя зарю и потом краешек чистого красного круглого солнца, встающего прямо из воды, он догадался, что его самого, может быть, и нет еще на белом свете, а зато есть море, солнце и весь сейчас мир, прекрасный, как боль рождения… Не надо прятаться и убегать от себя, думал он, потому что как бы ни было, а мир этот есть. И темная вода, хлюпающая о покрытый зеленью слизью борт, и маслянистые, отяжелевшие от ночного мрака волны, и сияющий светом горизонт, и тугокрылые налетевшие откуда-то чайки, фыркающие от свежести и злого голодного утреннего счастья. Стоял спокойный и бесстрашный и смотрел, как восходит над морем солнце.
И потом, дальше маяки у французского берега, и «щемящей бы вечерней романтики, — писал Кате, — а надо быть злым, надо быть здоровым и сильным…». Четыре часа со своей вахтой метал на палубе бочки, на четыре спускался в «ящик». Ящик — это такое личное как бы купе, где вместо верхней доски у боковой стены — занавесочка. И свет (лампочка висит на длинном скрученном шнуре над головой), и можно даже читать. И книги были. «Дон-Кихот», например. «Где же ты, моя синьора? Что не делишь скорбь со мной? Или ты о ней не знаешь? Или я тебе чужой?» Хорошо!
А про щемящую вечернюю романтику — вранье. Все было хорошо. Была боль, но утихла, как в больном зубе, и больше он от нее не прятался. И когда она утихала, жил как все люди. Что было, тем и жил. Работали, ели, спали… Когда перекуривали, напарник Миша учил его первичной морской мудрости: «Каждый делает то, что может, а кто может, ничего не делает!» Да… А потом Миша раздробил себе бочкой палец на ноге и мог «ничего не делать», но оказалось, что не может он ничего не делать, и, хромая-матерясь, мудрец работал со всеми и со всей своей мудростью.
А вечером, если не попадалась смена, можно было снова смотреть на горизонт.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном…
Азорские прошли острова. Близко, как жизнь, сострил народный философ Миша. И живут на них, сказал, португальцы.
«Вы, кажется, потом-м-м любили португальца-а-а?»
Так, так. Братва играет на гитаре, и где-то внизу Атлантида, которой на самом-то деле не было. Не было, не было, ничего не было, и все хорошо, нет даже злобы на Акима, удушающей злобы, подступавшей раньше ночами.
Нет, нет, нет.
Это он все писал Кате, сам не зная зачем, отчет, что ли, делал? Чтоб все как раньше, все на двоих. А потом снова вернулось то, ночное, его чувство: живи! Гляди во все глаза. Не уматывай в сторону. Терпи, коли надо. А там увидишь дальше, мало ли… Мало ли в жизни бывает всяких случаев. По жизни живи, учил Миша, читавший к тому же Сенеку. Живи по жизни, а там увидишь.
Надеялся. Надеялся, само собой, иначе — куда бы?
Хотя, кажется, вовсе «не простил» ее, Катю. Когда вспоминал, как стоял он у Акимовых дверей, дышать не мог, зубы трещали, уходил, прятался, задыхался. Но и это прошло. Мог возвращаться. Ребята звали еще на сезон, и хорошие ребята, товарищи, но он мог уже возвращаться и потому — чего ж?
Та же Рига, омытая разлукой, и запах земли, и берег.
Твердый-претвердый, а трава… зеленая!
Когда шли назад Бельдом, рисовал домики на датском берегу, дымки от костров, уютность. На душе, говорил Миша, можно было играть как на органе.
* * *
В гостиницу свою, в барак, он вернулся поздно. Если по-местному, по-волчебурлински, — что-то около одиннадцати часов. Евдокия Афанасьевна улыбнулась, отпирая дверь. Та же стеснительная улыбка с прижатой к зубам верхней губой.
— Повидались? — спросила.
Ага, кивнул он: повидались. И тоже улыбнулся. По-видимому, она уже знала, зачем, для чего он сюда приехал. И почему-то это (что «знала») показалось приятным, а не наоборот.
— Я тут вам чаю оставила, остыл, поди. Подогреть разве?
— Не надо… Я холодный люблю. Спасибо!
Он в самом деле любил холодный, но был конечно же тронут. Есть, есть-де все-таки на свете люди.
Стакан в железном подстаканнике стоял на тумбочке возле его кровати. Рядом два пряника и белая конфетка-подушечка в реденьких кристалликах сахара. «Есть, есть люди…» Лег, не раздеваясь, на заправленную постель, свесив в сторону грязные ботинки. Потом сел, отхлебнул чаю и снова лег. Чай холодный и несладкий был тот самый, который он любил. Другая вбухала бы ложки четыре сахару, подумал опять с благодарностью к Евдокии Афанасьевне, лишь бы в жадности ее не обвинили. А зачем сахар, если конфетка и пряники?
…Итак, он вернулся с моря.
— Здравствуйте, — сказал. — А где Катя?
И вышла Катя. Худая и тяжелая изнутри, как сырая сосна.
Поедешь?
Поглядела черным, помолчала. А потом собрала желтую черепаховую сумку, и на тридцатом автобусе они уехали на отцовскую дачу. Его отец позволил им там жить.
Вечерами на качелях свет со второго этажа… У дверей старые мамины босоножки, и яблони шевелят из темноты своими листьями. Радоваться бы, да не радовалось что-то, не верилось, неясной тревогой пряталось в саду. Днем Катя читала, лежа животом на гамаке, грызла большие розовые яблоки, мамину гордость, а он то качал ее гамак, то уходил куда-нибудь по реке смотреть на рыбаков. И все строил планы, все «как теперь они будут жить…». Вместе с родителями молчаливо было решено: скоро они с Катей поженятся, а пока, до начала учебного года в институте (ему разрешили восстановиться), пусть поживут здесь, «проверят свои чувства». Иногда он целовал Катю, и она не противилась, хотя ей, он видел, это было не нужно. Да и сам он не очень к ней приставал. Опять начал сильно волноваться, и хоть теперь он был уж не мальчик из девятого класса и многое для него стало проще, но все равно, все равно, думал, раз такая любовь, лучше и вправду обходиться пока, и пусть, пусть. Спали они отдельно, и все было «чисто», а впереди… и тут он все-таки щурился, изо всех сил стараясь забыть то, что с ними случилось. И это-то и было, наверное, уматыванием в сторону, то есть слабостью. Подлостью, по сути. Потому что, уматывая и закрывая глаза, он затаивал на Катю нехорошее, потому что прощать можно только до конца. Ему не хватило тогда силешек, перед ним не было тогда моря и розовых от солнца голодных чаек, и он поверил своей ближайшей хитренькой мысли: время-де пройдет, и все наладится, время — лучший лекарь, и что все перемелется и будет вполне употребимая в пищу мука. А потом приехали родители, погостить, как они сказали, убрать яблоки и — «Ну, как вы тут устроились?» — пообщаться с будущей невесткой. За ужином отец налил мужчинам по сто граммов, а мать молвила: «Женя у нас и всегда был особенный, а теперь… (она не то хотела сказать) а вы, Катенька!..» И заплакала, не удержалась. Катя смотрела в тарелку, а мать потом поправилась: «Вот уберем яблоки и испечем на свадьбу пирог. Так, что ли, Катерина?» Он не рассказывал матери, что с ними случилось, но мать знала. Может быть, вычислила. Ведь все его «море» легло на ее плечи. Он не винил мать, когда на другой день ранним утром Катя сбежала от него с черепаховой своей сумкой, оставив записочку: «Не могу. Прости». Во сне он слышал, как стукнула за ней калитка.
На сей раз документы из института он забирал совсем. Декан пожал ему на прощание руку и сказал: «Ну что ж». И, уезжая, он звонил тогда Кате с вокзала, и она прибежала в тапочках с черными помпошками на тот перрон.
Вот и все.
И снова ему повезло. В Москве поступил, куда и хотел, — в полиграфический, на графику. Рисунки его морские понравились. Кто бы мог подумать?
В общежитии поначалу тоже было хорошо. Леонардо — конструктор, Джиоконда его — не поэзия. Первые два курса только и делали — разговаривали. Что же, если не поэзия-то? Инженерная загадка, шарада в светотени. Любил Джиоконду, но соглашался. Нравилось, что никто не ахает по чужим рецептам. Интересные были ребята… И он тоже не молчал: «Культура есть накопленные человечеством ответы на главные вопросы бытия!» Выразил. Потом, позднее, вспомнил: мысль-то Акимова! Правда, почему ж только на главные? На все, на все, что были заданы. Но здесь неважно было, чья мысль. Всё — всех. Братство! Чай, водка, селедка. Все общее. И не спрашивали и не слушали толком, каждому знай свое выкрикнуть. Но по сути-то — суеты ему и хотелось, видимо. Снова положил ее, Катю, в кошелек, кошелек в сундук, сундук в подвал, а ключ от подвала потерял, забыл где-то, притворился (снова притворился), что забыл… Зато нашел себе на этих сборищах жену, красивую девушку, с красивыми ногами. Не зацапанную, не залапанную. Переживал, вишь еще, чтоб такую. Особенно было важно даже. Перебрался к теще, и вовремя, потому что общежитие все-таки надоело. Жена училась в балетном училище, молоденькая еще, заканчивала, и когда закончила, из-за него, из-за его учебы в институте, ее оставили в Москве, а когда закончил свой полиграфический он, из-за театра ее — его. Эту штуку они еще до свадьбы сообразили, сообща. К тому же у будущей тещи помирала как раз мать, старая старушка, жилплощадь пропадала и пропала бы, коли бы не он тут как тут. Так что и он был нужен, а не только ему.
Жена оказалась ничего, не злая. И работать их в училище научили. Могла. Теща тоже энергичная, московская, тоже как бы работяга. Устроила его с ходу в издательство, хоть и внештатником пока, но снова куда ему и хотелось. Вообще вдруг начало везти. «Потащило!» — сказал бы морской друг Миша. Будто Катя была якорь, а тут вот теперь открылся путь. Фарватер.
Рисовал.
Вставал в четыре утра и рисовал, пока все спали.
И хорошо было!
Потом все на работу, а он опять. За уши оттаскивали в первое-то время. «Обед, обед, обедать пора…» А какой тут обед! Живое тут из неживого. Твор-рчество, понимаешь. Нащупывал, выискивал. Каждую мысль в двадцати вариантах, в тенях, с обводочкой. Вылизывал. Освобождал. Ну-ка, освобождал, ну-ка! А так? А эдак? Хорошо получались мужики. Кучерявые, мосластые, с худыми в клетчатых морщинах шеями. Дед мужик, и другой дед мужик, и отец, по сути, хоть и инженер городской, тоже был мужик. Отчего же не поучиться-то? И в издательстве оценили: добросовестный Горкин, толково рисует, вникает в «чего от него хотят». И на выставке — первой тогда для художников-иллюстраторов — его отметили. В двух журналах две заметки, даже можно было гордиться. Матери отослал журналы, пусть порадуется. Пол из досок, три по диагонали доски, и три мужика. Кучерявые, само собой, мосластые. Стен нет, утвари тоже, а изба будто есть! Видно ее. Чувствуется. Это и есть Тайна художника, писал автор заметки. Как по спинке его гладил. А после, поостыв, сам вдруг понял: как раз главного-то в рисунках его и нет — лиц! Лица у него не выходили. Отсутствовали. Вместо них бороды, носы, равнины и плоскогорья. Дыры даже. Тогда-то и понял по-настоящему, когда про избу свою прочитал. Хоть и гордился, хоть и отослал журналы матери. Сначала, горячий еще, бросился: счас-счас, ну-ка, ну-ка; бумаги одной с полкомнаты перевел. А после сообразил: не получится! У него не получится. Именно. Он второй. Он иллюстратор. Дай ему идею, он ее примет, пластически ее выразит, с тенями, с обводочкой, — да и то если идея достаточно жеваная. А сам он… сам он еще и не начинался. Потому и в полиграфический, поди, пошел, чуял: не до Джиоконды ему теперь.
Обидно, конечно… Но ничего!
Понял и успокоился. Нет и не надо. И так ничего.
И с ребенком было примерно то же.
Жена поначалу хотела, давай, давай заведем масенького (с карьерой у нее не пошло), и теща морщила уже глазки: давайте, ребятки, давайте! Но он выдержал. Нет! Не знал даже точно почему, но чувствовал — нельзя! И выдержал. Выдержал, и тоже успокоилось все. Не надо ну и не надо. Может, и правильно. Не очень-то, мол, и хотелось. Жена бросила свой кордебалет, набрала в Доме культуры шесть групп (три «балет», три «танцы»), и пошло дело. И машину тебе пожалуйста, и квартиру кооперативную. На кухне вечерами совещались: теща, тесть, жена и он. Машину? Квартиру? Но и тут как-то застопорилось. С машиной возиться надо, душу последнюю вкладывать, а квартиру… Так ведь отдельно ж будет! Готовить, стирать — самим; и вообще «о родителях подумать не мешает, кто ж еще-то о них позаботится!».
Он не возражал — думай! Заботься. Он чувствовал себя ненадежным для своей жены и ее родителей; сбоку припека.
Так и жили.
Потом жена поехала по турпутевке в Финляндию и вернулась оттуда красавицей. Расцвела — хотелось, видать, уже расцвести. На него поморщилась (снова курить начал), но промолчала. Похоже, у нее самой что-то там такое было. Завелось. Роман, что ли. Или, как они еще теперь называют от невинности, — интрижка.
Нет, не ревновал.
Ее-то — нет.
Все пошло раскручиваться назад. Задумываться опять начал. Как в школе раньше. Шел за молоком — навстречу рты, ноздри, глаза… Лица ли? Разрезаны, думал, по-разному, расставлены по-разному, а по сути-то одно, одно у всех выражение. Алчба. Рыбы ищут где глубже, а люди… где колбаса! И вечером на кухне жена, теща, пельмени в сметане, и тоже все про все ясно, и что плохо, и хорошо, и как жить.
Лица, думал еще, как супы. Чуть наглости, чуть робости, щепотку бросить тщеславия и чуть-чуть посолить приветливостью.
Снова шел за молоком. Где-то за новыми домами по металлической свае била и била забивальная машина; строили новую станцию метро. Б-бум-ц-ц… Б-б-бум-ц-цц… Звуки дрожали, длились, зависали в воздухе, как мыльные пузыри, один, другой, меньше, меньше, т-тум-ц-ц, б-б-бумц-ц-ц… не останавливаясь, не кончаясь, и поднималась, всплывала опять осевшая было тоска, злоба на Акима, на Катю. И как, как ему теперь было жить? Однажды в магазине, где-то сразу почти после их свадьбы, жена его воскликнула чуть не захлебнувшись волнением: «Ой, мамочки, гляди, какая кофтюля!..» Ой, мамочки… А он рассчитывал как-нибудь прожить со своей женой и «не заметил», хитренький такой, не заметил ее волнения. Бродил, слонялся в одиночку с пустой авоськой по белой своей окраине, вспоминал. Ой, МАМОЧКИ, ГЛЯДИ, КАКАЯ… КОФТЮЛЯ… И била, все била по свае баба — ц-бам-м-м… ц-бам-м-м-м…
Мать писала «спасибо за журналы» и что гордится им, своим сыном, что пусть бы приезжали с женой в отпуск на фрукты (они с отцом жили теперь в Средней Азии, при сестре). «Забирай, — писала, — жену, и приезжайте-ка к нам, до кучи!» Катю не полюбила, а к жене, вишь ты, благоволение.
Бродил. Дома долгие, длинные, одинаковые, как лица.
А ведь еще недавно он принимал все как есть. Как есть, думал, так и надо. Жизнь, мол, — иначе нельзя. Разумные компромиссы с совестью (с совестью!) необходимы и даже нужны. Все мы, мол, люди, и всех нас надо прощать. Ну да… прощать, думал теперь, если пакость твоя позади, если ты раскаялся и не желаешь ее больше. А если желаешь? Если вообще считаешь, что пакость хорошо? Ты мне — я тебе. Ты меня прости, я тебя. Договорились? И жалко, жалко всех все равно. А главное — сам. Сам каков! Бабушку, что жилплощадь ему освободила, так ведь и не увидел ни разу, на похороны даже не пришел. А с женой? Ведь и любовник у нее, если разобраться, потому что сам он ей врет с самой этой подлой их свадьбы. И зачем же, зачем тупел он все эти годы? Чтоб не больно было? Чтобы удобнее?
Унь-тюнь-тюнь-тюни! Уль-гуль-муль-мулички мои! Унички-тюлечки-шмунички!Проснулся. Было светло, те же рядом пустые кровати, а под окном — «уни-тюни-люни» — взворковал приливами тоненький женский голосок над детской, наверное, коляской. Встал и прошел босиком по шершавому полу к окну. Точно! Метрах в трех на чистом утреннем тротуаре склонилась над детской колясочкой молоденькая женщина. Светлые волосы свисали шатром, заслоняя лицо, а она покачивалась, гулькала там со своим ребеночком и шептала. И тот, девочка или, может, мальчик, тоже улыбался ей деснами, уни-тюни-шмуни, и все им с мамой ясно было в жизни до самого-самого конца.
Умылся, позавтракал в кафе (Евдокия Афанасьевна объяснила где) и пошел в горы. В третий раз по той же дороге. Мост и береза над речкой-ручейком были на месте, из-за горы выходило оранжевое солнце, и на верхушке березы шевельнулось несколько золотых листочков. Когда-то, в девятом еще классе, он уходил вот так же в лес, и гладил стволы, молодые, липкие от прозрачной смолы сосны, и чуть не плакал, сам не зная от чего, и радовался, нарочно потом забредая поглубже, чтобы на обратном пути успокоиться и устать. И сейчас береза, такая ясная, законченная, такая хрупко-грациозная, и тонкий, повисший над водой ее ажур, и музыка… Да, да, растения не спорят с тобою, они согласны. Смотрел на березу и улыбался. Нет, никуда он сегодня не уедет. Все у них с Катей получится и никогда, никогда уж не будет по-другому.
Потом придумал себе выход. Чтобы не мучиться, чтоб легче было дожидаться четырех (закончится Катина работа), пойдет-ка он пока в баню. Это гениально, в баню!
Пар был хороший.
Не понимал в этом деле, но мужики говорили, и ему нравилось, что «парок седня ничё», что народу в такой час мало и что один старик даже попросил его «побить веничком». Он побил, а затем по предложению старика побился сам. Спина у старика походила на сморщенную кожаную перчатку, он был грязный, с грязными нестрижеными ногтями на худых лысых ногах, но в венике этом была братская, конечно, бескорысть, и он взял веник и замучился в парной до сладкого зуда в костях, а потом, сидя в предбаннике, наблюдал, как мужики тянут пиво из трехлитровых банок и переговариваются. По предбаннику ходили три белопопых пацана, и странно-грустно было глядеть, как отцы, его ровесники, приучают их уже ко всему этому, к мужскому.
— Ну, давай, Петька, еще разок — и хорош!
И Петька смущенно улыбался и ушлепывал, прикрываясь тазиком от груди до коленок.
…Лежал в гостинице, часы висели на спинке кровати — стрелка двигалась, если он давил на нее глазами. А потом две минуты пятого позвонил в больницу.
Мужской ответил голос: Катерина Ивановна ушла домой.
— Скажите, — попросил, — а какая у нее квартира, номер какой? — Ведь в Москве ему не назвали тогда адреса — Волчья Бурла, больница, чего тебе еще? А вчера у подъезда спросить у Кати он забыл.
— У нее, — ответили, — хорошая квартира, полуторка, на третьем этаже. С удобствами: балкон, горячая вода, телефон. А номер, молодой человек, двадцать семь.
Это опять шутили. Иронизировали.
Ладно, подумал. Двадцать седьмая.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Катя открыла.
Она мыла пол, и из рук у нее, как мертвая белка, касаясь хвостом пола, свисала тряпка.
Подол халата был подоткнут, он увидел белое налитое ее колено и круглую «женскую» руку. Никогда он не смотрел на нее так. И вот смотрел.
И целовал ее, держал ее всю, руки его горели и вздрагивали. Плохо ли, хорошо ли… но и в этом, среди поцелуев и рук, он ведь все равно любил ее и жалел. И ломал, и рвал, и рушил ее, Катю, свою Катю. Уничтожал ее. А она… она хотела этого и не боялась. И жизнь эта долгая — куски ее, обрывки червей, корчащиеся еще, умиравшие, — уходила, исчезала, стиралась, а рождалась другая, новая, лучшая, быть может, и настоящая. Пил, пил свою воду… Дотянулся. Умер и воскрес. Соединилось. Земля и Небо. Ева и Лилит. О господи, да если бы не воскрес, если б только умер, все равно все было бы справедливо и правильно. Все, все. Но он не умер, а остался жить. Он целовал ее. Брови, уши, пальцы, глаза. Он нюхал кожу ее, солоноватую, сладкую, волосы ее пахли родным, невозможным пахли пристанищем, — родник плоти, родник родимой плоти, — и теперь, думал он, жить он будет в ней, при ней, она и есть его дом, пристанище его, прибежище, и кончилась, кончилась одинокая убогая его дорога.
Пахло свежестью, водой и воскресеньем. Мама всегда мыла пол по воскресеньям.
— А у меня твои письма лежат, — сказала Катя. — Про Азорские острова.
Да, да…
Есть, есть, стало быть, в жизни Золотое это Сечение, и если я даже потеряю его теперь, думал он, я уже не смогу забыть.
КАТЯ
Холодкова под маской мычит, мотает круглой головой, м-м, м-м, маму, что ли, зовет, бедная, а потом, утомившись, засыпает с мокрыми щеками. Тихо в операционной. Только аппарат наркозный: туф-ту, тыф-тф, туф-ту. Левая нога Холодковой, вернее, культя ее, покрыта простынею, а правую они с Козловым вертят-крутят — влево, вправо, вверх. Мажут: спирт, йод, снова спирт. И вот здесь еще, показывает Козлов, и вот! Верно показывает, правильно (Катя уважает его «мужской» ум), да вот не показывал бы?! Наметила линию, две отвислые (нижняя побольше) губы нарисовала и скальпелем с тихим нажимом в обвод. Тоненький скальпелек, востренький, хорошо им работать, легко. Обвела, меняя наклон. Соединила. Козлов «поле» подает. Молча. Молча — значит, претензий нет, а то б не заржавело, высказал, не тот человек, чтобы не высказать. Вообще-то ампутировать много ума не надо, ломать — не строить, но все может быть… операция ж? Кровь капельками, как рассыпавшиеся бусы из рябины, реденькие, совсем мало капелек. Да потому, конечно, и операция, что мало. Кровь к нижним отделам не проходит как следует, и ткани начинают умирать. Умирают и болят. Сиди ночью и три свою ногу руками. И никто точно не знает почему. Было раньше мнение, что это от курения-де, куришь и вот сосуды от никотина сужаются. И Холодкова в самом деле до сорока лет курила; но есть ведь и некурящие с эндартериитом, а есть и курящие без. Смерть придет, сказала как-то одна больная бабуся, причину найдет. И правильно, правильно, так оно и есть.
Нога упала в тазик. Тазик наклонился и остался так, внаклон.
Это и было то, с чем надо было справиться. Справилась. А Козлов сказал: «Ну вот! Обрубили бабу».
Потом зашили рану, заклеили. Сняли простыню, левая культя сантиметра на четыре длиннее правой. А вся Холодкова метр тридцать теперь.
Козлов ушел в перевязочную, а она, обрубившая, осталась пока в ординаторской. Чаю заварила. Представила себе: ползет Холодкова на четвереньках. На кухню, в туалет. На стул влезает. На кровать. Нет, не получилось! Кто-то другой, незнакомый, призрак, тень, выдумка ее… и не ползет, а мелко, ненужно как-то дергается. Нет! Живая Холодкова лежит там, в пяти отсюда метрах, за белыми дверями операционной, и спит еще, и впереди у нее еще проснуться. И что же… это? Как ей, Холодковой, дальше теперь жить? Водку, что ли, пить? Книжки читать? Поздновато, поди, с книжками-то. На работу бы ей, на почту свою — оператором п/о № 7, как подписано в книге жалоб под словами «Дорогая Екатерина Ивановна! От всего сердца, от всей души…» О-о-ох! И что там на почте оперировать? Входящие, выходящие, дебет, кредит? Или это у бухгалтеров «дебет»? Ну да, а на почте оператор, наверное, телеграммы принимает: ДОЕХАЛ ПРЕКРАСНО ЦЕЛУЮ ПУСИК. А может, к лучшему все? Думать начнет Холодкова, страдать, выстрадывать, выстрадает себе понимание жизни, а? Господи, да на что ей это понимание сдалось? Зачем? Она и так. Плакать да молчать ночи напролет, терпеть да надеяться — кто еще-то сможет? Ты? Нет! Сама-то «дорогая Екатерина Ивановна» не сможет, куда ей! Холодковой родиться надо. Сразу. Богом придуматься. Такие ни жаловаться, ни предавать не умеют. Не получается у них.
Господи, ну зачем же, зачем ей страдать?
И тут… это было что-то вроде видения… показалось, представилось, прозрелось — по лестнице вниз к приемному покою будто бы соступает молодой слесарь Холодков, а маму свою, Холодкову, несет высоко на руках. Лицо у него закрытое для чужих и спокойное, каким и должно оно быть у сына, несущего свою мать на руках, а у Холодковой слезы под очками: «Вот, девочки, какая я теперь, вот какого сына мне бог послал, девочки!» И кивает-то она всем, и улыбается, и ничего, ничего, можно еще жить.
Женя уехал первым утренним автобусом, на шесть сорок. Она сама его и посадила. Потом операция, и вот домой… Нет, не сразу домой: зашла еще в лес и побродила немного с краешку. Березы по вершинам, до пояса, а иные и полностью стояли желтые, медные, золотые, поджаристо-светло-коричневые. У невысоких меж ними кустиков листья походили на кленовые, только поделенные на три отдельных листочка с короткими крепкими стебельками. Они были багряно-красные, почти малиновые, и сливались в запутанно какой-то избыточный, но продуманный орнамент, в ликующую роскошную паутину; хотелось подойти и опустить туда лицо, чтобы утонуть в их запахе, в нежной их роскоши. Одно дерево, зеленое у ствола, дальше к периферии становилось желтым, а потом даже красным. И были деревья совсем облетевшие и черные — это были липы. Над лесом пролетел пузатый, тяжеленький, словно летающий ящер, вертолет и не испортил картины. Будто он тоже был живой.
Шла домой дорогой, которой два дня назад возвращалась из леса с Женей. Снимала с юбки малюсеньких серых ежиков. Какая-то хитрая трава распространяла таким десантным способом цепенькие свои семена. Листья тополей, росших вдоль дороги, были, оказывается, не желтые вовсе, а пятнистые. Пятна зелени среди желтого или пятна желтого среди зелени… Ах, все равно! — думала. Шла и наступала на них сапогами.
Недалеко от дома у обочины валялся мертвый ворон. Ветер поднимал большое черное крыло, топорща перья, и издалека на миг показалось, что птица еще живая. Машиной ли стукнуло его, пацаны ли из рогатки?
И дома, чтобы успокоиться, затеяла-придумала себе стирку. Осталась Женина рубашка (сама же попросила ее оставить) и простыня, на которой они спали этой ночью, добавила к ним еще что-то, и вот придумала, чтоб как по правде, чтобы уж не сомневаться. Да и не сомневалась теперь. Если бы девять лет назад на даче той на речке Чемровке, где жили с Женей после возвращения его с моря, где они так оба мучились, если бы ей сказали тогда, пообещали: погоди, Катенька, дай срок, будет, все у тебя еще будет, и лучше еще, чем ты в шестом классе себе заказывала, — она поверила бы. И когда закрывала за собой тихонечко калитку, а Женя, глупый, родной, спал, ничего не подозревая, и после, когда уехал в Москву, а она стояла на мокром перроне, и в прошлом еще году, и позавчера… и до самой смерти — будет, будет, будет! Всегда одно и единственное это будет. Будто бы она жила уже однажды на белом свете и все запомнила. Запомнила и вот сверяет теперь: было — будет. А тот кусочек, где они с Женей в центре круга женихом и невестой, как будто помнила лучше всего. Потому-то и не усомнилась, когда удобно было усомниться, потому и поверила, увидев Женю у больничных ворот. Сразу и опять. И ничего, ничего, что он пока женат, он приедет, он вернется к ней, и все у них с Женей все равно будет, все равно!
К простыням добавился пододеяльник, два полотенца, наволочка и немного старого белья. Прошлая стирка была дней пять назад: не успело накопиться. Залила в стиральную машину воду, всыпала порошок, чихнула на дорожку и сидела слушала на прохладной губе ванны, как ворочается в утробе ком. Семейная, вроде, стирка… А рубашечку стирала отдельно. Сама. Вручную. И мылом-то терла, и в руках, и полоскала, и ласкала. Смешно! Поднять, поглядеть на нее — и в воду, будто б спрятать от себя. Игралась. Игралась девочка. А рубашечка желтенькая, маленькая (Женечка-то ма-ленький), и словно бы тишина в ней далекая и покорность. Бери и делай со мной.
Сдурела, в общем.
Потом достала из шифоньера черные пачки с фотографиями, влезла на тахту и поджала ноги под халат. Пачки пыльные, фотки пожелтевшие, пожухлые. Как выложила пять лет назад из чемодана, так и лежали, господи. Вот, вот…
Шли из школы по трамвайным путям, мокрые шпалы…
По утрам на балконе море воробьиного чи́рканья — надежда, и радость следом за нею в Голубом плаще. Тоска, золотой ее в сердце меч, и плакать, плакать по есть, по нет, по будет (которое тоже ведь пройдет!), а там где-то, кажется тебе сквозь слезы, за высокими горами, за синими морями (ах, медленно-медленно движется время!) идет, горит и катится тугими волнами таинственная прекрасная чья-то жизнь. Завидуй: а вдруг да не будет такой у тебя! Жадность, глупость и ох-х, вот она: подлость твоя.
И (доох-хнуть не успев) ты превращаешься в дворняжку.
Ты меряешь себя на его, на Женины, глаза… и ты дворняжка.
Раньше была овчарка, домашняя, привязчивая, любимая всеми. И вот ты дворняжка. Дворняжечка. А на даче на речке Чемровке уж побитая бездомная сука с вылезающей лишаями шерстью на боках. С помойки… с подвала, куда приходилось влезать через выбитое окошко, где ночами влажная гудела труба и крысы шуршали по углам. Спи, спи, собачка, гудела труба, закрой свои мутные глазки, и не страшно вовсе, не страшно, не страшно! Для того, для Акима, она была Катя-Катерина, черноглазая казачка, девушка без имени, никто, пустое место. Но не дворовая ведь собака, нет, не так он смотрел на нее. А Женя так. Ей казалось: так. Она видела себя его глазами и была тем, чем он видел ее. Теперь-то, задним числом, она понимает: Женя вовсе не так смотрел на нее тогда, он вообще не смотрел на нее, зажмурившись просто от боли, но она, она-то видела себя его глазами а была… дворовой собакой. Пожалей, кинь такой собаке кусок хлеба (дача и была похожа на кусок), дворовая собака не станет его есть. Стоять на мусорной куче, поднимать морду, глотать неглотающуюся дрянь, отрыгивать, снова глотать, выгибая спину в затлевающем смертью серо-зеленом гнусе, не плакать, таиться и жить в сумерках — вот, вот оно что такое — дворовая помойная собака! И глубоко, на самом дне колодца все-таки знать, помнить: он, Женя, с ней, ее, он никуда-никуда не денется, но думала про него, и во рту против воли копилась предрвотная горькая слюна, и шкура зуделась грязью, и все вокруг («И он, и он…») отвращали тогда от нее свои глаза.
Хитрая сучка, сбежавшая на помойку. От страха залезшая в подвал. Тупая, гнусная. Останься она тогда, не сбеги с этой дачи, — сама бы поверила! Поверила и стала бы такой, осталась на всю жизнь прощенной с поджатым хвостом сучкой — и погубила бы, все бы, конечно, погубила. Глотать, глотать, привыкая и все меньше давясь, все гаже разрешая себе пищу… Н-нет! Когда ждала вчера Женю, когда он все не приходил, а сама мыла пол и ждала-ждала его, на нее вдруг пахнуло на секунду подвальной старой сыростью, и она испугалась и расхотела его прихода. Да, да, лучше не приходи, думала, лучше не надо. Не хочу, не хочу. Плакать, скулить одной в пустой квартире, не ждать ничего, не надеяться, умереть! Но не опять в эту шкуру, нет!
А Женя все-таки пришел.
И собака та сдохла.
Уже поздно, часов около десяти, позвонили из больницы: у Холодковой психоз! Нет, нет, сказала в трубку, «скорую» не посылайте, я сама. Переоделась и пешком-бегом туда, в больницу свою, благо что недалеко.
Все это с Холодковой как-то и ждалось.
— А-а-а-а, — кричала Холодкова, — а-а-а!
Широкий гладкий в переносице курносый ее нос был в мелком, росинками, поту, а глаза упорные глядели мимо, не узнавая, в далекую куда-то даль.
— А-а-а!
Острый психоз, убежище от боли.
Ноги, культи ее — успели уже! — прикручены простынями к койке, а дежурный врач, бледно-красивенький мальчик-интерн из терапии, на них, на культи эти, на пустое над ними одеяло не глядит. Вызвал, дескать, сделал свое дело, а теперь вы, пожалуйста, ваша работка-то. Он же, мол, себя расстраивать не желает. Ему, видишь ли, тяжело, голубчику, на эти культи смотреть. Жалостливый он. Ладно! Всех отправила, осталась с Холодковой одна. Развязала простыни.
— Сволочи, — шептала Холодкова.
А она гладила ей руку: ну-ну, ну-ну, успокаивала и ее и себя. И сволочи, думала, и не сволочи. И так и не так. Все, по-видимому, сложнее, все не так-то, наверное, просто. Ох, думала, расспасительная наша диалектика! И смотрела, как спит Холодкова (та уснула), как отходит, отмокает, расслабляясь, ее лицо в мелких горестных морщинках.
А потом Холодкова проснулась, повернула к ней голову и сказала такую штуку:
— Вы не смогли бы (не называя по имени-отчеству), вы не смогли бы, — сказала, — дать мне? — И подняла тяжелые веки над светлыми глазами. В упор.
— Смогла…
— Я одного человека любила, — зашептала Холодкова и осеклась. — Раньше.
И отвернулась к стене, как когда-то Сева, как все, как сама бы она отвернулась, когда некому и не от кого ждать. Когда один на один — и стена.
Господи, думала, господи, дай мне сил быть с нею и не бросить ее.
— Если вы умрете, — сказала она вслух, — я тоже умру.
И стало легче.
— И он меня любил! — как бы не слыша ее, хрипло выкрикнула Холодкова. — И он, и он, и он!
И он ее любил. И он любил свою Холодкову.
«Я буду приходить к ней. Я буду ходить к ней через день. Мы будем разговаривать и вместе готовить для ее сына».
И знала, знала: ей Холодкова не нужна. Не нужна. И не будет она приходить… Нет! Потому что чужая беда — это чужая беда, и не проводить человеку человека до пропасти, если только не канаты, не лианы, не кровная, смертная между ними связь. Дай-то бог до ограды, до крылечка. Во всяком случае ей, «дорогой Екатерине Ивановне», не надо бы так разгоняться. Слабо ей. Слабо. Ну, а кто, кто смог бы!
— А сын? — спросила она Холодкову.
Холодкова усмехнулась: что сын? Она не понимала, о чем ее спрашивают. Бедный парень, он-то ведь и в самом деле будет с нею, он не отдаст ее в дом инвалидов, он, да, да, он сделает коляску с ручным велосипедом и вынесет свою маму во двор. Сначала коляску, а потом мать. И будет выносить и заносить, и снова выносить, и каждый день, каждый день, годы. А потом в один из дней он приведет в дом невесту, веселую заводскую девушку в кудряшках, и та, красавица, однажды вдруг устанет терпеть и про себя незаметненько спросит: зачем? А зачем, спросит она, это вот все? Терпеть?
— Вы хорошая.
Это Холодкова сказала. И улыбнулась, глянь-ка, улыбнулась! Передумала, значит, умирать. Вот ведь как бывает. Вот ведь.
— Хотите, Катерина Ивановна, я вам будущее скажу!
И улыбается, улыбается. Морщинки речками в море, в голубые славные ее глаза. И даже лукавство в них, гадалочье лукавство, ах милая… ах ты моя милая! И хорошо уже, и неловко, и домой бы теперь к себе, к фотокарточкам своим, а Холодкова берет ее руку и, щекоча, водит курносым ногтем по ладони, по линиям жизни ее: «Он приедет, Катерина Ивановна, он вернется, вы ему еще сына родите, вот увидите, я знаю!» Она знает. И радуется, и светится вся, простая душа, забыла свое горе, радуется за Катерину Ивановну свою.
О господи!
Было темно, шла домой, и тоже улыбалась, и, кажется, тоже плакала.
Но чисто плакала, без себя, без собственной к себе самой жалости. Любить, думала, осторожно и нежно, до самого-самого донышка, не оставляя запаса на черный день. Черный день наступил, вот он! И мы не умрем пока с Холодковой, мы еще поживем и поучимся.
Где-то тут же у обочины, не доходя немного до дому, должна лежать черная птица, ворон. Но было темно, а фонари освещали одну дорогу.
Приоткрыла дверь, вынула из замка (плыч-чк-чк) ключ и впервые за Волчьи эти годы загадала: ну а вдруг? Если Женя там, за дверями сейчас? Дала ему второй ключ и забыла, а он вот не выдержал, не сдюжил в разлуке и дня… Может такое быть? Может, может. Только нет там никакого Жени. Уехал Женя. Снимай плащ, волчица, вздевай свои старые тапки и — пожалуйста, пожалуйста — проходите-ка в комнату. Здрассте!
И вправду: на тахте фотокарточки, а верхняя его — Женечки.
Взяла в руки и пошла ходить туда-сюда с угла на угол, вглядываясь, любуясь, ходила как сумасшедшая, как родившая только что мать. Мальчинька ты мо-ой, курточка ты моя вельветовая, замочечки вы мои на кармашках! А кто курточку шил? Кто? Ма-а-ама шила. Мамочка, мамочка, которая нас не любит, и пусть, пускай себе не любит, мы на нее не в обиде, понимаем-с. Сыночек ведь, сыночек, а сыночек-то фыр-р на море простым матросом, — а из-за кого? Понимаем, и не в обиде. А волосы-то у сыночка нашего вон какие, врастрепочку, не догадаешься, какого даже цвета, сивые, сивые, что ли? Впрочем, он, Женечка, и весь незаметный. Пока не всмотришься. А всмотришься (давай-ка, давай!) еще захочется, и чем дальше, тем больше. Любимая ее фотография, девятый класс. Наводка на резкость подгуляла (ее наводочка, вечный ее ассистентский грех), зато смысл, смысл каков! Вышел из школы, под мышкой папочка, круглая от книжек — замок до середины не свести, молнию-то, и вперед в полный шаг до самого горизонта по белой, так сказать, скатерти. Аж ботинок передний разогнавшимся желтым пятном. Старенький его, Женин, «Зоркий», старый товарищ на коричневом изжульканном ремешке. Сколько же они тогда нафотографировали им, сколько нащелкали! И лес-то, и траву у деревьев, и снег на ней, и плывущие эти фонари во тьме, и луна сквозь ветки березы во дворе его. Старались ребятки. Остановись, остановитесь, пожалуйста. Мгновение! И лицо его, Женино, и лицо. Вот оно: водой под солнцем, лесом на рассвете, костром из высохших белых веточек… И хватит, хватит уже. Иди-ка лучше, девонька, в ванную… в душ… Под горячие — ф-ф-струи.
На стене от висевшего на вешалке вафельного полотенца чернела тень — волчья голова, только в профиль. Даже кончик языка торчал между челюстями. Здорово, серый! И извини.
Горячая вода: размокать и распускаться, холодная — возвращаться и твердеть. Смотрела, как бежит водичка по рукам.
Мой друг
Потом покинул меня,
Но мы играли с ним
В те года,
Мы книги читали вдвоем.
Полотенцем досуха, до красной кожи, и на кухне потом, что там у нас на сегодня? Да… легкий ужин, чай, сыр. И черепаху священную тоже покормить. Ешь, милая. Ешь, черепашка! Да не растратятся человеческие наши чувства! Отрезала ей яблока. Он приедет, думала, приедет, приедет, он к ней вернется — обещала же колдунья Холодкова. Р-раз! — треугольные челюсти выкусили треугольник. Отлично! Кожица у яблока крепкая, — чтоб оторвать откушенный кусок, животному нужен упор. Придавила панцирь к полу. Р-раз! Оторвала, оторвала, слава богу. И еще, еще.
…В ту ночь ей снилось: весна, запах налившихся, готовых уже прыснуть почек и дорога, ленточкой от воздушного змея повисающая в пустоте. Мостик тот, и береза. И будто б кора у березы под рукой холодноватая, гладенькая, а под нею гудят, забраживают соки, и это все опять весна, это все начинается сначала. По ленточке-дороге идет Женя, он в вельветовой курточке, он берет ее за руку, и они идут вместе… идут, идут, а дорога все не кончается и не кончается впереди, и это и странно и страшно, а по бокам дороги ничего нет, и от этого еще веселее и жутче, и она изо всех сил сжимает горячую плотную Женину ладонь. И так она рада, они идут, и это Женя, и как хорошо! И вдруг это уже не он, а тот — Аким, он превратился, — и ужас, ужас дрожью по ногам и усталость, и вот уж она плачет, ей так жалко себя и Женю и как они шли, и Жени теперь нет, и она знает, его не будет больше, и это тот, Аким, гладит ее теплой рукой по голове: не плачь, не плачь, бедная моя собачка, не надо, не надо тебе плакать.
Проснулась и лежала. Глядела в темноту. Слабенькая, беспомощная. Ждала, когда утихнет внутри этот-дождь. А если, думала, Женя и впрямь не приедет больше, не вернется если? Никогда! Да… Там, на отсвечивающем голубой эмалью подоконнике, сидела огромная серая лягушка, под нижней челюстью шевелился белесоватый нежно-мягонький пузырь: НИ-КВА-ГДА! Лягушка, квакнувшая в ночи. Мучили, бывало, таких на физиологии на втором курсе, науку изучали: возбудимость, проводимость… НЕ ПРИЕДЕТ — запрыгала по подоконнику — НЕ ВЕРНЕТСЯ! И кожа мерзла на лице, сжималась пупырышками, словно лягуша эта прыгала уже не по подоконнику, а по ее телу. Влажными перепончатыми своими лапами. ТЫ СТАРАЯ — ква-ква-ква — ОН СЕБЕ ДРУГУЮ НАЙДЕТ, ОН ПОСЧИТАЛСЯ С ТОБОЮ. ОН ВЕРНО, ВЕРНО ПОСТУПИЛ! НИКВАГДА!! Сидела в постели, глядела на блестящий от луны-подоконник, а на полу, как вода в источнике, шевелились круглые серые тени. Тоже как лягушки.
Нет! Что-то нужно было сделать. Сейчас же. Сию же минуту.
Зажгла торшер, нашла по справочнику телефон телеграфа, набрала. Странно было набирать номер среди ночи: виновато.
Трубку долго не снимали, девушка дежурная, наверное, спала. Однако лягушка перепрыгнула уже на кровать и выглядывала теперь из-под одеяла: ни-ква-гда! И выхода не было. Держала, держала у уха трубку, и… щелкнуло все-таки.
— Телеграф, алло! — близкий, теплый девичий голос. Представилось почему-то: ночь, девушка спит, сложив голову на узенькую телеграфную ленту, а теперь вот проснулась, и упругая щека в белых и розовых вдавленных полосках.
— Здравствуйте, — сказала и тоже кашлянула. — Это Бакунина. Простите, что ночью, но мне надо отправить телеграмму. Можно? — Лягушка глядела не мигая из-под одеяла: ГИБЕЛЬ ТЕБЕ, ГИБЕЛЬ ТЕБЕ, ГИБЕЛЬ. Так оно, может быть, и было — гибель.
— Диктуйте, — сказала девушка.
— Москва, Главпочтамт. До востребования. Горкину Евгению Евгеньевичу. Слышите?
— Слышу, — сказала девушка.
— Жду. Буду ждать. Катя.
— Жду, буду ждать, Катя, — без интонации повторила девушка. — И все?
— Все.
Девушка помолчала, записывая, по-видимому.
— И спасибо вам, — сказала еще девушке, — завтра я зайду. Простите меня.
— Ничего, — улыбнулся голос. — До свидания, Катерина Ивановна! — И гудки.
Значит, девушка знает ее. Это хорошо. Пусть, пускай знает. Пусть все знают, как расправляется она с ночными лягушками! Вернулась к тахте, откинула одеяло и пырскнула: «ПФРС-С!» — громко на эту лягушку, на ни-ква-гда, на все эти проклятые километры, горы и овраги, на все, что лежало между ней и Женей. Будто водой брызгала, держа в оттопыренной руке утюг, и святой водой кропила свою эту тахту от нечистой силы. ПФРС-С! ПФРС-С.
И лягушка-лягушечка неловко подпрыгнула в последний разок, сползла животом по крутому постельному боку и нехотя, скок-скок, поскакала в темный к себе уголок, в темный угол, где, если пожелает, пусть даже и живет теперь… теперь было не страшно.
В ПОДВАЛЕ
Небо было синее, мазское, словно в детской акварели.
Шел под ним вчерашней своей дорогой, возвращался в подвал, но и дорога и сам будто сменили, чувствовал, теперь мелодию. Все упростилось и убудничилось. Про мужика, брякнувшего вчера в троллейбусе «А ты, лысый, не умрешь!», даже и подумал: да, брат, угадал ты — не умру.
Вымытое синее небо, два плотных облачка у телевышки, и блестящие коричневые крыши домов. Утро!
На остановке народу уже мало. Все, кому на работу, на работе. Подходи, бросай в урну вчерашний использованный троллейбусный билетик, и это тебе все, все твое прошлое. Ни тебе мужика-пророка, ни милой этой ночки в Карининой квартире, ни вчерашнего разговора с Женей. Бросил в урну — и опять снова можно начинать. И хоть сам знаешь, забыть — это только игра (ничего тебе больше не забыть), все равно пока хорошо. Хоть на время малое, да хорошо. Замурзанная бабенка в мятом зеленом пальто оглянулась на него, отходившего от урны, и тут же, будто испугавшись, отвернулась. Да, да, между тем продолжал он свое, утро, каждый день утро, и заново опять, все заново, и веришь этому, опять веришь, хватая ту же вечную наживку. Будто пьешь с этим солнцем отраву — и снова болен, и хочется еще и еще. Чего? Ведь ясно вроде: все уже! Приехали, кончен маршрут, а поди ж, веришь, все равно веришь, что не все. А вдруг, может, еще да нет? Еще покажут. Этакое что-то… о чем ты и не догадываешься. А?! Ох, глупость! И листья вон не киснут уж по асфальту, как давеча, а подсохли, собрались аккуратненько в кучи и тоже ждут. Тоже словно довольны: вот, дескать, и нас, счастливых, скоро сожгут. Вспомнил, кстати, глядя на кучи, что и ему сегодня предстоит убирать в своем дворе, и обрадовался, заулыбался аж, задвигал ноздрями: жизнь, жизнь, все равно, язви е в корень, жизнь!
— Ффа! Ффа! Ффа! — раздалось вдруг сзади.
Оглянулся. Рядом стояла та женщина в зеленом пальто и быстро-быстро шевелила беззвучным ртом, гневно на него время от времени взглядывая. В землю словно, а потом на него, опять в землю, опять на него. Вчерашний смертный страх прихлынул на мгновение к сердцу, пролился горячей струйкой в кровь («Что это? Что это она?..»), но тут же, слава богу, и прошел. На горле женщина держала два грязных пальца, а под ними (заметил) блеснуло железо, да, да, никелированное железо, и он догадался: это трахеостома, металлическая такая специальная трубочка для воздуха. Штука, которую ставят при раке, кажется, горла. Потому и голоса нет, из-за трубочки. И, успокоившись, посмотрел на бабу внимательней. Даже принагнулся, заглядывая в лицо ей: чего ты, милая? Но взгляд его будто ожег ее. Неловко, на залатанных курьих своих ногах она отпрыгнула от него и опять испуганно-быстро, захлебываясь, залепетала. Изуродованное горло, не слушаясь, не соединяясь с разевающимся ртом, выталкивало с сипом «ффа, ффа, ффа», а где-то еще далеко, где-то, наверное, в желудке, странно и страшно (или это чудилось ему?) рождался тоненький, мелкой рябью вздрагивающий голосок: «…такой замечательный… пфа… красивый… пфа… хороший…» Казалось ему, или слова сами складывались в мокром этом сипе и свисте, но только воздух рвался, швыркал в трубке, а женщина трепетала, не могла остановить свою муку, и все оглядывалась, словно ища поддержки, словно он хотел убить ее, будто знала про него что-то ужасное, невозможное, нестерпимое больше знать. Люди отворачивались, женщины, старик, пацан какой-то, раскачивающий в вытянутой руке рюкзачок, кто-то даже улыбнулся: вот, мол, дает, бабочка, а он, Аким, вдруг понял: она ненормальная! Рак глотки и метастазы в мозг. Или еще что-то. Мало ли… Рехнулась от боли или от страха, а он… он тут ни при чем. Ни при чем. Она любого могла испугаться. Ну да, уйти, не мучить человека!
Уходи.
Уходил, а сзади все неслось: «ффа, ффа, ффа». А что, если (усмехнулся он про себя), если она и в самом деле знает про него? Про жизнь его, про девушку эту Женькину. Если про всё — всё?
Все равно, все равно.
Шел, и улица была чистой и радостно какой-то пустой. Промтоварные магазины еще не открывались, он шел мимо и гляделся в их витрины. Глядел, как идет мимо и глядит в витрины. На шее шарф, на плечах плащ. Джентльмен как джентльмен. Чего испугалась дура-баба? Провел рукой по подбородку, побриться бы вот! — а с универмажной витрины из-за гнутого стекла чернопроборный изящный манекен делал ему легкий танцевальный жест рукой. Ну что, сбацаем, мол, Аким Алексеевич, роки-шмоки? И снисходительно, подлец, улыбался.
«Ничего, ничего..» Утро, он идет по улице, и все равно, все равно, черт подери, это было утро!
Купил себе у входа в универмаг два пирожка. «Мяса мно-оого!» — никому и как бы всем сразу взволнованно говорила толстая продавщица в белом, поверх фуфайки, халате. Ничего себе, между прочим, баба. Быстрой красной замасленной рукой накалывала сморщенные коричневые пирожки на здоровенную двузубую вилку, заворачивала «в бумажку» и подавала. Захотелось проверить ее насчет «мно-о-ого», но тут же про это забыл и съел пирожки незаметно для себя. Все равно ведь хорошо, думал. Чувство жизни не от фактов ее идет, а от биологического сопричастия! Во! И засмеялся. На солнышко смотри, на деревья, на воробьев этих. Мало тебе? Солнышко-то есть, и небо есть. И хватит, хватит.
У ворот встретилась (кто бы подумал) сама Любовь Васильевна, непосредственный начальник.
— Аким, — заулыбалась. — Здорово, Аким!
— Здравствуйте, Любовь Васильевна.
Оба и любили вот так поздороваться: улыбнуться и разойтись. Но сегодня и здесь было не как всегда.
— Слушай меня, Аким, — остановилась Любовь Васильевна и наморщила лоб, как бы выражая: чего это я хотела сказать-то? Уж не за опоздание ли думала ругаться? Но нет, оказалось, другое. — Слушай, — сказала она, — ты у нас жениться, что ли, собрался? Правду девки в конторе говорили? Уходить будешь? — И смотрела, щурилась эдак лукавыми глазами.
— Враки! — сказал, но тоже с улыбкой (может, мол, и не совсем враки). Какой улыбки ей от него надо было, такой и улыбнулся. И ничего, получилась улыбка.
— На свадьбу-то зови меня, не замыкивай! Ага?
Кивнул: ага.
— Давно уж тебе пора, — вздохнула Любовь Васильевна.
И нахмурилась. В память, конечно, о маме Лене. С самого его устройства под ее начало порешилось как-то само собой: Любовь Васильевна с мамой Леной были подружками, а он, Аким, подружкин посмертный сирота. Теперь вот Любовь Васильевна справляла как бы маленькую тризну по маме Лене. Не дожила-де мама Лена до Дня, не дождалась, не повидала на своей улице праздничка. А закадычными ж, можно сказать, подружками были! Войну вместе перекуковали… соседками-товарками, мерзли-голодали… барахолки-карточки. Он знал: в войну мама Лена жила в Харькове под немцами, а что там с нею случилось, никому никогда не рассказывала и не вспоминала, что Любовь Васильевна и дружна-то с нею особенно не была, разве вот здоровались добрыми знакомыми во дворе да улыбались, как сейчас он. Но не станет же он возражать добренькой Любовь Васильевне, — зачем? Пусть себе. Кто знает, мир-то в конце концов расселен по головам, извне головы никто его до сих пор не видел. Чем голова Любовь Васильевны хуже? И пережили, и перекуковали. У него так, у нее эдак. Сведения просто не совпадают. У каждого куличка свое его личное болотце.
— Знаешь, Аким, — говорила меж тем Любовь Васильевна, — а тут у нас ровно Женя Горкин объявился. Помнишь, Горкины, в третьем подъезде жили, отец-то маленький еще такой, кучерявенький. Не помнишь? Нет? Вон там вон сидел вчера, на лавочке, с бабами нашими. Я иду мимо, а он отворачивается, не желает меня, старуху, узнавать. Не хочет! А я так узнала его… — И уголки старых накрашенных губ Любовь Васильевны печально опустились.
— Я в курсе, — пришлось «поднимать» неприятный разговор. — Он был у меня. Заходил проведывать. — И сам усмехнулся: проведывать. Замечательно проведал.
— Что ты! Что ты! Был?! — оживилась Любовь Васильевна. — Надо же! Интересно-то как.
«Уф-ф-ф…» Это же надо, шестой десяток — и все интерес, все интерес.
— Поговорили, посидели, — стараясь опять изо всех сил попасть в нужный ей тон, произнес он: — Водки одной чуть не литр выпили.
— Ох ты! Клюкнули! Вот молодцы-то! Встреча, значит, старых товарищей? Это ж сколько ж вы не виделись-то?
И посыпалось, понеслось.
— Рассказывай, рассказывай, — торопила Любовь Васильевна. — Родители-то где его сейчас? Там же, в Средней Азии все еще, али переехали куда, путешественники?
Эк ведь привязалась! Родители, путешественники. Все про всех! Да он-то здесь при чем? К нему-то чего она цепляется? Впрочем, подумал, сам же виноват. Погода, видишь ли, хорошая, солнушко, воробушки. Поулыбаться захотелось. Давай, давай, улыбайся теперь!
— Он, Любовь Васильевна, художник. Книжки иллюстрирует, рисует. Зарплата хорошая, на жизнь, говорит, хватает, квартира тоже хорошая. Вы извините… но мне… мне идти надобно.
— Иди, — согласилась Любовь Васильевна. Как-то даже сразу. Будто сама уже жалела, что затеяла разговор. — Иди-иди, — повторила еще, — ступай, Аким. Потом дорасскажешь. — И в землю уставилась, замолчала. Обиделась, что ли, на него?
«А-а… Все равно!» Поклонился ей и пошел.
На кухне пахло куревом, выдохнувшейся водкой, кислым. На столе рюмки, тарелки, консервная банка с окурками, с присохшими к стенкам каплями томата… Ладно, решил, начнем-ка пока уборочку, самое верное дело! Составил посуду в раковину, открыл воду и, помочив тряпочку, аккуратно вытер сперва стол. Ничего, ничего, думал, пройдет сегодня, наступит завтра, а там, бог даст, и послезавтра… вчерашний Женин визит, ночь эта и утро отодвинутся, попритихнут, умнутся как-нибудь, прорастут новым, другим, все успокоится, забудется и позабудется. Есть же и приобретения. К примеру, Любовь Васильевна могла спросить, почему на работу опоздал, не спросила. И по улице шел, хорошо же было? Просто шел и просто было хорошо. Впрочем, нет. Именно на улице, когда глядел в витрину на танцующий манекен, он ведь и вспомнил про письмо. Ну да. От той девушки. О которой никогда, оказывается, вовсе и не забывал. От той, которую… Вчера, за этим вот столом, в ту минуту, когда Женя сказал про сентябрь, он догадался. В самой-самой где-то глубине души. Когда Женя сказал, что она в сентябре сюда приходила. Именно что в сентябре. Сентябрь его любимый месяц и был.
Бросил тряпку, пошел в комнату к письменному столу. В левом нижнем ящике, двумя крест-накрест перевязанными черной ниткой пачками хранились письма, тоненькая от матери и сестры Нинки, и толстая — от мамы Лены. Еще были какие-то давно ненужные бумажки, вырезки, вырывки из журналов, выписки. Письмо, о котором он так старательно не вспоминал со вчерашнего вечера, тоже лежало здесь. Белый потускневший, на ощупь будто повлажневший от времени конверт с отпечатанной гашеной маркой в правом углу. Вынул… «ПРОСТИТЕ МЕНЯ, НО ВЫ, БЫТЬ МОЖЕТ, БУДЕТЕ… ЖАЛЕТЬ…» Девичьим, рвущимся от спешащего бега почерком.
И бросил назад, не дочитал. Не смог.
Значит, ОНА эта и была. Та самая. Черноглазая казачка.
Стало быть, она — Женина девушка.
Вот, выходит, как…
Страшная, смертная, будто последняя в жизни тоска подкатила к самому горлу, и он с трудом удержался, чтобы не завыть. И некуда было деваться. Стой и терпи. Стой и терпи.
Стоял, смотрел в окошко.
Взять, думал, да и повеситься сейчас на той трубе!
Ты глядишь в колодец, а на дне его шевельнулась тень: рыба не рыба, жаба не жаба, змея не змея. Н-нет! О-о, нет. Он знал: это он не сумеет никогда. И раньше, и после, и сейчас. Хотя раньше была иллюзия: если понадобится, сможет. Теперь иллюзии не было. Давно.
Ну, и… хорошо.
Вернулся в кухню и лег, руки под голову, на оттоманку. В кухне у него стояла оттоманка.
С потолка в углу свисала лохматая от пыли паутина, длинный ондатровый хвост. Бросил, видать, ее паук, замучился, зачихался и бросил. Пошел искать, где получше. Включить вот пылесос да повытянуть всю эту пакость! Мать говаривала, бывало: эх, живи, сынок, не как хочется, а как придется! И вздыхала. А как придется-то? Как жить? Мать… Года два назад все же съездил на ее могилу. Нашел. Маленькая могилка, осыпавшаяся. Отцовская тоже была тут в одной с ней ограде, перевезла сестра Нинка давно уже с полустаночка, чтоб вместе им лежать. И видно (кладбище деревенское), что за могилами Нинка ухаживала: и оградушка была, и памятники деревянные, и даже фотографии. У отца вместо верхней губы черные усы трапецией, глаза выпученные, остановившиеся. Пучил их сквозь желтые пятна на заплывшей фотокарточке, словно сам не очень-то жалел, что умер. А мать… Ее могила покороче, пониже отцовой, и края на ней поосыпались. Умерла позже, а могила старее. Просидел тогда на лавочке до самой ночи возле них и, когда пошел дождь, не выдержал все-таки, лег на материну могилу.
…В Лазаревке, в деревне, его встречали как родного. Он и был родной, родной Нинкин брат. Ее муж, бригадир строительной бригады, работавшей в колхозе по договору, звал даже к себе. Хорошие, обещал, будут деньги. И Нинка радовалась: братка, братка, оставайся у нас! Ему и самому хотелось. Жизнь тут, в деревне, никуда, казалось, не стремилась, не неслась и не впадала. Стояла себе болотом или кружила через одно и то же, знакомое. Всю ее целиком можно было чувствовать. Но не остался. Поздно ему, решил. Он не такой уже, как они. И в бригаду к Федору на деньги, на неизбежное при них пьянство он тоже не пойдет. И в скотники или в трактористы… куда теперь?! На интеллигентную ж работу здесь своих «интеллигентов» было больше, чем в городе. Обещал подумать, но про себя знал: не получится. И тогда же у Нинки впервые про себя догадался. Никакой такой СИСТЕМЫ, никакого открытия философского не произойдет. Не случится и не получится. Мир остается на прежнем своем месте. Ошибка в расчете, извините. Оплошка! Фига с маслом вместо знака вечности.
Вернулся в Город и заболел. Простыл под тем дождем.
Проведывать приходила Карина. Это было самое у них начало, почти тоже любовь. То есть ему бы, может, хотелось одно время, чтобы тоже. Карина чуть ли не богом почитала его в ту-то пору, а он… в нем что-то назревало уже другое, новое, и Карина, думал, как раз для нового-то этого и будет. Бери меня, говорил ее взгляд, лепи какую хочешь. Приходила, ухаживала, молоко грела на плитке со сливочным маслом. Головку поддерживала, когда пил. Пот с лысины полотенцем промокала. Как в кино.
Тогда и случилось.
Заплакал… Руки пустился целовать. Прости, просил, меня, Каринушка, за всех и за все! «За что?» — не понимала. За то, что подлец. За то, что человека в ней не видел и ни в ком не видел, не хотел. И что умрут все, а забыли, и собаку вспомнил Галку, которая жила еще при желтом путевом домике их. Когда отца взяли на станцию составителем и стали туда переезжать, отец сказал, что отдал кому-то Галку, а сам застрелил ее из охотничьего ружья в поле. Потому что старая была и ночами выла. Карина успокаивала его, как могла. Ничего, говорила, все еще поправится! Вот увидишь. Одушевилась даже, похорошела. «С баушкой на полати залезем, а она давай рассказывать, как они с Кубани переехали. Ти-и-ихо, дрова в печи щелкают, а бабуня рассказывает…»
А он: «С Кубани? С Кубани?» И слезы в голосе.
Очень почему-то умилился тогда этой ее Кубанью.
Ах, ах ты, говорил, кубаночка, ах ты моя девочка!
В экстаз пришел. Я понял, кричал, я понял! Человек — листик на дереве. Каждый на своей веточке, и все — к солнцу! Бери, пей, но про дерево помни. Без него ты — тьфу! Сор. А я (кричал) взял и сорвал себя. Сам сорвал. Раз, мол, не знаю, для чего и куда растет, то, стало быть, можно… рвать. И сорвал. Перехитрить всех задумал. Удовольствий дополучить. Гад. Умом, хитростью хотел взять. Чего ж зря стараться-то, мол, коли все равно ни к чему все. Коли не знаю — к чему. А знать и не надобно! Ты же вот (тряс широкие Каринины плечи), ты ж вот не знаешь — ЗАЧЕМ, и бабушка твоя не знала… а жили! И хорошо ж, не подло. А я об этом ЗАЧЕМ всю свою жизнь думаю — и подлец.
Карина слушала, кивала, волновалась даже, хотя толком, кажется, и не понимала, чего это он так. Чему умиляться-то, чего орать. Но он и непониманию ее радовался. В непонимании и был будто для него залог. Словно чего-то самого, может, важного. Ну да, отнял у каких-то там умных и разумных и отдал неразумным… Живет, думал, такая вот Карина не задумываясь, зачем, почему, как? Не зная и не желая знать. Живет, и все. Низачем. Просто! Почему-то очень мудрым показалось тогда именно это «просто». Живет, дескать, и живет себе.
Так себя раскрутил.
Листочек.
И девушки, думал, женщины эти твои… они ж люди были! Живые. От живых. Вспомни-ка, раскрой глаза-то. У одной дочка была годиков трех, и та, намазанная, охрипшая от красивой своей жизни мать, улыбалась при нем на эту девочку. Слезы ведь у нее на глазах были. Видел же, видел. И собачья их связь, и те же слезы потом где-нибудь в деревянной ее Колупаевке на окраине, ночью, в подушку, перепачканную черной краскою для глаз. Не видел, не хотел видеть, не знал, не желал знать. «Без лиц» хотел. «Вообще…» А они, лица-то, были! Были.
О! О моя подлость!
Господи, шептал, господи, простишь ли ты меня.
Тогда и вправду верил, простит.
…Трубочки-обрубочки. Они шевелятся. Они красненькие и быстренькие, и дыры у них с обоих концов, это и рты их. Толкаются, ерзают, тык-мык, отпихивают одна другую от корытца, тянут, сосут в себя землю (в корытце земля) и ими же, теми же дырами-ртами, присасываются друг к дружке и замирают, подергиваясь. А после — раз, два! — делятся… надвое, начетверо, на восьмушечки. И вот уж новые обрубочки-колечки опять растут, и дыры их скручиваются кулечками в маленькие ротики, и снова корытце, и новый круг. Что? Что? Ах да. Черви! Ну, конечно, тоненькие красные черви, хорошие на чебака. Рыбалка. Это они с Женей Горкиным на рыбалку. На Втором озере так клюет у ржавой трубы. «Это же сон, это мне снится», — не просыпаясь, уговаривает он себя, а черви сплелись уж в комик, в тяжеленький, холодноватенький, со слабосильной шевелящейся теплостью внутри. И гнусно, рвотно, и сбросить бы эту пакость с ладони, но невозможно отчего-то, никак отчего-то нельзя, а черви смеются над ним («И не сбросишь, и не сбросишь!..»), им щекотно, что ли, от его руки?! «А-а-а!» — кричит он в ужасе и просыпается.
Уснул, оказывается, на оттоманке и видел сон про червей.
И крик свой слышал, поймал за хвостик. Тоненький такой, заячий крикчик, жалконький.
И еще… Пред пробуждением давил будто сзади на шею кто, а рука была теплая, нежная и ужасно почему-то сильная. И давила, давила сзади (он на животе спал), прижимала к подушке лицом, чтобы задохнуться ему, чтоб уж до смерти. А после, когда закричал, когда оторвал все же голову от влажной по́том его подушки, тот ушлепал куда-то по полу, шлеп-шлеп-шлепая босыми ступнями-ластами, пофыркивая, пофыкивая под нос себе. «Фух-фух — что-то такое — пэх-пэх, фэх, фэх…»
О господи! Когда ж кончится-то?!
Поднялся с оттоманки. Открыл холодную воду. Ополоснул лицо, шею, лысину свою. Медленно, прижимая и задерживая полотенце в иных местах, вытерся. Грязное полотенце попахивало, но так было и лучше сейчас, жизненнее как бы, обычнее. Походил еще туда-сюда по кухне, успокаивая себя. Соображая. Сосредоточиваясь. Так-с, выйти сперва во двор, поглядеть, что там и как. Поставить на плиту воду для супа, посуду домыть. Еще что? Поесть! Ага, поесть. Вернуться обратно и поесть. Есть охота, а это хороший признак, добрый. Сходит во двор, вернется и поест горячего. Непременно чтоб горячего. Супчику. Поест, а после еще почитает. Из древних китайцев что-нибудь. Лао-Цзы. Ну да. И пройдет.
Солнце ушло за дома, воздух был влажный, промозглый — не верилось уже, что совсем недавно стояла такая благодать. У второго подъезда урчала мусорная машина. У второго — стало быть, поедет сегодня дальше: к третьему, четвертому, пятому. Григорий, шофер мусорки, работник по вдохновению. Иной раз въедет во двор, оставит машину у самой арки, и неси жилец свой мусор хоть откуда — тебе надо! А в другой — он же, тот же Григорий, без всяких жалоб и просьб проедется тихонечко от подъезда к подъезду — и пожалуйста, товарищи, вытряхивайте свои ведра, вытряхивайте, мы не спешим! Жильцы его характер знали и ориентировались, не обижаясь. Сегодня мотор у машины работал, значит, сегодня был день любви.
Завидев и узнав его, Григорий заулыбался навстречу и даже махнул лопатой, которую держал в руках.
Ну, ну. Здорово и ты, Григорий!
Путь к мусорке лежал мимо березы, единственного тут во дворе дерева. Желто-серые листочки застыли сейчас без ветра и будто решались: падать им или погодить. От простыней, вывешенных неподалеку, тянуло сладковатой весенней свежестью.
Пожали руки. У Григория она была большая, мозолистая и горячая. Приятно было пожимать.
Помолчали.
— Слышь, Акимыч, — сказал погодя Григорий, — новость слыхал?
— Какую?
— Семеныч-то, ну что дворником здесь до тебя, помер на прошлой неделе.
— Ну да?
— Вот те и ну да. Прям, говорят, на работе, на дежурстве прямо. Утром приходят, а он, слышь, лежит. Ага. Он на стройке в последнее время сторожил. Сердце, видать, с резьбы-то и того. Полетело! А все водка, все она, дорогуша.
И Григорий, ища будто ответа и зовя в сотоварищи, заглядывал ему в глаза. Вот, дескать, умер Семеныч, а мы-то с тобой как должны отнестись к смерти человека?
А никак, Григорий! Никак не надо относиться. Ведь смерть — это тогда безусловно плохо, когда жизнь — безусловно хорошо.
Но вслух он сказал по-другому.
— «Листьям древесным подобны сыны человеков…» — сказал.
— Чё? — улыбнулся Григорий, не поняв.
— Листьям, говорю, древесным подобны… Это Гомер, Гриша. Иначе говоря, все мы там будем! Ясно тебе?
— Это-то да! Будем, будем. Как не быть?! — И Григорий даже маленько прихохотнул, будто догадавшись о чем-то не совсем приличном. — А хошь анекдот? Вчера рассказали — хочешь?
И он рассказал анекдот. Он был любитель анекдотов.
Анекдот был про очередную комиссию, приехавшую проверять. Григорий рассказывал в лицах, с паузами и изменением голоса. Пришлось стоять и слушать его, держа рот наготове и следя по глазам, где раздвинуть губы, а где сжать. Не понимал ничего, но ни о чем, кажется, и не думал. Просто стоял.
— Ну, блин, а тот им тогда и говорит… — заканчивал Григорий. Пора было смеяться. Скривить рот и сопнуть хотя бы в две ноздри — пхм, да-а. Вот, мол, дает, тот-то!
Так он и сделал. Сопнул.
А Григорий, честно отпахавший спектакль актер, скромно толкал уже лопатой по осклизлым газетным куличам. Ладно, дескать, чего уж! Хороший ты парень, Григорий, погладил Григория он глазами, все-то, брат, закруглилось у тебя. И Григорий, словно б догадываясь о подобных мыслях о нем, догадываясь, но скромничая опять же, в два-три зависающих движения вобрался в свою кабину, дал гудок и хлопнул дверцей. Салют!
Салют, Григорий.
Так он и укатил, лихой мусорщик, не объезжая последние три подъезда. Не пожелал портить эффекта.
Ну и прекрасно, коли так.
Походил, покружил еще вдоль коротенького сегодня мусорного маршрута, подбирал бумажки и другую выроненную из ведер дрянь. Брал прямо руками, ибо рукавицы забыл дома. Брал и сносил в свой бак. Возле трансформаторной будки стоял личный его дворницкий бак, вроде запасного. Жильцам туда выносить запрещалось — для них Григориева машина и была. Однако в бак все равно бросали. И ночью бросали и под утро, и даже известно было — кто. Одни, впрочем, и те же. Вот и сейчас в дальнем правом углу, пустом вчера, валялись какие-то скрученные в узел тряпки, газетные обрывки, оранжевые по бокам осколки кирпича. Правда, именно сейчас-то, в сию минуту, на факт этот было наплевать. Хоть два узла, думал, хоть три… А Семеныча он помнил. Тот жил в подвале, где теперь живет он, и маленькими они спорили, кому спускаться по холодным ступенькам в подвальную яму, когда в нее попадал футбольный мячик. Боялись Семеныча. Не то злой был, не то припадочный какой-то. Того и гляди долбанет тебя чем-нибудь по голове. И матери учили: не трогайте Семеныча, ну его! И вот Семеныч умер, и кажется бы, пожалеть (ведь человек), а хоть бы даже что. Ни травиночки в душе не пошевелилось. Ни былиночки.
Через ворота, у которых совсем вроде бы недавно разговаривали с Любовь Васильевной, и сквозь арку у пятого подъезда сочились отработавшие уже на своих предприятиях люди. Вышли из перенабитых троллейбусов и сочились.
Что ж, пора и ему до дому. Суп себе варить.
И направился было, да задержался опять у березы, не стерпел.
Это ведь про нее представлял он себе, крича, что жизнь дерево, а люди листочки. Что листьям древесным подобны… И что он-де листочек, только сорванный раньше времени от хитренького ума. Листья, листочки, листики. Сколько ж понападало вас на сыру землю, сколько упадет!
Глядел, глядел на свою березу.
Ах, думал, хрустальная эта ее крона прозрачною музыкой. Гибкие ее, изломанные в суставчиках веточки вниз. Мягкие, словно пушистые. Плывущие эти ее волосы в холодной воде осени.
Дома, как было и задумано, помыл руки и стал варить суп.
Варил. Бросал в кастрюлю соль, лавровый лист, морковь, пшено, картошку потом. Отдельно, на маленькой сковородке жарил сало с луком-чесноком, приправу. Вода в кастрюле булькала, сало стреляло по щекам, а пахло чесноком с луком, соленой деревенской свининой и где-то, будто далеко, лавровым листом.
Дело было так, рассказывала мама Лена: жили-были две лягушки, жили-были и попали в крынку со сметаной. Попали и начали тонуть. Ладно, все равно погибать, рассудила одна, какой смысл дрыгаться? И пошла себе на дно. А вторая — нет. Не знала для чего, не знала ЗАЧЕМ, но ногами болтала и тонуть не хотела. И не утонула. Сметана от болтанья стала маслом, лягушка от него оттолкнулась и выпрыгнула из крынки. Так и ты, думал теперь, помешивая варево свое, утонуть решил, пропасть и погибнуть, логике поверил. Друга себе нашел — логику! Ах, глупый, да ум, да логика эта вся — это же… это ж карманный фонарик для поиска корма под ногами. Тактика. Короткие цели. Ну куда с ним на такую крепость, как ЗАЧЕМ!
Помешивал. Вода пузырилась, густела под его ложкой. Это сваренная картошка распадалась и белила ее. Попробовал на вкус: пф-ф-ф! Ничего! Скоро будет готово.
Да кто ж подумать-то мог? — продолжал размышлять. — Раз не видишь смысла, решаешь, что его нет. А… есть он? Есть! Есть. Должен быть. Два года тому — могилы, Лазаревка и горячее Каринино молоко с маслом в большой мамы Лениной кружке. С того самого масла он ведь и выпрыгнул тогда. А может, сообразил наконец, не потому тебе плохо, что жизнь плоха и бессмысленна, а потому, что сам ты бессмыслен и плох. Как плохое дешевое вино, как женщины, с которыми можно не любя. Удовольствие же то же, кто же возразит. Бери его, ешь. Сперва будто даже из принципа, а потом привыкнуть, привязаться, заразиться, полюбить. Да, да, полюбить ЭТО — брать и не платить. Брать и не платить. Без лиц чтобы, без ответа. Для одного чтобы себя.
И все-таки… платить! Ну да, щепками забора, кусочками души, бессмертия, может быть.
И мрак, и тоска, и серая впереди без края ночь.
Платил. Платил все-таки.
Каринино молоко и еще Кант. Книга. Не знаменитая та о чистом разуме, а вторая, потише. В душе твоей бездна, тихо объяснял мудрый философ, в ней молкнет маленький лягушачий твой рассудочек. Если и есть в тебе что поумнее хитренького его, то это как раз тот самый забор, который ты нарочно в себе разрушал.
Сам уж догадывался, да все словно боялся догадаться.
Как верно, восхитился, прочитав, как это верно!
О Иммануил!
О мудрая вторая лягушка!
Так вот Единство, мревшееся ему в молодости. Вот разгадка. Забор не разумен, он выше разума. Важнее. Главнее. Не нужна никакая новая система, есть ответ, давно уже, века, есть! Господи, господи, какой же он был дурак.
И в самом деле — стало хорошо. Хорошо жить. Радовался: хорошо! Полюбил всех. Карину, Любовь Васильевну, людей, всех. Ну что ж, думал про Карину, что она такая бабариха, пускай. Значит, Так Надо. На другое, стало быть, не наработал. Да и чего уж прибедняться? И в ней ведь есть. Есть! Вон как она его выхаживала. С ее масла он и… Да, да, конечно же, а Сашка, размечтался, будет тебе сыном, наградою. Сашка, Саня, Сашок. Эх! Ходил как сумасшедший по улицам, ноздри раздувались — жизнь! И цель, и единство, и все. С Кариной пока оттягивалось (она словно сомневалась на его счет, прикидывала и примеривалась), но сам-то он не сомневался уже, верил, искренне верил: будет! Будет, верил, будет еще у него жизнь. И вот явился Женя, каменный гость, и все вернул. Взболтнул его, как отстоявшуюся бутылку. Осевшая было грязь поднялась к горлу, застила опять свет и все, все теперь оказывалось ложью. И злость, и вечная его вина, и личное беспросветное бессмыслие. Выбрал, говорил когда-то мужичок в библиотечной курилке, выбрал, так иди до конца. Вот и иди! Нельзя прожить жизнь сразу обеих лягушек. Не получится, брат.
Но и это на сегодня было еще не все.
От стены, от белой бесконечной ее известки затемнела точка. Точка эта росла, близилась, крутилась кругленькая, и вот уж она не точка, а голубое перевязанное крест-накрест покрывало с прогоревшими коричневыми дырами от утюга. УЗЕЛ, вспомнил он, узел в мусорном баке. В правом дальнем углу. «Это же… это же…» — ух, какая мелькнула догадка! Выключил плитку, набросил на плечи фуфайку и побежал.
По дороге он запнулся: ссадил об асфальт руку. Но в баке в самом деле был узел. Ощупкой нашел гладкую прохладную сверху ткань и потянул на себя. Это ребенок, думал, выкидыш семимесячный, кто-нибудь родил и сунул потихоньку в бак. Цыганка, может, или бродяжка, или согрешившая несчастная девица, вовремя не сумевшая избавиться. Мало ли случаев? Вытащит и понесет к Любовь Васильевне — к кому же еще? Они обложат дите горячими бутылками, и Любовь Васильевна заплачет над ним по-бабьи. А потом — или нет! — сразу, он позвонит в «скорую», и мальчика (а это мальчик) отвезут в Дом малютки, где он, Аким Алексеевич Мокшин, скажет: это Мой Ребенок, это я нашел его в мусорном баке! И если Карина согласится, у них будет двое сынов: Сашка и Алешка, в честь деда — путевого обходчика Мокшина, и Сашка — в честь великих поэтов. А если она откажется, они проживут и вдвоем. Так он решил, пока тянул узел на себя.
Но когда дотянул до передней стенки бака (тут было посветлее), никаких крест-накрест веревок на нем не обнаружилось, никакого голубого покрывала. Грубая материя, сукно, скрученное само по себе, посредством, наверно, штанин или рукавов, если это одежда. И когда понес сверток к фонарю, подозрительно как-то легкий, надежда, что не подвох, что снова он не обманулся, еще была в нем. Жила еще. Ну да, это оказались тряпки, выпачканные известью, обрывки старых газет и ничего, и больше ничего. Ничегошеньки. Кто-то делал в квартире ремонт и просто выкинул лишнее. «Хы-гы-г-г!» — засмеялся он тихонечко. Смешно.
Ведь и тогда у Сашкиной кровати ночью и сейчас тут он прекрасно уже знал: ничего нет, нету, и ничего больше не будет, финита! — и вот обманывал, все равно обманывал себя. Так в детстве зарывали в землю под стеклышко «секрет», а потом «находили». Очень уж, видать, хотелось обмануться. Очень.
Сидел на лавочке и смотрел в окошко на третьем этаже. В желтом полусвете, идущем из соседней комнаты, плавала там, парила, чертила округлые линии полная золотистокожая женская рука. Пятнадцатилетним мальчиком сидел он вот здесь на этой самой лавочке, а там, в том же окне, было тогда то же. Женщина, готовясь ко сну, расчесывала перед зеркалом волосы. И все. И только-то. А он смотрел. На медленные ее, длинные, уходящие в темноту движения, на щеку и бровь с лоснящимся подбровьем, на приколки, зажатые в сокрытых тенью губах. Кто она, красива ли, как ее зовут, он не знал. Быть может, он встречал ее среди прочих, во дворе и даже здоровался. Возможно, это уже и не она теперь, а старшая ее дочь или младшая сестра. Возможно, и вполне. Да только дело от того не менялось. Эта женщина была сокровенная, тайная его тайна, к которой (показалось ему сейчас) он так и не приблизился ни на шажок. Вот, глядел, отклонилась, вот тряхнула, помотала из стороны в сторону головою, пробуя тяжесть роскошной своей короны, — и тот же в животе его холод, будто предвестием далеких бед, предчувствием немыслимого, невозможного еще счастья. Снова, да, снова и опять. Нет, он не жалеет, не раскаивается в прожитой жизни — он сделал то, что должен был сделать, что решил в те свои пятнадцать лет. Бог ему судья, если он ошибся. Нельзя было сидеть здесь, смотреть и не мочь. Не снести б ему такую муку. Он и не снес. Что ж, вспомнились ему чьи-то чужие слова: «Я зарою тебя там, где никто не узнает, и поставлю крест, а весной над тобой расцветет клевер…» Красотища, конечно, красиво сказано. И все-таки…
Тут он поднялся с лавочки и двинулся к себе в подвал.
Спать.
ЕЩЕ ЗАХОД
Он слышал ее дыхание, запах ее кожи и ее волос: горьковатый, и нежный, и — как будто б он припоминал его — болезненно какой-то родной. Лежал, глядя на закинутую ее руку, на курчавившиеся под мышкой волосы (словно не Катя, а чужая, незнакомо «взрослая» женщина уснула рядом), на высветленное ее, отдохнувшее за ночь лицо… на доверившееся… на такое, показалось вдруг, не ждущее себе обид, что в одну из тех длящихся секунд он едва не расплакался и не засмеялся разом.
Вылез из-под одеяла и осторожно, босиком, прошел на кухню.
За окном в светлеющей серости утра свидетелем и как бы соучастником прошедшей ночи раскачивался огромный, топырившийся во все стороны тополь… Что ж, друг, кивал он через стекло облетающей лысеющей головой, — бывает, бывает и так! Ветки у него были круглые и тугие еще. (Похожие, только поменьше, тополя росли раньше к скверике у горбольницы, мимо которой юный Евгений Горкин ходил, бывало, в школу. В июне летел, валил с тополей, щекоча ноздри, тополиный пух, взвивался от штанин его с жиденьких полупрозрачных по бокам тротуара сугробов, и так тогда тосковалось отчего-то, так чего-то ждалось, что нужно было придумать для себя какое-нибудь утешение. Пройдет время, говорил он себе, он примется вспоминать, и, быть может, он пожалеет об этом белом пухе… оттуда, из свершенного уже своего будущего.)
А потом, когда пил чай, самовольно на страх и риск хозяйничая в Катином хозяйстве, откуда-то приползла и, поведя головою, остановилась посреди пола всамделишная живая черепаха. Глаза под немигающими ороговевшими веками были у нее неподвижные и спокойно про себя знающие. Это не она глядела ими в мир, а мир с робостью должен был заглядывать к ней в очи и спрашивать: что? И вот, рассматривая сейчас серые чешуйки на кривых ее лапках, так и торчавших из-под крепенького коричневого панциря, он подумал, что истина, открывшаяся ему сегодня ночью, возможно, и есть главная из всех на белом свете. БОЛЬШЕ ВСЕГО ХРАНИМОГО ХРАНИ СЕРДЦЕ СВОЕ, ИБО ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ.
И пора уж было на автобус. Отъезд — дело решенное, к чему, подумалось ему, размазывать надолго прощание?
Одетый, с чемоданом в руке, глянул в последний разок на разметавшиеся ее по подушке волосы, на белую горсточкой руку у правой горячей щеки и тихо-тихо прикрыл за собой дверь.
Уходил, у-хо-дил… спускался ступенька за ступенькой, странный, легкий, печально какой-то счастливый… Отживший будто. Отживший или ненужный больше самому себе.
Но Катя… она все равно прибежала на остановку. Она успела. Успела, как и в тот раз.
Они простояли до посадки молча, и после, когда глядела уже снизу в автобусное окошко, в обоих не было ни нетерпения, ни неловкости, которых он боялся. Можно было так хоть до вечера… или оборвать в любую минуту. Неважно! Автобус, согреваясь, урчал, по проходу ходила, проверяя перед отправкой билеты, толстая, вся какая-то засаленная тетка, а он искал по карманам билет и смотрел вниз, на Катю… Это и были те самые глаза, что рисовал он когда-то мальчиком на обложках учебников. Это были глаза, которые, ни разу не увидав их наяву, он придумал для нее сам. Тетка-контролерша вышла, автобус тронулся, а ему так и осталось — Катины глаза, желтый песок под черными замеревшими ее сапогами и людские чьи-то тени позади.
Приокраинные деревянные домики, темные, одноэтажные, двухэтажные… белые сиротские ряды новых панельных домов в голом без деревца и кустика поле. И дорога потом под мост, и легковые машины у светофоров, троллейбусы и люди, тоже будто бы вспомненные, почти знакомые. Город! Скверик за памятником Ленину, мороженое в фойе кинотеатра Пушкина, где играет оркестрик, где пела, бывало, певичка, смешно, словно специально выгибая бантиком губы над розовыми от помады зубами. «Любовь, — пела, — ах, ах, ах, любовь…» И запах черной из-под снега земли, и лавочки, теплеющие от апрельского свежего солнца и там вон, на углу улиц Спартака и Свободы, у гнутого из дутых труб заборчика… Аким. Лето, вечер, пахнущая далеким невыносимым счастьем дождевая вода по плащам, и белые тонкие его пальцы с болгарской сигаретой поперек. Было ли все? Не было ль? О мой Город. Ночные улицы, лужи с голубыми лунами фонарей. Тополиный пух юности на горячем твоем асфальте. Скажи, зачем, зачем спускалась на меня твоя печаль?
Повезло. Билет на поезд купил сразу. Через несколько часов стоял в вагонном узеньком коридорчике, и все теперь за окном уходило назад: вокзалы — белый и зелененький, мост, перрон с прогуливающейся по нему женщиной в синей железнодорожной форме, подъемные краны, заводик, разъездные будочки и трава, трава. Бурая трава на тусклых этих припутейных насыпях… Все! — думал. Кончилось и завершилось. Кончилось и завершилось. Поезд набирал ход, стукал громче, тверже, ту-ту-ту, ту-ту-тунт. Зашел в купе, улыбнулся соседкам (бабушке с внучкой, ехавшим, судя по бывалому и любопытствующему выражению на лицах, не первые уже сутки) и влез на верхнюю свою полку.
«Кончилось и завершилось, кончилось и завершилось», — отстукивал поезд.
Ле-жал…
Бабушка внизу поведывала внучке, как прошел у них в школе вечер встречи «Сорок лет после окончания». Вечер встречи. Бабушка была не старая, с двумя золотыми коронками среди белых красивых зубов, а девочка избалованно-всматривающаяся, с блестящими черными глазами. Они разговаривали, словно б все еще были в купе одни, или будто он не посторонний, только что вошедший сюда человек, а свой им, родня.
— А затем, — говорила бабушка размеренным назидательным голосом, — мы сели за парты, и каждый из нас рассказал, как он прожил свою жизнь.
Сверху видны были пальцы: худые, суставчатые, в мелких, лоснящихся, как у тополиных веточек, морщинках. Великоватое ей обручальное кольцо бабушка время от времени сдвигала с насиженного места и возвращала назад.
— А двое поженились… У него жена умерла, а у нее муж. Он, Коля-то, ее с восьмого класса любил.
И бабушка вздохнула. Быть может, она любила раньше этого Колю и сама бы смогла еще выйти за него замуж.
Да, да, прислушивался у себя на полке, так и надо, так и должно! Он любил ее с восьмого класса, и прошло сорок лет, и они поженились.
— Они же старые, — сказала внучка.
Но бабушка промолчала.
* * *
Поутру на другой день лежал при задернутом шторою окне (ее не подняли, оберегая, по-видимому, его же драгоценный богатырский сон), лежал и тихо, сладко покачивался вместе с вагоном. Да, да, думал, это она такая и идет, жизнь. И пусть, думал. Пусть идет. И слава тебе господи.
Внизу бабушка, вероятно заметив, что он не спит больше, заставляла внучку поиграть на скрипке. Девочка, ее звали Света, получалось, училась в музыкальной школе и была скрипачка.
— Ты, Света, должна, — говорила бабушка, — я обещала Галине Арнодьевне!
И тогда, приподняв над окном штору (даешь свет-т!), придвинувшись и уперев в край полки небритый подбородок, он стал наблюдать, как вытаскивает девочка Света из футляра скрипку, как настраивает маленькую ее и крутобокую, как трет она аккуратно смычок прозрачным смоляным кусочком канифоли.
И лежал на спине, уставив глаза в потолок, в мягкие бирюзовые узоры.
Звук шел упруго: неожиданно, неправдоподобно как-то вблизи. Словно опусти вниз руку — и пальцами затронешь лохматенькую теплую его гривку. И ширился, и кружил уже в груди позабытый снежный восторг, и это опять заходил он на свой знаменитый прыжок. Вираж, въезд, взлет! И нет, нет, не шлепнуться ему на сей раз. Он… он будет теперь с Катей, и будет, будет, будет у них теперь отныне жизнь.
О скри-и-ипка! О юная душа.
Осипшей, вздрагивающей ей… внимал.
Споткнувшись, она подымалась с оцарапанных коленок и несла, несла дальше в розовых детских ладошках то хрупкое и серебристо-прекрасное, что вроде и было-то всегда на белом свете, да вот запропадывало куда-то на беду. Да, да, думал, разгоняясь по ледяному решающему этому кругу, все помнят и чувствуют его в душе, а потому только понимают еще и жалеют порой друг друга. Прости меня, Катя. Прости меня, Аким. Простите, юность моя и жизнь. Я стану, я буду… я еще вернусь к себе. Играй, играй, девочка! Пусть небо за окном серенькое и низкое, пусть зябнет бурая трава на припутейных холодных полянках, когда-нибудь все равно придет весна и сухие мертвые ее травинки вновь нальются зеленью. И потом снова осень, и опять, опять сызнова весна. И так и надо, так и надо.
Примечания
1
НФС — насосно-фильтровальная станция.
(обратно)2
Западный ветер.
(обратно)3
Популярная эпиграмма Эвена Паросского (Палатинская антология, 9, 75).
(обратно)4
«Большой палец вниз» (букв.) — знак, которым публика требовала добить поверженного гладиатора.
(обратно)5
Старшина гладиаторов, свободный человек.
(обратно)6
Световой день в Риме делился на 12 часов.
(обратно)7
Вергилий. «Энеида».
(обратно)8
Кожаные ремни с металлическими включениями; их наматывали на руки кулачные бойцы.
(обратно)9
Строка из стихов неизвестного римского поэта.
(обратно)10
Выражение Луция Аннея Сенеки.
(обратно)11
Вергилий. «Энеида».
(обратно)12
Анатолий — зять Николая, женат на его дочери Свете (средней).
(обратно)13
С. Юдин — знаменитый хирург.
(обратно)
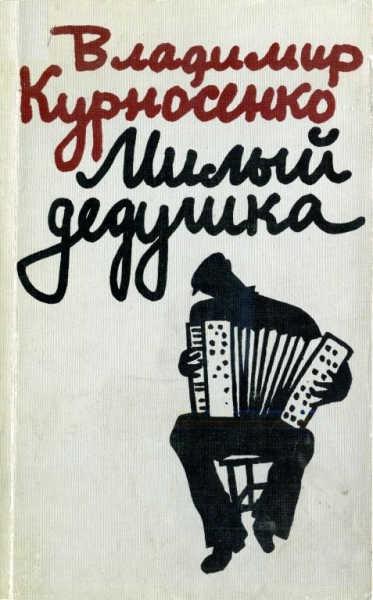
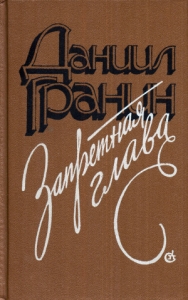

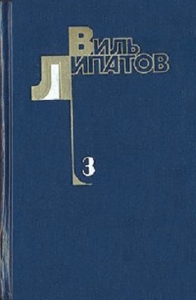
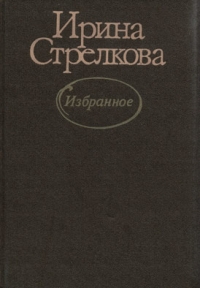
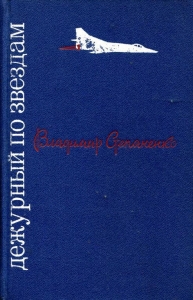

Комментарии к книге «Милый дедушка», Владимир Владимирович Курносенко
Всего 0 комментариев