Меня собирают в экспедицию. Несколько раз на день приходится просматривать вещевой мешок, так как мама подкладывает туда массу лишних вещей.
— Как же можно без пледа? — удивляется она.
— Но ты уже положила мне пуховое одеяло. К тому же спальный мешок…
— На Север ведь едешь! — Мама в изнеможении плюхается на стул.
Папа, засучив рукава, составляет мне аптечку.
— Цитрамон, кальцекс, фталазол, йод, бинты… Тася, я положу на всякий случай валидол.
Папа без валидола не выходит на улицу, и он просто не может представить, как можно «отправляться в такую даль» без валидола. Я не спорю, аптечку можно отдать кому-либо из пожилых сотрудников, который в спешке оставит свою на столе, или на худой случай забыть в вагоне «Москва — Красноярск». Довольный папа подсовывает мне на всякий случай и валерьянку: вдруг расстроюсь.
В квартире такой кавардак, будто в экспедицию на Ыйдыгу собирается все семейство. Экспедиция эта несколько нарушила семейные планы. Папа с мамой думали так: «Окончит Тасенька лесной институт, получит назначение в лесхоз, и мы с ней поедем. (Квартира Родьке — он собирается жениться!) Подумайте только, какой рай: сосны, кедры, можжевельник, грибы, ягоды, витамины, ионы, кислород!» Во всяких ионах папа с мамой разбираются хорошо. Они уже много лет выписывают журналы «Здоровье», «Знание — сила», «Техника — молодежи» и «Вокруг света». Путешествовать они у меня любят до страсти. Всю зиму отказывают себе во всем, откладывают деньги на сберкнижку, а летом едут на Ветлугу, Каму, Чусовую или к морю. Несколько лет подряд ездили на Каспийское и Аральское. Курортов в нашей семье недолюбливают: много народу, тесно.
— Все- деньги на колеса просаживают, прости господи! — удивляется наша соседка по лестничной клетке тетя Поля.
А с осени мы начинаем выбирать, куда поедем на следующий год. На столах появляются справочники, карты, брошюры издательства «Географгиз».
У нас только один Родька (Родион Константинович!) домосед. Он старше меня на два года, уже окончил медицинский институт и работает невропатологом в поликлинике напротив — только улицу перейти. Родион редкостный домосед! Любит больше всего на свете читать, собирает библиотеку, только ее негде разместить. Хорошо, что у нас довольно широкий внутренний коридор, и Родька вдоль всей стены сделал стеллажи.
Мы живем в огромном восьмиэтажном доме, на пятом этаже, в двухкомнатной секции. Маленькую комнату занимает Родька, в большой — мама, папа и я. Кухня одновременно и столовая. Родион влюблен в молоденькую артистку кукольного театра. Не понимаю, как он ее рассмотрел.
Папа всю жизнь работает бухгалтером в госбанке, мама работала только в войну, когда папа был на фронте. Остальные годы она заботилась о папе и о нас.
Отцу пора бы и на пенсию, но он ждет моего назначения. По-моему, просто боится, что мама будет его посылать по очередям, чего он терпеть не может (как и я!). «Ты бы, Костик, съездил на проспект Мира, там воблу будут сегодня давать». Конечно, лучше работать в госбанке!
Институт я окончила этой весной, но назначения в леспромхоз, к великому огорчению Родьки и его невесты, не получила. Меня оставляют при кафедре. А сейчас я еду вместе с профессором Брачко-Яворским на Крайний Север, чему несказанно рада.
Когда я впервые задумалась над выбором будущей профессии, то выбирала именно такую, где больше шансов попасть в экспедицию. Долго я колебалась между геологией, гидрологией, океанологией и географией, пока в девятом классе не прочла «Русский лес» Леонида Леонова.
Не знаю почему, но ни одна книга не произвела на меня такого ошеломляющего впечатления. Дочитав, я не спала всю ночь и к утру твердо решила посвятить свою жизнь борьбе за сохранность русского леса. Действие этой книги на меня было тем более необъяснимым, что главные героини ее — и Елена Ивановна и даже Поленька — категорически мне не понравились. Более того, просто показались отталкивающими. Пусть они такие трудолюбивые, отзывчивы к новому, идейны и высоконравственны, но мне показались ужасно противными чрезмерные их терзания из-за дворянского происхождения матери и несуществующих прегрешений отца. Отношение Поли к отцу просто черствое до самого конца романа. А как жестоко поступила Елена Ивановна с мужем! Я даже всплакнула, когда читала, как Вихров напился с горя — один-единственный раз. А Сережа… тоже ведь ранен тем, что его отец кулак. При чем здесь отец? Важно, каков ты сам! Пусть бы мой отец был каким угодно — и я бы все равно его любила! И никогда бы в жизни от него не отреклась, как это делали некоторые.
Образ Грацианского вызывал во мне возмущение не сам по себе (было бы болото, а черти найдутся), а возмутили меня до глубины души те, кто способствовал процветанию Грацианского. Например, те редакторы, которые печатали в научных журналах его пасквили на работы Вихрова. Вообще, как могло наше общество допустить, чтоб Вихрову так мешали работать? Не понимаю. Брат Родион говорит, что я вообще наивна не по летам (23 года!) и мне еще многое предстоит понять. Не знаю. Но уверена в одном, что ни на какие компромиссы я не пойду никогда. Может, у меня уже есть основания так говорить…
В институте меня тоже считают наивной, причем в обидном смысле: для них наивность — синоним глупости. Ребята, правда, говорили, что женщинам это даже идет, но когда наивность не чересчур. А когда «чересчур», то это лишь раздражает. Что касается нашей профессуры, никто не считал меня наивной, ни один преподаватель. Но они в один голос утверждали: «Терехова — идеалистка!» И, чтоб мне не повредить, тут же торопливо добавляли: «Разумеется, не в философском смысле, а в житейском!» Соседка, тетя Поля, говорит, что я «не от мира сего», но это она потому, что я всегда ухаживаю за ней, когда она болеет. Она еще уверяет, что у меня «легкая рука» и что никакое лекарство ей так не помогает от ревматизма, как если я ее натру муравьиным спиртом. Родион говорит, что ей спирт и помог, а не мои руки. Но тетя Поля на это сказала: «Когда другие натирали, не помог же».
Мама меня считает неумной. Она так прямо и говорит: «Тася у меня хорошенькая, но недалекая. Вот Родион — очень умный!» То, что я и в школе, и в институте шла круглой отличницей, мама объясняет «врожденными способностями».
— Тася просто способная! Единственное, чем угодила в меня. Если бы я не бросила учиться, то была бы профессором или даже адвокатом!
— Из тебя бы вышел отличный адвокат! — охотно соглашается отец.
В каждой семье имеется свое семейное предание, есть и у нас такое. Это было, конечно, очень давно, еще до моего рождения. У моего однокурсника и приятеля Кузи Колесникова в те годы погиб дедушка — старый большевик.
Моего отца тоже арестовали, только мама оттуда вызволила.
Когда его забрали, мама, к ужасу всех родных и знакомых, развила такую активность, что ухитрилась попасть на прием к самому наркому. Представляю, как она его убеждала! Папу выпустили.
Насколько мне известно, это уникальный случай. Папа сидел в тюрьме ровно четыре месяца и три дня. После того четыре года был на фронте, где каждый час — разрушения, пожары, насилие, смерть. А в кошмарах его преследует не война, а тюрьма, где он и был-то, в сущности, мало. Папа говорит, это оттого, что самое страшное для человека — лишение свободы.
По-моему, есть более страшное: когда человек по глупости или из корысти сам откажется от свободы. Например, от свободы быть самим собой.
Мама вынимает из духовки мои любимые пироги с вишней, укутывает их полотенцем — это мне на дорогу — и принимается плакать.
— А вдруг девочка погибнет, вдруг медведь ее там задерет, тогда что?
— Почему же непременно погибнет? — смущенно (у него тоже болит сердце) возражает папа, и у него бьется синяя жилочка на облысевшем виске. Мама порывисто вытирает глаза, задумывается и — в какой раз — спрашивает:
— А разве мне с тобой нельзя в экспедицию ехать?
— Нельзя, мамочка!
— Так ведь мать, отчего же нельзя? А если поваром? Я бы на всех готовила, стирала… ну, там… разводила костер. А ты скажи своему-то профессору!
Обращаюсь в бегство. Кстати, мне действительно следует сходить к профессору.
Нас у Михаила Герасимовича собралось пятеро: четыре девчонки и один Кузя. Все только что окончили лесной институт. В экспедицию из выпускников едем только я да отличник Кузя. Остальные получили назначение в лесхозы. Нам немножко завидуют. Еще бы, я тоже на их месте завидовала бы!
У Михаила Герасимовича так уютно, просторно, светло. Не терплю захламленности в квартире! Потихоньку от мамы, когда она уходит на рынок, я выкидываю ежедневно по вещице (мама потом их упорно ищет, сетуя на склероз), но все же у нас столько хлама, теснота, вещь вплотную прижимается к вещи, всюду выживая ее. А у Брачко-Яворских будто сквозят стены. Правда, у них три большие комнаты на двоих. Но сколько я помню, в столовой на диване всегда спит кто-нибудь из бывших учеников профессора — загорелый до черноты, измученный от беготни по столице, с виду рядовой колхозник из самой глухой деревни, но это всегда лесничий… И в этот день пришел и плюхнулся без сил на диван какой-то коричневый, обветренный мужчина, у которого голова была выбрита более тщательно, чем щеки. Несмотря на жару, он был в сапогах и пиджаке и не без удивления взирал, когда нас знакомили, на Кузину распашонку с абстрактными рисунками.
Жена профессора Анна Васильевна, добрая, хлопотливая, моложавая женщина, в которой есть что-то девическое, весело поприветствовала нас и побежала в кухню, на ходу надевая передник. Она любит молодежь и, учитывая наш аппетит, всегда приготовит что-нибудь вкусненькое: блинчики, вареники, пирожки — прямо со сковородки, пышные, горячие, — и напоит чаем с домашним вареньем.
Все наши уселись рядком на тахте в кабинете и приготовились слушать, как на лекции, а я пошла за Анной Васильевной на кухню — надо же кому-нибудь ей помочь.
— Ты мне только помоги накрыть на стол, сегодня уже все приготовила, — сказала Анна Васильевна. Она как-то странно смотрела на меня. Потом села на табурет. Я поняла, она сейчас что-то мне скажет… Так и есть!
— Тасенька, у меня сегодня был он… Василий Николаевич… Он долго сидел. Ничего не ел. Только квасу два стакана выпил. Он убит. Он так любит тебя. Просил тебя убедить.
— Анна Васильевна! Ведь вы же знаете… у нас все кончено. Еще два года назад.
У всякой девицы есть свой о н. Есть, конечно, и у меня. Вернее — был.
— Хотя бы только взглянуть на детей! Василий Николаевич нас обеих приглашал. Говорит, приходите, пожалуйста, вместе.
— Я не пойду, Анна Васильевна!
— Дети же ни в чем не виноваты. Это даже жестоко. Анна Васильевна прикрывает дверь и спрашивает меня в упор:
— Ты его разлюбила?
— Разлюбила.
— Я тебе не верю! Почему же ты изменяешься в лице, когда только произносят его имя?
— Остаточные явления, Анна Васильевна. Знаете, как после острого нефрита. (Анна Васильевна — врач, и я стараюсь говорить на ее языке.)
— Гм! Я ничего не понимаю. Что за странная пошла молодежь… Два года назад, когда весь институт, вся Москва склоняла ваши имена… («Вся Москва» — надо понимать соседи и знакомые.) Ты же всем тогда бросила вызов: я его люблю! Не смотрела, что он женат. Тогда все тебя осуждали… кроме нас с Михаилом Герасимовичем. А теперь, когда он овдовел… никто ничего не скажет. Наоборот, осудят, если за него не выйдешь. Скажут, не захотела возиться с детьми.
— Пусть осуждают сколько влезет!
— Тася! Это уже нигилизм. Разве тебе безразлично мнение людей?
— Но не могу же я каждому объяснять свои личные дела. Хорошо, вам я скажу, в чем дело.
Я села на подоконник.
— Тебя не продует?
— О нет же! Анна Васильевна, вы добрый и душевный человек. Но как вы сами не поняли до сих пор? Неужели вы думаете, что я тогда испугалась разбить… семью? Семьи никакой не было — одна видимость, фикция. Только отъявленные ханжи могли считать э т о за семью. Но я вдруг поняла, что причина в нем самом. Его жена не была уж такой никудышной, как он уверял. Только слишком слабая и податливая. Мне ее очень жаль… Погублена жизнь. И не потому я покончила с этой историей, что испугалась тогда раз и навсегда общественного мнения. Я его испугалась — Василия. Он — кулак!
— Тася!!! Его родители были середняки, но их раскулачили. И вообще… При чем здесь происхождение? Он научный работник, кандидат наук.
— Он будет скоро профессором. Научные звания он приобретает с такой же жадностью, как его дедушка землю. Он жадный. Он хочет как можно больше урвать от общественного пирога. Захватить себе. Вы его не знаете, Анна Васильевна. Спросите вашего мужа. Михаил Герасимович его понимает лучше. С самого начала он предостерегал меня от Василия.
Анна Васильевна смутилась.
— Ты знаешь, как я тебя люблю, Тасенька… Мне хотелось устроить твою судьбу… Теперь, когда жена умерла…
— Покончила самоубийством!
— Что за вздор ты говоришь? Она же умерла от родов!
— Она знала, что ей нельзя больше родить. Думала, второй ребенок спасет семью. Чтоб удержать мужа…
Я наложила на поднос что попало с кухонного стола и понесла в столовую.
За ужином Михаил Герасимович расспрашивал девчат, довольны ли назначением. Кто доволен, кто нет. Кого посылали на Кавказ, Украину или в Брянское лесничество, были довольны, а кому достался Север — ежились.
— Это же — Север, самые леса! — успокоил профессор. Он стал было говорить на любимую тему — о значении работы лесничего, но, поняв, что сегодня не доходит, усмехнулся и переменил разговор.
Брачко-Яворский у нас самый любимый профессор! Красотой он не блистал, наверное, и в молодости. Круглолицый, почти без шеи, глаза — как чернослив, нос картошкой, полные свежие губы, небольшие усы, какие в заграничных фильмах бывают у «злодеев», невысокий, толстый, с изрядным брюшком, энергичный, подвижной, несмотря на комплекцию. Ему лет под шестьдесят, но он каждый год ездит по экспедициям. Несколько раз даже оставлял преподавательскую работу и путешествовал по Сибири, Заполярью. Он-то Севера не боится.
За ужином в центре внимания неожиданно оказался гость, что спал в столовой. Пока Анна Васильевна сватала меня в кухне, он храпел на всю квартиру, а пробудившись, умылся, повеселел и на вопрос профессорши, не выпьет ли водочки, ответил полным согласием. Почувствовав себя взрослым, лесничим, вдруг присоединился к нему и Кузя. Девчонки прыснули со смеху, но Кузя не обратил на нас никакого внимания. Рядом с плечистым гостем из Сибири он казался бледным цыпленком — длинношеий, худой, голубоглазый, в желтой распашонке.
Выпили они, как и положено лесникам при встрече, за русский лес. И тут девчонки набросились на Владимира Афанасьевича с расспросами.
— Естественно, мы хотим знать, — волнуясь, сказала Лиля Соболева, она сразу раскраснелась, даже вспотела, русая челочка прилипла ко лбу, — я, например, еду в Запечорские леса… Скажите по правде, лесничему очень тяжело? Ну, отсутствие культуры, скука и прочее… по правде?
Лесничий усмехнулся.
— Сказать по правде, девушка, скучать-то нам некогда. Не хватает дня, да и ночи не хватает, — выберется свободный часок, уснешь, как убитый. Столько писанины, что в лес еле выберешься, прямым-то своим делом заняться. А насчет культуры… Радио у каждого лесника есть. Теперь и кино стационарное открыли в поселке лесорубов — от нашего кордона всего четыре километра. Клуб… Молодежь, известное дело, потанцует после кино. Ну, а мне не до кино — некогда! Библиотека? А как же, тоже есть. При клубе. Большая. Если ничего не делать, и то хватит читать на несколько лет, а она ведь пополняется новиночками.
— А как вас снабжают? — поинтересовалась с каким-то соболезнованием Анна Васильевна.
— Ничего снабжают: и хлеб, и крупа, и сахар, ну, там конфеты, консервы — все вовремя. У нас с женой почти все свое: садочек, огород, корова, птица всякая, кабана ежегодно выкармливаем. Орехов-то кедровых в лесу сколько угодно — хороший корм свиньям. Кордон возле самой Ыйдыги. Ловим рыбу, заготовляем впрок. Хорошо!.. А воздух какой у нас!! Мед, а не воздух. Я бы на Москву сроду не сменял. Здесь же одни выхлопные газы от машин задушат — отрава. Пасека у нас с позапрошлого года. Чистого меда собрали полтора пуда. Вот вам и Север!
Девчонки мои приуныли. На Владимира Афанасьевича они смотрели с ужасом, как на опустившегося вконец стяжателя. И это бывший ученик Михаила Герасимовича, так сказать, наше будущее!
— А кто же ваша жена? Ну, кем работает? — нерешительно спросила Тоня Синичкина, которую направили в Брянские леса. Она долго колебалась при поступлении в институт: идти ли на филологический или лесной. Тоже повлиял на выбор Леонид Леонов.
— Жена-то? — благодушно ответствовал Владимир Афанасьевич. — Я ведь на колхознице женился, вдове с двумя детьми. Теперь и своих трое. Разницы не делаем. Я, признаться, и забываю, какой мой, какой — пасынок. Слово какое-то нехорошее: пасынок. Правда? А теперь жена перешла в лесхоз. Бригадир малой комплексной бригады. Она у меня молодец, такая моторная, всюду поспевает. А вообще-то дома теща хозяйка. Хорошая женщина!
Заметив, что все как-то скисли и приуныли, добрейший профессор поспешил взять разговор в свои руки… Оговорюсь, скисли все, кроме меня. Такой уж у меня характер: когда другим не по себе, меня почему-то разбирает смех.
— Владимир Афанасьевич Корчак — очень скромный человек, — пояснил профессор. — Вы лучше познакомьтесь с его статьями в журналах.
Профессор со своей обычной живостью выскочил из-за стола, слазил куда-то на шкаф и разложил на столе, сдвинув снедь, стопку журналов «Лесное хозяйство». Я с интересом посмотрела, что может писать такой «вахластый». Дельные были статьи, и я устыдилась: опять по одежке встретила человека, если в «одежку» включить внешние события жизни этого человека, вроде кабанчика, курочек и отсутствия времени сходить в кино.
— Хорошо! — с восторгом заметил Кузя, почитав. Девчата просмотрели статьи и тоже, видимо, устыдились.
— Да пейте вы чай, а то остынет! — напомнила Анна Васильевна. Профессор сиял, будто похвалили его родного сына. Владимир Афанасьевич смутился.
— Это же Михаил Герасимович и спровоцировал меня, если можно употребить такое плохое слово к хорошему делу. Мне бы и в голову не пришло писать статьи в журнал. Михаил Герасимович сам же запросил меня, а потом взял да и напечатал мои письма… отредактировал их, конечно. Вот эти самые «Письма из лесхоза» с продолжением на три номера! Мы с женой просто ахнули, как из райкома позвонили. Поздравляют все, а я ни сном и ни духом, как говорится. А потом из редакции получил письмо, где просят меня высказаться о возобновлении леса на порубках. Написал…
— Володя, а вы расскажите нам, как живет Машенька! — обратилась к лесничему Анна Васильевна. — Она нам пишет, конечно, такие хорошие письма! Но ведь она ни за что не признается, если ей трудно.
— Скоро ее увидим! — заметил Михаил Герасимович, и по его отяжелевшему от возраста лицу прошла тень нежности и умиления.
— Это ты ее увидишь! — возмутилась Анна Васильевна. — А я-то не увижу! Она ведь ходила к нам запросто, вот как сейчас Тасенька и Кузя. Я ее так любила! И вот не видела столько лет!
Мария Кирилловна Пинегина была когда-то любимой ученицей профессора, он ей прочил большое будущее в лесоводстве. Училась она вместе с Василием, а теперь работала лесничим на Ыйдыге, куда направлялась наша комплексная экспедиция.
— Конечно, ей трудно, Марии-то Кирилловне… — задумчиво отозвался Владимир Афанасьевич. — Работа не из легких, да еще для женщины. Ребенка растит, муж — сготовить надо, постирать, прибрать, пошить… Когда она только успевает, не знаю. Правда, хозяйства у нее никакого нет — куда ей, — живут на одну зарплату. Разве что Ефрем Георгиевич — это муж ее, лесник — рыбы в Ыйдыге наловит. Очень мы заняты, что называется, дыхнуть некогда. Что получается: у нас лесхоз — миллион гектаров, где-нибудь в центральных областях лесхоз — пятьдесят гектаров, а количество обслуживающего персонала одинаково. Конечно, все охватить не можем никак. Дебри к тому же непролазные. Белые пятна на районной карте. Представляете? В нашем лесхозе есть места, где нога человека не ступала. А Мария Кирилловна… она ставит задачи, которые не решить! И решает. Зовут ее: лесная хозяйка! Ни директора, ни главного лесничего, а ее — лесная хозяйка! Народ все видит и все знает. Лесорубы ее боятся и уважают. Никакой поблажки она им не дает.
— А с мужем они хорошо живут? — поинтересовалась Анна Васильевна. Правила разработки лесосеки ее не интересовали.
— А чего же… Он в ней души не чает, Ефрем-то Георгиевич. И сына так приучил. Хорошая семья, дружная!
— Тася тоже любимая ученица Михаила Герасимовича! — бухнула при всех Анна Васильевна. (Все-таки она бестактна!)
Подруги молча посмотрели на меня, удивляясь почему.
Студенты считают меня несколько легкомысленной, должно быть, потому, что я всегда шучу. Когда я получаю на экзаменах высшую оценку, они говорят: «Тасе что — ей легко дается — просто способная от природы!» Выходит так, я вроде полудурочки, но от природы мне легко дается! Дома-то знают, что это далеко не так. Знает и профессор.
Он, действительно, относится ко мне с большим уважением. Я, собственно, не знаю за что. Он один поддержал меня в тот тяжелый день, когда все в институте набросились на меня за то, что я осмелилась полюбить женатого человека.
Какая ирония судьбы… Теперь Вася свободен и снова добивается меня, а я уже не могу его любить. Потому что не уважаю!
Мне вдруг стало так тяжело на сердце. Я испугалась, что заплачу, и подошла к окну… Хорошо, что пускали фейерверки в Измайловском парке. Квартира профессора выходит окнами на Народный проспект. За открытыми настежь окнами шумела ночная Москва. До чего хочется быть счастливой!!!
2. НЕ УВАЖАЮ
Стучат, стучат колеса. Вагон бросает, шатает. Кузя удивляется, почему профессор предпочитает этот «обветшалый» вид транспорта. Самолет подбросил бы нас за несколько часов. Некоторые члены экспедиции улетели на самолете. А мы, молодежь, — с Михаилом Герасимовичем. За окнами то густая тайга — там темно и сыро, то безобразные вырубки. Профессор бранится на весь вагон: «Вот мерзавцы, весь подрост погубили!»
Мне не хочется ни с кем говорить: измотана до предела. Заняла верхнюю полку и там отлеживаюсь. Последние дни в Москве были непомерно тяжелыми. Василий решил во что бы то ни стало объявить меня своей женой до экспедиции.
Это было тягостное объяснение! Он плакал, как баба, — злые, скупые, мучительные слезы. Такой крепкий, здоровый мужик. Нервы ему изменили совсем.
— Ты сходи к невропатологу, — посоветовала я от всей души. Новый взрыв чувств. На этот раз гневных.
— Ты злопамятна, Таиска! Теперь я тебя понял!!! Ты не можешь простить, что я тогда испугался. Пошел на попятную. Да, я испугался. Мне грозили со всех сторон: деканат, бюро, райком…
— Соседи, знакомые, родные жены… — подсказала я машинально, но что-то во мне словно оборвалось.
— Я — коммунист! — сказал он (какой там коммунист!). — Что я мог поделать? Моя покойная жена… Она же была истеричка. Она на все была способна. По-своему она была права. Ведь Майя примирилась со всем, давала мне полную свободу, лишь бы я оставался в семье. Ведь у нас рос сын.
— Знаю, Василий, твоя жена разрешила со мной «жить», лишь бы не ломать семью. Какая гадость! Ты — беспринципный!
— Как ты все переворачиваешь… Я любил тебя! И люблю! А у тебя это, видно, легкое увлечение. Даже не страсть. Тогда ты тоже хотела близости, как я…
Это у меня-то легкое увлечение? Я в свою очередь возмутилась.
— Напрасно я щадил тебя, — мрачно сказал он. — Теперь бы ты была моей женой.
— Ни за что!
— Но почему? Ведь ты меня любишь! Все это знают.
— Слишком много этих всех. И я уже не люблю тебя. Разве бывает любовь, когда нет главного — уважения?
— Что ж, благодарю за откровенность! — сказал он горько. Губы его задергались. Он попытался закурить, но не смог, так дрожали руки. Сунул папиросы обратно в карман.
Мне стало так его жалко, что пришлось убежать на кухню и выпить воды: еще минута — и я бы не выдержала. Но что это была бы за жизнь, если я его не уважаю? Не уважаю за то, что трус, беспринципный, жадный до денег и званий. За то, что согласился на суррогат семьи. Разве я когда-нибудь стала бы разбивать настоящую семью?! Ради сына? А сыну полезно изо дня в день видеть разлад, фальшь, ненависть, ссоры, упреки в измене?
Странно: когда он изменял ей походя, без любви, все молчали и она молчала. А когда Василий полюбил, так все возмутились. Разве они не видели, что теперь-то другое? Кузя вот не думал про нас плохое. Он даже дрался несколько раз из-за меня с ребятами, пока те тоже не поверили. Я сказала Василию: «Будешь свободен, я стану твоей женой, не раньше». Я твердо была убеждена, что, даже не будь меня, все равно Василию следовало уйти от Майи, раз они не сумели построить семью. Иногда безнравственно уйти, иногда безнравственно оставаться.
— Детей взяли на воспитание родители Майи… У нас будут свои дети, — сказал этот жалкий человек. Задобрить меня, что ли, он хотел этим известием? Может, тоже думал, что я испугалась хлопот с детьми? Ох!
— Пожалуйста, уходи, — попросила я.
— Не простишь?
— Давно простила, потому что… — я чуть не сказала, что люблю, но заставила себя проглотить это слово.
— Почему ты бросил писать стихи? — сурово спросила я. Он насупился, замолчал. Поэзия — его больное место… Он предал в себе поэта.
Мне рассказывал Михаил Герасимович, каким пришел в институт Василий. Сероглазый, деревенский парень, сильный и веселый. Сибиряк с далекой лесистой Ыйдыги. Столько в нем было на вид простодушия, напористости, что, хоть и оказалось на экзамене троечка, решили его в институт принять. Подкупили и стихи о лесе. У парня были тетрадки две стихов — неплохих. Как отослать такой самородок назад в Сибирь?
Со второго курса стихи стали печатать. Многим они очень нравились, особенно в исполнении самого автора. Недаром Василий Чугунов получил приз на конкурсе чтецов. Вышла книжечка его стихов под бесхитростным названием: «Хлеб с медом». Критика ее не заметила.
Как-то мне Василий сказал: «Написать стихи — такая же работа, как и всякая другая, были бы способности да труд. Но вот оплачиваются они мизерно».
Вышла вторая книжечка. Чугунов подал заявление в Союз писателей. Его отказались даже рекомендовать: критика молчит. И Василий предпочел другую, более верную дорогу к благополучию. Он вернулся в свой институт, закончил досрочно аспирантуру, со всей настойчивостью своей натуры добился звания кандидата наук. Женился на дочери крупного хозяйственного деятеля (потому не буду упоминать всем известную его фамилию). Не знаю уж, по любви или расчету женился. Думаю, и то, и другое — Майя была красивая женщина…
Через пять лет встретил меня. Говорит, что только одну меня и любил по-настоящему. Не знаю. Но также не удержал, предпочел расстаться, как со своими стихами. Испугался потерять насиженное!.. Вот почему так ранил его мой вопрос.
— Поэзия переночевала и ушла… — проговорил он глухо. Такой сильный с виду человек, а ведь совсем слабый.
Я проплакала всю ночь. До чего я несчастна! Может, выйти за него замуж? Но не могу забыть. Не могу! И — я же его не уважаю.
Василий пришел на вокзал осунувшийся, сумрачный. Принес мне цветов и небольшой сверток, тщательно упакованный в кондитерской.
— Пожалуйста, передай матери, — сказал он, — гостинцы. Она живет там же в Кедровом, куда вы едете. Виринея Егоровна Чугунова.
— Разве у тебя жива мать? — невольно ахнула я. Василий никогда не вспоминал о ней, и я почему-то решила, что она давно умерла, как и отец.
— Жива. Она там с братухой моим, Харитоном.
О брате он рассказывал не раз, видно, любил его, — страстный охотник, лесной бродяга. Работал этот Харитон, не помню уже, где, кажется, в лесничестве. Я молча взяла сверток.
До Ыйдыги мы добирались долго: поездом, самолетом, пароходом, грузовой машиной. Приехали в лесхоз ночью. Там как раз белые ночи, но были дождь, туман, тучи, потому темно. Гостиницы никакой нет. Кого положили спать в конторе, кого разместили у служащих. Профессора пригласил к себе директор лесничества, а меня, заспанную, бледную, — укачало в машине, дороги ужасные, — повезла к себе на лошади (по просьбе Михаила Герасимовича, что ли?) та самая Машенька — Мария Кирилловна Пинегина, о которой шел тогда разговор у Брачко-Яворских. Мне предложили поужинать, я отказалась. Где-то положили меня спать, и я сразу уснула. Последнее, что я слышала, засыпая, — могучий гул тайги, грозный и зловещий. Мне стало страшно и как-то одиноко, но усталость сморила.
Странный сон я видела в ту ночь. Во-первых, меня в нем не было. Каким образом я все видела — неизвестно. Но видела, будто по тайге, через болота, валежник, непроходимую чащу пробирается Василий. Он идет сотворить что-то страшное… Тут я, наверное, начала метаться изо всех сил и таки пробудилась, в полном изнеможении, с сильно бьющимся сердцем, вся в поту. Ох, Василий, Василий, зачем ты мне так снишься!
3. ЖИВАЯ ВОДА
Проснулась я невыспавшаяся, в подавленном настроении — под впечатлением худого сна. Торопливо одевшись и взяв из чемодана полотенце, я вышла в кухню. Мария Кирилловна, напевая, что-то варила и жарила в русской печке и весело ответила на мое приветствие.
— Умыться можно возле крыльца, — сказала она, улыбнувшись, — там умывальник весит. А если хотите, можно спуститься к реке. Только не плавайте долго: с непривычки простудитесь. (Это мне—спортсменке, у которой первый разряд по плаванию!)
Конечно, я спустилась к реке. Утро было серое, хмурое. Дикое безлюдье, белесая тайга. Разделась и прыгнула с невысокого каменистого обрыва в воду. И — заорала, как ошпаренная, так холодна была вода. Все же я поплавала немножко. А не успела одеться, как поняла: живая вода! Будто я стала другой и другое вокруг. Будто мне открылось скрытое поначалу: Красота Земли. Серое, оказалось, сияло, как жемчуг, белесое — голубело и серебрилось, хмурое — радовалось жизни. И необжитая Ыйдыга текла так свободно, как в меловой период, когда появились на земле «первичные» ели, лиственницы, сосны и кедры.
По слабо протоптанной тропинке, влажной от тумана, шла я обратно. Бронзовые стволы старых елей подпирали голубой свод, словно мощные колонны. Серебряный мох пружинил под ногами. Остановилась я и прислушалась. Птицы хором пели здравицу утру. Я слегка огорчилась, поняв, что не знаю их языка, даже голоса не различаю. Кто это такая крикливая надрывается над самой моей головой: ворона, сорока, кедровка? Всех перекричала! Ночной туман, оборотясь маленькими облачками, поднимался ввысь, цепляясь за мохнатые темно-зеленые кроны. И был густ и пах, как мед, как свежий хлеб из печки, воздух. И вдруг подумалось: я на родине Василия.
Непонятно: такая природа должна родить людей под стать ее чистоте, могуществу и свободе.
Когда я вернулась в дом лесничего, там уже ожидали меня у накрытого стола Мария Кирилловна, ее муж Ефрем Георгиевич и рослый, черноглазый, крепкий мальчуган, на вид лет пятнадцати. Потом оказалось, что ему всего тринадцать. Звали его Данилушка. Ростом, дородностью и русской красотой Данила удался и в мать и в отца. До чего же хороша была пара — его родители! Невольно я подумала: если бы понадобилось послать, как образец человечества, жителям других планет — как раз подошла бы эта семья. Нельзя было не любоваться ими.
Бросалось в глаза, что отец и сын боготворили Марию Кирилловну. Высшим авторитетом была она для них, самым дорогим в жизни. Сначала Ефрем Георгиевич и Даня дичились меня, но, пока мы управились с жареным хариусом, картофелем, грибочками, вареными яйцами, горячими пшеничными лепешками со сметаной, они попривыкли ко мне, а я к ним. Мы еще пили чай с вареньем из морошки, как уже пришел профессор. Его тотчас, несмотря на уверения, что он уже наелся отменно у директора лесхоза, усадили за стол.
— Сегодня я в твоем распоряжении, Мария Кирилловна! — сказал профессор, прихлебывая чай из большой чашки. — Членам экспедиции «вольно». Пусть отдохнут с дороги денек, осмотрятся. Покажи нам с Тасей свои владения.
— Ладно, — улыбнулась Мария Кирилловна. — Сегодня и мы устроим себе выходной день. Большой праздник у меня…
— Я потом вас разыщу, — сказал Ефрем Георгиевич, — надо заглянуть за Кенжу. Сказывают, что туда рано поутру пробирался Харитон. Сама знаешь…
Мария Кирилловна озабоченно посмотрела на мужа.
— Захвати с собой объездчика…
— Не боюсь я его угроз, Маша.
— Я буду беспокоиться… А мне хочется, чтоб сегодняшний день запомнился праздником.
— Ладно. Поеду с объездчиком.
Ефрем Георгиевич привычно оседлал во дворе лошадь. Мы вышли на крыльцо.
— Папа, возьми меня с собой! — вдруг крикнул Даня и, получив от отца разрешение, ловко вскочил в седло. Оба, улыбаясь, помахали нам рукой и скрылись за деревьями.
— А что это за Харитон? — не выдержав, спросила я, когда мы втроем углубились в тайгу.
— Да браконьер тут у нас есть один, — пояснила Мария Кирилловна, не оборачиваясь: она шла по еле заметной тропе впереди. — Отчаянный парень. Ефрем несколько раз ловил его с поличным.
— А как его фамилия… этого браконьера? — чувствуя, что краснею, спросила я.
— Чугунов.
— Чугунов? — переспросил Михаил Герасимович. — Брат нашего Чугунова?
— Да. Брат Василия.
— Откуда вы знаете… — начала было я…
— Мы же однокурсники, — пояснила Мария Кирилловна.
— Приезжал хоть раз Василий на родину? — поинтересовался профессор.
— Нет. Как ушел из дому, больше не появлялся. Мать ведь его прокляла. Однако помощь от него принимает. Жадные они очень — Чугуновы.
— За что же его прокляла? — почти робко (что на меня непохоже) спросила я. Мне было неловко перед Михаилом Герасимовичем. Скажет: вот, еще любит до сих пор!
— Она ведь староверка, сама-то Виринея Егоровна. В школу и то неохотно отпустила Васю. Покойный муж ее настоял. Он, правда, редко дома появлялся: работал то по сплаву леса, то на золотых приисках. Искал, где больше заработок и посвободнее. Начальства над собой не терпел. Тоже завзятый браконьер. Только тогда не преследовали за это в наших местах. Считалось: тайга — ничья. Когда Василий вступил в комсомол, мать тяжело переживала. А прокляла за антирелигиозную агитацию. Ну, он не суеверный. С Харитоном у них переписка. Василий ему ружье охотничье подарил — переслал с оказией. Не по назначению пошел этот подарок. Денег на ремонт дома присылал. Вообще помогает матери ежемесячно. Посылки шлет. Как он там живет в Москве?
— Кандидат наук… — неопределенно отозвался Михаил Герасимович, так как я промолчала. — Сейчас работает над проблемой ускорения роста деревьев. Поначалу увлекся этой темой, но, кажется, скоро отступит.
— Почему же? Тема грандиозная. Человечество памятник поставит тому, кто ее решит.
— Слишком дальнего прицела… скорого решения не найдешь. Василий Николаевич предпочитает синицу в руки, чем журавля в небе.
С полчаса мы шли молча.
— Вот наши кедровники! — с гордостью произнесла Мария Кирилловна, останавливаясь.
Мы стояли в чистейшем кедровом бору. Сумрачно и прохладно было в нем. Невдалеке просвечивала Ыйдыга. Солнце, проливаясь сквозь мощные темно-зеленые кроны, сыпалось золотыми кружочками на устланную опавшей хвоей землю, прыгало веселыми зайчиками по серым стволам метровой толщины. Невольно я погладила гладкую, толстую кору. Старые это были деревья — может, еще первые русские землепроходцы отдыхали под этими кедрами двести, триста лет назад. Но они еще были в самой поре — цвели и плодоносили. Сильные, здоровые ветви поднимались к небу, словно канделябры. У подножия валялись крупные сухие шишки. Я подняла одну и понюхала.
— Замахиваются на наши кедровники, — пожаловалась Мария Кирилловна. — Еле отстояла вот этот бор. По Ыйдыге будут когда-нибудь города, здесь же богатейшие месторождения руды. Масса теплых целебных источников: будут северные курорты. Все Заполярье можно обслужить. А кедр растет очень долго, медленно…
Лесничиха подвела нас к широкому потемневшему пню.
— Вот спилили кедр… Молнией его убило. Около шестисот лет ему было. Разве можно такую красу на нужды промышленности? Грешно ведь!!! Перед потомками даже стыдно.
Ну и вытаскала она нас в этот день по тайге: ноги уже подкашивались. И как она ориентировалась — ни троп, ни путей.
Пинегина вела нас чуть ли не двадцать километров — показать Михаилу Герасимовичу одну пихту, «не рак ли у нее». Профессор долго рассматривал растрескавшееся утолщение на коре с вывороченными краями и с прискорбием согласился:
— Да, это, к сожалению, раковая опухоль.
Нашли и метастазы: опухоли на ветвях. Круглое, ясное лицо Марии Кирилловны с румянцем, пробивающимся сквозь золотистый загар, омрачилось.
— Придется ее спилить! — сказала она упавшим голосом.
Потом мы пробирались через ядовито-зеленое болото, отмахиваясь ветками от тучи комаров-кровососов, чтоб посмотреть гипертрофию листьев у травмированной лиственницы. Бедняжке обожгли пламенем костра ствол и корни. В результате — ослабление жизнеспособности и вот — болезнь. Профессор бережно собрал в бумажку удлиненную, исковерканную хвою: «Надо будет сделать лабораторный анализ».
Потом мы перебирались по острым, скользким камням через речку Кенжу, впадающую в Ыйдыгу, продирались сквозь колючие заросли, чтоб осмотреть поврежденную молнией молодую сосенку. Мы ходили по тайге до тех пор, пока у меня от голода не свело кишки, а ноги просто подкашивались. Мария Кирилловна сетовала, что не успеет до вечера показать нам естественные возобновления на гари за Лысой горой, а профессор с воодушевлением рассказывал о применении электронных вычислительных машин при лесных исследованиях. (А еще уверяют, будто мужчины больше едят!)
— Какая точность вычислений! — восхищался профессор. — Запрограммировали на машине уравнение Дракина и Вуевского… Тася, вы не забыли это уравнение?
Я ответила довольно мрачно. Когда я голодная, мне не до уравнений.
— Молодец! — похвалил Брачко-Яворский и даже потрепал меня по плечу. Исчерпав более или менее эту тему, Михаил Герасимович стал с тем же увлечением развивать другую: использование в лесоводстве меченых атомов. У меня закружилась голова и стало тошнить, но, по счастью, спасло чувство юмора. Я стала смеяться, а это всегда действует тонизирующе. В четыре часа нас отыскал Ефрем Георгиевич и напомнил об обеде. Еще немножко — и я умерла бы с голоду. Хорошо еще, что мы по дороге «паслись» на ягодниках.
«Далеко мне до них, до этого старшего поколения, — огорченно подумала я. — Вот я не могу интересоваться никакими проблемами, когда пришло время обеда. А эта лесничиха может, и профессор может. Они о себе забудут ради слабой елочки-подростка всего за тремя болотами и четырьмя сопками. В следующий раз возьму с собой хлеба».
После сытного обеда мы все уселись на крыльце. Посуду привычно мыл Даня, а Ефрем Георгиевич бегал ему помогать — вытирал полотенцем тарелки. Мы держали совет уже по вопросам экспедиции. Профессор «подговаривался» к Марии Кирилловне. Он очень хотел, чтобы Пинегина приняла участие в нашей экспедиции.
Надо сказать, что к этой экспедиции готовились ровно два года. Изучали топографические карты района — дикая непроходимая тайга, сплошные белые пятна на карте! — схемы лесхоза, а лесхоз — миллион гектаров!!! Схемы эти были составлены весьма приблизительно — реки, болота, тропы, переправы, труднопроходимые горные хребты.
Вообще работа по лесоустройству в таежных малообжитых местах требует особой выносливости, способности преодолевать любые трудности и в любых условиях находить выход из создавшегося положения. Конечно, умение ходить пешком (и не евши!), переносить на спине тяжести и т. п.
Всем участникам предстоящей экспедиции еще в марте сделали тройную противоэнцефалитную прививку. Нас специально учили, как оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае, укусе змей, заболевании, как откачивать утопленника, что применять при ожогах.
Лесовод должен уметь плавать, переправляться через реки, находить броды, строить плот, лазить по деревьям, ориентироваться в лесу по звездам и по коре деревьев. Уметь разжечь костер выстрелом из ружья или при помощи лупы, уметь охотиться.
В нашей лесоустроительной экспедиции было человек пятьдесят научных работников. В тайге мы должны были разбиться на отдельные группы, отряды. Геодезисты и помощники таксаторов уехали раньше всех. Они уже проводили геосъемочные работы, прорубали с рабочими визиры и просеки. Таксаторы, лесоводы, ботаники, микологи, фитопатологи, энтомологи должны были приступить к изысканиям с завтрашнего дня.
Одних ученых интересовали ельники, других — кедровники, третьих — лиственницы, как ценная и быстрорастущая порода.
Быстрорастущая!!! С давних пор лесоводов мучает проблема преодоления времени…
Срок от посева древесного семени до «жатвы» — одно, два, несколько человеческих поколений. Тот, кто сумеет вырастить за короткий срок дерево, принесет человечеству самый щедрый и чудесный дар. Одно время Василий очень увлекался этой мечтой. Это была та же поэзия… Вот тогда он перешел работать в научно-исследовательский институт. Там эту проблему начали решать как селекционную. В сравнительно короткий срок вывели ряд ценных древесных пород, которые отличались устойчивостью против морозов, засух, грибных заболеваний, вредных насекомых, высокими качествами древесины. Мне лично кажется, что они уклонились в сторону от первоначальной задачи. Я сказала об этом Василию. Он усмехнулся.
— Какой интерес вести исследование, которое может закончить только твой внук? А мне что от этого будет?
Для докторской диссертации он, несомненно, поищет что-нибудь столь же эффектное, но не требующее столько времени. Результатом своего труда он хочет пользоваться сам… Кажется, я отклонилась в сторону. При чем здесь Василий?
Мы сидели на деревянном крылечке (кто-то недавно вымыл ступени, даже выскоблил их), а Даня мыл посуду на кухне. Михаил Герасимович заговорил о моей работе в экспедиции. Не знаю почему, недаром я долго колебалась между лесным институтом и всякими «логиями», но уже после первой практики я так увлеклась лесной гидрологией и климатологией, что ходила стажироваться в метеорологический институт. Я была на третьем курсе, когда мои небольшие исследования стали печататься в «Лесном журнале».
На эту тему была и моя дипломная работа, получившая высшую оценку комиссии. Увлекающийся Брачко-Яворский даже предложил дать мне звание кандидата наук, что было сдержанно, но решительно отклонено комиссией.
Так вот, маршрут нашей группы в этой экспедиции проходил по Ыйдыге, реке несудоходной из-за порогов. Ни гидролога, ни климатолога в составе экспедиции не было.
Мне предстояло отправиться вниз по течению Ыйдыги на плоту вместе с Кузей и двумя рабочими. Профессору хотелось, чтоб Мария Кирилловна взяла на себя руководство нашей группой.
— Ты ведь, Машенька, уже проделала однажды этот маршрут, — сказал он, — твой опыт очень бы пригодился.
— Да. Однажды я проделала на плотах и на моторных лодках этот маршрут, — вздохнула Мария Кирилловна, — когда погиб мой учитель и друг Сергей Иванович Петров.
Я уже слышала об этой первой экспедиции на Ыйдыгу, окончившейся трагически. Начальник экспедиции гидрограф Петров и его заместитель Прокопенко погибли в самый разгар работ. Петров был крупный ученый, опытный исследователь рек северо-востока Сибири. Евгений Прокопенко — совсем еще молодой человек, веселый и общительный. Он, страстный путешественник, глубоко любил свою Украину, свой Чернигов. Он часто повторял: «Все Прокопенки из Чернигова». И так рассказывал о разных Прокопенко из Чернигова, что Мария Кирилловна сначала думала, что это все его родня и предки.
Оба ученых погибли, утонув во время осмотра Вечного Порога. Мария Кирилловна приняла на себя обязанности начальника отряда и довела экспедицию до конца. Это было еще до рождения Дани. Пятнадцать лет назад. Теперешний маршрут доходил только до Вечного Порога, где шло строительство большой гидростанции.
— И все-таки я всегда мечтала проделать этот путь снова, — застенчиво произнесла Пинегина.
— Ты мне писала- об этом, — с довольным видом подтвердил профессор. — Тебе, как лесничему, это принесло бы только пользу. Ыйдыга ведь на две трети проходит через территорию вашего лесхоза.
Ефрем Георгиевич, кажется, не был в восторге от этого плана.
— Опасное путешествие, — заметил он, кашлянув.
— Ты могла бы уточнить кое-что для своей работы по изучению малоизвестных перспективных пород! — лукаво добавил профессор. Как будто для этого нужно было сплавляться на плоту по реке!
— Ефрем, я поеду… ладно? — спросила Пинегина.
— Как хочешь, — серьезно ответил Пинегин, — если это надо для твоей работы… Только уж я сам сделаю плот.
— Он ведь парнем работал на сплаве плотов по Ангаре, — сообщила Мария Кирилловна.
— Когда Маруся училась в институте, я уже водил буксиры, как третий штурман, — тихо добавил Ефрем Георгиевич.
— Вы любили ту свою работу? — полюбопытствовала я.
— А как же!!! Дело, конечно, трудное… пороги, шиверы, перекаты, но — хорошо! Я ведь на Ангаре каждую сопочку, каждый мысок знал…
Невольное сожаление прозвучало в его голосе. Мария Кирилловна посмотрела на мужа. Он слегка смутился. Огромного роста, мощный торс, большие тяжелые руки, русые волосы подстрижены по-боксерски ершом, силач и богатырь, а смущается и краснеет, словно красная девица. Глаза у Ефрема Георгиевича синие, прямые, доверчивые и добрые. Я не спросила, почему он, речник, бросил любимую профессию. И без того ясно. А теперь он простой лесник. Жена — лесничий, с высшим образованием, пишет какую-то научную работу о дикорастущих. С осени главный лесничий идет на пенсию. На его место назначили Марию Кирилловну. Это уже известно.
— Я и лес полюбил. Разве можно не любить лес? — сказал мне, именно мне, будто отвечая на мои мысли, Ефрем Георгиевич.
— А я, когда вырасту, буду летчиком, — объявил подсевший к нам Даня. — В лесной авиации буду работать, как Марк Александрович. Пожары тушить.
— Молодец, Даня! — одобрил Михаил Георгиевич и ласково потрепал мальчугана за вихры.
— А кто это Марк Александрович? — спросила я.
— О! Это же Лосев! — в полном восторге закричал мальчик. — Такой хороший человек! — подтвердил Пинегин и даже почмокал губами.
— Лосев… Он — удивительный! — задумчиво улыбнулась Мария Кирилловна. — Если кто у нас попадет в беду, он идет к Лосеву, как к другу. Он любит людей.
Вечером вся наша компания была приглашена на ужин к директору лесхоза Андрею Филипповичу Жарову. Я представляла его пожилым человеком, похожим на Владимира Афанасьевича, и была очень поражена, увидев совсем молодого человека, насмешливого, острого на словцо. На вид ему не дашь более двадцати шести лет. (Оказалось, впрочем, тридцать два.)
Мамаша его была довольно эксцентричная, в прошлом акробатка, теперь растолстевшая, отяжелевшая, с тройным подбородком и необыкновенно живыми черными глазами, имела привычку употреблять совершенно некстати некоторые восклицания вроде: але, пли, гоп!
Ее звали Франсуаза Гастоновна. Она была француженка, но по-русски говорила хорошо. Кулинарка изумительная! В жизни я не ела такой вкусноты, как на этом ужине. В двух комнатах было очень уютно. На стенах висели фотографии цирковых артистов, снимки лошадей, ученых тигров и крокодилов и большой портрет самой Франсуазы Гастоновны, еще тоненькой и красивой, в трико и плаще, осыпанном блестками. Рядом висел портрет старшего Жарова, тоже акробата, весьма известного в свое время.
Было весело, просто, оживленно. Чувствовалось, что люди эти часто так собираются запросто. Лесники с женами, главный бухгалтер — холостяк, пожилая женщина-врач с удивительно симпатичным лицом и густыми седыми волосами, небрежно собранными в узел. Она часто курила. Старый лесничий, который уходил осенью на пенсию. К моему удивлению, он оставался жить здесь. Может быть, потому, что он вдовец и ему не с кем было ехать и не к кому, а здесь были друзья и коллеги, которые не раз еще обратятся к нему за советом и помощью. А это пенсионеру всегда приятно и лестно и спасает от ощущения ненужности.
Потом приехал Владимир Афанасьевич Корчак с Ксенией Дементьевной — со своей боевитой женой, бригадиром малой комплексной бригады. Я так почему-то обрадовалась Корчаку, что чуть не расцеловала его. Еще так недавно мы виделись в Москве, на квартире Брачко-Яворских. И вот теперь встретились на Ыйдыге — на краю Земли!
Владимир Афанасьевич был хорошо выбрит, в черном костюме и достаточно современном галстуке. Он поспешил познакомить нас с супругой. Ксения Дементьевна мне тоже очень понравилась: веселая, приветливая, громогласная. Она была толстая, крепкая, как говорят, «сбитая». Живые синие глаза и яркий румянец на полных обветренных щеках и такие яркие, румяные губы! На ней было неплохо сшитое платье из тафты.
Супругам, как запоздавшим, поспешили преподнести по рюмке водки и пододвинули закуску. Они не чинились. Выпили, закусили и снова выпили за здоровье всех присутствующих.
Всех их интересовали московские новости. «Что слышно нового в столице?» Газеты они читали, радио слушали, попробуй расскажи им что нового. Сначала все слегка стеснялись профессора (мировая слава!), но потом освоились, и жена одного лесника даже спросила Михаила Герасимовича: «Правда ли говорят, что будто работникам лесничества увеличат зарплату?»
Добрейший профессор поперхнулся копченым омулем, который он с аппетитом уписывал за обе щеки. Подумав, он решительно сказал, что должны прибавить!
Франсуаза Гастоновна рассказала несколько цирковых анекдотов, все очень смеялись. Мы узнали, что Андрея Филипповича с двух лет учили этому трудному искусству, а с десяти он уже выступал на арене. В цирке он работал до окончания средней школы, а затем ушел в лесной институт.
— Он никогда не любил цирк! Але! Не могу понять — почему? — огорченно заключила Франсуаза Гастоновна.
Андрей Филиппович рассказал со смехом, что его авторитет в лесхозе держится на том, что он в одну минуту залезет на любое дерево, перемахнет с дерева на дерево, словно Тарзан. Как такого директора не слушаться!
— Андрэ в клубе лесорубов выступал, на вечере самодеятельности, так всех в восторг привел, — сообщила Франсуаза Гастоновна. — Андрэ, может, ты покажешь сейчас тот номер? Ах, какой номер! На шкаф ставится табуретка одной ножкой… Пли!
Но Андрэ почему-то уклонился, явно сконфузившись.
После ужина, когда все начали петь «Подмосковные вечера», Франсуаза Гастоновна подсела ко мне и рассказала, как она рожала Андрэ и какие это были трудные роды — целых три дня мучилась:
— Але! Единственный сын… И не любит цирка — как странно!
Она была родом из Эг-Морта, когда-то цветущего города на побережье Средиземного моря. Франсуаза Гастоновна во время гастролей в Москве влюбилась в советского акробата, вышла за него замуж и осталась навсегда в СССР.
— Не тоскуете о родине? — спросила я сочувственно. Она покачала седой головой.
— Я там была в детстве раза два… Родители разъезжали с цирком по всей Европе. Даже в Австралии работали несколько лет. Я выросла космополиткой. Только когда я приняла советское подданство, я поняла, что мои путешествия окончены: я обрела родину! О да! Пли. — Подумав, она добавила: — Я не представляла, что мне еще предстоит путешествие в Заполярье. Русская тайга! Край земли! О, ля-ля! Гоп!
4. МЕРТВАЯ ВОДА
На другой день я пошла в Кедровое: надо было передать матери Василия конфеты.
Кузя, быстро освоившийся на новом месте, предложил меня проводить, но я отказалась. До Кедрового километров шесть тайгой, но дорога одна, так что не собьешься. Село оказалось богатое, с добротными бревенчатыми домами, солидными заборами, похожими на древнерусские крепости, и не менее солидными цепными псами, которые лаяли басом.
От Марии Кирилловны я знала, что село Кедровое основано в 1929 году, когда пригнали сюда, в дикую непроходимую тайгу, раскулаченных. Прежде тут были вышки, похожие на марсианские треножники (по Уэллсу) с часовыми, «проходные» и тому подобное. Потом Кедровое стало обыкновенным сибирским селом, а когда выросли и другие села — районным центром. Раскулаченным разрешили выезд — сначала детям и внукам, а затем и бывшим кулакам. Кое-кто выехал, но большинство уже прижилось в тайге и ни за что не хотело оставить эти места, столь богатые рыбой, зверем, ягодой, грибами и орехами!
Небольшие поля, отвоеванные у леса, давали щедрые урожаи. Колхоз занимался и сбором кедровых орехов, что приносило большой доход.
Колхозники попадались мне по пути веселые, неплохо одетые, особенно молодежь. Почти все с интересом осматривали меня с ног до головы, еще останавливались и долго глядели вслед.
Дом Чугуновых оказался на отшибе. Лес подступал к самому забору. Калитка, вырезанная в высоком, без единой щели заборе, была наглухо заперта.
Я вошла в палисадник, где росли кусты колючего шиповника, который как раз цвел, и цветы мальвы, и постучала в окно, еле дотянувшись до него. Чьи-то глаза мельком глянули на меня сквозь занавеску. Минуты через две загремел засов.
В проеме распахнувшейся калитки стоял высокий жилистый парень в линючей рубахе навыпуск, холщовых штанах и босой. Темные серые глаза, жутко обведенные черными ресницами, пронзительно и недоверчиво глянули на меня. Знакомый взгляд, знакомое хищное лицо — до чего же братья были похожи друг на друга! Будто Василий, только на несколько лет моложе, снова встретил меня здесь на Ыйдыге — своей родине. Харитон настороженно смотрел на меня и молчал. Я пояснила, зачем пришла.
— Проходите! — коротко бросил он. Я перешагнула порог. Парень снова запер калитку и загородил меня от подбежавшего пса. Цепь, на которую приковали несчастную собаку, была достаточно длинной, и я опрометью пробежала в дом. Просторные сени разделяли его на две половины — «черную» и «белую».
— Проходите в горницу! — сказал Харитон и даже открыл передо мной дверь.
«Горница» оказалась просторной чистой комнатой, оклеенной бумажными обоями. В переднем углу большой иконостас. Кажется, это называется киот. Перед иконой божьей матери с младенцем теплилась лампадка.
Интересно соседствовали в этой горнице вещи Виринеи Егоровны и Харитона. Старинная стеклянная горка с посудой — и аккумуляторный приемник. Огромный, до блеска вычищенный самовар на столе — и фотоаппарат «Киев», старое, потускневшее зеркало в раме с завитушками — и тарелка с портретом Гагарина на столе. До чего странно, не к месту выглядел здесь Гагарин! Остальные вещи, хотя и было сразу видно чьи, как-то мирились, сосуществовали. И так тяжело пахло чем-то едким — нафталином, что ли?
— Мамаша, к вам пришли! — негромко позвал Харитон. Он стоял посреди горницы и внимательно рассматривал меня. Легкая ухмылка тронула его жесткие губы. Парень был красивый, кудрявый, но диковатый.
Кто-то проворчал за дверью, и в горницу вошла высокая, хмурая старуха с густыми черными бровями, в темном платье, повязанная по-монашески черным платком. У нее было неподвижное темное лицо, словно его вырубили из дерева; полное отсутствие мимики — и на этом мертвом лице неожиданно яркие, лучистые, серые глаза, полные тоски, злобы, неудовлетворенности. Да, глаза были живы е!.. Мороз у меня по коже пошел.
— Из Москвы, поди? — сдержанно спросила она поклонившись. Я передала ей сверток.
— Третьего дни письмецо получили от Василия, сказывал, что вы зайдете. Ну, что ж… Харитонушка, поставил бы ты самовар… поясницу разломило… должно, к непогоде. А вы садитесь, в ногах правды нет. Вас Таисией зовут?
Я села на стул. Интересно, что писал им Василий?
За чаем Виринея Егоровна расспрашивала, как живет Василий, где сейчас дети. Пожевала бледными губами, узнав, что у дедушки и бабушки. Что-то вроде ревнивого чувства тенью прошло по ее худому, с впалыми щеками лицу.
— Дети-то некрещеные, — произнесла она с каким-то неопределенным выражением в глазах. — Не видела их никогда, внучат-то… Может, и к лучшему? Одно только расстройство. Вот ужо Харитонушка женится — понянчию!
Она с такой нежностью взглянула на сына, что я сразу поняла: в нем одном ее жизнь, да еще в боге. Она говорила с упором на «о», как произносят в верховьях Волги.
— Где работаете? — не выдержав, спросила я Харитона. Он опять ухмыльнулся.
— Где придется, Таисия Константиновна… Мы ведь без образования… семь классов всего. Больше в тайге промышляю. Наверно, опять в колхоз пойду. Зовут. Руки нужны. У них больше бабы.
Виринея Егоровна распечатала коробку с шоколадным набором.
— Баловство одно. — Покачала она неодобрительно головой и подвинула коробку ко мне. — Кушайте, барышня, чай, так в Москве-то к шоколадам привыкли.
Я отказалась. Выпила чашку чая, пахнувшего какой-то травой-зверобоем или рябиной. Съела кусок пирога с кашей и рыбой.
— А вы на работе, значит, здесь в лесничестве? У кого же остановились? Я всех тут почитай знаю, — полюбопытствовала старуха.
— У Марии Кирилловны Пинегиной, — ответила я. Удивительно, как изменились в лице и мать, и сын, словно проглотили что-то горькое. Оба долго молчали.
— Вам она не нравится? — спросила я напрямик. Ответила Виринея Егоровна:
— Лесничиха-то? А мне што… Каждый своим умом живет. Только больно уж она власть забрала в лесхозе. Словно тайга вся ее. Хозяйка! Директор, как малое дитя, ее слушает и все прочие служащие. На селе у нас так и зовут ее: лесная хозяйка.
А лес, он ничей, божий! Все себе не заберешь!! Крута она очень. И мужа на то повернула. Был парень как парень. А теперь никакого спуска не дает. Чуть что — к судье! Где это видно? Тоже себя, значит, хозяином тайги ставит.
— Он еще хуже ее! — помрачнев, сказал Харитон. Острые желваки заходили под его бронзовой кожей. — Ну, ничего — допрыгаешься!
— Харитонушка, бог с тобой! — испуганно остановила его мать.
— Вы не правы, — сказала я, отводя от него глаза. Я попыталась объяснить — и м…
— Вы, девушка, живете в столице, и здешних дел вам не понять! — зло оборвал меня Харитон. — Как я понимаю, братуха хочет на вас жениться. Желаю вам счастья! Но в наши дела не лезьте. И — лучше бы вам от Пинегиных уйти. Нечего вам там делать. Для вашего блага предупреждаю.
— Что ты, Харитонушка, Таисия бог знает что может подумать, — тревожно воззвала к нему мать. — Мы люди тихие, никого не обидим. Нас обидели и обижают. А от нас зла нет. Старшой сын в Москве живет, партейный, прохвессором работает. Нас не троньте!..
— Ты, мать, заговариваешься! — грубо оборвал старуху Харитон. — Чево ты перед ней так: не председатель сельсовета.
Я поднялась уходить. Меня не удерживали. Запирая за мной калитку, Харитон тихонько напомнил:
— От Пинегиных уходите. Лучше вам будет. Хлопот меньше. Квартеру у кого угодно можно снять. Хоть у нас. Недорого возьмем.
— От них никуда не уйду! — сказала я возмущенно. — А насчет Василия вы ошиблись. Я ему не невеста!
Выйдя на улицу, я облегченно вздохнула. Ух! До чего у них тяжело дышится. Только теперь я поняла, какой огромный путь проделал Василий от этой глухой калитки со щеколдой до научно-исследовательского института Академии наук. Он был таким, как этот страшный Харитон, а теперь — кандидат наук. Нет, он не был таким: он писал стихи, был здесь, в Кедровом, комсомольцем, и мать прокляла его за антирелигиозную работу. Может, я его слишком строго судила? Трудно полностью очиститься от т а к о г о…
Но как он мог оставить маленького брата там, откуда он сумел вырваться? Старше его на целых восемь лет… С такой матерью. Разве он не знал, как воспитывают Харитонушку? А теперь Харитона хотят судить за то, что он охотится в «божьей тайге». Сколько злобы было в его взгляде, когда он заговорил о Ефреме Георгиевиче.
Вечером, после ужина, когда Даня ушел к товарищу, я передала этот разговор обоим супругам.
— Не боюсь я его угроз, Таисия Константиновна! — равнодушно отозвался Ефрем Георгиевич.
— Он способен пырнуть ножом, этот Харитон! — озабоченно сказала Мария Кирилловна.
— А если поговорить с секретарем райкома? — предложила я. У меня не выходил из памяти взгляд Харитона.
— Говорили. Не мы — люди. Харитон открыто грозился. Вызывали его не раз, беседовали с ним. Куда только не вызывали! Все равно браконьерствует, — с досадой ответила Мария Кирилловна.
— Председатель колхоза говорит, что он только грозится. Так оно и есть! — сказал Пинегин. — Такие, что много бахвалятся, никогда не сделают. Поразительное дело! Харитон совершенно убежден, будто имеет моральное право «промышлять в тайге»… Было раз, он бросился на меня с топором: «Тебе казенного жалко, больше всех надо?» Хорошо, что двустволка с собой была. Так он поневоле сдался: лес сгрузил и топор отдал. А меня по этому поводу затаскали в милицию.
— Вас?!
— Именно меня! Пусть он вор, браконьер, но не угрожай оружием, составь акт, агитируй, убеждай…
— Самое время убеждать, когда он топором замахивается! — фыркнула я.
— Говорят, это дела не касается. Вот когда убьет лесника — тогда будет отвечать он.
— Весь район смотрит, чем дело у нас кончится, — задумчиво заговорила Мария Кирилловна, — супруги Пинегины смирятся или браконьер Чугунов. Пока все штрафами отделывается да душеспасительными беседами. А пример для колхозников? Они же видят, что всякие лесные да речные воры лучше их живут, доходов у них побольше, чем у честных колхозников. Уже актов на этого Харитона — целая стопа. Нигде не работает. Властей, говорит, над собой не могу переносить: душа не терпит. Что же его, браконьера, председателем колхоза ставить? Да и над тем, ох, сколько имеется начальства! Живут они, Харитон и Виринея Егоровна, как лесные бобры. От всех скрылись за семью запорами!
Девушка хорошая его полюбила здесь. Чудесная девушка. Лиза Олесова. Комсомолка, агротехником в колхозе работает. Харитону тоже она по душе пришлась. Собирались жениться, он даже в колхоз заявление подал, но… забрал назад. И свадьба расстроилась.
— Почему?
— Мать отговорила. Да и он сам понял, что при такой жене с прежней жизнью кончать придется. Даже и думать нечего! А меняться он не хочет. Еще до загса и поругались. Разные люди!!! Для Лизы и лучше, что они разошлись. Ну, а Харитон… плохо кончит!
5. ХАРИТОН СВОДИТ СЧЕТЫ
Жара стояла невыносимая, будто мы находились не на Севере, а где-нибудь под Батуми. Но белые ночи холодны. Так же светит солнце, а холодно. Почти все члены экспедиции разошлись по тайге небольшими группами. Плот наш готов. Ефрем Георгиевич сам его сделал. Отличный плот, большой, устойчивый.
Утром я проснулась с мыслью: завтра мы отправимся на плоту по Ыйдыге — Мария Кирилловна, я, Кузя и рабочие — Стрельцов и Ярышкин.
Все этого Ярышкина звали «расстрига», и я сначала думала, что это его фамилия. Но оказалось, что он бывший поп, только перестал верить в бога и «расстригся». Он работает в лесхозе лесорубом, но сам попросился в экспедицию. Каких только людей не встретишь!
Очень просился с нами в экспедицию Даня. Отец ему разрешил, но Мария Кирилловна категорически воспротивилась. Хотя мальчик крепок и вынослив, но ведь единственный сын, а путешествие по бурливой порожистой Ыйдыге опасно.
Михаил Герасимович целые дни носился в вертолете над тайгой, самолично сверяя аэроснимки с данными таксаторов. В этот день я летела с ним, помогая уточнять план.
Тайга, когда смотришь на нее сверху, еще прекраснее. Был ветреный день, и по лесному океану ходили гигантские волны, отливающие голубовато-зеленым, серо-зеленым, черно-зеленым, золотисто-зеленым, лиловым и фиолетовым. Словно растаяла радуга, пролилась сверкающим дождем и окрасила тайгу во все свои цвета. Что же здесь будет осенью? Дух захватило от такой красоты, величавой и торжественной. Ыйдыга настолько прозрачна, что даже с вертолета отчетливо видны камни на дне. А глубокое небо чистейшей бирюзы, и по небу, словно корабли с белыми парусами, плывут облака. До чего хорошо!!!
В пять часов мы приземлились на лесхозовском аэродроме. Профессор пошел, как всегда, обедать к директору лесхоза, а я домой. Обед был уже готов, Мария Кирилловна и Даня ждали Ефрема Георгиевича.
— Будем обедать, — сказала Мария Кирилловна. — Ефрем иногда задерживается допоздна. Сердится, если его ждут.
Мы сели обедать. Разговор не клеился. Поели молча. Я убрала со стола, помыла посуду и прилегла с книгой на диване. Даня ушел, захватив футбольный мяч. Мария Кирилловна присела к письменному столу — ей нужно было закончить кое-какие расчеты.
Я не заметила, как уснула. Проснулась в 9 часов вечера. Мария Кирилловна нервно ходила по комнате.
— Ефрем Георгиевич еще не вернулся? — испугалась я.
— Нет.
Я не знала, что сказать. Только посмотрела на Пинегину. Сейчас было заметно, что ей под сорок. Обычно она выглядела лет на десять моложе. Уголки ее рта, всегда задорно приподнятые как бы в лукавой улыбке, теперь в тревоге и унынии опустились. Серо-голубые глаза ввалились, в них застыл ужас. Я бросилась к ней.
— Мария Кирилловна, дорогая, надо его искать. Поднять тревогу!
— Надо подождать до полуночи. Лесники иногда заезжают далеко. Территория с целое государство…
Ох! Ей мучиться целых три часа. Может, гораздо больше.
— Это вы каждый раз так волнуетесь, когда он задерживается? — спросила я.
— Каждый раз… Особенно последнее время. Вы не знаете, Тася, какой это чудесный человек! Выйдем на крыльцо, мне душно!
Мы сели на ступеньках. К вечеру выпал туман, и я подумала, если придется искать, это осложнит поиски. У меня тоже заныло сердце. Уже скрылись в тумане небо, река, вершины сосен, даже сарай, который был в двадцати шагах от дома.
— Сколько лет вы женаты? — попыталась я разговорить Марию Кирилловну, чтоб отвлечь ее от этого тяжелого ожидания. Она сидела, задумавшись, обняв руками колени.
Я невольно заметила, сколько в ней женственности, которая так изредчала теперь. Хоть бы и я — мальчишка в юбке! Занятия спортом, тяжелая практика в лесах, общество мальчишек с самого детства. Я была забиякой, и все мальчишки в школе меня побаивались и уважали. Я хоть не ходила никогда в брюках, как мои подруги, и у меня две толстые длинные косы. Возни с ними много, мама удивляется, почему я их не остригу. «Тася, это же немодно, наконец!» А мне жалко с ними расставаться, волосы — лучшее, что у меня есть: скуластая, глаза небольшие и глубоко посажены, серо-зеленого «кошачьего» цвета, губы толстые, высокий рост («дылда»!). Не понимаю, за что меня полюбил Василий? И почему я нравилась ребятам? Наверное, просто потому, что им со мной весело — я всегда шучу! И — современные юноши ничего не понимают в женской красоте. Это сказал Брачко-Яворский, и я с ним вполне согласна. А вот Мария Кирилловна — красавица. Тяжелый мужской труд лесничего, ежедневные поездки верхом на лошади, слышит крепкую ругань, может, и самой приходится ругаться и «разносить», а какая женственная, мягкая, ласковая, несмотря ни на что.
Какие чудесные большие синие глаза!
— Семнадцать лет женаты! — сказала она. — Мне было девятнадцать, ему двадцать пять, когда мы поженились. Ефрем ведь здешний. Родился-то он, собственно, на Байкале, но отец его — фельдшер, был послан сюда, в Кедровое, когда открыли больницу, и здесь осел навсегда. Когда Ефрем кончил среднюю школу, началась война. Ушел на фронт, был несколько раз ранен. После войны вернулся сюда, на Ыйдыгу, но уже не застал отца в живых. Он подался на Ангару. Сначала работал плотовщиком, потом стал водником, водил буксиры с плотом. В отпуск приехал навестить мать и познакомился со мной. Мы поженились…
— А вы тоже здешняя?
— Нет, что вы! Я родилась в Саратове. И мать моя была саратовская. Врач. А отец из Ленинграда. Он был лесничим — коммунист. Сам попросился сюда работать. Терпеть, говорит, не могу клочья! Люблю цельные лесные массивы. Он и организовал здешний лесхоз. До этого тайга действительно была ничья. Губили ее жутко. Одни пожары сколько уносили ценнейшей древесины. Каждый год. А как безжалостно губили кедры во время сбора орехов! Слышали про этот метод: околачивание? Большая деревянная кувалда-колот. Обрубок сырого бревна… Ударяют по дереву, пока не упадут шишки. Живая ткань дерева омертвляется, ствол деформируется, древесина загнивает…
А какая техника была: ручные грабли, бутылка для высева семян, мотыга, лопата, топор да ручная пила. Эх, кабы отец видел, какие машины пришли к нам в лесхоз. Вот бы порадовался! А авиация! Отец умер от болезни сердца. В городе умер бы раньше… Его даже в армию не брали из-за сердца. Мама умерла давно, я ее почти не помню. Ну вот, я осталась одна. Такое горе!!! Думала, не переживу. Признаться, растерялась. Мне предложили работу в лесничестве, помощником таксатора. Я немного разбиралась в этом. Отцу часто помогала. Конечно, согласилась. Очень мне было тяжело в тот год, невыносимо! Одинокой чувствовала я себя. Ефрем дал мне то, в чем я больше всего тогда нуждалась, — человеческое тепло! Добрый он. Проводил меня из кино и вдруг у калитки погладил по голове… В точности, как это делал покойный отец. Я разрыдалась. А Ефрем говорит: «Вы не одна! Знайте, вы не одна!» Когда мы поженились, Ефрем через месяц спросил меня: «Какие у тебя были планы на жизнь, ну, если бы не умер отец?» — «Учиться! Я бы пошла в лесной институт». — «Иди и учись, — говорит, — я буду тебе помогать». Вот он какой, мой Ефрем! Я училась в Москве, а он помогал мне. Не всегда и летом мы виделись. Иногда посылали на практику в другие лесничества, где было чему поучиться. И он терпеливо ждал меня все годы. Всегда верил мне! А я ему. Разве может быть иначе, если любишь? Он водил баркасы по Ангаре и Ыйдыге — там, где она судоходна. Он, третий помощник штурмана, конечно, стал бы капитаном…
Мы долго молчали.
— Пойду приготовлю ужин, — сказала Мария Кирилловна, поднимаясь. — Нет, не помогайте. Я сама. Мне необходимо чем-то заняться!
Она ушла в дом. Я осталась на крыльце, все сильнее и сильнее ощущала тревогу. Так я сидела, растерянно смотря в туман, пока меня кто-то тихонечко не позвал. Это был Андрей Филиппович.
— Что делает Мария Кирилловна? — спросил он шепотом, и от этого шепота у меня упало сердце.
— Готовит ужин. Что-нибудь случилось с Ефремом Георгиевичем?
— Боюсь, что да… Рабочие лесхоза встретили его лошадь и отвели ко мне, боясь испугать Марию Кирилловну. Не знаю, говорить ей или пока не надо? Мы начинаем поиски.
— Если бы это была я — лучше говорить все.
— Я тоже так думаю.
Андрей Филиппович долго смотрел на меня, как бы разглядывая, но он, наверное, меня и не видел. Заржала его лошадь, оставленная у ограды, Мария Кирилловна выскочила на крыльцо. Как раз подошел Даня, она его не видела. Мальчик был очень встревожен. Наверное, уже знал.
Жаров рассказал Марии Кирилловне про лошадь. Она отшатнулась и медленно-медленно поднесла руки к лицу.
— Вот оно — пришло! — прошептала она горько. Я думала, она начнет плакать, но она пошла седлать свою лошадь, не сказав больше ни слова.
Когда они уехали, бледный и дрожащий Даня предложил запереть дом и идти искать отца. Я согласилась, но предложила сначала зайти в контору лесничества.
В ярко освещенной конторе мы застали Брачко-Яворского, Жарова, Владимира Афанасьевича, его жену (она уже, видимо, всплакнула), начальника милиции, нескольких лесников, рабочих и Марию Кирилловну. Она была очень бледна, но крепилась. Меня поразило, как спокойно и деловито она себя держала. Пришел председатель колхоза из Кедрового, здоровенный дядя с черной бородой. Он был в сапогах и бушлате. Дверь беспрерывно хлопала — входили и выходили.
— Придется прочесать всю окрестную тайгу, — расстроенно сказал начальник милиции, худощавый пожилой человек. Он ходил крупными шагами по комнате.
На мальчугана все смотрели с сожалением. Что меня поразило: все до одного подозревали убийство. Больше того, были уверены, что убил именно Харитон.
Михаил Герасимович сидел за письменным столом и хмурился.
— Все ждали убийства и не приняли никаких мер, — сказал он на ухо, когда я села рядом с ним.
Вошел запыхавшийся милиционер, совсем молодой паренек с капельками пота на вздернутом носу.
— Чугунов бежал! — отрапортовал он, вытянувшись, начальнику милиции. — С Чугунихой удар. Возле нее кума. Врача вызвал. Будем искать Харитошку?
— По какому обвинению? — огрызнулся начальник. — Надо сначала найти мертвое тело. — Он поймал взгляд Марии Кирилловны и осекся. — Может, он жив и здоров… Мало ли какие бывают дела. Задержался — и все!
— Лошадь-то пришла… — тихо проронил милиционер.
— Лошадь, лошадь! — передразнил начальник. — Пошли, товарищи, будем прочесывать тайгу. Разделимся на группы.
Всю ночь шли поиски. Это была бесконечная, жуткая ночь, какие бывают только в тяжелых снах. На всю жизнь мне запомнятся сырой и душный сумрак тайги, мелькающий свет фонарей, то приближающийся, то удаляющийся, глухие голоса, перекликающиеся в тумане, лай собак, невольный ужас, когда гниющее дерево во мраке принималось за то, что мы искали.
Бедный Даня все крепче и крепче сжимал мою руку. Я поняла, что непосильная эта нагрузка на душу мальчика: поиски трупа отца в лесу. Но разве уведешь его домой, разве усидит он сейчас дома?
— Слышишь, Даня! — сказала я строго и даже потрясла его за плечи. — Твой отец жив! Ты меня слышишь? Он жив!
И мы снова искали, искали, искали — в каждой балочке, под деревьями, кустами, на болоте. Мы несколько раз видели Марию Кирилловну. Верхом на своей Рыжухе она руководила поисками и не обратила на нас внимания. Несколько раз к нам подъезжал Андрей Филиппович и уговаривал уйти домой, отдохнуть.
— Я не уйду, пока не найду папу! — отчаянно возражал Даня. — Ведь это мой отец, и я должен его найти!
Было ли это уже утро, или ветер разогнал туман, и проявилась во всей красоте своей белая ночь, только стало в тайге светло. Мы шли сосновым бором, ломая кусты можжевельника, росшего здесь, как подлесок. Вместе с нами искали под каждым кустом Стрельцов и Ярышкин, рабочие экспедиции.
Они не отставали от нас с Даней ни на шаг, из чего я заключила, что их послал «охранять» нас профессор. Теперь, когда рассветало, я видела, как они устали. Возможно, уже сутки на ногах, ведь они работали накануне, упаковывая вещи, получая продукты для экспедиции. Я совсем не чувствовала усталости, должно быть, от нервного возбуждения.
Мы остановились перевести дыхание перед тем, как начать пробираться сквозь заросли в гору, когда услышали треск сучьев, и едва успела я подумать: «не медведь ли?», к нам вышел незнакомый молодой человек, одетый в какую-то форму — я сразу не разглядела, в какую именно. Он запыхался, густые рыжеватые волосы растрепались, фуражку он, вероятно, потерял. На щеке краснела свежая царапина.
У него было такое своеобразное лицо — тонкое, узкое, нервное, настойчивое, что, встреть я его на самой людной московской площади, я бы несколько раз оглянулась на него. А потом еще долго бы вспоминала это незнакомое лицо, жалея, что больше не увижу.
— Идите за мной! — сказал он негромко и, не оглядываясь на нас, быстро пошел влево, обходя гору. И мы заторопились за ним.
— Пинегин должен быть у серебряного болотца, — бросил он на ходу, когда мы его догнали. Никто не спросил незнакомца, откуда он знает. Это мне он был незнаком, а рабочие и Даня отлично знали его. Он оказался тем самым летчиком, о котором Мария Кирилловна сказала~«Он любит людей!» Это был Марк Александрович Лосев, летчик-наблюдатель из северной авиабазы.
…Мы нашли его под высокой сосной на краю болота, заросшего седым зеленоватым мхом. Ефрем Георгиевич лежал спокойно и удобно, глядя в небо, где разгоралась красная, как отблеск пожара, заря. Он был еще жив и терпеливо ждал, когда за ним придут. Рану он заткнул мхом. Это и остановило кровотечение. Я отошла в сторону и заплакала.
Когда я вытерла слезы и обернулась, мужчины уже делали что-то вроде носилок, а Даня сидел на корточках возле отца. Он не плакал.
— Вертолет неподалеку. Сейчас мы тебя подбросим, Ефрем Георгиевич, — успокаивающе сказал летчик.
Когда «носилки» были готовы, мы осторожно положили на них Пинегина и понесли. Он закрыл глаза. Кажется, потерял сознание. Мужчины несли носилки, болезненно морщась, когда задевали за куст или сучья деревьев, как будто это им было больно. Не так легко пронести раненого сквозь чащу. Мы подошли к вертолету, стоявшему на небольшой поляне. Осторожно внесли и положили Пинегина прямо с носилками на пол. Снова открылось кровотечение. Пинегин не приходил в себя. Стрельцов положил побольше мха на рану и перевязал, разорвав для этого свою рубаху.
Мы с Даней сели в вертолет, а Стрельцов и Ярышкин отправились искать Марию Кирилловну.
Странное чувство нереальности происходящего снова охватило меня. Будто я двигалась, что-то делала и думала во сне. И во сне видела тайгу, раненого, этих сибиряков и странного летчика. Чем-то он был странен, но я никак не могла понять чем…
— Папа! — позвал Даня. — Папа! У мальчика задрожали губы.
— Он не умрет? — спросил он меня.
— Нет, нет, он будет жить! — сказала я вслух, а про себя подумала: «Только бы не умер! А убийца — брат Василия. Какой ужас, какой ужас!»
Мы пролетели над кордоном, над центральной усадьбой лесничества, над Кедровым — бревенчатые дома то появлялись, то исчезали в тайге, будто она прятала их. Вертолет приземлился на площади у районной больницы.
Пинегина так без сознания и положили на операционный стол… Мы вышли в больничный сад — просто участок невырубленной тайги, расчищенный и ухоженный, и сели на длинную скамью.
Даня наконец заплакал и, стыдясь слез (мужчина!), сделал вид, что хочет подремать. Но, когда прилег на скамейку, подложив руку под голову, сразу уснул.
Ощущение нереальности все продолжалось. Я что-то хотела понять, сообразить, но мысль ускользнула. Вдруг я поняла, вот оно: откуда пилот узнал?
— Вам сказал сам Харитон, — сказала я тихо. Марк быстро взглянул на меня и смотрел долго, пока я не смутилась.
— А вы кто? — спросил он.
— Тася… Терехова.
— Почему вы подумали, что мне сказал Харитон?
— Не знаю. Вам он мог сказать. Вы его… видели? Летчик помолчал.
— Да, я его видел, — наконец вымолвил он неохотно. — Именно он и сказал мне, где лежит лесник. Харитон думает, что убил. Может, так оно и есть.
Мы сидели под старой кряжистой лиственницей. Марк посмотрел на часы: было ровно пять утра. Интересно, сказали ли уже Марии Кирилловне? Или еще ищут ее? Даня тихонько застонал во сне. Он спал, сморенный усталостью, но сознание беды не оставляло его. Бедный мальчуган!
— Этот Харитон не такой уж плохой парень, мы с ним не раз ездили на рыбалку, — с досадой сказал Марк. — Жалко и его. Что с ним будет?
— Он убежал?
— Да.
— Он знает, что его мать разбил паралич?
— Что? Он мне ничего об этом не сказал.
— Милиционер говорил. Когда кончится операция, я схожу к ней.
— Неприятная женщина!
— Да. Но я должна к ней сходить. Возможно, придется дать телеграмму другому ее сыну… Нельзя же бросить…
— Вы знаете Василия?
— Да.
Кажется, я покраснела — ни к селу ни к городу. Марк отвел глаза и нахмурился.
— Он хороший человек?
— Не очень.
— Ах, вот что! Теперь я начинаю понимать. Вы сказали о Харитоне не как посторонняя… хотя только что приехали и не могли его знать. Вы что… любите его брата? Простите.
— Нет, нет. Любила прежде.
— Гм. Не смею спрашивать.
А спросить ему явно хотелось. Все равно весь институт знал. И я вдруг рассказала ему — незнакомому человеку — всю историю моей неудавшейся любви. Поплакала в жилетку!
— Да, такое глубокое чувство может либо обогатить, либо опустошить — зависит от самого человека, — заметил Марк. — Как же вы перед ним устояли — такая малышка?
— Ох, я бы не устояла, если б он тогда добивался меня открыто и честно: вот она — я ее люблю! А он трусил и колебался.
— И вы не можете забыть… теперь, когда он овдовел?
— Я его не уважаю! Я рассказывала вам о прошлом.
— Вот оно что!
На меня вдруг напал «болтун», как выразилась бы мама, и я говорила, говорила без конца. Будто год перед тем молчала. Пожалуй, так оно и было. Наверное, Марк тогда подумал: «Ну же и болтуха!» Я рассказала ему о Михаиле Герасимовиче, о папе, маме, Родьке, его невесте. Рассказала, как мама ходила к наркому. Лицо Марка вдруг окаменело, потемнели зеленоватые глаза.
— Какая хорошая женщина ваша мама! Это, действительно, уникальный случай. Как бы я любил и уважал такую вот мать. Гордился ею…
Я вдруг подумала: вот все рассказала я ему о себе. А о нем ничего не знаю — незнакомец!
Марк словно прочитал мои мысли.
— Я редко рассказываю о себе… Никогда о матери… Но вам коротко скажу. Когда арестовали моего отца, мне было двенадцать лет. В пятом классе учился. Я безумно любил отца, как люблю и теперь! Когда за ним пришли — я это хорошо помню, — на меня словно умопомешательство нашло. Ни уговоры отца, ни окрик матери, ни угрозы тех, кто за ним пришел. Я… дрался! Пришлось запереть меня в ванной комнате. Отцу не разрешили со мной проститься. Так и увели. Мать моя… она директор одного научно-исследовательского института в Москве. Ну да, я тоже из Москвы! Она отреклась от мужа. Не носила ему передачи, не писала писем. От омерзения и злобы я превратился в зверёныша. Я ходил по знакомым и просил взаймы денег на передачу отцу. Когда буду работать — отдам! Давали. А один из папиных друзей ходил со мной в тюрьму… два раза в месяц… когда на букву «л»… Когда отца увезли, я с ним переписывался. У него было право переписки. От матери я ушел. Я просил директора школы устроить меня в детдом или на работу. Никакие уговоры не помогли. Домой я не вернулся. Пришлось определить меня в интернат. Как только я получил паспорт, я бросил школу и уехал на Север. Поселился неподалеку от отца. Нашел работу по душе!
Марк вдруг рассмеялся.
— На этой самой лесной авиабазе. В шестнадцать лет не допускают к парашюту, но для меня сделали исключение. Сначала, конечно, отказывали, но я не уходил с аэродрома. Таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, топоры. Помогал снаряжать самолеты. Меня полюбили. Инструктор парашютно-пожарной службы взял надо мной шефство. Даже жить пригласил к себе. Поместил в одной комнате с сыном.
С тех пор я работаю в лесной авиации. Окончил среднюю школу, летные курсы, техникум — все это заочно. Налетал многие тысячи километров, совершая патрульные рейсы над тайгой. Нет, пока врачи на спишут на землю, из лесной авиации не уйду. Люблю это дело! Люблю русский лес. Живем вдвоем с отцом на Вечном Пороге. Там наша авиабаза. Здесь, в Кедровом, оперативное отделение. Вот и патрулируем северные леса. Отец давно реабилитирован, восстановлен в партии. Работает на строительстве плотины на Ыйдыге. Он ведь у меня инженер-энергетик.
— И вы не простили матери? — почему-то с робостью спросила я.
— Она не нуждается в прощении. Она вышла замуж, у нее другой сын, еще маленький. Брата я никогда не видел. Раз или два в год она присылает письма, я отвечаю. Иногда говорим по телефону. Вот вам и вся моя история. Несложная!
Он улыбнулся — своеобразная у него улыбка — и осторожно поднял свесившуюся до земли руку Дани.
— Устал бедняга! — заметил он ласково. — Пусть спит. Пойдем узнаем, как Ефрем Георгиевич.
Мы пошли к больнице. В это время подъехала машина и из нее выскочили бледная Мария Кирилловна и Жаров.
— Ефрем? — спросила она. Губы ее прыгали, и она никак не могла удержать их. Я, как могла, успокоила ее. Мы все вошли в больничный вестибюль. Минут через пять к нам вышла хирург — худощавая пожилая женщина с желтыми от йода руками.
— Будет жить! — поспешно крикнула она Марии Кирилловне. — Ну-ну, не плачьте, милая!
Когда Мария Кирилловна немного успокоилась, хирург рассказала: у Ефрема Георгиевича огнестрельная рана, выстрел был с близкого расстояния. Отдельные дробины проникли довольно глубоко. Он мог бы истечь кровью, но мох прекратил кровотечение. У Марии Кирилловны опять брызнули из глаз слезы, но она улыбнулась светло и благодарно.
— Все годы Ефрем отдавал лесу свою жизнь, и лес пришел ему на помощь в смертный час. Можно мне пройти к нему?
— Конечно. Его положили в отдельной палате. Ефрем Георгиевич еще спит после операции. Сейчас поставим туда вторую кровать. Вам тоже надо отдохнуть, вы же еле на ногах держитесь.
Врач увела Пинегину. Мария Кирилловна даже забыла спросить о Дане. Мы пошли разбудить его.
Директор лесхоза взял Даню с собой в машину.
— Пусть пока поживет у нас, — сказал он, — мама о нем позаботится. Вы поедете с нами, Таиса Константиновна?
Я объяснила, что мне надо сходить к Чугуновой. Он скользнул взглядом по стоявшему рядом Лосеву, кивнул нам приветливо головой, и машина тронулась, поднимая пыль. Жаров правил сам. Славный директор лесхоза, бывший акробат.
— Если разрешите, я пойду с вами, — подумав, сказал Марк, — Если Виринея Егоровна в сознании, я хочу успокоить ее насчет Харитона.
— Его найдут?
— Не знаю. Во всяком случае, раз Пинегин жив…
Дом Чугуновой стоял неподалеку от больницы, как раз с этого конца села. Но мы опоздали.
Ее тело обмывали, когда мы пришли. Полон дом старух — охающих, причитающих. Косо они посмотрели на нас. Одна мне показалась доброй и приветливой (чем-то напомнила московскую соседку Пелагею Спиридоновну), я спросила у нее, послали ли старшему сыну телеграмму. Оказалось, что адреса никто не знает, будут искать письма. Вероятно, они в сундуке, но сундук заперт, и его еще не открывали. Я обещала дать телеграмму, старушки подобрели. Рассказали, как умерла Виринея Егоровна. Так и не пришла в сознание. Врач сказал: кровоизлияние в мозг.
— Она, сердешная, как услышала, что Харитонушка — убивец, так ее и хватило, — сказала та, что похожа на Пелагею Спиридоновну. Ее звали тетя Флена, так к ней обращались все без исключения, даже кто был старше ее лет на двадцать.
— Как же вы ей так сразу и сказали? А если бы не Харитон стрелял… вы же не могли знать.
— Так он же ей сказал — Харитонушка! — Тетя Флена горестно покачала головой в белом платочке, повязанном под подбородком. — Сам ей сказал. Должно, думал, она крепкая, выдюжит. Ан нет! Он ее положил на кровать, собрал, что нужно с собой в бега, и сходил за мной. Дескать, тетя Флена, иди к матери, а я ухожу в тайгу. Я, говорит, убил- лесника.
— Вы думаете, его не поймают?
— В тайге-то? Она, матушка, хоть кого скроет. Разве сама от него откажется… Бывает и такое. Тогда выдаст или самолично казнит. Да Харитон с ней в дружбе. Он с начальством никак не ладит, а медведь ему друг и брат.
Тетя Флена говорила певучим северным говорком. Тайга для нее была живой, разумной, справедливой. Видно было, что человек этот родился, вырос и состарился в тайге.
Мы собрались уходить.
— Зайдите проститься, ее уже обрядили! — предложила тетя Флена и раскрыла перед нами дверь в «залу».
Виринея Егоровна лежала на том самом столе, за которым мы еще недавно пили чай. На ней был сарафан и белая, пожелтевшая от времени шелковая кофта с пышными рукавами. Вероятно, давно приготовленный «на смерть» старообрядческий костюм. Виринея Егоровна казалась более живой, чем при жизни, хотя были закрыты яркие глаза ее. Пергаментная кожа уже потеряла последний блеск — след живого, но в чертах лица разлилось спокойствие и скрытая при жизни доброта. Может, обманчивая.
Я стояла у изголовья мертвой и думала: вот была женщина, тоже звали Виринея, как у Сейфуллиной. Но эта Виринея не приняла ничего от новой жизни и неизвестно для чего жила.
Просто мучилась, гневалась, злобилась, уставала, мало радовалась, возможно, завидовала в душе тем, кого осуждала, не могла никак принять! Правда, она дала жизнь двум сыновьям. Но и мать она была плохая. Прокляла и оттолкнула старшего сына, направила на ложную дорогу любимца-младшего и не перенесла его духовной гибели, погибла сама. Зряшная жизнь — к чему, для чего? Словно сорная трава, синий василек во ржи: хоть и не выпололи, дали самому увясть, а зачем цвел и увядал, неизвестно. Но ведь это был человек! Хороший или плохой, но человек! Целый Мир, Вселенная — и вдруг впустую, как пустоцвет. Впустую было все — обаяние молодости, ум, воля, энергия, способность творить, приобретать опыт и мудрость. Это было трагично.
Что видела и знала она? Видела ли она красоту Земли? Или некогда было ее разглядывать за тяжелой работой — без творчества, без радости — преждевременно состарившей ее. Знала ли, какую огромную, чистую радость дает искусство? Откуда ей было это знать. Все события мира прошли, не касаясь ее, как если бы она жила на дне озера. Как страшно обеднила и обездолила она свою жизнь! Но почему? Ведь революция произошла почти полвека тому назад. Она была маленькой девочкой тогда. Она и не помнит старого мира. Но она искусственно окружила себя всем, что можно было взять из старого мира, — в нем жила и в нем умерла. Почему это так получилось? Наверно, с ней никто не поговорил по душам— кто-нибудь умный и добрый. Не растолковали, не разъяснили, не приласкали в горе, не утешили в обиде, не научили надеяться, верить будущему, радоваться настоящему — тому, что есть в нем хорошего! Не попался на ее жизненном пути настоящий человек!!! И так прожила она век Чугунихой, бывшей кулачкой. И вот — жизнь попусту!
Я поцеловала бедную женщину в еще не остывшую щеку и пошла. Марк вышел за мной. Ничего не сказав, он повел меня через какой-то проулок.
— Куда мы идем?
— На почту. Вы же хотели дать телеграмму.
6. ОПЯТЬ ВАСИЛИЙ
К похоронам матери Василий приехать не смог, телеграфировал, чтоб его не ждали. Но через несколько дней прилетел самолетом.
Я еще все не трогалась с места — ждала Марию Кирилловну. Муж ее быстро поправлялся: лесной воздух, богатырский организм, дробины все вынуты, по счастью, в сердце не попала ни одна. 320
Мы скоро должны были выехать в экспедицию. А пока я помогала профессору. Ему на весь сезон выделили специальный вертолет и прикрепили летчика. Но теперь этого летчика почему-то заменил Марк. Я была очень довольна, Марк, кажется, тоже. Настроение у меня было самое праздничное. Давно я не чувствовала себя такой счастливой.
Василий это сразу прочел на моем лице и, кажется, обиделся. Конечно, нехорошо. У него такое горе, а я радовалась, да еще сама не знала чему.
Он стоял на посадочной площадке и ждал, когда приземлится наш вертолет. Василий мрачно поздоровался с Михаилом Герасимовичем, настороженно кивнул летчику и, словно имел на это полное право, молча взял меня под руку и увел. Я заметила, что Марка всего передернуло, и мое настроение повысилось еще на несколько градусов. От радости я едва не запрыгала, как маленькая.
— Чему ты радуешься? — буркнул Чугунов.
— Всему. Жизни!
Он пожал плечами. Однако как он научился одеваться! Словно из рижского журнала мод. Прекрасный серый костюм, импортные туфли, белая выутюженная рубашка. Интересно, кто ему гладил? Ведь в чемодане должно было все помяться. Но лицо у него отнюдь не с журнала мод. Сейчас он очень походил на Харитона, особенно серые глаза — диковатые, злые. Он сильно осунулся и похудел. Мне стало жаль Василия, и я невольно прижала его руку. Лицо его прояснилось.
— Плохо дело, Таиска, с моим братухой. Говорил с начальником милиции… Харитона ищут. Если найдут, будут судить за покушение на убийство. Учтут и злостное браконьерство. Если не найдут — скитание по тайге, бродяжничество. Выйдет к людям — поймают, как волка. Плохо дело!
Я хотела ему сказать, что о младшем брате надо было думать раньше, помочь ему учиться, вырвать из-под влияния Виринеи Егоровны. Но жестоко было говорить это теперь, когда он и без того, наверно, раскаивался в своем эгоизме. И я промолчала.
Он остановился в доме матери. Там хозяйничала тетя Флена. Она поздоровалась со мной, как со знакомой, сказала, что самовар на столе, и ушла: у нее телилась олениха. Самовар мурлыкал так уютно, будто знал, что его ставила уже тетя Флена, пахло травами, на тарелках аппетитно лежали пироги, лепешки, вареные яйца, мед, кислое молоко в ледяной запотевшей крынке (наверное, только из погреба!), сверху запеклась румяная пеночка.
— Есть хочешь? — спросил Василий.
— Ужасно!
— Так хозяйничай. Кстати, в печи есть борщ. Хочешь? И я бы заодно поел. — Он снял пиджак и повесил его на спинку стула.
Я достала ухватом огромный чугун с борщом, налила ему и себе. Борщ был вкусный, хотя я не люблю с квашеной капустой. Мы поели, убрали со стола и стали пить чай.
— Просто не знаю, что делать! — признался он.
— На могиле матери был?
— Был. Тетя Флена водила. Надо было сделать старухе удовольствие.
Василий угрюмо, почти не глядя на меня, выпил две чашки чая.
— Мать я не любил никогда.
— Как можно не любить мать?
— Значит, иногда можно. Она была ко мне суровая. Когда был мальчонкой, наказывала меня жестоко. Ставила в угол на колени на горох. А я, видно, был слишком нервный для этого. Просто не переносил этой боли. Коленки чувствительные, что ли. А если самовольно вставал, когда уже не мог больше вытерпеть, она запирала меня за ослушание в погреб. А там я просто с ума сходил от страха. Темноты до сих пор боюсь. Раз жена задернула в спальне плотные занавески… проснулся — тьма, я — бегом. Зеркало разбил, пока выбрался. У меня ночью всегда окна открыты — свежий воздух и свет месяца, звезд. В темные осенние ночи сплю с ночником.
Когда я вступил, вопреки ее запрещению, в пионерский отряд, она заперла меня в погреб на целую неделю… Хорошо, что ребята пронюхали об этом и сообщили учительнице. Понадобилась целая комиссия, чтоб меня вызволить оттуда. А мне тогда было всего-то десять лет!
— Чего же смотрел отец?
— А его годами не было дома. Он тогда золотишком увлекался. Фарт свой искал. До нас ли ему было? Между собой они жили недружно, мои родители. Оба крутые характером… Как говорится, нашла коса на камень… Ну, хватит о них. Таиска!
— Что?
— А ты, поди, только в темноте можешь спать?
— Мне все равно, я не страдаю бессонницей и ничего не боюсь. Но это ведь неважно, Василий…
— Ты хочешь сказать, что нам все равно вместе не спать? Подожди, не отвечай. Я не в состоянии сейчас убеждать, спорить. А, черт! Будь что будет! Тяжело мне, Таиска, устал я.
Он поставил локти на стол, подпер курчавую голову — жест безнадежности и уныния. Все-таки я еще любила его… или просто жалела. Так захотелось по-женски приголубить его, успокоить. Неуютно ему было в жизни. Но ведь я знала его. Стань я его женой — и все войдет в норму, он будет самим собой: жадным, напористым, эгоистичным. Он был стяжатель, только в более широком смысле. Он хотел захватить для себя не только деньги и вещи, но и положение в обществе, научные звания, общее признание и… мою любовь. Он и меня хотел корыстно. Он был собственник по натуре своей, как Форсайт. По природе своей он был жесток, но ненавидел жестокость, потому что ребенком страдал от нее.
— И долго мать наказывала тебя? — вдруг спросила я.
— До двенадцати лет. Когда мне исполнилось двенадцать, я сказал ей, что не буду больше стоять в углу, не позволю себя тронуть пальцем. А если она меня тронет или запрет еще в погреб, я спалю ей дом. Вот перед самым этим киотом я поклялся, что спалю дом, если она меня ударит еще раз. Мальчонкой я верил в бога, иначе быть не могло, там меня воспитывали. Ужо бог тебя накажет! Умела она рисовать ад. Когда я в школе столкнулся с другим мировоззрением, я просто опьянел от счастья. Четырнадцати лет я вступил в комсомол. А когда мы под пасху организовали в клубе антирелигиозный вечер, Виринея Егоровна прокляла меня и выгнала из дома. Она уже ненавидела меня. Главным образом за то, что не смела меня наказывать. Она знала, что я сдержу свое слово.
Я ушел из дома. И знаешь, кто меня приютил? Вот эта самая тетя Флена. Она тоже верующая, но она терпимая, а главное, добрая и, пожалуй, умная. Она любила слушать радио, любила, когда я читал ей вслух газеты. Она говорила: «Времена теперь другие, а тебе, Васенька, жить долго… Живи, как душа просит!» Хорошая старуха! Хочу взять ее с собой в Москву. Раньше бы взял, да у жены ей было бы плохо.
— Опять женишься.
— Если ты не пойдешь, вряд ли… Пока другой не присмотрел.
— Присмотришь.
— Ладно. Давай об этом не говорить. Не могу. Ты меня еще в Москве так измотала, что до сих пор не опомнюсь.
— Как дети?
— Спасибо! Им хорошо. Дед с бабушкой души в них не чают. Ребятки славные! Таиска! Иди сядь вот сюда, пожалуйста.
Он показал мне на лежанку, накрытую рядном. Я пересела. Василий прилег, положив голову мне на колени, и закрыл глаза. Мы так долго молчали, что я решила: он задремал.
На сердце у меня было смутно. Радость уже схлынула, навалилась забота. Я чувствовала, что теперь я совершаю по отношению к Василию жестокость. Не слишком много я требую от него? Все же он так далеко ушел от Виринеи Егоровны. Коммунист, научный работник. И ему сейчас очень тяжело и одиноко. И, видимо, он любит меня по-настоящему. А ведь я, скорее, дурнушка.
Как я любила Василия! Это было какое-то сумасшествие. Вдруг я подумала: почему-то никогда рядом с ним не посещала меня Радость. Ни разу! Радость — самое человеческое из всех чувств, и рядом с ним — никогда.
Мне кажется, что самая большая заслуга—дать радость другому человеку. Но не каждому можно дать радость. Не все способны испытывать радость — возвышенную, прекрасную, бескорыстную.
А вот Марк может! Михаил Герасимович тоже. Сегодня мы летали над тайгой, и все трое радовались, как дети. Всему! Голубому небу, простору, ветру, колыхающемуся зеленому океану внизу, блеску реки, желтым ослепительным отмелям, солнцу, но больше всего мы радовались друг другу.
Мы проводили так называемый аэровизуальный метод обследования лесов. Высота полета всего 300 метров — близко к земле, близко к небу. Мы наносили на карту маршруты полетов и ориентиры для составления экспедицией карты лесов Ыйдыги. Труднодоступные это были места, и без помощи авиации их не обследовать, не закартографировать. На аэроснимках, в которых непривычному глазу и не разобраться, все изменения, вся жизнь леса: ветровалы, гари, болота, молодняк и старый лес, умирающий стоя, рельеф песков. Я уже сама сняла с самолета весь маршрут нашего следования по Ыйдыге. Сегодня мы производили цветную спектрозональную аэрофотосъемку — замечательное достижение техники!
В два часа дня мы приземлились на песчаном острове. В зарослях камыша и осоки гнездились утки, гуси и кулики. Вокруг стояла настоящая темнохвойная тайга — одни кедры, пихты и ели. Мы осмотрели островок — птицы не очень пугались — и сели подкрепиться.
Было как-то особенно хорошо на душе — чисто и добро. А Василий всегда так ухитрялся разбередить мою душу, что становилась она мутной, как пожелтевшие воды, полные песка.
Михаил Герасимович и Марк говорили о лесных пожарах, изучению которых профессор отдал много лет. Собственно, он разработал основы лесной пирологии в СССР. Его книга «Лесные пожары и борьба с ними» издавалась раз десять. А у Марка было множество интереснейших наблюдений. Неудивительно, что они разговорились.
Я уплетала копченый омуль и любовалась ими обоими. Удивительно, как легко, хорошо чувствуешь себя в обществе хороших людей, которые к тому же умнее тебя, людей интересных, бывалых, знающих, благородных. По-моему, это самая большая радость!
Все студенты любили Михаила Герасимовича больше, чем других институтских преподавателей. Поэтому многие завидовали мне. Еще бы — стать любимой ученицей такого большого ученого! Профессор поверил в меня, возлагал на меня большие надежды, вот оставил при кафедре! Смотрит на меня, как на продолжателя своего дела. Многие удивлялись: «почем у?» — и я их вполне понимаю. Разве я достойна? Пока еще нет. Надо еще доказать, что ученый не ошибся, выдав мне авансом уважение и внимание.
А Марк Александрович Лосев… Он, прежде всего, принципиальный! Он показал себя настоящим Человеком уже в двенадцать лет, в истории с отцом. Такой не струсит, не изменит своим убеждениям. И он мыслит самостоятельно — то, что я больше всего ценю в людях.
Весь сегодняшний день я любовалась ими обоими, и мне было так хорошо. А вот теперь я сидела в мрачном и затхлом доме староверки Чугуновой. И опять в моей душе все взбаламутилось. Потому что так всегда было от малейшего прикосновения Василия. Но, не уважая его, я тянулась к нему, только он появлялся. Черт те что!
Когда я сидела в расстроенных чувствах на лежанке, а измученный Василий дремал, положив косматую, как у цыгана, голову мне на колени, за раскрытым окном показались две головы: седая профессорская и рыжеватая Марка. Они обеспокоенно и сконфуженно смотрели на нас.
Ну, уж знаете — заглядывать в чужие окна! Никогда от них этого не ожидала. Просто некультурно!
Василий сонно повернулся и только что не всхрапнул. Он, видимо, не досыпал ночей и теперь отдыхал так спокойно. Я была возмущена непрошеным заглядыванием в окна и сердито замахала руками. Михаил Герасимович и Марк медлили уходить, укоризненно поглядывая на меня. Василий открыл глаза.
— Кто там? — спросил он сонно.
— К тебе гости.
— А-а!!
Василий встал, потянулся и вразвалку пошел к окну.
— Это вы, профессор? Проходите!
Так же вразвалку он пошел открывать дверь. Гости смущенно вошли. Василий подвинул им стулья, они сели.
— Беспокоитесь за Таиску? — спросил он угрюмо. — Ну, конечно, раз один брат убийца, значит, другой насильник. Естественно ожидать… Таиска, скажи им, что такие возможности у меня были и в Москве.
— Не говори глупостей. Лучше подогрей самовар. Хозяин тоже мне. К тебе же гости пришли.
— Самовар еще горячий. Хотите чаю, гости?
— Пожалуй, выпьем чайку? — сказал профессор Марку.
— Спасибо.
Так как мы со стола еще ничего не убирали, кроме тарелок от щей, то сразу налили им чаю, подвинули закуску — вернее, это сделала я, так как Василий закурил папиросу. Гости не чинились. Марк выбрал кусок пирога побольше, а профессор наложил себе полную тарелку кислого молока и густо посыпал сахаром. Я тоже почувствовала голод, налила себе чаю и положила шанежку.
Мы сидели в переднем углу под киотом, пили чай и беседовали о международных событиях — они всегда волнующие, и мужчины весьма любят эту тему. Папа и Родион тоже. А я задумалась о том о сем… Меня вдруг сильно стало клонить ко сну. Все-таки я встаю эти дни рано, в шесть часов утра, и работаю по девять часов! Глаза у меня стали слипаться…
— Девочке пора спать! — услышала я голос Михаила Герасимовича. — Она сегодня хорошо поработала. Вставай, Тасенька! Здесь директор лесхоза с машиной. Обещал подвезти нас.
— Может, останешься ночевать? — спросил меня Василий.
— Благодарю. Ты не боишься один?
— Нет.
— Ну и прекрасно, советую отоспаться хорошенько!
Мы попрощались с Василием, а пять минут спустя и с Марком.
Спала я без снов, без просыпу, пока в окошко не стукнул Михаил Герасимович: пора лететь. Оказывается, я проспала. Лесной воздух!
И все-таки серьезного разговора с Василием я не избежала. Он пришел ко мне вечером в квартиру Марии Кирилловны; Пинегина все еще ночевала в больнице, а Даня — у Франсуазы Гастоновны. От ужина Василий отказался: сыт по горло.
— Будем говорить! — сказал он твердо.
— Выйдем на крыльцо?
— А там комары.
Он схватил меня за плечи и целовал, пока я не задохнулась. Когда я, опомнившись, стала вырываться, он сразу отпустил меня и, закурив, сел на стул возле окна.
— Я люблю тебя, Таиска! — сказал он, тяжело дыша. — Одну тебя только и любил в жизни. Ты мне нужна. Понимаешь? В чем дело? Разве я не вижу, как ты вся тянешься ко мне. Ты же любишь меня! Нам ничто не мешает. Я свободен. Ты — тоже! Завтра пойдем и зарегистрируемся.
— Не огорчайся, Василий, но я уже не люблю тебя больше.
— Неправда!
— Это правда, Вася! Я уже говорила тебе в Москве. Мне тяжело с тобой. Что-то давит, как чугун.
— Не переменить ли мне фамилию?
— Ну, как камень. Мне очень тяжело, когда мы вместе. Я не могу быть с тобой долго.
— Но почему?
— Не знаю.
— Давай разберемся. Ты не можешь простить, что я тогда…
— Давно забыла! Об этом не надо. Ладно, Василий, давай разбираться… Скажи мне только по правде, для чего ты живешь? Какая цель у тебя?
— Гм… Построение коммунизма во всем мире.
— Какие насмешливые и колючие стали у тебя глаза. Ты циник, Василий!
— Какая ты дура, Таиска! Набили тебе мозги. — Он ухмыльнулся. — Я ж тебе предложение делаю, а ты сразу мне устную анкету. В школе, что ли, вас так натаскали? Приходилось мне присутствовать на приемных экзаменах в институт… Такой низкий культурный уровень и такой высокий идейный — удавиться можно! Все эти высокие слова — чепуха на постном масле! На самом деле каждый живет для себя, для своей семьи и в жизни ищет только успеха да благополучия. И прикрывает это высокими словами. На собраниях выступают, а ты на самом деле так думаешь. Потому ты и есть дура. Но я тебя и дурочку люблю! Я вышла на крыльцо. Комаров не было. Дул ветер. Я села на ступеньки. Василий вышел вслед за мной, сел рядом.
— Что же будем делать? — спросил он уныло.
— Расставаться, Василий. Не могу понять, зачем тебе именно я?
— Ты меня освежаешь, как утро, как ветерок, Таиска! Не представляю, как я буду жить без тебя… Я бы мог обмануть… Прикинуться дурачком. Но учти, я тебя не обманывал никогда. Я — весь тут! Полюби меня черненьким, а беленького всякая полюбит.
Я не выдержала и заплакала.
— Ну, не плачь, я завтра уеду. Все-таки я еще буду ждать тебя год, два, три… не знаю сколько. Подумай! Потом, наверно, женюсь. Если решишь — позови меня.
— Я… не позову.
— Ну, ладно, не плачь. Завтра ведь уезжаю. Чего еще там! Разве я тебе причинил зло?
— Нет. — Слезы у меня так и лились. Носовой платок я оставила в сумке и вытирала слезы подолом широкой юбки.
— Зачем ты юбкой-то? Эх! — Он вытащил носовой платок и сам вытер мне слезы со щек и подбородка.
Мы долго сидели, обнявшись на прощанье. Шумели на ветру сосны. Василий рассказывал о своих ребятишках, о работе, о людях, которые его окружали. По безмолвному договору мы не касались больше острых тем.
Когда он далеко за полночь собрался уходить, я неожиданно для себя сказала:
— Если хочешь, оставайся до утра. Это ведь не имеет значения.
Он с любопытством посмотрел на меня и вдруг улыбнулся добро и хорошо. Мы стояли посреди комнаты.
— Какой щедрый дар! Жалко меня стало! Ты добрая, Таиска. Но я в милостыне не нуждаюсь. Да и жаль тебя. Знаешь, Таиса, что-то есть в тебе от Дон Кихота — беззащитное, ранимое. Потому я никогда не мог тебя обидеть. До свидания. Не говорю — прощай. Не поминай лихом. — Он низко, по-деревенски как-то, поклонился.
— До свидания, Василий!!!
Я проводила его до дороги. Он ушел.
7. НА ПЛОТУ ПО ЫЙДЫГЕ
Третья неделя на исходе. Река, быстрое течение, холодные брызги, солнечный блеск, ветер, рябь, отражение темных кедров в воде, острые камни, песчаные перекаты, водоросли на дне, мелькание рыб, тени от птиц, прозрачное небо, белые и холодные, как сугробы снега, облака.
Мы загорели, обветрели, похудели, ладони в мозолях. Кузя и я у передней греби, наш лоцман Григорий Иванович Стрельцов и Автоном Викентьевич Ярышкин у задней греби. Мария Кирилловна подменяет — чаще всего меня, иногда Кузю.
Рана Ефрема Георгиевича затянулась, и его отправили самолетом в санаторий. Там он поправится окончательно и наберется сил. Мария Кирилловна решила его проводить, но Пинегин, зная, как ей хотелось участвовать в экспедиции, отказался наотрез и уехал один. Даня остался у гостеприимной Франсуазы Гастоновны.
Интересные люди — рабочие экспедиции. Стрельцов — человек бывалый, про таких говорят: прошел огонь, воду и медные трубы. До революции он был десять лет на каторге за нечаянное убийство кума — в драке, «во хмелю». После революции ему дали десять лет за вооруженный грабеж. Был в какой-то банде. Они грабили прииски — намытое золото, приготовленное к отправке в жилуху.[1] Нападали обычно по дороге на станцию: железная дорога от города Незаметного километров семьсот или около того. Главарей банды расстреляли, а Стрельцов отделался десятью годами, да и те полностью не отсидел: отпустили по зачету, то есть за хорошую работу в лагере. После этого он бродяжил, искал золотишко в тайге, находил, прогуливал в жилухе и снова искал. Вообще всю жизнь «промышлял» в тайге.
Если б только бедная мама знала, с кем я еду! Но Мария Кирилловна уверяет, что он отличный проводник и лоцман; уже много лет ходит с разными экспедициями по тайге, а что касается прошлого, то он давно «завязал».
Григорий Иванович — высокий, жилистый старик с глубоко посаженными пронзительными голубыми глазами. В черных, как смола, волосах ни одного седого волоса, но густую бороду уже запушил иней. Это сильный и ловкий таежный волк. Лучшего лоцмана нам, конечно, не найти. Как он управляет плотом — залюбуешься! А управлять плотом на таежной реке не такое легкое дело. Правда, Ефрем Георгиевич сделал нам очень хороший плот: прочный, устойчивый, ходкий, с хорошей оснасткой, отлично управляемый. Я прежде думала, что плот — это просто несколько бревен, скрепленных вместе, а это— судно.
Посреди плота шалаш на случай дождя, перед шалашом очаг — камни, гравий, песок. Основной груз — продукты, одежда, спальные принадлежности, тщательно упакованные в рюкзаки и мешки, — мы разместили на грузовой площадке у задней подгребицы и накрыли сверху палаткой. Посуду, консервы, резиновую лодку и походную метеорологическую станцию мы привязывали у передней подгребицы. Середина плота вокруг очага свободна. Некоторые ценные приборы хранятся в шалаше.
За первые два дня мы научились хорошо понимать команду лоцмана.
— Нос вправо!
Я изо всех сих налегаю на переднюю гребь — плот смещается вправо.
— Ош!
Мы с Кузей разом прекращаем греблю.
— Гребь на плот!
Мы вытаскиваем гребь на плот и закрепляем специальными веревками.
— Сушить гребь!
Мы поднимаем гребь горизонтально и закрепляем петлей за рукоятку.
— Пошел!
Мы спрыгиваем с плота при швартовке.
Если я по неразумению своему и предполагала, что, спускаясь на плоту по Ыйдыге, можно любоваться пейзажем, то в первый же день путешествия убедилась, что это далеко не так. Сплав на плоту по таежной реке, конечно, полон неожиданностей и приключений, но прежде всего это тяжелый, очень тяжелый труд, осилить который могут, по выражению Стрельцова, лишь люди «первой категории здоровья». Перекаты, мели, завалы, подводные и надводные камни, скалы, валуны, буруны, пороги, шиверы, встречный ветер… Кроме здоровья, здесь нужна сноровка и опыт. А приобретение опыта — весьма трудоемкий процесс!
Но закончу про рабочих экспедиции. История Автонома Викентьевича Ярышкина произвела на меня потрясающее впечатление. Вы читали у Вашингтона Ирвинга историю о Рип-Ван-Винкле, проспавшем целых двадцать лет? Автоном Викентьевич — тот же Рип-Ван-Винкль!
На ночь мы останавливались у какого-нибудь песчаного островка или пологого берега, мужчины разбивали палатку — Мария Кирилловна и я спали на плоту в шалаше, — разводили костер, готовили ужин, а после ужина, невыразимо вкусного, еще беседовали с часок у костра. Вот я и спросила раз у Автонома Викентьевича, откуда он родом. Оказалось, земляк — москвич. Из Москвы только два года. Я оживилась.
— А где вы там работали?
— В Сергиевской лавре я служил, — простодушно ответил Ярышкин.
Я совсем запамятовала, что его в лесхозе звали расстригой, и удивилась:
— Не понимаю… кем?
— Разве вы не знаете, Таисия Константиновна? Я же расстрига. Сан у меня был священнический.
Кузя от удивления присвистнул.
— Простите… Вы — поп?
— Бывший… Я в прошлом году сложил сан.
Кажется, Кузя был шокирован. А на меня напал неуместный смех — едва подавила его.
— Автоном Викентьевич имеет университетское образование, — почему-то строго сказала Мария Кирилловна. — Его исключили с последнего курса, когда он почти закончил дипломную работу. Девушка, которую он любил, узнала, что он верующий, и сообщила в дирекцию. Она была очень принципиальная, ей только не хватало ума и великодушия. Мать Автонома Викентьевича — глубоко религиозная женщина, сын ее очень любил, всю ночь умоляла Автонома Викентьевича сказать, что он не верит. Но он не мог «отречься». Шуму было на весь университет. Никто не подозревал, что он верующий. Естественник, биолог!! Его исключили из университета, чем толкнули прямо в объятья церковников. Пострадал за религию, вы шутите! Сам епископ обучал его. Автоном Викентьевич и опомниться не успел, как его посвятили. И он…
Мария Кирилловна запнулась.
— Я пошел в монастырь, — сказал Ярышкин.
— Черт те что! — не выдержала я. — Как вы, культурный человек, можете верить во всю эту чушь?!
— Я ж теперь и не верю, — тихо возразил Ярышкин. — У меня уже прошло.
— Двадцать лет жизни! — с ужасом воскликнул Кузя.
— Двадцать пять… вроде из больницы вышел, — проронил Ярышкин упавшим голосом.
— Как же вы перестали верить — сразу или постепенно? — поинтересовалась я. Кузя пожал плечами — наверно, вопрос показался ему глупым. Но Ярышкин меня понял.
— Сразу! Конечно, подготавливалось постепенно, но произошло сразу, как отрезало. Однажды вечером я хотел молиться и не смог: вдруг стало некому… Я не спал всю ночь. Ходил по улицам Загорска, останавливался, смотрел на звезды. Я был растерян… Вера вдруг оставила меня. Вчера еще верил, сегодня нет. И больше не вернулось.
Утром надо было идти служить. Я же в Сергиевской лавре… а уже не мог. Сначала сказался больным. Надо было обдумать, что же мне теперь делать. И я принял решение: снял с себя сан и уехал сюда на Север, на Ыйдыгу.
— Почему именно на Север? Сами себя наказали ссылкой? — спросил Кузя.
— Мне не за что было себя наказывать, — сухо ответил Ярышкин. — Я никого не обманывал. Был честным с собой и людьми. Когда я верил — служил богу, потерял веру — решил послужить людям. Буду работать, пока есть силы. А Север выбрал потому, что здесь больше требуются рабочие руки, значит, и я буду нужнее. Ну, и еще потому, что всегда мечтал побывать на Севере, увидеть северное сияние, простору порадоваться и тишине. Благостно здесь!.. А насчет ссылки вы напрасно, Кузьма Олегович… Вот Мария Кирилловна, поди, обиделась за ссылку-то…
— Обиделась, — подтвердила Мария Кирилловна. — Никакая тут не ссылка. Разве может красота быть местом ссылки? Прислушайтесь и посмотрите, молодой человек!
Пристыженный Кузя послушно огляделся вокруг. Все замолчали. Тихо-тихо плескалась Ыйдыга, журча быстрее и громче на каменных перекатах. Шумели сосны — видно, ветер запутался в вершинах. Спросонок закричали цапли, спугнутые каким-то зверьком. Поскрипывал плот, покачиваясь на воде. И вдруг я подумала, что удивительно сочетается на севере темное и светлое…
Светлая ночь и темный лес, темно-синяя вода и светло-желтая отмель. Высокие скалы, испещренные черными и белыми лишайниками. Скалистый берег прорезали распадки-ущельца, с которых водопадиками свергались ручьи, и их журчание вплеталось в симфонию белой ночи, как мелодичное звучание флейты. Воздух, омытый дождями и солнцем, напитанный запахом трав и хвои, был так чист и прозрачен, что на расстоянии ста километров отчетливо белели заснеженные горы.
А небо было темно-лиловое у горизонта, там, где оно касалось леса, и голубое в высоте и такое глубокое, чистое и прекрасное, что замирало сердце, когда вглядывалась в него, и оторопь брала. Никогда в Москве не бывает такого неба! По сравнению с этим оно мутное, пыльное, как непромытые окна. В Москве мне оно казалось чистым, но в тайге я поняла, что это не так. Эх, отцу бы посмотреть!
Как бы привезти всех наших сюда?
А зимой, наверное, еще прекраснее!.. Безмолвие, снега, лес в снегу, всполохи северных сияний, зажигающих снег во все цвета радуги. Я начинаю понимать Марию Кирилловну, предавшуюся этой Красоте, этому дивному краю всей душой.
Это был край контрастов! Не так ли здесь было и с людьми?
Сказать честно, не знаю, как бы я восприняла биографии Стрельцова и Ярышкина в Москве, но здесь, у подножия древних и мудрых кедров, я только посочувствовала этим людям в их страданиях, заблуждениях и поисках.
Долго они оба блуждали по окольным и темным тропам, пока вышли на просторную дорогу и пошли по ней — уже в старости.
Старость! Хотела бы я знать, что это такое? Болезнь? Вынужденный отказ от полной и яркой жизни? Почему старый человек не чувствует себя старым? Я спросила одну очень старую женщину — ей было девяносто два года, — чувствует ли она себя старой? Она решительно ответила: нет! Она сказала: «Мне кажется, я просто больна, но что это еще пройдет!» Это была моя родная прабабушка. Она умерла на девяносто шестом году, так и не почувствовав себя старой, ей все казалось, что это еще пройдет.
Неужели и я когда-нибудь буду старой? Мне не верится. Как не верится, что я когда-нибудь умру. Знаю, но не верю!!!
Было утро, и я стояла возле старой-старой ели… Ей было около пятисот лет!
До ста лет кора у ели гладкая, бронзовая, словно кожа здорового загорелого юноши; хвоя зеленая, сочная; крона густая — ветер треплет ее, как волосы. После ста двадцати пяти лет кора трескается, на ней появляется серый налет. К ста пятидесяти годам кора делается чешуйчатой, крона изреживается, появляются мертвые ветви. К ста восьмидесяти годам чешуя укрупняется, трещины превращаются в глубокие непрерывные борозды, кора — мертвенно-серая. К двумстам годам кора как пепел, хвоя — как пепел, на искривленных сучьях утолщения у разветвлений, похожие на ревматические суставы стариков…
Надо научиться спокойно воспринимать это, а то слишком больно.
Я отошла и еще раз посмотрела на старую ель. Все же она была прекрасна: гордая, несгибаемая. Величаво и торжественно держала она свои ветви. А хвоя отливала серебром, совсем не пеплом. И старая ель определенно радовалась солнцу и ветру — жизни. И ей тоже, наверно, казалось, что это еще пройдет и она снова будет цвести и плодоносить. Может, действительно пройдет? Какие причины вызывают старость дерева? А что, если дереву помочь?
Весь день заполнен трудом. Каждые полкилометра мы останавливаемся для научно-исследовательских наблюдений. У каждого свои обязанности.
Стрельцов берет пеньковую промасленную веревку-лот и приступает к промерам реки — ширины и глубины. Кузя кидается искать щуп (который всегда почему-то теряет) для взятия образцов донных грунтов. Кузя описывает речное русло.
Я начинаю с белого диска для определения прозрачности воды, затем измеряю скорость течения, температуру воды и воздуха, скорость ветра, облаков, записываю визуальные наблюдения. Мария Кирилловна, по существу, продолжает свою работу лесничего: ее интересует только состояние леса. Ярышкину мы отдали ботанизирки для растений, папки для гербаризации, фильтровальную бумагу, в которую заворачивать растения, и он теперь совмещает обязанности рабочего экспедиции и внештатного ботаника.
Работа, что называется, кипит; кто освобождается раньше, помогает другому. Вечером, после ужина, я обобщаю наблюдения товарищей, заполняю полевой дневник.
Погода стоит жаркая, знойная, ни разу не выпал дождь, и все время дует ветер из пустынь Азии — горячий и сухой.
Комаров почти нет. Мария Кирилловна говорит, что в этих местах вообще гнуса мало, лишь кое-где по низинам да болотам. И такая тишина! Только стрекот кузнечиков, крики птиц да рокот патрульного самолета лесной авиации. Все лето тайгу обрабатывают гербицидами и стимуляторами. Воздушная лесная служба обрабатывает даже «белые пятна», куда еще ни один лесничий не заезжал.
До чего же здесь дико! Ни одного еще селения не встретили на берегу. Река считается не сплавной. Закончится строительство плотины на Вечном Пороге, и лес будут сплавлять по Ыйдыге. А пока — безлюдье, девственный первобытный лес.
Однажды мы услышали женские голоса… Не забуду ужаса, охватившего меня. На сотни километров ни одного человека — и вдруг эти голоса купающихся женщин, странные, неприятные: не то громко хохотали, не то бранились… Потом раздался громкий плач и опять брань, хохот. Эхо язвительно и зловеще передразнило. Оказалось, что это гагары!
Никогда мне так не работалось легко, так радостно.
Все время хочется петь — и я пою, хочется смеяться — и я смеюсь по всякому поводу и без повода. Хочется говорить людям только доброе, чтоб и им тоже было весело на душе.
До чего же я счастлива! Так мне хорошо, что не хочется думать о причине этого. Может, это не надолго, а потом придут заботы, обиды, разочарования… Пусть! Я всей душой благодарна за эти дни радости. Слишком было бы прекрасно, если б такое вот ощущение радостной приподнятости над обыденным сохранилось надолго, на всю жизнь. Наверно, так не бывает?
С самого начала я знала, почему мне так хорошо. Марк! Не знаю только, любовь ли это или что? И уж во всяком случае не знаю, будет ли эта любовь взаимной. Потому что Марк ни словом, ни взглядом не показал этого. Но он мой друг… Это не мало.
Я счастлива, что есть на свете такой человек, как Марк Александрович Лосев, и что он мой друг. И не хочу думать о том, как мы расстанемся, когда я осенью возвращусь в Москву. Расстанемся, очевидно, на всю жизнь… В Москве нет такого человека. Нигде нет. Он один такой во всем мире. И пока я вижу его два-три раза неделю. Ура!!!
Вертолет всегда показывается неожиданно. Пока ждешь — его и нет, и нет, и нет. А только забудешься, отвлечешься чем-нибудь — как уже доносится издали его рокот. Все посмотрят на меня и улыбнутся. Я не смущаюсь и не краснею, просто делаюсь еще счастливей — если это возможно.
Вертолет покружится над лесом, как гигантская фантастическая стрекоза, пролетит над плотом, вперед — назад, пока Марк выберет место для посадки и приземлится где-нибудь на островке или песчаной отмели. Мы торопливо гребем к нему.
— Сушить гребь! Пошел! — Я кое-как закрепляю свою гребь, спрыгиваю с плота и бегу изо всех сил к вертолету. Все идут за мной. Марк уже улыбается нам из стеклянной кабины. Еще момент — и он выпрыгивает на песок.
Это маленький учебный вертолет (для стрекозы он большой, для вертолета — маленький!) Ми-1— на одном трехлопастном несущем винте. Но Марк очень его любит. Поздоровавшись со всеми за руку, Марк, словно дед-мороз, начинает выкладывать гостинцы из мешка: письма, газеты, журналы, свежий хлеб, мясо или молоко.
Довольный Стрельцов (он у нас и за повара) уносит продукты и тут же начинает готовить обед. Раз Марк — значит, стоянка, пока он не улетит. А мы не отпустим его, пока он не пообедает с нами. В ожидании обеда Марк сидит на плоту и тихо — у него негромкий голос — рассказывает новости или мы ему рассказываем про свои происшествия. Их немало. Что ни день — приключения. То мы чуть не перевернулись на шивере, то был очередной порог, и мы спустили плот порожним, а сами тащили на спине вещи, приборы и продукты в обход, по каменистому берегу. А плот потом пониже порога вылавливал Стрельцов на резиновой лодке. Марк сердится, почему не подождали его. Он уже несколько раз переносил нас через трудные барьеры.
— Пришлось бы сутки ждать! — поясняет Мария Кирилловна. Марк очень смеялся, что мы с Кузей испугались гагар.
— Что-то сатанинское было в их хохоте! — уверяю я.
— Ничего похожего, — возражает Марк. — Вот я был в отпуске в Дагестане. Шакалы — да! Поистине смех дьявола. Сначала мне показалось, что смеются дети… много детей. Но сразу стало жутко — поистине сатанинский смех!
— Можно подумать, что вы с Тасей не раз встречали сатану, — замечает Мария Кирилловна. Подбородок ее вздрагивает, она от души смеется. Все начинают смеяться, будто невесть что остроумное сказали. Кажется, не только я, но и все в нашей маленькой группе чувствовали себя счастливыми.
Иногда вместе с Марком из вертолета появляется сам Брачко-Яворский. Профессора надо угощать его любимой ухой из хариусов. А несколько раз Марк захватывал с собой и Даню. То-то было шуму, смеху, радости. Только отправлять его назад было не легко. Он вцепился в плот и слезно умолял оставить его «хоть на день!..». Но Мария Кирилловна неумолима. Единственный сын!
Час-полтора — и вертолет улетел. Машина нужна лесхозу. Последние отзвуки моторов угасают за лесом. Какая-то особенная тишина опускается на тайгу. Очень грустно. Светлая грусть. Еще целых два дня. А может, и три…
Однажды Марк остался ночевать. С ним прилетели Андрей Филиппович и Даня. Мы долго-долго сидели в тот вечер у костра и беседовали. А утром они улетели: пилоты имели выходные дни, вертолеты — никогда, их еще мало.
Мария Кирилловна каждый раз спрашивала, нашли ли Харитона. И каждый раз Марк отвечал: «Нет, не нашли…»
Значит, Харитон еще бродит где-то по тайге. Как пуганый зверь, скрывается от людей. И все же я вздыхала с невольным облегчением. Мне хотелось, чтоб он сам пришел с повинной. Понял, на какой путь он встал…
Последние, самые поразительные, новости привез профессор.
Организуется новый лесхоз: территория — с добрую страну, а то и две (Голландия плюс Дания, например!), правление — на Вечном Пороге (там живут Марк и его отец!). Директором лесхоза назначена Пинегина (вот правильно!). Главным лесничим — Владимир Афанасьевич Корчак.
Ефрема Георгиевича назначают помощником лесничего. Лесничих пока не хватает. Будут просить в министерстве.
Мария Кирилловна настолько была взволнована, что ночью не могла уснуть, ворочалась с боку на бок. Наконец, смотрю, не выдержала: встала, оделась, перешла с плота на берег (мы с ней спим в шалаше на плоту) и села у тлеющего костра. Через минуту костер ярко вспыхнул — подкладывает валежник. Мне тоже что-то не спалось, лезли в голову всякие мысли… Надев прямо на ночную рубашку старенькое свое демисезонное пальто, я тоже подсела к костру.
— А вы почему не спите? — улыбнулась Пинегина.
— Из солидарности. — Мы посмеялись и подвинулись ближе друг к другу.
— Вот удивится Ефрем, как узнает, — вполголоса, чтоб не разбудить мужчин, заговорила Мария Кирилловна, — такая неожиданность. Поразительно.
— Что ж тут особенного? — возразила я. — У вас высшее образование, научные труды, огромный опыт в лесоводстве, вы член партии, наконец, кого же тогда и назначать?
Мария Кирилловна усмехнулась.
— Поразительно то, что люди, назначавшие меня на пост директора лесхоза, в разное время имели от меня всякие неприятности. И притом крупные. Всего лишь год, как я работаю спокойно: с появлением Жарова. Пока был прежний директор, я бомбардировала и Москву, и область письмами, телеграммами, телефонными звонками. Отпуск я проводила в хождении по соответствующим учреждениям. Ну, иногда рассердишься, наговоришь много лишнего. Обзовешь высокостоящего товарища бюрократом, варваром, которому будущие поколения не простят. Один такой деятель даже сострил: «А вас, что, эти будущие поколения уполномочили?» Да, говорю, я действую от их имени. Я думала, мне этого не простят.
Сколько мы — работники лесничества — потратили сил и здоровья, пока научили лесозаготовителей беречь лес, думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем! Смотришь, такой высокий, хороший подрост, а его нещадно губят. А ведь чтоб посеять и вырастить такой подрост, надо лет пять-шесть, а то и больше. Ведь что было: у лесозаготовителей своя технология, как бы «кубиков» побольше дать, а там буквально хоть трава не расти. А у нас своя: как сохранить подрост, семенные деревья, красивые урочища, древние кедровые рощи, не оголить берега рек. Взываешь к совести, справедливости, благородству, а в ответ слышишь: «Вы нам морали не читайте, с нас план спрашивают. Нам надо рубить, где поближе да получше, скорее и больше!»
Бросаешься к директору леспромхоза, ко всякому другому, власть имеющему… Да что говорить! Боролись и победили! Конечно, много не вернешь. Был чудесный сосновый бор за Кенжой… Теперь там осинник, кустарники. А ведь будут города! Уже открыты месторождения киновари, олова, свинца. Два-три поколения пройдет, пока вырастет такой сосновый бор.
Мария Кирилловна зябко повела плечами. Я подбросила в костер валежника.
— Теперь деревья валят на узких полупасеках вразвал и трелюют по двум волокам вершиной вперед, — снова заговорила Мария Кирилловна о подросте. — А на других участках, в иных условиях, лесозаготовки ведутся поперечно — ленточным способом. Валку деревьев ведут с двух узких просек вершиной на волок, трелевку — вершиной вперед. Это позволяет сохранить подрост. Теперь лесорубы трудятся на совесть. Лозунг у них: «срубил дерево — посади два!». Но чего это стоило новому директору… В соседнем лесничестве до сих пор лесорубы подроста не сохраняют, волоки заранее не подготавливают, деревья трелюют за комли, валят как попало. Какая уж там передовая технология! Теперь на новом месте, с новыми людьми, все начинать сначала. Люди здесь разные… Многие из заключения — уголовники. К каждому свой подход… Справлюсь ли я?
— Конечно, справитесь!
— Начинать, как говорится, на пустом месте…
— Это еще интереснее, Мария Кирилловна!
— Да, пожалуй…
Мария Кирилловна посмотрела на меня, усмехнулась, хотела что-то сказать, но промолчала. Я почувствовала, что краснею.
— Это вы подумали: легко ей говорить, а сама уедет к осени в Москву… Ведь подумали, правда?
— Подумала, Тася, простите!
— Ну, вот! — Я наклонила пылающее лицо к костру. — А мне, Мария Кирилловна, как раз хотелось бы работать на Ыйдыге. Берите меня лесничим!
Пинегина живо обернулась ко мне.
— Это вы серьезно, Тася?
— Вполне серьезно.
— Но как же так вдруг…
— Совсем не «вдруг»! Наоборот, для меня и моих родных было неожиданностью, что меня оставили при кафедре. Для моих товарищей тоже. Студенты не считали меня особенно умной…
— А вы сами тоже так думаете?
— Конечно, нет! Я гораздо умнее, чем кажусь. Не смейтесь! Профессор-то это знает. Он думает, что из меня выйдет настоящий ученый.
— Что вы под этим понимаете?
— Настоящий ученый? Ну, который не может не заниматься наукой! Не ради научных степеней, званий, зарплаты и тому подобного, а ради самого узнавания. Настоящий ученый остается ученым в любых условиях. У нас был знакомый биолог, так он в ссылке экспериментировал на тараканах. Ему хотелось разобраться, кто прав в вопросе о наследственности, ведь есть несколько точек зрения. Он развел в избе целое скопище тараканов. И жена терпела его и тараканов — ради науки! Ни одного таракана нельзя было задавить: они все были меченые.
— О! И что же с ними потом сталось?
— С тараканами?
— Нет, с этим биологом и его женой.
— Когда его вызвали в министерство и восстановили на прежней работе, он еще года четыре жил в Казахстане, так как надо было довести опыт с тараканами. Вот что значит настоящий ученый. На всякие жертвы способен ради науки. Я тоже способна на жертвы (кроме тараканов). По-моему, ученому-лесоводу полезно лет десять-пятнадцать поработать в лесу. Разве не так?
— А потом?
— Время покажет, что из меня выйдет… И где я буду тогда нужнее — в лесу, или на кафедре, или в научно-исследовательском институте. Лесничество же не монастырь; если уж постричься, то навеки. Впрочем, Ярышкин наш из монастыря и то ушел!
Мария Кирилловна рассмеялась:
— С вами, Тася, не соскучишься. А если серьезно… У вас есть своя научная тема, которая вас лично интересует?
— Есть. Меня многое интересует. Во-первых, лесная гидрология. В частности, отепляющее влияние рек на климат. В Сибири это особенно интересно проследить. Водоохранная роль леса… У меня ведь и дипломная работа была на эту тему. Я тогда изучила чуть ли не всю литературу по этому вопросу. Еще далеко не все сказано о гидрологической роли леса. Вообще, как это ни странно, глубокого познания природы леса еще нет ни в нашей науке, ни за рубежом. Затем… Ну, это уже мечта… Все равно, как если бы я мечтала полететь на Марс!
— Что ж, полететь на Марс — это уже реальный план. Мы еще будем читать об этом в газетах. Какая же у вас мечта, Тася?
Я с минуту помедлила. Говорить или нет? Даже Михаилу Герасимовичу я еще не говорила. Никому. Скажут: фантазерка! Но Марии Кирилловне я почему-то рассказала.
— Эта тема пожизненная. Коллективная в самом широком смысле, как содружество ученых всего мира. А если наше поколение не успеет… передадим, как эстафету, следующим поколениям. Проблема преодоления времени в лесоводстве!! Добиться, чтоб кедр вырастал не за сто лет, а за год-два. Вы только подумайте! У меня даже дух захватывает.
Мария Кирилловна пристально посмотрела на меня.
— Когда-то этой проблемой увлекся Василий Чугунов. Он мне писал.
— Вы разве переписываетесь?
— Редко. Одно-два письма в год. Мы же однокурсники. Так вот… Василий охладел к этой теме.
— Я не Василий! — резко возразила я. — Ему нужна выигрышная тема для диссертации. А мне — цель на всю жизнь. Для души!
— Не представляю… Как же вы приступите к этой теме? С чего начнете?
— Ну… еще не знаю. Мне кажется, при изучении стадийных изменений древесных пород можно найти способы управления ростом деревьев. В институте, где работает Василий, пошли по пути селекции. По-моему, это не тот путь.
Мария Кирилловна долго сидела задумавшись. Пламя костра отражалось на ее круглом ясном лице, опаленном солнцем.
— Конечно, вы найдете время для научной работы, но это будет нерегулярно, предупреждаю вас. Иногда у лесничих не хватает времени даже на то, чтоб сварить обед.
— Я понимаю. Но я сильная. И сумею найти время. Буду меньше спать.
— Вы… интересный человек, Тася!
Я невольно покраснела: не привыкла к похвалам. Мы еще долго разговаривали у костра. Мужчины крепко спали. Лес тоже задремал. Даже ветер где-то улегся спать.
— Надо хоть немножко поспать, — спохватилась Пинегина и зевнула. Мы перешли на плот и стали укладываться спать.
Я уже засыпала, когда Мария Кирилловна окликнула меня:
— Тася, я очень хочу, чтоб вы остались с нами. Но ваше заявление ни к чему вас не обязывает. До осени еще есть время подумать. И обдумайте, как следует. Ладно?
— Ладно! Только я все равно останусь.
— А ваша аспирантура? Михаил Герасимович огорчится.
— В аспирантуре можно учиться заочно. Михаил Герасимович поможет с литературой. Но вы пока ему не говорите, а то все лето будет убеждать возвратиться в Москву.
— Я ничего от вас не слышала, Тася. Выбирать — вам.
8. ЗАБРОШЕННЫЙ РУДНИК
На топографической карте района Ыйдыги был помечен заброшенный рудник «Синий камень». Стрельцов рассказывал, что в двадцатых годах там были богатые россыпи золота, но за какие-нибудь пять лет россыпи были выработаны, и с рудника все ушли. Теперь, конечно, дороги туда заросли лесом, а бревенчатые избушки, в которых жили старатели, наверно, разрушились от дождей и снегов.
— Вы были на «Синем камне»? — спросила я Марию Кирилловну.
— Нет, не довелось.
— А в первую экспедицию по Ыйдыге?
— Надо было потерять целый день, а мы спешили. Начальник экспедиции Петров не разрешил.
— Ну вот, а теперь вы сами — начальник экспедиции. Давайте его рассмотрим. Ладно?
Мария Кирилловна охотно согласилась. Я была в восторге и с нетерпением ждала, когда мы подойдем к «Синему камню». Он был расположен на мелкой речонке Забияке, впадающей в Ыйдыгу повыше устья километров на шесть.
Но Забияки мы достигли поздно вечером и сразу после ужина улеглись спать. Проснулась я от нетерпения раньше всех, наскоро искупалась в ледяной Ыйдыге и стала разводить костер. Едва я нажарила оладий (Мария Кирилловна еще с вечера поставила тесто) и сварила крепкий кофе со сгущенным молоком, как все уже проснулись. За завтраком было решено, что в лагере останется Ярышкин, он не протестовал. Решили по пути поохотиться. Стрельцов и Пинегина захватили с собой ружья. Набрали еды и двинулись в путь. Но сразу же натолкнулись на непроходимые заросли жимолости, голубики, шиповника и синей смородины-охты.
— За ягодой недалеко ходить, — пошутила Мария Кирилловна, — сварим чудесный кисель из охты, но пройти здесь без топора невозможно.
Стрельцов тут же вернулся и захватил топор. Заткнул его за пояс. Признаться, с ружьем и топором он походил на атамана разбойников или, выражаясь более современно, на главаря банды. Все-таки прошлое кладет свой отпечаток. На Стрельцове были кирзовые сапоги, ситцевая рубаха, видавшая виды фуражка.
— Можно пройти по ручью, — предложил он.
Действительно, Забияка оказалась мелководной — в самых глубоких местах по колено, — струилась неторопливо и добродушно и совсем не оправдывала свое название. Вода была хорошо прогрета солнцем, совсем не то, что в Ыйдыге.
Пошли по песку, вдоль ручья. Солнце только что взошло. Трава и кусты еще сверкали росой, а в воздухе уже мерцала голубоватая дымка: опять необычайно жарким будет день. В небольшой усыхающей протоке прыгали длинноногие кулики. Отовсюду слышалось гоготанье гусей, кряканье уток, крики множества птиц. Над нами парили в воздухе белоснежные чайки. На песчаных отмелях темнели влажные следы сохатых, росомахи, оленей, рыси. Безлюдная тайга эта была перенаселена зверьем и птицами, которые, кажется, чувствовали себя без человека превосходно.
Среди могучих — в два-три обхвата — кедров и лиственниц ярко выделялись высокие скалы. Никогда я не видела в природе такой яркой расцветки: красные скалы, синие скалы с зелеными, синими, желтыми натеками, чистоты и блеска драгоценных камней. Вдоль ручья валялись огромные синие, желтые, черные камни с вкрапленными в них кристаллами свинцово-серого цвета. Кузя все время ахал от восторга и то и дело щелкал фотоаппаратом. Мария Кирилловна с удивлением рассматривала камни.
— На обратном пути надо взять образцы, — сказала она, — да послать геологам. Все эти синие и зеленые налеты — признаки руды!
— Золотишко все тут повыбрали! — заметил Стрельцов, оборачиваясь. Он шел впереди, выбирая путь.
— Кроме золота, могут быть другие металлы, которыми тогда, сорок лет назад, не заинтересовались, — возразила Пинегина.
Вначале мы оживленно переговаривались, но постепенно как-то примолкли, подавленные дикостью и безлюдьем. Уже месяц, как мы были в самом сердце тайги, и я все не могла ее разгадать, потому что она бесконечно менялась. И если она была чем-то живым, то это живое обладало неисчислимым множеством душ — многоликая, разная, непонятная и прекрасная. Но еще ни разу тайга не представала передо мной вот такою: первобытной, непокоренной, свободной и страшной.
Все было в движении, все трепетало, жило, сверкало, источало аромат и тянулось к небу. Горячий сухой ветер раскачивал вековые деревья… Нет. Неохватные, массивные, потрескавшиеся стволы их, ушедшие глубоко в землю, стояли неподвижно, как мощные колонны, на глубоком фундаменте, подпирающие голубой свод небес, но ветви извивались, хлестали друг друга, сыпалась в воду хвоя, а в вершинах что-то гудело протяжно и низко, как орган. Вода звонко журчала, цепляясь о старые обомшелые коряги и странной расцветки камни. Мы шли молча, следуя извивам ручья и косясь на темные заросли, откуда веяло холодной прелью.
Лес неохотно расступался перед нами и сразу смыкался за спиной. И был непонятен, как если бы мы шли по неведомой планете. Нет, мы шли, конечно, по нашей, русской земле, но будто много веков назад. Мне вдруг вспомнилось одно предание, читанное еще в детстве. Когда татары разгромили и обезлюдили древний Киев, он зарос дремучим лесом, заросли все дороги к нему, и долгих триста лет только зверь мог продраться сквозь колючие заросли, чтоб пробежать по древним улицам, где даже дома заросли мощными дубами. Помню, на меня это произвело неизгладимое впечатление… И вот теперь я была свидетелем, как лес поглощал заброшенный рудник.
Мы подошли к руднику в полдень. Кое-где еще сохранились по берегам ручья следы труда старателей — отвалы промытой породы. Вот старая обрушенная штольня, рядом окаменевшие отвалы, остатки шлихов. Потемневшие избы из бревен лиственницы по полтора метра в поперечнике стояли несокрушимо, даже стекла в окнах кое-где сохранились, но разросшиеся кустарники и травы загородили вход в двери, а на крышах выросла трава. Синие скалы светлели среди темных зарослей. Высокая каменистая гора — потухший вулкан, — поросшая редким стлаником, вздымалась неподалеку, загораживая собой добрых полнеба. Пустынно и дико было вокруг.
— Змей здесь не водится? — шутливо спросила я.
— Как будто нет, — нерешительно ответила Мария Кирилловна.
Кузя стал опять щелкать аппаратом. А заметно разволновавшийся Стрельцов разглядывал избы.
— Вон в той я жил! — кивнул он на избушку под скалой. — Я первым пришел. Сезона два здесь старался. Жизнь тогда здесь кипела. Кабаков одних сколько было! Все золото там и оставляли. Это было в 1923 году!
— Нэп! — глубокомысленно покачал головой Кузя.
Мы нашли подходящее место и сели немного отдохнуть и подкрепиться, так как уже проголодались. Потом запили водой из холодного родничка.
— Я тогда жил с одной женщиной, Василисой ее звали… Впрочем, это, кажется, кличка! — вспоминал Стрельцов. Он даже помолодел, голубые глаза его блистали, морщины от возбуждения разгладились.
— Василиса Прекрасная! — подсказала я.
— Она была красивая, но непутевая. Бродяжка!! Ушла от меня к китайцу Ван-Хай-лину. Он держал зимовье и торговал опиумом — за чистый золотой песок. Оба плохо кончили, когда сюда добралось ГПУ.
После завтрака мы заглянули в избушку Стрельцова, изрядно исцарапавшись о колючий кустарник. Распахнутая дверь покосилась и вросла в землю. Черные пауки свили здесь гнездо. Огромная русская печь зияла черным жерлом. На шестке еще стояли чугуны, рядом в углу, — ухваты и сковородник. Стол, топчаны, табуреты, грубо сбитые, но прочные, казалось, ожидали, чтоб их помыли и снова ими пользовались. Мы в нерешительности постояли на пороге. Только Стрельцов с грустным видом походил по избе. Все же она была крепка, даже пол не провалился. Здесь мог бы жить медведь со своим семейством! Скоро мы вышли на воздух.
Марию Кирилловну интересовал лес, она делала какие-то пометки в записной книжке. Кузю — пейзаж, он то и дело перезаряжал фотоаппарат. Григорий Иванович весь ушел в воспоминания и казался рассеянным.
— Давайте поднимемся на эту гору! — предложил Кузя.
— Наверное, такой вид!
Мария Кирилловна кивнула головой. Они направились к горе.
— Я похожу здесь! — крикнула я вдогонку.
— Только осторожнее! — на всякий случай сказала Пинегина. И они ушли, все трое. Скоро и голосов их не стало слышно.
Оставшись одна, я, очень довольная, пошла по улице, обходя кусты и камни. Я с детства любила блуждать одна по незнакомым местам, наслаждаясь ощущением открытия. Сколько я таких «открытий» сделала в Подмосковье! Я знала, что с горы вид изумительный, но рудник влек меня заброшенностью и предчувствием тайны. Когда-то здесь жили люди. Они трудились, любили, ненавидели, мечтали, надеялись, сомневались и верили, плакали и смеялись, женились и умирали. Неужели ничего от них не осталось? А когда рудник вновь оживет после сорокалетнего сна, здесь будут другие люди, другие нравы, другие мечты и сомнения. И любовь их будет другая, и ненависть, и дружба, и самый труд. И новые песни будут звучать на этих улицах… Я подошла к одной избе… не знаю до сих пор, почему я выбрала ее. Ничем она не выделялась среди других бревенчатых изб. Дверь была в исправности. Я открыла ее и вошла. Уже открывая, я ощутила дрожь во всем теле — мне стало страшно… Но я уже вошла. Посреди избы стоял Харитон и настороженно смотрел на меня.
Как он изменился! Я едва узнала его. Оброс русой бородой, исхудал, оборвался. Но главное — глаза!!! Если бы вы только видели эти одичавшие, почти безумные глаза! Они странно посветлели, будто выгорели. Зрачок был узок, как у кошки…
От ужаса я закричала. Он сразу заткнул мне рот шершавой горячей рукой.
— Таиска! Не ори. Слышь!
Я замолчала, и он выпустил меня.
— Кто еще здесь, кроме Григория Ивановича? Я узнал его голос.
— Наш студент Колесников и Мария Кирилловна.
— Лесничиха?
Лицо его исказилось: не то страхом, не то еще каким-то смутным чувством.
— Она… не войдет сюда?
— Не знаю, сейчас они на горе. Их видно отсюда.
— Крепкая! Только похоронила мужа и…
— Харитон! Разве ты не знаешь? Ты же его не убил, только ранил. Зачем ты это сделал? Ефрем Георгиевич уже поправился. Он уехал в санаторий.
Да, Харитон не знал… Так я и думала: он жестоко раскаялся в своем преступлении. С минуту он широко открытыми светлосерыми глазами смотрел на меня — еще не верил. До чего же он был похож на Василия! Василия, жалкого, одинокого, ошибающегося. А таким я видела его в тот день, когда он отказался от меня и вернулся к жене, которую не любил.
Харитон пошатнулся. Как слепой, он нащупал стол, скамью рядом и не сел — упал на нее. Он заплакал, не закрывая лица, не стесняясь облегчающих слез.
— Не убил! Не убил! — бормотал он сквозь слезы. Мощные плечи его вздрагивали.
Не знаю, может, не пристало комсомолке жалеть хулигана и браконьера, покушавшегося на убийство, но я, не раздумывая, бросилась к Харитону, обхватила его лохматую, нечесаную голову и крепко прижала к себе. Он выплакался у меня на плече, потом благодарно и смущенно посмотрел на меня.
— Не брезгаешь? Спасибо! Значит, любишь Ваську-то.
Он улыбнулся сквозь слезы. Вытер лицо рукавом. Не время было объяснять ему мое отношение к его старшему брату. Пусть думает, что я его невеста, так для Харитона лучше.
— Харитон! — сказала я. — Идем с нами! Он испуганно взглянул на меня.
— Там же лесничиха? Как можно! Когда я ее мужа…
— Я ей все объясню. Скажу, что ты раскаялся! Я ведь видела…
— Не поверят. Мало ли что раскаялся. Так бы каждый: нашкодил, а потом раскаялся. Я, Таиса, не хотел его убивать. Хотел только попугать малость. Я сильно рассерчал на него. Давно уже серчал. Он хотел вести меня к начальнику милиции. А тот предупредил меня: если еще раз попадешься — засудим. Теперь все равно засадят меня в тюрьму, — закончил он упавшим голосом.
— Да нет же, Пинегин ведь жив!
— Ну и что? Слава богу, что жив. Я так рад, так рад! Ох, тяжко, когда человека убьешь. Совесть, она, знаешь… Особенно ночью. Страшно! Не раз думал руки на себя наложить. Значит, жив?! Только все равно будут судить меня за убийство. Покушался на человека — никуда не денешься.
Застукал меня Ефрем на месте. Лося я как раз свежевал… Разозлился он, будто из его хлева увел. Аж позеленел весь, Ефрем-то. Думаю, что ты за человек, больше всех тебе надо — тайги, что ли, мало на всех? Хотел припугнуть, я ведь меткий, стрельнул мимо него, а он как раз в эту сторону отшатнись… Смотрю — упал бездыханный… Ну, думаю, конец! И Ефрему конец, и мне конец!.. Бросил того лося, а Ефрема отнес на опушку… Под сосной положил… Жалко мне стало Ефрема. Он был мертв. Не понимаю, как он оживел? Посмотри, не идет лесничиха?
Я вышла взглянуть. На вершине горы стояли три крохотных человечка — все-таки далеко! Я снова вернулась в избу и тоже села на скамью. У меня ноги подкашивались.
— Что я за парень? Изварначился весь, — снова заговорил Харитон. — Сижу тут один, как волк, и маракую, как быть? По кривой дороге я пошел. Теперь не свернуть. Тюрьма — неминучее дело. Мать-то похоронили?
— Похоронили. А откуда ты знаешь, что она умерла?
— Люди добрые сказали. Помог мне тут один кореш, на моторной лодке подбросил.
— Василий приезжал…
— Братуха, да ну? Эх, не довелось встретиться!
— Хочешь, напиши ему письмо… у меня есть карандаш и бумага.
— Не могу… Сама напиши ему.
— Напишу. Но что же ты будешь делать дальше?
Я стала уговаривать этого непутевого парня ехать с нами, добровольно явиться в милицию. Но он отказался ехать. Из-за Марии Кирилловны…
— Что ж ты будешь делать? — упавшим голосом спросила я. Харитон задумчиво смотрел на меня.
— Нет ли у тебя хлебца? — неожиданно попросил он. У меня, что называется, сердце перевернулось.
— Есть. Там остался. Сейчас принесу. — Я бросилась к месту нашего привала и забрала все, что у нас было с собой из провизии: хлеб, жареная рыба, вареные яйца, оладьи, кусок копченого медвежьего окорока. Харитон стал с жадностью есть.
— Чем же ты питался все это время? — с острой жалостью спросила я.
— Охочусь. Соли-то я с собой взял, пока тянется, а вот хлеб давно вышел.
Пока он ел, я опять выскочила на улицу. На горе уже никого не было: наши спускались. Я сказала ему об этом.
— Спрячусь в кусты! — заторопился он. Я даже разозлилась.
— И долго ты в кустах будешь сидеть?
— Нет… Пока вы уйдете.
— А потом?
— Буду пробираться на Вечный Порог. Там объявлюсь.
— Почему не домой?
— Тут же ближе!
— А-а!
Я заторопилась. Прощаясь, я велела ему прийти ночью к устью Забияки и ждать моего сигнала — два раза свистну.
— А ты умеешь свистеть? — Первый раз улыбнулся Харитон.
— Еще как! Жди меня, когда все уснут, вынесу тебе хлеба, муки, масла и сахара.
— А как же вы?
— Марк еще привезет.
— Марк Александрович?
— Да. Ну, я иду!
— Хороший он человек… — задумчиво сказал Харитон.
И так странно прозвучала эта похвала в устах злостного браконьера.
— Он — хороший. А ты, Харитон?
— Я, должно быть, плохой.
— Зачем?
— Не знаю. Беспутный я… Эх! Только поправился я житьишком и — вот в тюрьму. Боязно! Не сидел никогда. Ну, да что там! Раньше надо было думать.
— Харитон, идем с нами!
— Нет, Таисия, не могу. Если б Марии Кирилловны там не было! Совестно как-то. Лучше умереть, чем на глаза ей показаться.
— Я тебя понимаю. Значит, ночью приходи за хлебом.
Я вышла на улицу. Наших еще не было. Мне пришла в голову одна мысль, и я снова вернулась в избу. Теперь мы оба стояли у порога.
— Слушай, Харитон, зачем же тебе пробираться тайгой к Вечному Порогу? Еще по дороге поймают, и никто не поверит, что ты сам шел с повинной. Я скажу Марку, и он тебя подкинет на вертолете. Ладно?
Лицо Харитона просияло.
— Это бы хорошо! Таиса, ведь он, Лосев-то, встретил меня тогда… в тот вечер. И не задержал! Говорит: «Ну, иди подумай… Потом сам придешь!» Такой человек! Я еще не встречал такого хорошего человека!!!
Мы договорились, что Харитон будет ждать Лосева здесь, на руднике. Вертолет должен быть дня через два. Я пожала Харитону руку. Мы прощались окончательно. Ночью теперь ему незачем было приходить.
— Спасибо тебе, Таисия, за доброе слово. По гроб не забуду. Я задержалась — еще одна мысль.
— Харитон! Я ведь остаюсь на Ыйдыге. Буду работать лесничим. Новый лесхоз организуется.
— А как же Василий?
— Не о нем сейчас речь. Поступай ко мне лесником. Тебе понравится, вот увидишь!
Харитон как-то непонятно взглянул на меня и отвернулся: глаза его увлажнились.
— Спасибо! Еще бы не понравилось. Да разве меня возьмут лесником — браконьера-то, убийцу? А если когда отсижу… и подавно. Теперь моя песенка, разумеется, спета.
— Нет, нет! Мы будем за тебя хлопотать, возьмем на поруки. Вот увидишь. До скорого свидания!
Теперь я окончательно ушла. И вовремя. Меня уже искали.
— Почему ты такая красная? — спросила Мария Кирилловна встревоженно и пощупала мне лоб.
Я сказала, что сильно разболелась голова. И стала проситься обратно на стоянку. Я не соврала. У меня от волнения действительно адски разболелась голова. Зато насчет нашего обеда пришлось соврать, будто утащил какой-то зверь. Все очень проголодались и ужасно досадовали. Всю обратную дорогу гадали, кто бы это мог быть: рысь, волк, медведь? Решили, что медведь, и до самой Ыйдыги мужчины озирались по сторонам.
Мария Кирилловна рассказывала, какой чудесный мачтовый лес нашла она за рудником. По пути мы набрали камней — послать на анализ геологам. Сгибаясь под тяжестью каменюк, пришли мы к вечеру. Все были голодны, как волки, но Автоном Викентьевич приготовил нам чудесный обед.
Легли спать рано. Все сразу заснули. Я одна не спала, как тать в ночи. Знала бы мама! И перед Марией Кирилловной было стыдно за обман. Собственно, в данный момент я явилась соучастницей. Черт те что! Но я не могла иначе поступить. Я должна молчать до очередного посещения Марка. Марку я все расскажу. Марк поможет. Надо во что бы то ни стало спасти Харитона. Сейчас такой момент, что из него можно сделать человека! Эта история его порядочно встряхнула. Как он плакал, когда узнал, что Ефрем Георгиевич жив, и, значит, он не убийца!
На меня напала бессонница. Я вертелась с боку на бок, лицо горело, в голову лезли всякие мысли. Как трудно человека понять. Даже себя трудно понять. Меня все считали доброй из-за того, что я всегда была готова помочь конкретно: вымыть полы заболевшей знакомой, сбегать для нее в аптеку, натереть поясницу соседке Пелагее Спиридоновне. А с Василием я была жестока. Может, правда — злопамятная?
Всю дорогу, как выехали из Москвы, я вела дневник. И в экспедиции вела дневник. Но даже не упомянула о телеграмме Василия. Я небрежно прочла эту телеграмму, скомкала ее и на глазах Марка (о, предательство!) выкинула в воду. Как я могла такую телеграмму бросить в воду? Правда, я не поверила Василию. Там было всего четыре слова: «Жду, тоскую, люблю. Василий». Но это было так не похоже на грубоватого Василия, что я не поверила. Он же циник! И я решила, что это насмешка. Он как бы говорил на моем языке. Ох! Как будто циник не может, как и каждый человек, ждать и тосковать.
Я совсем запуталась в своей личной жизни. Зачем я делаю вид, что люблю Марка? Я хотела бы его любить, потому что он хороший, порядочный, светлый. С ним так легко и радостно! Пройти рядом с таким человеком через жизнь — это самое большое счастье. Но ведь в глубине души я знаю, что люблю Василия. Так зачем же… Почему я даже не попыталась сделать Василия другим? Почему я не попыталась бороться с Виринеей Егоровной в нем? Осудила безоговорочно. Не уважаю… Не могу любить, потому что не уважаю. Но ведь все равно любила все это время. Ради него и Харитона приласкала, как его младшего брата. Сердце все перевернулось, потому что наглядно представила Василия несчастным. А он стихи писал, и какие стихи! Значит, что-то есть в нем чистое, возвышенное, настоящее. Оно ушло. Но ведь было? Было! А раз было, может вернуться.
Василий! Если бы ты был сейчас рядом!
Я вышла из шалаша и долго стояла на плоту, кутаясь в простыню.
Было душно и тревожно. В небесах бушевала сухая гроза. Ни капли дождя, и резкие изломанные молнии. Тайга притихла, притаилась, ни одна веточка не шевельнется. Ни птицы, ни зверька — все попрятались в норы.
Гнетущая тишина. Только всполохи молний на небосклоне. Как они могут спать? Ну и ночь!
9. СПАСИ ЧЕЛОВЕКА
Весь следующий день я с нетерпением ждала Марка. Я представляла, как томится Харитон на заброшенном руднике, как он сомневается во мне и в Марке, колеблется, не верит в добро. Я с трудом работала, была очень рассеянна и, кажется, делала ошибки.
Мария Кирилловна посматривала на меня с тревогой.
— Как бы ты не заболела! — несколько раз сказала она.
Марка все не было. Я устала прислушиваться, не летит ли вертолет. Так прошел этот томительный день. Мы далеко спустились по Ыйдыге — помогало быстрое течение.
Но Марка не было и на следующий день… мне этот день показался с месяц. Я настолько истерзалась, что вздохнула с облегчением, когда мы наконец стали на привал. Марк уже сегодня не прилетит. Можно не ждать. Но завтра должен быть обязательно, так как давно пора. Четыре дня почему-то нет. Хоть бы не заболел… или не случилось что с ним!
С вечера я заснула, как убитая, но среди ночи проснулась внезапно, будто меня кто толкнул. Сна как не бывало. Я вышла из шалаша на плоту. Было странно светло, будто красный закат — или восход? Небо заволокли облака… или это дым? И вдруг я поняла: лесной пожар!
Я разбудила Марию Кирилловну. Скоро проснулись и остальные. Мы стояли все вместе на берегу и смотрели на разгорающееся багровое зарево.
— Скорее бы день! — расстроенно воскликнула Мария Кирилловна. — Пока появятся патрульные самолеты, сгорит несколько десятков гектаров.
— Наверное, молния ударила в сушняк, и он загорелся, — предположил Стрельцов. Он послюнил палец и подержал его в воздухе. — Ветер от нас. Даже запаха гари нет. Пожар движется в ту сторону. День покажет…
Мы постояли-постояли и легли спать. Помочь мы ничем не могли.
И день показал.
Солнце было как расплывчатый серый диск, небо желтоватого цвета. Вся западная сторона тайги была охвачена серовато-белым дымом. Оттуда с пронзительными криками летели птицы. Некоторые с размаху ударялись в деревья и падали оглушенные.
— Мы в безопасности, пожар движется в другую сторону, — довольно заметил Кузя.
— Эх, сгорит рудник! — посетовала Мария Кирилловна. — Избы еще пригодились бы…
У меня на миг потемнело в глазах. Да, лесной пожар двигался к руднику. Возможно, рудник уже горел. А Марка все не было и не было. Что же делать? Харитон мог сгореть заживо.
Меня охватило такое отчаяние, что я начала рыдать. Почему нет Марка? Мы потому и радиостанцию не взяли с собой, что предполагалось: связь будем держать через вертолет. А как раз, когда надо, вертолета нет. Мы несколько раз слышали рокот самолетов, но близко они не пролетали. Как же дать знать о себе?
— Будем проводить очередную станцию? — спросила меня несколько недовольная Мария Кирилловна. Она не могла понять, почему я так испугалась. Наверное, сочла меня трусихой. Но как им сказать?
Бросили якорь. Каждый принялся за свои обязанности. Я сидела, будто окаменев, совершенно убитая несчастьем.
— Тасенька, возьми себя в руки, — вполголоса посоветовала мне Мария Кирилловна. Я подавила ужас, поднялась и стала продолжать метеорологические наблюдения.
Невозможно было определить облачность: дым уже застлал все небо. Видимость — один балл, не больше. Ветер юго-восточный. Я определяла по анемометру Фусса. Восемь метров в секунду! Раскачиваются ветви деревьев. Умеренный… Но достаточно, чтоб пламя перегнало быстро идущего человека. Даже бегущего.
Река, там, где мы плыли вчера, была уже скрыта под облаками дыма. Горели огромные массивы тайги. Пламя поднималось к небу. Я представила, какие гигантские костры в грудах валежника. Какие там огненные вихри, как летят по воздуху горящие ветви. Температура воздуха…
Я посмотрела на термометр и ничего не увидела: опять потемнело в глазах.
— Тася, родная, что с тобой? — бросилась ко мне Мария Кирилловна. Все оставили работу и окружили меня.
— Не бойся, — сказал Кузя, — ветер от нас!
Я чуть не обозвала его дураком. Больше я не могла молчать.
— На «Синем камне» Харитон, понимаете?! — выкрикнула я и горько заплакала.
Мне дали выплакаться. Когда я наконец вытерла глаза и боязливо взглянула на лесничую, она уже обсуждала со Стрельцовым и Ярышкиным, как спасти Харитона.
Ни слова упрека по моему адресу, ни слова неприязни или равнодушия к Чугунову. На руднике был человек, ему угрожала опасность страшной смерти, и Мария Кирилловна ломала голову, как его спасти, ни разу не вспомнив даже, что этот человек чуть не убил ее мужа.
— Надо приготовить сигнал на случай появления самолета, — решила она, и мы общими усилиями стали готовить сигнал. Для этой цели мы взяли брезент, которым обычно укрывали продукты и приборы. Но на чем было его расстелить? Решено было найти островок и там расстелить сигнальное полотнище.
Ыйдыга вся в островах, но, когда остров нужен, как назло его нигде нет. Пришлось двинуться дальше по реке. Все гребли изо всех сил, до седьмого пота, пока — часа через два — нашли небольшой островок, заросший кустарником и осокой. Мы причалили и закрепили плот и тотчас расстелили брезент, прямо поверх кустов. Брезент имел форму прямоугольника, и любой самолет обратил бы на него внимание.
Но самолеты лесной авиации гудели вдали, и ни один не пролетал над нашим островом. Пробовали стрелять через равные промежутки, но и это не помогло.
Мы угрюмо сидели на островке и ждали, ждали, ждали. Я чуть с ума не сошла. Да и все были подавлены, особенно Стрельцов, он больше других знал Харитона…
Я подробно рассказала нашим о моей встрече с Харитоном. Как написано в этой тетради.
— Несчастный! — вырвалось у Марии Кирилловны. Лицо ее посерело. Мы старались не смотреть в сторону пожара, но невольно все время оборачивались туда.
— Между прочим, если ветер переменится, огонь быстро перекинется к нам, — сказал Кузя. Парень явно струсил. Но не посмел предложить плыть дальше. Никто ему не ответил. Мы упорно сидели у сигнального полотнища и ждали.
Некоторое время спустя Стрельцов и Ярышкин начали готовить обед, как будто мы могли есть. Мария Кирилловна стала приводить в порядок собранные коллекции. Кузя, нахмурив белесые брови, пошел ей помогать.
Моя тревога достигла такой силы, что причиняла почти физическую боль. Когда я наконец увидела приближающуюся «стрекозу», у меня брызнули слезы.
Это был Марк. Как всегда, он покружил над нами и приземлился на островке. Мы окружили пилота.
— Что-нибудь случилось? — спросил Марк.
— На «Синем камне» Харитон, — сказала я спокойно и твердо (сейчас надо было взять себя в руки). — Он ждет вас… Мы с ним так договорились.
Марк свистнул и, скользнув по мне взглядом, молча повернулся и пошел к вертолету. Я догнала его.
— Я лечу с вами!
— Нет, Тася! — торопливо возразил он. Я забежала вперед.
— Вы должны меня взять с собой! Один вы можете не справиться… Я скорее найду его, понимаете? Ведь это я была на руднике и говорила с Харитоном.
Не слушая его возражений, я раньше Марка решительно вскочила в вертолет. Что-то кричала вслед Мария Кирилловна, Кузя… Марк уже сидел в кабине и запускал мотор. Мы поднялись. Мелькнули растерянные, встревоженные лица моих товарищей и исчезли. Какой гул стоял в вертолете! Ничего не слышно, кроме этого гула.
Я села в кабине пилота, рядом с Марком. Косо накренилась и выпрямилась Ыйдыга, потом осталась справа. Вертолет шел вдоль дымовой стены, Марк пока обходил пожар. На фоне чисто вымытых стекол четко выделялся профиль Марка. Марк не смотрел на меня. Может, рассердился? К руднику мы подлетели с другой стороны, сделав огромный круг. Теперь огонь шел нам навстречу. Это был почти слепой полет: дым заволок все пространство между землей и видимым небом. Но время от времени ветер раздувал дым, и тогда явственно выступали бронзовые сосны, охваченные пламенем. Вдруг треснуло и посыпалось стекло в кабине, и к нам ворвался дым.
На бреющем полете Марк пронесся над рудником. Избы еще не горели. Но уже занимались старые лиственницы на задах. Марк первый раз повернулся ко мне и покачал головой. Лицо его было озабоченно и серьезно. Опять и опять пролетал он над заросшими кустарником и травой улицами. Пустынно и страшно было на руднике. Запустение, озаренное алым отсветом пожара.
Вертолет пронесся совсем низко над высокой каменистой горой, куда взбирались наши смотреть лесные дали. Клубы дыма, заволакивающие гору, рассеялись на миг, и я увидела на самой вершине крохотную фигурку человека, машущего руками.
— Харитон! — закричала я, вскакивая.
Но теперь дым стлался сплошной пеленой, и Марк никак не мог найти площадку для приземления. Пожар бушевал рядом, постепенно обходя лысую, каменистую гору. Стланик, которым поросли склоны, уже тлел, кое-где вспыхивая ослепительным красно-желтым пламенем и рассыпая ослепительные, как от электросварки, искры.
Все же Марк ловко поймал первое же прояснение и повис над горой. Приземляться нам было опасно. По знаку Марка я спустила капроновую лестницу. Когда мы летали вместе с профессором, я из озорства несколько раз спускалась по капроновой «ленте» на землю. Ведь я хорошая спортсменка. И вот теперь это пригодилось в тяжелый момент.
Через несколько минут Харитон, тяжело дыша, с обожженными легкими, в тлеющей одежде, взобрался в вертолет и рухнул на пол. По всем правилам, я быстро забрала лестницу и прихлопнула дверь. Потом наклонилась над Харитоном. Он был в сознании, но совершенно обессилел. Лицо его распухло, закоптилось и приняло багровый оттенок. Он посмотрел на меня, как будто хотел улыбнуться, но вместо того в изнеможении закрыл глаза. Рубаха его дымилась, и я сорвала ее и затоптала ногами тлеющий огонь. Моментами делалось совсем темно — мы летели в сплошном дыму.
Вдруг вертолет бросило в сторону, перевернуло, закрутило…
Страшная сила словно переломила меня пополам. Дальше я ничего не помню.
…Когда я открыла глаза, надо мной, неуклюже наклонясь, стояли четверо космонавтов. Они были в синих и серых скафандрах, с блестящими щитками вокруг колен и туловища. На головах мерцал ребристый шлем. Прозрачные забрала были подняты на лоб. Космонавты молча смотрели на меня.
Я хотела спросить, где я, где Марк и Харитон, но мне стало чего-то жутко. Потом — боль, и я опять ничего не помню.
10. НАЙДЕМ ЛИ РАДОСТЬ?
В бреду меня преследовал один и тот же сон. Будто Василию угрожает опасность, я хочу его догнать и предупредить, а он идет себе не зная. Он пробирается заболоченным лесом, захламленными вырубками, я спешу за ним. Зову его: Василий, Василий! Он приостанавливается, смотрит по сторонам, как бы прислушиваясь, откуда зов. И опять идет. Вдруг он погружается в болото — по колено, по пояс, по шею… Тонет он молча, даже как-то безразлично, будто так и надо, будто ему все равно.
— Василий! Василий! — в ужасе кричу я.
И снова я догоняю его. Он плывет по Ыйдыге в резиновой лодке. Впереди пороги. Течение все стремительней. Он спокойно гребет, ничего не замечая. А я бегаю по берегу и зову его: Василий!
Или снилось так: будто он идет какими-то городскими трущобами (в кинофильмах, что ли, я видела такие?), напевая, не оглядываясь. А за ним крадутся какие-то уголовники. Хотят его убить. И опять я догоняю его: предупредить, спасти.
— Василий! Василий!
Когда пришла в себя, было утро. Я находилась в отдельной палате. Помню, я сразу поняла, что в больнице. Небольшая, узкая комната, тумбочка, стол, лежу на кровати, лицом к открытому настежь окну. Из окна плывет свежий, холодный воздух, словно настоянный на хвое. И на фоне голубого неба мохнатая, зеленая ветка ели.
Как хорошо!
Никого возле меня не было, и я закрыла глаза. Но через минуту снова открыла. Мне уже не хотелось спать. Пошевелилась — больно, особенно в бедре. Я лежала в бязевой сорочке, накрытая байковым одеялом. Кажется, была туго забинтована. Я все помнила. Но не помнила, что произошло с вертолетом. Авария, что ли? Живы ли Марк, Харитон? Меня пронизал страх: а вдруг они погибли? Стала звать кого-нибудь, но голос был очень слаб. Наверное, долго болела.
Все же меня, верно, услышали. В палату вошла молоденькая черноглазая сестра. Посмотрела на меня, радостно всплеснула руками и убежала. Через минуту в комнату вошла пожилая женщина в белом халате и шапочке на темных волосах. У нее было, пожалуй, некрасивое лицо, но доброе и симпатичное. Она присела ко мне на кровать и стала щупать пульс.
— Они живы? — спросила я. — Лосев и Чугунов живы?
— Не волнуйтесь, они живы. Мы отрезали вам косы, не будете сердиться? Была высокая температура. Мы оставили достаточно — до плеч.
— Скрываете от меня! — удрученно пробормотала я. — Если они живы, пусть придут.
— Придут еще, все ваши друзья придут. О вас каждый день справлялись. А пока — покой! И примите вот это…
Она сама дала мне ложку горькой микстуры. Потом сестра сделала укол, довольно болезненный. Я возвращалась к жизни.
Александра Прокофьевна (так звали хирурга, выходившего меня) потрепала меня по спутанным волосам и ушла. Медсестра Люся причесала меня, умыла и тоже ушла. Я уснула. Но к обеду проснулась и первый раз пообедала сама. Причем с аппетитом. Только спрашивала у всех по очереди: правда ли, что Лосев и Чугунов живы?
— Ладно, Чугунова мы вам покажем немедленно. Можно разрешить ему встать… А Марка Александровича увидите, когда он вернется с очередного полета. Он отделался легче вас обоих и уже приступил к работе.
Через пять минут ко мне вошел Харитон. В тесном для него больничном халате и шлепанцах, хорошо выбритый и аккуратно подстриженный, он казался слабее и моложе. Он был очень бледен — быстро с него сошел загар!
— Здравствуй, сестричка! — сказал Харитон взволнованно и присел на кровать.
— Как себя чувствует Марк? — спросила я, все еще опасаясь, вдруг скажет: он разбился.
— Жив. Вечером зайдет. Он почти каждый день заходит. Напугались мы все за тебя. Шутка ли, столько дней без сознания. Вот и на войне не была, а контужена.
Он посмотрел на врача, и Александра Прокофьевна, чуть поколебавшись, вышла. Харитон, ухмыльнувшись, наклонился ко мне:
— Я написал братухе, как ты звала его днем и ночью. Как жизнь мне спасла. А я здорово перетрухнул на горе-то! Чуть заживо не испекся. До сих пор внутри горит…
— А почему ты не бежал к Ыйдыге?
— Лодки-то нет! В такой быстрине долго не продержишься. Там знаешь что творилось на берегу. Адово пекло!! Марк Александрович рассказывал: все сгорело. Одни черные пни остались. Жалко. Эх, жалко! Я там каждую поляночку знаю.
— Харитон, что с нами случилось?
— А-а! Парашютисты-пожарники заложили в шурфы взрывчатку. Ну, и громыхнули. Навстречу огню. А Марк Александрович — в дыму-то не видать, как раз пролетал над заградительной полосой. Нас и шарахнуло. Хорошо, хоть упала «стрекоза» на деревья — спружинило. А то бы разбились до смерти. У Марка Александровича было легкое сотрясение мозга. Тоже здесь с нами лежал. Но через неделю выписался, под расписку — по своему желанию. Накануне выписки всю ночь, как есть, не спал. Все ходил к твоей палате слушать, как ты Ваську кличешь. В бреду только о нем и говорила…
— Харитон! А космонавты? Откуда они здесь взялись?
— Какие космонавты?
— Я видела космонавтов.
— В бреду, наверно.
— Неужели в бреду? Так явственно… Харитон!
— Что, сестричка?
— А ты не написал брату, что я здесь остаюсь работать?
— Написал. А как же. Все написал. Дескать, упустишь ты ее, дурило!
Он помолчал, морща лоб.
— Слышь, я как поправлюсь, суд будет… но только за браконьерство. Пинегин за меня просил. Отказывается против меня свидетельствовать. Заявил, что ружье само выстрелило, по нечаянности. А браконьерства не прощает!
— Ну, вот видишь, какой Ефрем Георгиевич хороший! Харитон промолчал, только вытер с носа бисеринки пота.
Мне что-то опять стало нехорошо. Должно быть, я побледнела. Харитон тихо вышел.
С этого дня я начала поправляться, но почему-то медленнее, чем можно было ожидать от такой крепкой девушки. Александра Прокофьевна при обходе хмурилась и все спрашивала, может, мне чего-нибудь хочется. Но мне ничего не хотелось.
У меня была контузия и вывих бедра. Хорошо, что, когда вправляли, я была без сознания. Боль, наверно, ужасная!
Вечером пришел Марк, обрадованный, что я поправляюсь.
— Ну же и перепугали вы нас всех! — весело сказал он, присаживаясь рядом на стул и протягивая мне букетик полевых цветов. Это были скромные, северные цветы: синие колокольчики, розовый иван-чай, какие-то желтые похожие на астры цветики. Пока я с наслаждением нюхаю цветы — пахнет ванилью, — Марк старается незаметно положить в тумбочку «передачу». Первый раз я видела Марка не в форме летчика лесной авиации, а в синем костюме в полосочку. Марк тоже сильно похудел и осунулся.
— Меня грызет вина, — подавленно сказал он. — Разбил вертолет, чуть не погубил вас… Хорошо еще, как раз взял вверх, а то не отделались бы так легко.
Ни словом он меня не попрекнул, что я сама, без его разрешения, залезла в вертолет. Но ведь я пригодилась? Узнав насчет космонавтов, он рассмеялся.
— Нет, это был не бред. То были наши парашютисты в новых, специальных костюмах. Отличное изобретение. Вроде как у водолазов. Да, пожалуй, похоже на космонавтов.
Марк был грустен, и я сказала, что никакой его вины нет. Наоборот, он спас человека! Не всякий стал бы рисковать.
— В нашей работе каждый день рискуют, — возразил он. Я стала расспрашивать о Марии Кирилловне и остальных.
— Посылают вам привет! Очень беспокоились о вас. Я вчера был у них. Успокоил кое-как. Жаль, я не знал, что вы уже пришли в себя. Теперь обрадую их.
— Как же они обходятся без меня?
— Профессор направил им другого сотрудника. Какого-то молодого человека. Михаил Герасимович очень беспокоился за вас.
— О! На мое место…
Я была огорчена и раздосадована. Марк меня успокоил, как мог. И то — пока я поправлюсь, они закончат экспедицию!
Ведь маршрут лишь до Вечного Порога. Да и Марии Кирилловне пора принимать лесхоз. В отпуск она уже не пойдет.
— А Ефрем Георгиевич как себя чувствует? Он уже вернулся из санатория?
— Он уже дома с сыном. Поправился! Я с ним говорил по поводу Харитона. С начальником милиции тоже… Парень сильно изменился. К тому же больной. У него ведь обожжены легкие. Надышался раскаленного воздуха. Начальник милиции сказал, что, если Харитон поступит на работу, — отделается штрафом. Еще один раз поверят ему. Но Харитон до этого ничего и не обещал. Только доказывал, что тайга ничья и там всякий может охотиться. А теперь дал слово. Звал его к нам в лесную авиацию. Но он отказался наотрез. И вспоминать не может о пожаре.
Марк рассмеялся.
— Харитон говорит, что вы обещали ему место лесника?
— Да, обещала! Ох, как хорошо…
— Что хорошо?
— Что я остаюсь работать на Ыйдыге. Марк, вы познакомите меня с вашим отцом? Ведь контора нового лесхоза будет здесь, на Вечном Пороге. Будем часто видеться.
— Спасибо. Я приведу отца к вам. Много ему говорил о вас.
— Обо мне?
Марк невесело усмехнулся и взял мою руку.
— Какая стала худенькая рука… Отец* говорит, что за любимую женщину надо бороться, как за жизнь. В этом он прав, но, кроме того случая, когда эта женщина любит другого… Тася! Вы любите Василия Чугунова? Ведь так?
Наверно, я покраснела — меня бросило в жар, даже слезы выступили.
— Врач запретил мне волноваться, — нашлась я.
Марк тихо рассмеялся. У него была очень хорошая улыбка. Смех его красил.
— При всех обстоятельствах я ваш друг!
— Спасибо, Марк!
Я лежала одна целыми днями, смотрела на ветку ели в окне и раздумывала обо всем. Больше всего о работе лесничихи, которая мне предстоит.
И меня будут звать — «лесничиха». Сумею ли я стать таким хорошим лесничим, как Мария Кирилловна? С чего начать мою научную работу? Так, чтобы она явилась подготовкой, разведкой к главной моей теме о преодолении времени в лесоводстве.
Профессор уже знает, что я остаюсь на Ыйдыге. Он тоже приезжал меня навестить, и я ему сказала, что остаюсь работать с Марией Кирилловной.
Михаил Герасимович меня не отговаривал. Только взял мою руку и по-старомодному поцеловал ее.
— Может, тебе и лучше начать с этого, — сказал он. — Любому научному работнику полезно сначала поработать лесничим. Я тоже начинал с этого, Тася. Только не бросай научных исследований. Впрочем, ты не бросишь. С первого курса я распознал в тебе прирожденного ученого. Ты не теряй связи со мной. Не бойся «отнять время» — кроме удовольствия, ничего мне не доставишь. И Анне Васильевне пиши, хоть открыточки. Она поймет, что некогда. А я буду руководить тобою из Москвы. Что, если тебе для начала взять и разработать такую тему: «Роль селекции древесных пород в разрешении проблемы преодоления времени в лесоводстве». А?
— Мне кажется, к этой теме надо подходить не со стороны селекции!
Профессор искоса, добродушно и лукаво глянул на меня.
— Ага. Мы уже думаем об этом! А с какой же стороны?
— Еще не знаю, — честно призналась я. — Это потом, когда стану настоящим ученым. А пока возьму скромную тему, но постараюсь тщательнее обработать ее. Например: «Изменение биологических, экологических и гидрологических факторов в различных типах хвойного леса».
Профессор крякнул.
— Скромная темка, что и говорить. Ну, мы еще поговорим об этом на прощанье, когда буду уезжать.
Уходя, Михаил Герасимович сказал смущенно:
— Сказать откровенно, я даже рад, что ты здесь остаешься. По двум причинам. На Вечном Пороге организуется не просто лесничество, а опытное лесничество, научной работой которого буду руководить я. И мне очень нужны такие люди, как Пинегина и ты. Вот так-то, Таиса Константиновна Терехова! Поправляйся скорее!
— А вторая причина? Профессор чуть смутился.
— Будешь подальше от этого Василия Чугунова. Не принес бы тебе счастья такой брак. Он бы вечно мешал тебе работать. Вообще лучше бы тебе совсем не выходить замуж, отдать себя целиком научной работе. Скажешь: вот старый эгоист! Может, и так. Но женщине-ученому больше мешает брак, нежели мужчине. Стряпня, дети, пеленки, стирка, а наука страдает. Подумай!
Милый старый эгоист ушел. Может, он и прав? Но оставаться старой девой даже ради науки не хочется. В этом есть что-то унизительное. У меня хватит сил и на семью и на работу. Я уверена.
На Вечном Пороге кипела незнакомая мне жизнь, заплескивая даже сюда, в больницу. С грохотом и дребезжанием проносились по проезжей дороге грузовики, перевозились различные механизмы. Видела не раз в окно, как медленно проплыли шагающий экскаватор, высокие краны. Строительство шло совсем рядом. И в открытое окно доносилась целая трудовая симфония — голоса гидростроя. По ночам сверкала, как молния, электросварка.
Главный врач Александра Прокофьевна была женой начальника гидростроя и часто запросто болтала со мной, рассказывала местные новости. Я уже знала понаслышке о многих замечательных людях гидростроя. Например, о безруком начальнике котлована Зиновии Гусаче. Он был прежде лучшим шофером гидростроя, его звали «король трассы». А потерял он руки потому, что в буран нес на руках воришку, бродягу Клоуна. Александре Прокофьевне пришлось самой ампутировать Зиновию руки. Но она не любит об этом вспоминать. Мне эту историю рассказала медсестра Люся. Я была потрясена.
— И что же теперь этот Клоун? — спросила я.
— Клоун? Он стал человеком. Как же иначе? На него теперь вся стройка смотрит. Такой парень из-за него лишился рук. Клоун сейчас учится на слесаря. Стал серьезнее. Работает за двоих. А Зиновий… Любая девушка у нас пошла бы за него замуж, даром что он без рук. Такой человек. Вот вы его увидите, когда поправитесь.
Мне показалось, что черноглазая Люся сама влюблена в безрукого начальника котлована.
Заходили ко мне и больные: монтажники, бетонщики, шоферы, охотники, геологи. Народ пестрый, громогласный, интересный. Они отвлекали меня от грустных мыслей о неудавшейся, видимо, личной жизни. Я любила Василия, но не верила в него. Я в Харитона больше верила, чем в его брата.
Иногда больница почти пустела. Вообще она никогда не была переполнена. Народ на севере здоровый и хворать не привык. Хлипкому тут нечего делать.
Так шло время. Я медленно поправлялась — почему-то очень медленно.
И все-таки я не понимала Василия. Этот человек был полон неожиданностей. Вот чего я не предвидела, не учла.
Однажды я задремала после обеда и проснулась под вечер. Возле кровати сидел Василий и задумчиво смотрел на меня. Я не могла понять: сон это или снова начался бред.
— Здравствуй, Таиска! — сказал он как ни в чем не бывало и, живо нагнувшись, крепко поцеловал меня в губы. От него пахло табаком и мылом. Губы были твердые и горячие. Я попыталась подняться. Он заботливо взбил подушку и уложил меня поудобнее — выше, и снова поцеловал. Я вдруг заплакала.
— Не реви, — сказал он. — Я умер и родился снова. Я снова начинаю свою жизнь. В третий раз, понимаешь? Я приехал сюда работать. Принимаю леспромхоз. Ты же захотела здесь жить. Почему-то я с самого начала думал, что ты здесь останешься. Ты боялась моей «министерской» квартиры, как чумы. Да-а.
Он вдруг расхохотался, прищурив яркие, серые глаза.
— Будем с Машей драться. Я ведь ее знаю. Вряд ли ее будут интересовать такие прозаические вещи, как выполнение плана вырубки леспромхозом. Что ты на меня уставилась? Удивлена моим появлением? Думаешь, мне уж так нужны все эти звания и степени? Ну, звание кандидата наук мне не помешает. Но с научной работой кончено. Я — хозяйственник! А тебя я не отпущу никогда!!!
— Ты приехал навсегда? — спросила я, когда он выпустил меня из объятий.
— Лет на пять, во всяком случае. Там будет видно.
— Василий! Ты бросил квартиру в Москве? Или забронировал…
— Как ты это сказала… Разве я такой жадный — и здесь, и там? Квартиру я отдал Моссовету.
Я с удивлением смотрела на него. Не ожидала никак.
— Не ожидала от меня?
— А куда ты дел свою шикарную мебель?
Василий ухмыльнулся и стал вылитый Харитон, даже такой же молодой!
— Мебель… половину захватил с собой, то, что покупал сам. Нам же с тобой нужна какая-то обстановка? Едет в контейнерах. Скоро приедет. К твоему выздоровлению. Остальную мебель подарил твоему брату Родиону. Свадебный подарок! Он женился. И я гулял на его свадьбе. Красивую отхватил жену. Похожа на Одри Хепберн. И как это он сумел, такая рохля. Прости! Ты чего обиделась? Таиска!
— Не понимаю, зачем ты хочешь жениться на мне? Ищи такую же красавицу, как эта актриса!
— Такое мое несчастье, полюбил дурнушку и не променяю ее на первую красавицу в мире. Тасенька, моя ненаглядная.
— Пусти!
— Теперь ты быстро выздоровеешь. Вон как раскраснелась. Хорошо мы с тобой заживем, Таиска!
— Ты так думаешь? — спросила я с сомнением.
— Я в этом уверен.
О женитьбе Родиона я уже знала, мне писали из дому. Но что Василий бросил огромнейшую квартиру в Москве, в самом центре города, на Ленинградском проспекте, — это было поразительно! Я посмотрела на Василия с невольным уважением. Значит, он уж не такой практичный и расчетливый, каким я его считала! Может, я все же ошиблась в нем, недооценила? Считала его хуже, меркантильнее, что ли, чем он есть на самом деле.
В тот момент я еще не знала, что прежде, чем сдать свою квартиру в Моссовет, он успешно сменялся с моими родителями. Ведь его квартира была раза в четыре больше нашей. Не знала я и того, что обмен произошел буквально на другой день после моего отъезда в экспедицию. То есть и мама и Василий договорились заранее ко взаимному удовольствию. Меня решили в это дело не посвящать. Ну и мама!
— А твои дети? — спросила я. — Неужели отдашь их совсем?
— Спасибо, Тася! Я знал, что ты так скажешь. Василий заметно повеселел. Детей своих он любил.
— Я их забрал от тещи. Знаю, как она воспитает… по своей покойной жене.
— Ты забрал детей? Молодец! А где же они сейчас?
— Мои ребята? А их взяли на воспитание твои родители.
— Мама?
Я была крайне удивлена. Еще неизвестно было, соглашусь ли я стать женой Василия, а мама уже взяла к себе его ребят. Быстро они договорились!
Я еще не знала тогда, повторяю, об этом обмене квартирами.
— Мы завтра же зарегистрируемся, Таиска! — заверил меня Василий.
— Я же еще в лубках. Не дойду до загса.
— Загс сам придет сюда. Василий Чугунов это сделает. Он это сделал.
Утром во время обхода врача Василий явился в черном костюме, белоснежной сорочке, явно стиляжьем галстуке, по возможности прилизанными непокорными русыми волосами. За ним шли две улыбающиеся женщины: заведующая загсом и депутат райсовета. Собрался весь медперсонал больницы. Не каждый день такое событие! Как я впоследствии узнала, главврач пошла на это потому, что я плохо выздоравливала, и она надеялась, даже была убеждена, что счастье меня подхлестнет. Уж Василий сумел ее заверить в этом.
Итак, мы не успели опомниться, как нас объявили мужем и женой. Поздравили. Пожелали счастья. И удалились.
В явное нарушение всех больничных правил вечером в больнице была вечеринка. Думаю, что такое возможно только на Вечном Пороге, где не слишком придерживаются правил. И главное, все друг друга хорошо знают.
Освободили самую большую палату, сервировали стол (Василий не поскупился на угощение и на вино), новобрачную принесли прямо с кроватью. Я возлежала, как древняя римлянка, вся убранная цветами. Одна из санитарок перед этим вполне резонно доказывала, что цветами убирают только покойниц.
Собрались хозяева: врачи, сестры, санитарки, больные — среди них Харитон — и гости: мой муж, начальник гидростроя Сергей Николаевич Сперанский, незнакомые мне люди разных профессий, Марк. Василий по моему желанию сам его пригласил вместе с отцом. Отец не пришел, а Марк пришел. Милый, добрый и ласковый, как всегда. Мне почему-то было стыдно Марка… Он, кажется, понял мое состояние и успокаивающе потрепал меня по руке, поздравляя. Он был серьезен-серьезен. Подарил мне зеленый кулон из уральского камня на платиновой цепочке (на всю жизнь это мое любимое украшение!) и сказал, что меня ждет очень приятный сюрприз.
— Какой, Марк?
— Увидите!
Свадьба была веселая, хотя и необычная. И «хозяева», и «гости» изрядно подвыпили и пели песни. Василий запевал. У него ведь неплохой баритон.
Но еще до песен раскрылась дверь, и вошли Мария Кирилловна, Кузя, Стрельцов и Ярышкин. Все были принаряженные, «промытые», словно из бани. Марк привез их часа два назад.
Кажется, еще никогда в жизни я так не радовалась. Мы расцеловались с Марией Кирилловной, обе всплакнули, а затем я перецеловала по очереди всех участников экспедиции, чем очень сконфузила скромного Ярышкина. Они все уселись возле меня и стали рассказывать мне новости. Новостей было так много, что Василий решительно прервал рассказы, заявив, что здесь свадьба, а новости потом.
Стали кричать «горько». Пришлось целоваться при Марке, что мне было крайне неудобно. Харитон сиял. Подвыпивший, в новом цветастом халате из бумазеи, он то и дело подходил ко мне и что-нибудь говорил, нежно называя меня сестричкой.
Марк весь вечер не отходил от меня. Василий не ревновал. Самая его положительная черта, что он не ревнив.
— Вот как вышло… — тихонько сказала я Марку, как бы извиняясь за эту свадьбу.
— Вы любите Василия Николаевича, — сдержанно сказал Марк. — Даже в бреду вы звали лишь его. И он, без сомнения, любит вас. Третий лишний. Так я сказал отцу, который рассердился на меня. За что? Разве я виноват, что вы любите другого? Я верю, вам обоим удастся семейная жизнь. Противоположности, говорят, сходятся. У нас с вами слишком много общего. Вроде как брат и сестра.
— Марк, давайте будем на ты? — предложила я. Марк охотно согласился.
Опять подошла Мария Кирилловна, села ко мне на постель и сказала, что профессор вчера улетел на самолете в Москву. Его срочно вызвали. Жалел, что не мог со мною проститься.
— Экспедиция была все же удачной, — сказала я.
— Экспедиция была удачной, — согласилась Мария Кирилловна, — собран большой материал. На будущий год уже его не собрали бы.
— Почему?
— Потому что с весны гидростанция входит в строй, плотина подымет уровень реки. Ыйдыга станет другой рекой. Начнет новую жизнь. Лес теперь будут сплавлять по реке. Ведь все шиверы и пороги будут затоплены. Ыйдыга станет судоходной.
— Опять о делах! — оборвал ее Василий, подходя. — Давайте-ка лучше спляшем!
Столы с остатками еды и вина вытащили в коридор и стали отплясывать под баян. Я полулежала на кровати и смотрела. Медсестра Люся в капроновом платье с оборочками и туфельках на каблучках-шпильках принесла мне зеркало.
— Посмотрите, какая вы сегодня красивая, румяная!
— Счастье красит, — добродушно заметила Мария Кирилловна. На ней было совсем новое платье. Видно, купила его здесь, по приезде.
Василий вышел на середину и велел баянисту играть «цыганочку». А сам плясал. Никогда не думала, что он может так плясать — самобытно, темпераментно.
— Веселый у вас муж! — сказала улыбающаяся Александра Прокофьевна. Марк задумчиво наблюдал за Василием.
В одиннадцать вечера, в самый разгар веселья, принесли телеграмму из дому. Мама, папа и Родион с женой Светой поздравляли меня с браком и желали много лет счастья.
Телеграмму прочли вслух, потом дружно прокричали «горько» и по приказу главного врача стали расходиться по домам.
Пора было и честь знать, потому что — больница. То есть расходиться стали посторонние, а больных — с большим трудом — уложили спать. Меня вместе с кроватью отнесли в мою палату. Василию пришлось удалиться вместе с посторонними. Непреклонная Александра Прокофьевна не разрешила ему остаться даже на «четверть часика», как он просил. Кажется, это обстоятельство вызвало среди приглашенных большое веселье, хотя все и пытались его подавить.
Супруги Сперанские пригласили к себе Василия, Марка, Марию Кирилловну и еще кое-кого и ушли догуливать свадьбу. Через двадцать минут новобрачная осталась одна.
Светлым-светло было на улице, хотя белые ночи уже кончились. Это светила луна, совсем такая, как в Москве. Наша московская луна! Скоро она подобралась к моему окошку, которое по моей просьбе оставили открытым.
Свежая-свежая, холодная-холодная была ночь! Где-то далеко играл баян, пели песни, может, еще догуливали мою свадьбу. Я прислушалась. В соседней мужской палате послышался приглушенный смех, звякнули стаканы. Голос Харитона. Ага, тост за невесту. Видимо, больные своевременно припрятали бутылочку водочки.
Пусть их веселятся, раз им весело! Кажется, в дежурке тоже продолжается вечер, благо главврач ушла. А на квартире начальника гидростроя веселятся жених и мои друзья. Все празднуют мою свадьбу, кроме меня самой. А я лежу здесь одинешенька и даже не знаю, счастлива я или нет.
Хоть бы скорее сняли лубки. Вот я поправлюсь, и Василий заберет меня из больницы к себе. К этому времени он устроится на новой квартире, которую уже приготовили директору леспромхоза. А я начну работать, как лесничая, в лесхозе, где директором будет Мария Кирилловна Пинегина.
Работы будет много, работы интересной, трудной и перспективной. Всех нас ждет много работы. Это было самое ясное и понятное из того, что надвигалось на меня, как будущее. Но я почему-то никак не могла представить, какой будет наша совместная жизнь с Василием.
Я уже понимала, что Василий оставил Москву не из-за меня. В этом я была уверена. Просто он изменил науке, как когда-то изменил поэзии. Видно, не всякий, пишущий хорошие стихи, есть поэт. Как не всякий, защитивший отличную диссертацию, есть ученый.
Пожалуй, Василий правильно сделал, что перешел на хозяйственную работу. Он будет хорошим директором леспромхоза: такой умный, деловитый, практичный. Надеюсь, он будет не из тех директоров, которые за кубометрами древесины не видят леса, живого и прекрасного. Тогда ему действительно придется столкнуться с Марией Кирилловной и… со мной.
Я вдруг ощутила духоту больницы. Хотя окна были открыты.
Все ушли и оставили меня одну в такую ночь, когда я не могу не думать о будущем, а оно так тревожно и непонятно.
Я, кажется, собиралась всплакнуть, когда услышала хриплый шепот, мое имя — какие-то двое людей разыскивали окно моей палаты, стараясь не привлекать к себе внимания. Две знакомые головы в сплюснутых фуражках появились одновременно в проеме окна, и я узнала Стрельцова и Ярышкина.
— Григорий Иванович! Автоном Викентьевич! — позвала я. Оба очень обрадовались и, кряхтя, вылезли на завалинку.
— Вы не спите, Таисия Константиновна? — смущенно осведомился Стрельцов.
— Нет… Не сплю!
— Вот-вот! Автоном и говорит: нипочем, говорит, не уснет она в такую ночь. Одной-то, поди, скучно лежать. Вот мы, значит, и навестили. Уж простите!
— Если возьмете нас к себе работать, в новое лесничество… Мы с полным нашим желанием… — забормотал подвыпивший на свадьбе Ярышкин. — Вы нас знаете.
— Нас обоих вместе! — уточнил Стрельцов. — Очень хотим с вами работать. Можете положиться.
Я поблагодарила их и заверила, что сама хотела предложить им работать и впредь вместе. Мне хотелось смеяться и плакать. Мне вдруг стало так хорошо. И я еще раз сказала:
— Спасибо, друзья!
Примечания
1
Так на воровском жаргоне называется европейская часть СССР
(обратно)

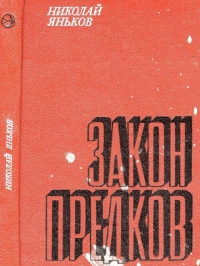
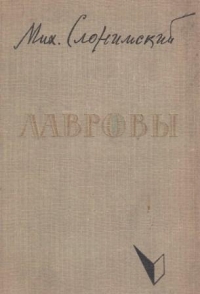
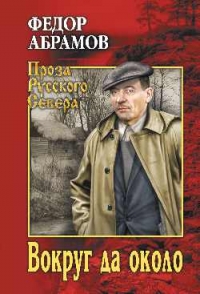
Комментарии к книге «Путешествие вокруг вулкана», Валентина Михайловна Мухина-Петринская
Всего 0 комментариев