Борис Изюмский Призвание
Армии молодых учителей посвящается
КНИГА ПЕРВАЯ
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
ГЛАВА I
Ночью прошел дождь, и от влажной земли исходила осенняя сырость.
Лучи солнца отогнали туман к лесу, и по городу расстилалась зыбкая, прозрачная дымка. Легкие клочья тумана клубились меж деревьев, собирались в низинах, уходили вдаль.
Был тот радостный час сентябрьского утра, когда по тысячам улиц городов и сел шли в школу дети, и казалось, что шорох листьев, перекличка птиц, звонкие молодые голоса сливаются в песню об утре Родины.
Вот в такой-то осенний час директор восемнадцатой мужской средней школы Борис Петрович Волин в сопровождении завхоза делал свой обычный обход.
…Волину было лет под шестьдесят. Среднего роста, кряжистый, с седыми усами на загорелом лице, он производил впечатление очень здорового человека. Белоснежные усы на старили его, а, напротив, оттеняли полные, по-молодому яркие губы.
Впечатление бодрости, совсем не старческой легкости в движениях дополнял и костюм его — парусиновые брюки, белые туфли, парусиновая двубортная куртка, из-под которой виднелся коричневый шелковый галстук.
Борис Петрович внимательно осматривал панели коридоров — нет ли царапин? Проводил пальцем по листьям цветов — нет ли пыли?
Завхоз Савелов, называвший себя не иначе, как «помдиректора по хозяйственной части», — степенный мужчина с глубокими складками вдоль щек, — старался подольше задержать Бориса Петровича у двойных классных досок.
Они были предметом особой гордости Савелова, венцом его хозяйственных талантов. Доски свободно передвигались вверх и вниз и были расчерчены красными линиями. Савелов не смог отказать себе в удовольствии мимоходом поднять одну из досок. При этом на лице его легко можно было прочитать:
«Вы понимаете — сколько труда мне это стоило? Но зато, посмотрите, какая красота получилась!»
В недавно отремонтированной школе еще стоял смешанный запах стружек, краски и чуть уловимо — скипидара от натертых полов, запах, который за несколько дней нового учебного года не успел выветриться.
— Мел влажен, — заменил директор, и Савелов тотчас деловито записал это в свой блокнот.
— Розетку все еще не сделали, — недовольно сказал Волин, когда они вошли в кабинет истории, и осуждающе посмотрел на завхоза.
— Сегодня к 16.00 будет выполнено, — ответил Савелов снова энергично отметил что-то у себя в блокноте.
— Не досмотришь оком, Сидор Сидорович, вылезет боком, — уже мягче произнес директор, и Савелов соглашаясь, кивнул головой.
Справедливость требует сказать, что Савелов был для Волина незаменимым человеком. Демобилизовавшись из армии, где он служил старшиной роты, Савелов сразу «врос» в школу. Он имел хороший хозяйский глаз, — неиссякаемую энергию, был исполнителен, обладал беспокойной профессиональной гордостью, которая заставляла его ходить по другим школам, высматривать «как у них и что» и прилагать все усилия, чтобы «у нас было лучше». Он не без гордости называл школу «тонким производством» и работу в ней не променял бы ни на какую другую.
Закончив обход и отдав еще несколько распоряжений Савелову, директор разрешил школьному сторожу Фоме Никитичу впустить детей.
Фома Никитич — невысокий старик с острыми, неутратившими силу, глазами — подошел к парадному входу и, загремев крюком, гостеприимно распахнул дверь.
Ребята уже теснились у стен школы. Кто-то звонким голосом рассказывал скороговоркой:
— Я вчера на футболе был и задумал: «по-щучьему веленью, по моему хотенью „Буревестник“ — забей гол!» То-о-ль-ко подумал, а левый край «Буревестника» ка-ак повел, ка-ак повел, бац! — и гол!
Увидя Фому Никитича, дети радостно приветствовали его:
— Здрасьте, Фома Никитич!
— Фома Никитич, здрасьте!
«Сущие галчата», — любовно подумал старик, отвечая им, и отошел в сторону, пропуская детей.
Начался третий урок, когда в кабинет директора постучали.
— Войдите! — разрешил Волин.
Дверь открыл высокий, худощавый мужчина лет тридцати, в армейской, хорошего сукна, гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, в синих галифе, заправленных в аккуратные сапоги. Он держался ровно, но не напряженно. Его высокий лоб глубоко вдавался «мысами» в копну светлых, слегка вьющихся волос. Легкой походкой он сделал несколько шагов к столу и сказал негромко:
— Разрешите обратиться?
«Новый историк», — догадался Борис Петрович и предложил, указывая рукой на кресло:
— Прошу вас!
— Я прислан к вам преподавать историю, — сказал вошедший и доверчиво улыбнувшись, подал Борису Петровичу документы. Улыбка была доброй и как бы стирала отвердевшие волевые складки в уголках небольшого рта.
Валин, привстав, пожал руку историка, кивком головы снова предложил сесть.
— Мне, Сергей Иванович, уже звонили из гороно, говорили о вас.
— А я, Борис Петрович, сам напросился в вашу школу.
Они оба рассмеялись, довольные тем, что, никем не представленные, назвали друг друга по имени и отчеству, как давние знакомые.
Сергей Иванович Кремлев сразу отметил в «своем директоре» умные с житейской хитрецой глаза, сочный голос и остался доволен первым впечатлением.
Расспросив в гороно о Волине, Сергей Иванович решил идти именно в его школу, потому что находилась она в заводском районе и славилась спаянным творческим коллективом.
«Вы там не найдете ничего необычайного, — напутствовал Кремлева инспектор гороно. — Директор, я бы сказал, ходит по земле, а дружный коллектив учителей трудится без шума, суеты… Их сила — в черновой повседневной работе».
После пятилетнего перерыва, связанного со службой в армии, Кремлеву не терпелось проверить себя на работе в школе, почувствовать, чего он стоит теперь как воспитатель и учитель.
В армию Кремлев пошел добровольцем, проделал путь от рядового до капитана, командира стрелкового батальона, был дважды ранен и опять возвращался в строй. Пока шла война, желание вернуться к любимому делу не было так мучительно остро. Правда, хватало за сердце, когда видел подожженную врагом школу, глобус в снегу или надпись детским неустойчивым почерком на доске в обледенелом классе: «Мы еще вернемся». Но были бои, походы, выполнение священного долга, была жгучая ненависть к захватчикам.
Когда же Великая Отечественная война закончилась и учителей, прежде других, демобилизовали, а Кремлев был оставлен в армии, он страстно стал мечтать о школе. Воспоминания о ней не давали Сергею Ивановичу покоя. И вот, через год, он добился, наконец, разрешения возвратиться к детям.
Директор просматривал бумаги, а Кремлев незаметно с любопытством поглядывал на своего нового начальника. Коренастый, с широкими, несколько покатыми плечами Волин крепко сидел в кресле и понравился историку спокойной уверенностью движений.
Боясь, что директор почувствует его изучающий взгляд, Сергей Иванович начал смотреть в окна.
С высоты второго этажа виднелись скользящие дуги трамвая, желтовато-зеленые верхушки деревьев, за которыми раскинулся рабочий поселок, дома общежитий, заводские подъездные пути, здания в лесах, дымящие кирпичные трубы. Нестерпимо ярко горели в лучах солнца стекла заводского корпуса. Издали казалось — струится ртутная полоса.
— Будем вместе работать, — откладывая в сторону бумаги, сердечно сказал директор. — Ваша предшественница, — уже деловито продолжал он, — была руководительницей девятого класса. Ей пришлось уехать в связи с новым назначением мужа-инженера. Теперь по наследству девятый переходит к вам. О классе говорить не стану. Приглядитесь сами. Педагогический коллектив у нас в школе сплоченный, ищущий, и если иногда, — он не закончил фразу, — впрочем, сами все увидите.
Они договорились о классах и часах.
В дверь постучали. Вошла девушка лет двадцати двух в темносинем платье с длинными рукавами. Она была чем-то расстроена. Большие, серовато-голубые глаза, круглый овал лица, мягко очерченные, слегка дрожащие губы делали ее похожей на обиженную девочку, считающую себя самой несчастной на свете. Негустые, светлые брови, казалось, хотели сбежаться на переносице и не дотянулись друг до друга.
Волин удивился, увидя Анну Васильевну, — у нее сегодня не было уроков — и выжидающе посмотрел на учительницу.
Анна Васильевна, дробно простучав каблучками, подошла к столу директора и, не обращая внимания на незнакомого человека, вся поглощенная какими-то своими переживаниями, с отчаянной решимостью сказала:
— Борис Петрович! Я больше не могу работать в девятом! Не могу и не буду! — и опустилась на стул.
Сергею Ивановичу видны были ее ссутулившиеся плечи и розовая мочка маленького уха. «Словно воробушек, попавший под сильный дождь», — подумал он и тут же усмехнулся, уж слишком лиричным показалось ему это сравнение. Да оно и не вполне подходило для молодой учительницы, когда она снова подняла голову. Губы ее теперь были плотно сжаты, взгляд полон непримиримости. Прерывающимся от негодования голосом она сказала:
— Знаете, что себе позволил вчера… что себе позволил этот Балашов?
Сергей Иванович показал глазами на дверь, прося у директора разрешения уйти.
Волин развел руками, как бы извиняясь, что непредвиденные обстоятельства нарушили их беседу.
Как можно тише, ступая на носки, Сергей Иванович дошел до двери, посмотрел на Волина смеющимися глазами, будто сочувственно говоря: «Ничего не поделаешь, всяко бывает», и вышел в коридор.
ГЛАВА II
Когда в прошлом году, летом, Рудина в пёстром платье, с косами, уложенными на голове венчиком, появилась в кабинете и застенчиво сказала, что направлена преподавать литературу, Борис Петрович с невольной опаской подумал; «Да ты же, милая, еще сама девочка. Такие, увидев зимой на улице ледяную дорожку, обязательно норовят прокатиться по ней».
Они стали говорить о будущей работе.
— Дли первого года, товарищ Рудина, мы дадим вам небольшую нагрузку. Кроме того, — и это, правда, очень осложнит вашу работу, — вам придется взять классное руководство в шестом «Б». Прямо скажу — там вам будет нелегко… Но поможем! Не стесняйтесь советоваться со мной, с Серафимой Михайловной Боковой — она опытная учительница, с завучем Яковом Яковлевичем…
Переговорив о главном, Борис Петрович хотел было как-нибудь поделикатнее, полушутя сказать Рудиной, что, отправляясь в школу, пожалуй, не стоит прикалывать к платью такой яркий шелковый цветок, но он не нашел нужных слов, побоялся вовсе смутить или обидеть новенькую. А потом в этом и надобность миновала — учительница сама уловила необходимый в школе тон простоты и скромности.
— Итак, желаю успеха! — ободряюще улыбнулся он Рудиной.
— Спасибо, постараюсь, — по-ученически ответила она и, попрощавшись, вышла из кабинета легкой девичьей походкой.
Борис Петрович, поглядев ей вслед, подумал с теплотой: «Как моя Валюшка…»
…К первому уроку Рудина готовилась словно к решающему сражению. Она взяла «на вооружение» иллюстрации, составила подробнейший план урока — с вопросами ученикам, пометками, что сказать и сделать. Там даже было написано: «Неторопливо пройтись по классу».
Ночью ее преследовали кошмары. То ей казалось, что она вошла в класс, а конспект забыла дома, то — будто кончила рассказывать, а еще осталось минут двадцать до звонка, и она не знает, чем занять учеников.
…Есть много общего между трудом начинающих писателей и учителей: боязнь что-то упустить, оказаться непонятым — и отсюда неэкономная трата словесного материала; неумение отобрать необходимые детали, — кажется, что все важно; робость и стремление придерживаться выверенных канонов, ученическое подражание образцам.
Начинающий учитель часто стремится дать «урок-фейерверк» с избытком красок, пафоса, внешних эффектов. Такой урок дети слушают с захватывающим вниманием, преподаватель после него возбужденно говорит в учительской: «Урок прошел замечательно!», а на следующий день, возмущаясь, ставит ученикам двойки и недоумевает — почему они ничего не запомнили? И не сразу он приходит к простому выводу, что дело не в занимательности во что бы то ни стало, а в непрерывной активности ученической мысли — ищущей и преодолевающей.
Шестой «Б» встретил Рудину неприязненно. «Сама еще девчонка», — прошептал кто-то с пренебрежением. До Анны Васильевны в этом классе преподавал, старый уважаемый учитель, награжденный орденом Ленина за работу в школе. Но Рудина твердо решила выйти победительницей.
Когда она проходила практику в школе, рядом стояло так много опекунов со спасательными кругами, что невозможно было определить: сама ли доплыла? Конечно, практика дала ей многое, но уроки в присутствии опытного учителя, методиста, товарищей — казались искусственными, больше для студентов, чем для класса, и Рудину не оставляло тогда ощущение, что считать ее учительницей можно только условно. Теперь же пришла полная самостоятельность.
С первой минуты она повела себя так, словно преподавала уже добрый десяток лет, и хотя внутри ее все замирало и дрожало и, глядя в журнал, она не видела клеточек, где следовало отметить отсутствующих, внешне она была спокойна и недоступно-строга. Оставалось даже такое впечатление, будто она ищет «драки» и удивляется, что ее нет. Наслышавшись от товарищей, что ученики имеют привычку «проверять» учителей-новичков, Рудина заподозрила эту проверку там, где ее вовсе не было, и неожиданно обрушилась на ни в чем не повинного шестиклассника, который простосердечно спросил, подняв руку: «А учебник обернуть?»
— Вы уже в том возрасте, когда можно самостоятельно решать такие вопросы! — отчеканила она.
Ученик смутился.
Поняв свою ошибку, она пояснила строго:
— Конечно, обернуть!
Когда же зашептались двое, сидящие на второй парте, Рудина остановилась около них и возмущенно воскликнула:
— Мальчишки, перестаньте разговаривать!
Спохватилась, что не так обратилась, как предписывает методика, но твердо повторила:
— Понимаете? Перестаньте!
Чтобы сразу же увлечь класс, учительница рассказала о самых интересных частях программы, выбрала лучшие «кадры» из нее. И хотя на этом потеряла минут двадцать, потеря вознаградилась: дети сидели так, что хотелось говорить бесконечно. Выходя из класса, Рудина услышала, как один ученик сказал с восторгом другому:
— Литература — самый интересный предмет!
Этот отзыв был для нее дороже пятерки, полученной на государственных экзаменах. И она подумала: ни один экзаменатор ни разу не спрашивал ее с такой взыскательностью, с какой будут спрашивать ученики.
— Анна Васильевна, — подошел к ней подросток, — я книгу достал про Зою Космодемьянскую.
Рудина не сразу поняла, что это обращаются к ней, и даже приостановилась от неожиданности.
И вдруг она почувствовала, что стала учительницей. Не Аня, не Анюта, а учительница Анна Васильевна!
…Однажды, во время урока повторения, погас свет. На секунду она растерялась. Воспитателю сплошь и рядом приходится принимать мгновенные решения, и в этих задачах-экспромтах яснее всего обнаруживает себя педагогическая одаренность.
В темноте класс радостно охнул и зашевелился.
Анна Васильевна внутренне напряглась, — так в минуту опасности человек собирает свою волю, — и спокойно сказала:
— Пока нет света, я расскажу вам о нашей Москве…
Было немного страшно посылать слова в настороженную тишину и не знать, как дошли они, не ощущать той необходимой, обычной волны ответных чувств, что устанавливает близость.
— Вот мы с вами подошли к Красной площади… За мавзолеем Ильича виднеется Кремль… И сердца наши радостно забились…
Рудина, наконец, услышала сдержанное дыхание детей, ей на мгновение даже показалось, что она увидела их расширенные в темноте глаза.
— Войдем в Кремль…
Вдруг зажегся свет. Все стали щуриться, присматриваться, будто видели друг друга впервые, лукаво и удовлетворенно поглядывали на учительницу. И она читала в глазах детей, сразу сделавшихся, ей близкими: «Вы довольны нами?. Вот мы какими можем быть!» А чей-то ломкий голос попросил:
— Расскажите дальше…
…В общем все шло хорошо. Недавно Рудину назначили старшей пионервожатой, и хотя работа с пионерами была для нее новой, но не пугала, а увлекала, как и все, что делалось в школе. Вот только с девятым классом у нее не всегда ладилось.
Возможно, это происходило оттого, что слишком незначительной была разница в годах между учительницей и учащимися, а может быть, она с самого начала взяла там несколько резкий тон, который так не терпят юноши, считающие себя уже взрослыми. Как бы то ни было, но появление Рудиной в кабинете Бориса Петровича встревожило его.
Из учебников педагогики и лекций в институте Анна Васильевна усвоила, что у воспитателя не должно быть предвзятого отношения к ученику и что учитель не должен показывать свою симпатию или антипатию к нему.
Но что Рудина могла поделать с собой, если с первого же дня ей пришелся не по душе Борис Балашов из девятого класса, где она стала преподавать в этом году.
Балашов смотрел на учительницу насмешливо улыбаясь, тон и взгляд его были самоуверенны, и под внешней корректностью она подозревала оскорбительное неуважение. Даже походка Бориса раздражала Анну Васильевну: он ходил, горделиво глядя прямо перед собой, будто постоянно чувствовал на себе множество заинтересованных взглядов и не хотел показать, что догадывается об этом. Так ходят на стадионах перед зрителями честолюбивые спортсмены после удачного пробега или прыжка, уже одетые в свой обычный костюм.
Случай, нарушивший душевное равновесие Анны Васильевны и вызвавший ее разговор с директором, произошел на уроке.
Все девятиклассники записывали в тетрадях план темы, только Балашов не торопился достать тетрадь и долго причесывался. Анна Васильевна сперва осуждающе посмотрела на него, но это не подействовало. Тогда она, прервав работу, строго сказала:
— Сейчас не время заниматься этим…
Балашов метнул в ее сторону презрительный взгляд и, неторопливо пряча расческу, процедил так, что все в классе услышали:
— В поучениях представительницы детских яслей не нуждаюсь.
Анна Васильевна отшатнулась, будто ее ударили. Она задохнулась от волны возмущения.
В классе стояла напряженная тишина.
Учительница не видела ни осуждающих Балашова взглядов его товарищей, ни умоляющих глаз Семы Яновича, сидящего на первой парте. Глаза Семы просили: «Не волнуйтесь, Анна Васильевна, это же Балашов… Он сначала говорит, а потом думает… Не волнуйтесь». Ей казалось, что прошла вечность, а прошло всего несколько секунд. Выгнать наглеца из класса? Уйти самой? Рудина чувствовала, что комок подкатывается к горлу, и она вот-вот разрыдается или безобразно закричит на оскорбителя. С трудов разжав сразу пересохшие губы, она сказала:
— Наглость никогда не была признаком ума… Вы… позорите школу. — И продолжала урок.
Если бы она была тонким психологом и в состоянии была видеть происходящее сейчас в классе, то поняла бы, что уже вышла победительницей, что ее сдержанность оценена по достоинству, что в сторону Балашова устремлены взгляды, полные негодования, а сосед его, Костя Рамков, даже прошептал: «Ну, какая же ты скотина!»
Но ничего этого Анна Васильевна не могла видеть и слышать. У нее хватило сил лишь для того, чтобы довести объяснение до конца и, как только раздался звонок, быстро выйти в коридор.
Уроков у нее в этот день больше не было, и Рудина, никому не сказав ни слова, ушла из школы бродить по каким-то незнакомым улочкам.
Учась в институте, Рудина не раз в своем воображении рисовала, как будет преодолевать трудности, находить путь к самому неподатливому сердцу. Она пошла на литературный факультет без тайной мысли стать писательницей или научным работником, а с единственным желанием — быть учительницей. С горящими от волнения щеками читала она книги Макаренко, делала доклады в педагогическом кружке. После первого школьного года она была уверена, что в состоянии преодолеть препятствия, завоевать авторитет, и вот — все рушилось.
«Но ты неплохо работаешь в младших классах и с пионерами», — успокаивал ее один голос.
«Что младшие? — говорил другой голос. — А вот взрослые тебя совершенно не уважают. Почему они все молчали и на осудили поступок Балашова?» Она забыла, что же произошло на уроке, и она сама не разрешила бы тогда никому вмешиваться. Но сейчас ей казалось, что эта возможность прийти к ней на помощь умышленно была упущена девятиклассниками.
Рудина опустилась на скамейку у чьих-то ворот, переплетенными пальцами охватила колени и долго так сидела… Потом встала, медленно пошла по улице.
Наступал вечер. Обычно девушка любила, проходя мимо освещенных окон, заглянуть в них и пофантазировать: какая жизнь у людей там, за окном, кто они? Но сейчас она брела, опустив голову, ничего не замечая, целиком поглощенная своим горем.
Начался дождь. Анна Васильевна спряталась под навес над крыльцом.
— Я никому не позволю оскорблять, меня! — прошептала она.
Крупные капли, пахнущие ржавчиной, падали на ее щеки, скатывались к губам. Анна Васильевна чувствовала себя одинокой, глубоко несчастной, ей казалось, что с работой в школе все кончено, что никогда уже не вернутся к ней прежние душевный покой и счастье…
…Рассказав Борису Петровичу о происшествии в девятом классе. Анна Васильевна решительно заявила:
— И ли я, или Балашов! — и, сжав губы, непримиримо посмотрела на директора из-под покрасневших век.
Волин успокоился, услышав ее исповедь. Ничего страшного не произошло, — только и беды, что укололась педагогическим шипком.
После первых же уроков Рудиной, на которых был Борис Петрович, он уверенно сказал себе: «Из нее получится настоящая учительница». На своем веку он выпестовал не один десяток вот таких неоперившихся птенцов и научился по едва уловимым признакам, тончайшим интонациям безошибочно определять педагогические задатки молодежи.
Рудина умела внести в класс деловитость, не исключающую жизнерадостности, но по молодости была горяча и болезненно самолюбива.
Волина беспокоило, сумеет ли она сразу и навсегда найти необходимый тон отношений с детьми, воспитать в себе выдержку и настойчивость.
Директору не в диковинку было слышать: «или я, или он». Его память сохранила не один случай, когда учителя — и старше и опытнее Анны Васильевны, — возмущенные каким-нибудь «негодным мальчишкой», готовы были в своей обиде стать на одну ступеньку с обидчиком, забыть о терпеливости — верной спутнице учителя.
Не удивился Волин и тому, что Анна Васильевна не сразу вчера прибежала, а пришла сейчас, после беспокойной ночи, — это было видно по ее глазам, утомленным бессонницей.
— Ну, знаете, Анна Васильевна, — вдруг сердито произнес Борис Петрович, поднимаясь из-за стола и прохаживаясь вдоль кабинета, — если каждый воспитатель будет так легко уязвим, как вы, немногого мы добьемся! Да мало ли у наших юнцов и поступков, порой неумных, и шуток грубых, и невоспитанности, заставляющих нас возмущаться, наказывать, объяснять, — кто же за нас это делать будет? Но если при первых же неудачах мы начнем отказываться от работы, впадать в черную меланхолию… — он остановился, поглядел на склоненную голову молоденькой учительницы, прогнал с лица появившуюся было добрую улыбку и жестко закончил, — не надо было идти в школу!
Подумал: «Не слишком ли я?» И решил: «Нет, — сейчас ей надо сказать эти жесткие слова!»
…Он снова сел в кресло, напротив Анны Васильевны, и продолжал, терпеливо разъясняя:
— Мы должны быть выше мелких уколов самолюбия, не переживать все так болезненно. Да, Балашов грубиян, невежа. Но почему же вам следует на всех остальных распространять свою немилость? Разве мы имеем право быть мстительными? И не наша ли обязанность этого же самого мальчишку Балашова сделать человеком?
Борис Петрович подался вперед и с отеческой улыбкой посоветовал:
— Больше терпения, товарищ преподаватель! — Он замолчал, решая, — можно ли сказать еще об одном, от чего всегда предостерегал молодых учителей решил — можно:
— Я сейчас подумал, Анна Васильевна, и о такой для нас опасности: знаете, как вредно бывает, если учитель возомнит о себе: «Какой я талантливый, незаменимый, особенный!» Правда ведь?
— Правда, — освобождаясь от какой-то тяжести, подняла голову Анна Васильевна, — я как раз вчера у Горького прочитала: «Ничто не умерщвляет душу так быстро, как жажда нравиться…» Только я не думаю, что незаменимая, талантливая.
— Да я это и не о вас, а вообще о типах таких самоуспокоившихся, — оказал Волин и улыбнулся уголком рта.
«Значит, ничего непоправимого не произошло? — радостно подумала Анна Васильевна. — А я то металась, искала, что же делать. Да, быть требовательнее к себе, вот что!»
И будто подтверждая это, Борис Петрович уверенно сказал:
— Главное — трудиться, не покладая рук, не гнушаясь черновой работой, заботиться не о внешнем эффекте, а о пользе дела. Любить школу, а не себя в школе. Вы знаете, — доверительно, как равной в житейской мудрости, сказал Волин, — звания героев на войне получали не те, кто вожделел о золотой звездочке, а те, кто думал лишь о благе Родины… Вот оно что…
Борис Петрович поднялся и, подойдя к вставшей Анне Васильевне, мягко проговорил:
— Все будет в порядке!.. — У него едва не вырвалось: «доченька», но он во-время удержался и, пожимая ей руку, предложил:
— Вы бы пришли в воскресенье к нам в гости. И жена, и дочь — все мы будем рады.
— С удовольствием, — зарделась Анна Васильевна и стала похожа на ученицу, которую похвалил учитель.
— Вот и хорошо, — обрадовался Борис Петрович, — так ждем вас…
ГЛАВА III
Тихо прикрыв дверь кабинета директора и оставив за ней чем-то расстроенную учительницу, Сергей Иванович пошел коридором школы, разглядывая на стенах рисунки из пушкинских сказок, аквариум у окна.
Особенно много было в школе цветов: выставила из кадки свои стрелы солидная драцена, грациозная фуксия неслышно играла колокольчиками, листья колиуса походили на запекшийся сургуч. Цветы виднелись на подоконниках, на полках в простенках, в высоких корзинах.
Кремлева охватило такое чувство, будто после долгих странствий он возвратился в родной дом, где было и все знакомо и вместе с тем произошли заметные перемены.
Он шел сдержанный, подтянутый, а внутри все пело: «Здравствуй, любимая школа! О тебе мечтал все годы войны, тебе сохранил верность. В окопах, перед боем представлял этот час возвращения… Путь лежал через астраханские пески, кубанские плавни, через минные поля и штыковые атаки. Но прошел, прошел через все это, чтобы еще более щедро отдать детям свое сердце, свой разум и силы…»
Голосисто запел звонок, и звуки его радостно отозвались в сердце Сергея Ивановича. Этот звонок он слышал в завываниях зимних вьюг на фронте. Только тогда звук его казался торжественным, обещая, что еще придет желанное время любимого труда…
Школьный звонок! Почему ни один поэт не воспел его?
У каждого школьного звонка особенный голос: то чуть дребезжащий, старческий, то по-молодому звонкий и ясный, то металлически-требовательный, — но неизменно родной голос нашего детства.
Кремлеву вспомнились школьные годы.
Стать учителем он мечтал еще в шестом классе. Сергей придумывал будущие подписи под оценками, представлял, как будет раздавать проверенные тетради, решил, что когда вырастет, во всем постарается походить на преподавателя литературы Андрея Александровича и даже усики отпустит такие же, как у него.
И позже, когда работал на заводе учеником слесаря, когда учился на рабфаке, его не оставляло желание поступить именно в педагогический институт.
За три года до Великой Отечественной войны Кремлев начал учительствовать.
В классе, в кругу детей, находил он все лучшее, что составляло для него смысл, жизни: теплоту внимания, искреннюю привязанность, а главное — радостное сознание, что он как и тысячи других учителей, несет знания, формирует характер нового человека.
* * *
На повороте лестничной площадки Сергей Иванович едва не столкнулся лицом к лицу с прихрамывающим человеком и, подняв голову, удивленно и радостно воскликнул:
— Вадим!
Тот вгляделся в лицо Кремлева и тоже обрадованно протянул руку:
— Сергей!
Они не были в студенческие годы близкими друзьями, даже учились на разных факультетах: Вадим Корсунов — на химическом, Сергей Кремлев — на историческом, но вместе заседали в профкоме, вместе выезжали на уборку хлеба в совхоз, и сейчас, после первых расспросов и восклицаний, им казалось, что в институте у них была дружба, потому что воспоминания юности всегда роднят, и теперь они сразу же стали называть друг друга «на ты» и по имени.
Вадиму Николаевичу Корсунову было лег под сорок, хотя по его лицу трудно было бы определить возраст. Розоватое и почти лишенное растительности, оно казалось то очень молодым, то очень старым и часто меняло свое выражение. Корсунов остался почти таким же, каким помнил его Кремлев десять лет назад. Те же гладко зачесанные редкие волосы, те же большие, хрящеватые уши с чуть сточенными верхушками, хороший просторный лоб и глаза, смотрящие несколько исподлобья. Только ходил Корсунов теперь так, что, казалось, передвигает не тело, а лишь искалеченную ногу.
Они вместе вышли из школы.
— Я здесь второй год, — рассказывал Вадим Николаевич. — После ранения демобилизовался. По совместительству работаю… у меня еще часы в элеваторном техникуме и на курсах…
— В школе по совместительству? — удивленно переспросил Сергей Иванович.
— Нет, собственно говоря, — замялся Корсунов, — я считаю основной — работу в школе.
— А зачем тебе понадобилось набирать столько часов? — полюбопытствовал Кремлев, беря товарища под руку.
— Бытие… Златой презренный телец, — усмехнулся Вадим Николаевич. — Ты здесь с семьей?
Сергей Иванович помрачнел.
— Жена погибла при бомбежке, — с трудом произнес он. — Остался сын… Ему сейчас пять лет. Живем втроем: сын, мать жены и я.
— Да-а, — протянул Вадим Николаевич, не находя, что сказать и понимая, что никакие слова не нужны.
Некоторое время они шли молча. Однообразно постукивал о тротуар протез Корсунова.
По асфальтовой мостовой, шелестя шинами, проскользнула легковая машина. Пожилая женщина в пенсне толкала перед собой коляску с ребенком. Откуда-то, из верхних этажей дома, долетали тоскливые звуки скрипки.
— Зайдем, Сережа, ко мне! — мягко попросил Вадим Николаевич. — Познакомлю тебя с женой. Мы здесь недалеко живем, вон третий дом…
Дверь им открыла жена Корсунова, Люся, как назвала она сама себя, — полная блондинка с длинными белыми серьгами в ушах.
— Извините, я в таком виде… — смущенно сказала она, запахивая домашний халат, и исчезла в соседней комнате, откуда стала отдавать распоряжения:
— Вадик, разведи примус и поставь борщ… Кастрюля в коридоре…
Комната была небольшая и какая-то игрушечная: с караваном слоников на этажерке, кошечками на открытках, приколотых к стене, бесчисленными подушечками на диване. На небольшом столе — гипсовая копилка в виде щенка и чайник, прикрытый ватной бабой.
Минут через десять Люся появилась в шелковом нарядном платье, с ярко накрашенными губами.
Мужчины в это время говорили о своей работе. Собственно, больше говорил Вадим Николаевич.
— Мой девиз в отношениях с питомцами, — откинув голову назад и вытянув перед собой больную ногу, снисходительно посматривал он на Кремлева, — жать, жать и жать! Советую и тебе, дружище, следовать этому правилу с первых же дней. Я вчера в одном классе поставил шесть колов, — с ноткой гордости сообщил Вадим Николаевич, оперся рукой о стул и подтянул ногу. — Они меня боятся. Я бы сказал — трепещут… возможно, недолюбливают. И великолепно! — Он болезненно поморщился и было непонятно — от боли или оттого, что отогнал какую-то неприятную мысль. — Но зато знают предмет!
Сергей Иванович слушал Корсунова с изумлением, «Нашел чем хвалиться — количеством поставленных колов».
Он пытался прервать Вадима Николаевича:
— Я согласен с тобой, к учащимся надо предъявлять очень высокие требования, но почему они должны при этом «трепетать и бояться»? Разве уважение…
Коршунов не дал ему договорить.
— Ты, Сережа, сейчас не вправе спорить, оторвался от школы. Вот поработаешь, тогда… А у меня они шелковые, только взгляну! Ну, нет этой хваленой интимности, сюсюканья: «Петя, почему ты не записался в кружок?», «Давайте выпускать газету „Юный химик“…» Зато есть урок в его классически строгом виде!
В разговор вмешалась Люся. Она, мило кокетничая, плутовато играя смешливыми глазками, стала расспрашивать Кремлева о его планах и очень скоро выведала все, что ее интересовало.
Борщ на примусе разогрелся. Люся легкой походкой двигалась по комнате, накрывая на стол.
Сергей Иванович, ссылаясь на ранний час, отказывался от обеда, но его усадили. Налив вино, Корсунов поднял бокал.
— За старую дружбу! — предложил он.
— И за новую, — прикасаясь своим бокалом к бокалу Кремлева, прищурилась Люся.
— Рад найти друзей, — открыто улыбнулся Сергей Иванович.
Они заговорили о студенческих годах.
— А помнишь, Вадим, как мы подняли бунт против педологии? — придвинулся Сергей Иванович к Корсунову, и глаза у него весело заблестели.
Это было памятное в институте открытое партийное собрание. На нем выступило несколько студентов, в их числе Кремлев и Корсунов, против измышлений «кафедры педологии», ее диких эксперименте с «трудновоспитуемыми».
— Да, хорошо получилось! — воскликнул Корсунов и довольно рассмеялся.
Вино, как ни мало его вышили, сильно подействовало на Вадима Николаевича. Он побледнел, много курил, глубоко втягивая худые щеки.
— Я отвергаю сентиментальную сердечность! Разве воспитывать чувство ответственности — этого мало? Зачем еще приплетать сюда дружбу между учителем и учащимся? Мой старый учитель, к которому я сохраню признательность на всю жизнь, говаривал: «Первая заповедь педагога: хорошо объясни, построже спроси, остальное — дело десятое». И не прикрывают ли любители душеспасительных бесед разговорами о близости с учащимися свое стремление оправдать поблажку, сделать скидочку на отеческую доброту?
Корсунов говорил быстро, возбужденно, сам себя в чем-то убеждая, и, видно, то, о чем он говорил, мучило его, не давало покоя.
— Почему сердечность обязательно должна быть сентиментальной? — не соглашался Сергей Иванович. — И зачем тебе заимствовать у старого учителя взгляды прошлого века, называть воспитательную работу «десятым делом»? Как можно вообще отрывать образование от воспитания, сводить все лишь к формуле «объяснил — опросил»?
Но Корсунов был уже так, взвинчен, что продолжал, не слушая его:
— Да, мне бывает тяжело… — он поднялся со стула и, сильно прихрамывая, заметался по комнате, — очень… В первый день занятий… недавно… было ученическое собрание… директор называет фамилии учителей в президиум… Всем аплодируют… А мою фамилию назвал — гробовое молчание… За что?
Он неожиданно замолчал. Стало слышно, как внизу кто-то постукивает по водопроводной трубе.
— Я очень хочу им добра, — вдруг проникновенно сказал Корсунов, и Сергей Иванович понял, что Вадим любит детей, что не все так ясно для него, как он старается это представить.
Люся смотрела на мужа со снисходительной улыбкой, как взрослый человек на неразумного ребенка.
— Других и разговоров нет, кроме как о работе, — капризно протянула она.
— Ты этого не понимаешь, потому что забыла, когда сама работала! — вдруг раздраженно воскликнул Корсунов, остановившись против нее. — Имеешь прекрасную специальность чертежника-конструктора, а предпочитаешь целыми днями ходить по соседям… Вот, ты скажи! — обратился он к Кремлеву с бесцеремонностью нетрезвого человека, — скажи… объективно… Это правильно, когда молодая женщина, не имеющая детей, не хочет работать?
У Люси навернулись на глаза слезы обиды:
— Объедаю тебя! Да? Объедаю?
Она повернула к мужу лицо, ставшее сразу некрасивым, и мстительно выкрикнула:
— Недаром ученики тебя не любят. Недаром! Ты и с ними стал другим, и со мною! Иногда посмотришь так, что сердце обрывается… глазами полоснешь…
— Ну, это ты выдумываешь! — сразу трезвея, оскорбленно произнес Вадим Николаевич и посмотрел на нее с недоумением.
— Ничего не выдумываю! Нельзя так, Вадя, — словно спохватясь, тихо сказала она.
Сергей Иванович уже и не рад был, что зашел к Корсунову, стал свидетелем семейной перепалки.
— Я о тебе же забочусь, — устало сказал Вадим Николаевич и понуро сел на диван. — Так, говоришь, — не любят?
Они долго молчали. Люся всхлипывала. Сергей Иванович придумывал повод уйти.
— А почему не любят? — с болью в голосе, горько опросил Корсунов Сергея Ивановича и потер ладонью высокий лоб. — Ты знаешь, почему? Потому, что не умею я выражать любовь иначе, как строгостью. Чем больше люблю, тем жестче с ними поступаю. А они думают, что я бездушный сухарь. Вот и она тоже, — кивнул Корсунов на жену.
Сергей Иванович, наконец, ушел. На сердце был тяжелый осадок. Не такой встречи он хотел бы с однокашником. Да и собой Кремлев был недоволен: недоволен тем, что мало возражал, не доказал Вадиму, что он заблуждается.
«Мы еще возвратимся к этому», — решил Сергей Иванович и быстрее зашагал к дому.
ГЛАВА IV
Борис Петрович попросил преподавательницу четвертого класса «А» Серафиму Михайловну Бокову задержать своих ребят после уроков. Там у него была запланирована сегодня — беседа. Раз в месяц в каждом классе он проводил такие беседы. И хотя находилось немало скептиков, считавших, что это — выдумка Волина, и знакомые директора других школ недовольно говорили: «Придумываете вы сами себе, Борис Петрович, хлопоты», — Волин твердо стоял на своем. Он даже считал, что неплохо знает учеников отчасти благодаря этим беседам, и готовился к ним специально.
Серафима Михайловна, предупредив класс о приходе директора, ушла в учительскую, и Волин застал детей одних.
Он поздоровался с ними, разрешил сесть и сам сел за стол. В просторной комнате класса, с цветами на подоконниках, висел над доской портрет Ленина, он, чуть прищурясь, добрыми отцовскими глазами смотрел на ребят. Под портретом, на бумажной ленте, ученической рукой было выведено красивыми буквами:
«МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ»
На верхней планке классной доски Борис Петрович, еще при входе, заметил надпись мелом: «Сегодня дежурит Толя Плотников».
Волин пытливо посмотрел на детей. Он знал имена и характеры, наклонности и грешки многих из них.
Вон у окна хрупкий, хворенький Веня Стоянов с большими, казалось, прозрачными ушами, с голосом девочки и всегда о чем-то умоляющим взглядом серых глаз. Веня — старательный мальчик, но у него плохая память.
Рядом сидят братья Тешевы, совершенно непохожие друг на друга. Русый Платон, — встретившись взглядом с Борисом Петровичем, опустил глаза и застенчиво улыбнулся. Женя, напротив, — черен, как галчонок, у него длинный нос с горбинкой, темные выразительные глаза под высоко приподнятыми бровями. Он смотрит на директора смело, ничуть не смущаясь. Это он в прошлом году решения всех заданных на дом задач получал по телефону от Чижикова.
Крайние полюсы класса — Ваня Чижиков и Толя Плотников. Маленький Ваня — добрый гений класса, его совесть и благонравие. Ваня круглолиц, у него пухлые губы, неотразимые ямочки, на розовых щеках и чистые, бесхитростные синие глаза, против которых трудно устоять даже забиякам. Чижиков всегда, и порой в ущерб себе, выступает миротворцем и правдивым обличителем.
Толю Плотникова, переведенного из другой школы в конце прошлого года, любители педагогических ярлыков назвали бы «трудным ребенком».. Избрав роль главного развлекателя класса, Плотников то и дело хватается за свою стриженую круглую голову и наигранно-сокрушенно мотает ею, дурашливо вздыхает, корчит постные физиономии, старательно глотает бумагу, — лишь бы чем-нибудь привлечь к себе внимание.
В кабинете Бориса Петровича, в его столе, есть «ящик трофеев». Здесь можно увидеть самодельный головной убор папуасов, казачий пистолет начала XIX века, биллиардный шар, выставку кинжалов: деревянных, железных, больших и малых. Неизменным поставщиком «ящика трофеев» был Плотников.
Он настолько свыкся с ролью «отпетого», что если и получал хорошую отметку, то возвращался к своей парте с виноватым выражением на лице, словно стыдясь несвойственной ему благонамеренности и чувствуя неловкость, что на этот раз все обошлось благополучно.
Временами на него находили приступы своеволия: в такие дни Плотников был хмур и дерзок.
Самое прочное положение человека справедливого занимал в четвертом «А» Петр Рубцов.
Большеголовый, с серьезным лицом и морщинками у серых, по-взрослому строгих глаз, он выступал судьей в запутанных спорах. В классе его называли не иначе, как Петр Рубцов, — не Петя и не Рубцов, а именно — Петр Рубцов.
Есть лица, вспоминая которые, видишь прежде всего какую-то его деталь, она как бы заслоняет собой весь облик человека. У Петра Рубцова такими были глаза — огромные, серьезные.
Может быть, они были у него такими потому, что пять лет назад, когда началась Отечественная война, он увидел ими гибель сестренки при бомбежке.
Недавно он пришел к Серафиме Михайловне домой. «Извините, что я вас загромождаю, — вежливо, но с чувством собственного достоинства, сказал он, — мне надо посоветоваться, Я хочу написать книгу… Название уже придумал — „Сила воли“…. А какая идея главная — мне еще не ясно».
— Ну-с, давайте, сначала разберем внутренние дела, — разгладив седые усы, сказал спокойно директор, и все выжидающе подались вперед.
— Прежде всего, меня интересует, почему вчера член комитета комсомола привел Плотникова к дежурному по школе?
Толя вскочил и оскорбленно воскликнул:
— А почему Женька Тешев назвал меня империалистическим хищником? Это правильно? Да? Это правильно?
Борис Петрович с трудом скрыл улыбку.
— Конечно, это обидно слышать, и шутка Тешева неудачна, — согласился он, — но вы, Плотников, должны быть сдержанным человеком. А то что же получается: нечем бить, так кулаком!
Толя насупился и сел.
Директор укоризненно обратился к Вене Стоянову.
— Что же это вы, Стоянов, уже успели двойку по арифметике получить? Всего-то и занимаемся несколько дней и вот — двойка.
Стоянов покраснел, поднялся, и его глаза стали особенно умоляющими.
— Я исправлю, — едва слышно пролепетал он, — забыл, как задачку решать.
Борис Петрович похвалил Ваню Чижикова за хорошее начало учебного года, и, покончив с «внутренними делами», стал рассказывать ребятам о новой пятилетке. Увлекшись, он встал, подошел к первой парте.
— Наше правительство решило организовать Главное Управление, по восстановлению Сталинграда, — мы сделаем Сталинград прекрасным! — сказал он с гордостью. — А ну, кто нам покажет по карте этот город-герои?
И, хотя географию только начали изучать, поднялось несколько рук. К карте подошел Платон Тешев, застенчиво показал Сталинград и довольный возвратился на место.
— А еще (ох, уж это неистребимое «а еще»!), у нас на заводе, — живо поднялся Женя («нашим заводом» все называли завод электроприборов, расположенный недалеко от школы и шефствующий над ней), — есть стахановец Дёмин… лауреат… он уже выполнил план на четыре года вперед… Вот это человек!
Черные глаза Жени выражали восхищение.
— Видите, как работают! — разделяя его чувство, живо подхватил директор. — Хорошо бы нарисовать портрет такого стахановца!
— Платон нарисует, — объявил Женя, словно уже решил за брата этот вопрос.
— Я нарисую, — не поднимая глаз, подтвердил Платон, — из газеты вырежу и увеличу.
— Подумаешь, художник, — скорчив презрительную мину, прошептал Плотников, но так тихо, что Волин не услышал.
Борис Петрович похвалил ребят за то, что они внимательно читают газеты, подумал: «Закон о пятилетием плане надо изучить во всех классах» и, будто это ему пришло в голову только сейчас, а на самом деле он вчера решил это, предложил:
— А что, если вы начнете писать историю своего класса? Дам я вам тетрадь в красивом переплете, хо-о-рошую тетрадь! — и вы туда записывайте: «Платон товарищу в учебе помог, а Плотников с Серафимой Михайловной сделали интересный альбом». Хорошо ведь все это записать?
— Подумаешь, альбом, — завертелся на месте, словно его жалили осы, Плотников и для смеха подвигал ушами, но никто не засмеялся.
Предложение Бориса Петровича всем понравилось, и здесь же решили, что записывать будут Ваня Чижиков и Петр Рубцов.
Борис Петрович посмотрел на часы: беседа длилась пятнадцать минут. Он решил уже было отпустить ребят, когда Плотников поднял руку. Он сделал это так, что, казалось, за рукой тянется и плечо, и все его тело, вот-вот он оторвется от парты и взлетит.
— Я вас слушаю, — выжидающе посмотрел Волин.
Толя шустро, точно его дернули за ниточку, вскочил и звонким голосом опросил:
— Борис Петрович, — он бросил через плечо быстрый торжествующий взгляд на Петра Рубцова, с которым поспорил на перемене, что задаст этот вопрос, — Борис Петрович, скажите, а зачем у вас на столе, — Толя запнулся и еще убедительнее сказал, — пожалуйста, скажите, зачем у вас на столе в кабинете маленькая фотография лежит… такая ма-а-ленькая, под стеклом… там дом и деревня?
— Ох, и любопытен Плотников, а ведь любопытство…
— Да нет, Борис Петрович, вы не подумайте… ну, просто хочется знать, — стал оправдываться Плотников и от нетерпения затоптался на месте.
Он разглядел эту крохотную карточку, когда очутился в кабинете директора, приведенный Фомой Никитичем за баловство. Ему еще тогда странным показалось, что в самом центре стола, под толстым стеклом лежала только одна фотография: небольшой дом, кругом снег, а по улице к этому дому идут ребята.
Глаза у Бориса Петровича стали серьезными, а голос потеплел.
— Это, дети, моя школа в Кривых Лучках, я в ней пятьдесят лет назад учился… Давно, очень давно не был я в своем селе, но в сердце моем навсегда останется родная школа, где меня впервые учили держать карандаш.
— Борис Петрович, — вдруг присмирев, тихо посоветовал Толя, — а вы бы туда написали…
Волин изумленно посмотрел на мальчика.
«Верно! Вот ведь кто надоумил…»
— Надо написать, — в раздумье, как бы про себя, произнес он.
— Борис Петрович, — поднялся с, передней парты Ваня Чижиков, и ямочки заиграли на его щеках, — можно, мы тоже напишем, о школе своей расскажем, спросим, как они теперь живут, с их пионерским отрядом подружимся?
— Превосходно! — воскликнул Борис Петрович, — и знаете что? Надо будет собрать книги, послать им в подарок…. Обязательно!
— Мы соберем!
— Я басни Крылова принесу…
— А я про Тимура…
— Целую библиотеку соберем!
Борис Петрович попрощался с детьми и вышел из класса.
ГЛАВА V
Знакомство со своим девятым классом Сергей Иванович начал с того, что пошел на урок химии.
Когда они с Корсуновым появились в химическом кабинете, по рядам пронесся шопот:
— Новый историк, новый историк…
Уму непостижимо, откуда они это узнали, но, как всегда, ученическая осведомленность была поразительной. Кремлев сделал вид, что не слышал топота, и сел за последний стол рядом с юношей лет восемнадцати. На его тетради он прочел: «Борис Балашов».
«А-а-а, вот ты какой», — подумал Сергей Иванович, зная уже, что именно из-за Балашова такой расстроенной пришла к директору преподавательница литературы.
Балашов сидел, выпрямив сильный торс, немного откинув назад маленькую голову с безупречной линией пробора и старательным витком-зачесом жестких волос.
Взгляд черных, с влажным блеском, глаз юноши был самоуверен. Сквозь загар на щеках проступал здоровый румянец. Временами Балашов кончиками полусогнутых пальцев осторожно притрагивался то к одной, то к другой аккуратной брови, будто любовно поглаживал их.
Белая шелковая рубашка с длинными рукавами, перехваченными выше локтя резинками, придавала Балашову щегольской вид.
Корсунов, сухо поздоровавшись, начал урок, а Сергей Иванович стал разглядывать класс.
Кабинет химии заставлен шкафами. За их раздвижными застекленными дверцами поблескивают бесчисленные колбы, реторты, пробирки с разноцветными жидкостями.
За столами сидят по двое тридцать юношей. Почти все они выглядят взрослыми, одеты по-разному: рядом с клетчатой ковбойкой виднеется отцовский армейский китель с черной окантовкой, около серой сатиновой рубашки — модный пиджак с двумя продольными складками на спине.
Корсунов, не садясь, открывает журнал, отмечает отсутствующих и с минуту, в напряженной тишине, смотрит на список, словно изучая его. «Играет в строгость», подумал Кремлей.
Один из учеников, не выдержав долгой паузы, что-то прошептал соседу.
— Разговоры прекратить! — отчеканил химик, не поднимая головы.
— Каковы химические свойства азота?.. — спросил он к после томительной паузы вызвал: — Дружков!
К доске вышел ученик невысокого роста в бархатной куртке с «молнией». У него маленькая голова, маленькие уши, весь он какой-то чистенький, но не кажется изнеженным.
Дружков отвечает неплохо, но то и дело останавливается к опасливо поглядывает на учителя. Химик стоит с каменным лицом, на котором ничего нельзя прочесть.
— Напишите на доске формулу соединения азота с водородом, — требует он, и Сергей Иванович удивляется скрипуче-металлическим ноткам в голосе Вадима. Обычно их у него не было.
Юноша написал, но по рассеянности допустил ошибку в обозначении валентности азота.
Корсунов подошел к доске, раздраженно постучал мелом.
— Вы не хотите думать! — сердито кольнул он глазами. — Прошлый раз я вам поставил чахоточную тройку! — Он особенно подчеркнул слово «чахоточную».
«Как же тебя любить?» — укоризненно думает Сергей Иванович, вспомнив разговор у Корсуновых.
— Я вчера два часа потратил… — начал было оправдываться Дружков, но только подлил масла в огонь.
— Можно и двадцать потратить, но без толка, — холодно говорит химик. — Если вы полагаете, что я буду поощрять недобросовестную работу, то ошибаетесь. Вы в состоянии отвечать на четыре, а отвечали на двойку. Садитесь!
Он выставляет в журнале жирную цифру 2 и старательно промокает ее.
С первых же минут Кремлеву многое не понравилось на этом уроке. И какой-то надрывной тон его, и общая нервозность, и манера учителя при объяснении либо возбужденно ходить по классу, либо, остановившись около одного ученика и глядя только на него, объяснять как бы ему одному. От этого ученик смущался, терял нить мысли, и хотя кивал головой в такт словам учителя, но вряд ли мог внимательно слушать его.
Не понравились Сергею Ивановичу и неуместная язвительность Вадима («напрасно он считает их глупцами», — подумал Кремлев), и плохо скрываемая учениками недоброжелательность — в улыбках, глазах, репликах.
Ясно было — шла скрытая, никому не нужная война.
Правда, объяснял новый материал Вадим Николаевич мастерски, чувствовалось, что он безупречно знает химию, любит свой предмет, но и здесь у него получалось так, будто он сдерживал себя, ни на минуту не забывал, что следует сохранять дистанцию между собой и классом.
Взрыв произошел минут за пять до окончания урока. Корсунов решил проверить, как помнят прошлогодний материал.
— Скажите, Балашов, в чем сущность контактного метода получения серной кислоты? — спросил он.
Балашов помедлил, стал отвечать, но неправильно.
— Ну, можно ли быть таким бестолковым? — с оскорбительным сожалением сказал Вадим Николаевич, осуждающе глядя на Бориса. — При чем же здесь камерный способ?
Балашов побледнел.
— Не всем же гениальными быть! — самолюбиво бросил он, в упор глядя на учителя.
— Вы еще дерзите! — вспылил Корсунов и сжал спинку стула так, что тонкие пальцы побелели.
— А вы не оскорбляйте! — уже не помня себя; баском выкрикнул Балашов.
— Прошу вас, — зловеще-вежливо произнес химик, — покинуть класс.
Краска гнева, проступив у Корсунова на шее, медленно поднялась к щекам и лбу.
Сергей Иванович подумал, стараясь не глядеть на Корсунова, за которого было стыдно: «А если не выйдет, что ты сделаешь?»
Кремлев был противником удаления из класса, считал эту меру крайней и почти никогда не прибегал к ней.
— Выйдите из классе! — снова раздался голос Корсунова, Он говорил замедленно, растягивая слова.
— Не выйду! — резко, охрипшим от волнения голосом, ответил Балашов и стиснул зубы так, что забегали желваки. Чувствовалось, что он внутренне напрягся, словно для прыжка.
— Тогда выйду я, — угрожающе объявил Корсунов, — но вам от этого будет хуже.
«И ведь, действительно, уйдет, — мысленно возмущался Сергей Иванович, — сам же все раздул, а меня оставит в дурацком положении».
К счастью, раздался звонок, Корсунов сердито захлопнул полевую сумку и покинул класс.
В учительской он, нервничая, непрерывно затягиваясь, курил папиросу за папиросой. Ему неприятно было, что такая сцена произошла в присутствии Сергея Ивановича, но он считал себя правым и несправедливо оскорбленным.
— Их надо обламывать! Им только дай потачку… — говорил он, ища сочувствия у Кремлева.
Сергей Иванович прямо сказал Корсунову о том, что ему не понравилось на уроке.
— Если ты дальше пойдешь по этому пути искусственного нагнетания «строгости», — скатишься к старорежимным притеснителям школьников… Надо уважать в каждом ученике человека…
Вадим Николаевич, выслушав его, скептически скривил тонкие губы:
— Поработаешь с ними два-три месяца, тогда сам поймешь. А я все же пойду к директору, — грубияна надо наказать…
* * *
В кабинете химии девятиклассники окружили Балашова.
— Зачем ты затеял? — осуждающе говорил Виктор Долгополов, немного сутулый юноша с широким носом на добродушном лице, — разве не знаешь Вадима Николаевича?
— Твой Кол Николаевич оскорбил меня, — круто повернулся к Виктору Балашов, и желваки снова забегали у него под смуглой кожей на скулах.
— Пора, Борис, научиться сдерживать себя! — придвинулся к Балашову Сема Янович. Несмотря на то, что он немного приподнимался на носках, его курчавая голова едва доходила Борису до плеча. — Нечего сказать, хорошее начало знакомства с нашим классным руководителем, — сокрушенно воскликнул он и поддернул галстук на тонкой шее.
У Семы уже два года все ломался голос: он то басил, та говорил фальцетом и сейчас свои осуждающие слова произнес баском.
— Если у тебя расшатались нервочки, — обратись к кретинологу! — съязвил стройный, с воинственно взвихренными прядками светлых волос Костя Рамков.
— Неостроумно! — бросил Балашов.
— Как сумел!
— Предстали во всей красе! — сорвался на фальцет Сема.
— Ну, хватит агитнотаций! — повысил голос Балашов и, круто повернувшись, стремительно вышел.
Раздался звонок. Фома Никитич, стоя на верхней площадке лестницы, энергично потрясал звонком. Невдалеке Плотников отплясывал какой-то дикий танец. Фома Никитич сердито мотал головой и глазами делал ему знаки идти в класс.
В дверях учительской показался завуч Яков Яковлевич, и танцор мгновенно исчез, будто испарился.
* * *
В тот же день Сергей Иванович решил поговорить с классом. Он попросил девятиклассников остаться после уроков и пришел к ним. Его встретили настороженно-любопытствующими взглядами, в них можно было прочитать и неловкость за то, что они предстали на уроке химии в таком невыгодном свете перед новым руководителем, и молчаливый вопрос: неужели он начнет знакомство с нотации и выговора?
Кремлев представился и очень кратко изложил свои требования, раскрыл планы на будущее.
— Как старшеклассники вы должны стать авангардом общешкольного коллектива. Мне думается, — для этого есть все возможности.
Прямо перед Кремлевым сидел юноша в коричневой лыжной куртке и смотрел доверчивыми, восторженными глазами. Он всем телом подался вперед, и выражение тонкого, одухотворенного лица его было таким, какое оно бывает у человека, готового сейчас же, сию же минуту ринуться вперед в бой, на трудности, на любое нелегкое дело. Позже Сергей Иванович узнал, что это был Костя Рамков.
Борис Балашов слушал, скучая и всем видом своим показывая, что на этом собрании он не по доброй воле и, дай ему право, он немедленно покинет его.
И вдруг тихо, но внятно, так что все в классе услышали, Балашов сказал:
— Регламент!..
Кремлев, — никак не ожидавший такой бестактности, опешил, но тотчас понял: реплика рассчитана на то, чтобы привести его в яростное негодование и показать классу: «Вот, пожалуйста, — перспективка, и планы на будущее, любуйтесь и благодарите!»
Усилием воли Кремлев сдержал себя, он уже научился искусству «экономить гнев».
Изучающим, внимательным взглядом посмотрел на Балашова. Это был хорошо известный каждому учителю, хотя и не очень распространенный, тип ученика-критикана, с неимоверным, ничем не оправданным самомнением. Такие, часто будучи и не глупыми, и начитанными, тем не менее превращаются в самонадеянных и, по существу, недалеких эгоистов, если не взяться за них вовремя и решительно, если не дать разумный выход их способностям.
Пауза, во время которой класс застыл, длилась мучительно долго, но совершенно неожиданно для всех учитель рассмеялся. Так смеются над глупостью, поглядывая на окружающих, призывая их в свидетели нелепого поступка. Смех не был наигранным, не относился непосредственно к Балашову, но уничтожал его.
Борис напряженно выпрямился.
— Однако, вы знаете цену времени, — иронически заметил Сергей Иванович, — но боюсь, что с элементарной воспитанностью у вас не все в порядке…
Больше Кремлев не смотрел в сторону Бориса, словно того и не было, спокойно закончил беседу и отпустил класс.
* * *
…Балашов шел домой с Виктором Долгополовым. Несколько минут они шагали молча. Виктор, сутулясь больше обычного, подыскивал нужную фразу, Балашов нервно посвистывал.
— Извини, Борис, я не собираюсь тебя поучать, — начал, наконец, деликатно Виктор, — но Анну Васильевну ты тогда обидел ни за что ни про что, да и перед Сергеем Иванович чем выглядел сегодня нелепо. Класс очень недоволен.
Виктора мучило, что он не высказал Борису своего осуждения сразу же, когда Балашов оскорбил Рудину. Долгополов сам мечтал стать учителем, очень уважал Анну Васильевну и переживал за нее. Глупая реплика Бориса во время беседы Кремлева вызвала у Виктора твердое решение немедленно поговорить с товарищем.
— Класс, класс! — сверкнул белками Балашов и с силой ударил кулаком по деревянному забору, мимо которого они сейчас проходили. Борис был недоволен собой. Недоволен всем, что сегодня произошло, особенно же тем, что этот новый историк осмеял его, как мальчишку, как глупца! Своей реплике на уроке литературы Борис не придавал ровно никакого значения, считал, что это у него тогда вырвалось случайно — никакой особой неприязни к Анне Васильевне он не питал, — и пора забыть о таком пустяке. Гораздо важнее было его сегодняшнее поражение.
— Атака захлебнулась, — мрачно сказал он.
— Какая атака? — не понимая, спросил Долгополов.
— Э, да что там! — с досадой произнес Борис и умолк.
ГЛАВА VI
В пятницу, между третьим и пятым уроками, которые давал Борис Петрович, у него было «окно» — свободные сорок пять минут.
Отнеся журнал в учительскую, Волин неторопливо направился в свой кабинет. Пятницу он считал самым тяжелым днем: дети уже уставали, и происшествий больше всего было именно в пятницу.
У двери Волина поджидал молодой мужчина в кожаном пальто.
— Разрешите, Борис Петрович, к вам на несколько минут?
Неулыбчивое лицо мужчины со смоляными бровями, темными, глубоко сидящими глазами, отчего казалось, что они немного косят, было очень знакомо Волину.
— Пожалуйста, — открыв английским ключом дверь, пропустил вперед посетителя Борис Петрович.
Только когда они сели друг против друга, отделенные столом, Борис Петрович вспомнил: «Да это же Андрюша Рубцов, отец Петра Рубцова! Кажется, он мастером работает…»
— Я, Борис Петрович, в свое время учился в этой школе… у вас, а теперь пришел за советом, — смущенно проговорил Рубцов.
— Я узнал вас, Андрей, — приветливо сказал Волин. — Слушаю.
Рубцов помедлил, тонкими нервными пальцами перебирал спички в коробке. Ему очень хотелось курить, но он считал неудобным делать это в присутствии своего учителя.
— Я вот с чем… — наконец, начал он, — Петр мой — неплохой мальчик… Это и Серафима Михайловна говорит… — Борис Петрович, соглашаясь, кивнул головой. — … Но упрям и считает, что должен во всем «побеждать» мать. Так и говорит: «Волевые люди всех должны побеждать». Вчера я, рассерженный его непослушанием и тем, что он нагрубил матери, объявил: «Весь день ты будешь только на хлебе и воде». Может быть, Борис Петрович, это и старомодное наказание, — извиняющимся тоном сказал Рубцов и виновато посмотрел на директора, — но я решился на него. Петр мой смолчал, а я ушел на завод. Во второй половине дня Петр исчез из дома. Нет его час, два, три… Жена нервничает… Нет в шесть вечера, в семь, восемь, девять. Она уже готова в морг звонить, вдруг — является! Ни тени виновности, походка независимая, на мать не глядит. Меня, к сожалению, дома не было. Жена только увидела наше чадо живым и здоровым, сердце у нее оттаяло, — как же, ребенок с голоду может умереть! — усадила его за стол, накормила самыми вкусными блюдами. А он, негодник, принял это как должное, все с аппетитом съел, вышел в соседнюю комнату и звонит по телефону другу: «Витя, ты? — слышит жена. — Мои сдаются!»
Борис Петрович от неожиданности расхохотался.
— Так и сказал — «Мои сдаются»?
— Так и сказал, — угрюмо подтвердил отец.
— Закуривайте, Андрюша, — протянул портсигар Борис Петрович. Рубцов, взяв папиросу, размял ее и закурил.
— А почему вы ко мне без супруги пришли? Капитулирует-то она. Мне кажется, с нее и начинать следует…
— Да она говорит: стыдно идти срамиться… Конечно, неверно… Позвольте, Борис Петрович, нам завтра вместе зайти…
— Обязательно! Я приглашу Серафиму Михайловну; с пионервожатой поговорю, мы таким походом двинемся на вашего победителя. — не устоит!
Отец улыбнулся.
«Не признаюсь я тебе, Андрюша, ни за что не признаюсь, что труднее всего нам давать ответы — как воспитывать дома, как прибрать к рукам вот этакого мальца!» — подумал Волин, прощаясь с отцом Петра.
— Так приходите вдвоем, — повторил он, — вместе что-нибудь придумаем.
* * *
Едва закрылась дверь за Рубцовым, как, покусывая дужку очков, торопливо вошел заведующий учебной частью Яков Яковлевич.
— Разрешите, Борис Петрович, доложить, как прошли диктанты в шестых классах… О проверке знаний по географии расскажу немного позже.
Яков Яковлевич был подвижен, сухощав, носил очки в тонкой оправе и часто сдвигал их на лоб.
Малыши убеждены были, что он в своих очках видит даже то, что происходит у него за спиной, и проницательность завуча объясняли именно этим.
Какой директор учебного заведения не чувствует себя спокойнее, имея рядом с собой всевидящего и всезнающего помощника — завуча? И если справедливо утверждение, что «учителем надо родиться», то еще справедливее утверждать, что родиться надо и завучем, чтобы не потеряться в кругозоре те неотложных школьных дел, уметь разговаривать на тысячи ладов с учениками, учителями, родителями; сохранять в памяти бесчисленное множество имен — и при всем этом осуществлять тщательно продуманную воспитательную систему.
Именно таким помощником Бориса Петровича — главным инженером школы и ее инспектором по качеству — был Яков Яковлевич.
Закончив рассказ о делах учебных, Яков Яковлевич, юмористически поглядев на директора поверх очков, сказал:
— Ну-с, а теперь оперативная сводка за полдня!
Борис Петрович знал эту манеру своего помощника после самых серьезных сообщений рассказывать и о различных происшествиях и наклонил голову в знак того, что готов слушать.
— В седьмом «Б» подрались Афанасьев и Брагин. Случай экстраординарный и усложняется тем, что Игорь Афанасьев дрался «принципиально», защищая честь своего отца.
— Вот как?
— Да… а защищать такого отца, правду сказать, трудновато.
— Трудновато, — соглашается и Волин, хмуря брови.
Заводского диспетчера Леонида Михайловича Афанасьева Волин знал еще до войны. Был это человек скромный, работящий, довольно часто приходил тогда в школу узнавать, как учится Игорь. А сейчас, что-то неладное происходит с ним. Появилась вторая жена, приехал с ней из армии и мечется потерянным и жалким меж двух семей…
«Надо в этой „принципиальной“ драке разобраться», — думает Борис Петрович.
— А в девятом классе, — продолжает Яков Яковлевич, — развалился ветхий стул и наши великовозрастные детки устроили в коридоре погребальную процессию с бренными останками стула…
«Они считают себя взрослыми, — подумал Борис Петрович, — готовы бороться против посягательства на „независимость“, а допускают вот такие непроходимо-мальчишеские поступки». Он вспомнил, с каким упорным пренебрежением относились нынешние десятиклассники к дневнику, считая его принадлежностью школярства, и каких усилий стоило разубедить их в этом.
Яков Яковлевич помолчал, перебирая в памяти — все ли сообщил?
— Да, — улыбнулся он, — помните Леву Слаушкина из второго «А»?
Завуч младших классов заболел, и Якову Яковлевичу приходилось, как он говорил, «разрываться на сто частей», занимаясь и малышами.
— Это тот малец, что дома истериками вымогает у матеря деньги? — спросил Борис Петрович, и перед ним встало лицо мальчика с льняными волосами и такими длинными ресницами, что, казалось, они приводят в движение воздух.
— Он самый. Так вот решил сей Лев испробовать свое уже испытанное оружие и в школе. Его ко мне прислала учительница, а он брык на пол и верещит, хоть уши затыкай. Что прикажете делать? Счастье мое — вспомнил я совет своего отца-учителя.
— Какой? — полюбопытствовал Борис Петрович и улыбнулся краешком губ, ясно представив себе девятилетнего мальчонку на полу и стоящего над ним Якова Яковлевича.
— Да подошел к нему и эдак спокойненько потребовал: «Открой глаза!»
— Открыл?
— Открыл от неожиданности. А раз он на мир посмотрел — истерику как рукой снимает.
Они посмеялись.
Рассказ Якова Яковлевича был обычным перечнем школьных происшествий, да и могло ли их не быть там, где собрались тысяча триста мальчишек? Происшествия эти не были страшны и вовсе не говорили о болезни коллектива. Борис Петрович прекрасно понимал: это естественный ход школьной жизни. Он тут же решил, что секретарю комитета надо посоветовать сегодня разобраться в «принципах» драчуна Афанасьева, да и ему самому, директору, следует уяснить, в чем там дело. Волин знал, что до конца дня будут и еще приключения, и только неисправимым идеалистам школьная жизнь представляется, как спокойная гладь розовой водицы. В действительности это было течение полноводной, стремительной реки, порой выходящей из русла, постоянно сменяющей свои волны. Узнав ее нрав, никогда с ней не расстанешься. Ее прелесть в разнообразии характеров, блеске глаз, тончайших оттенках интонаций, легком повороте головы непоседы, в бесчисленном множестве отдельно почти неуловимых усилий воспитателей.
— Борис Петрович, с Балашовым вы сегодня будете разговаривать? — прервал его размышления Яков Яковлевич.
— Да, после уроков.
* * *
Балашов вошел в кабинет директора с наигранно-независимым видом. Внутренне Борис подготовил себя к неприятной, но вполне терпимой нотации и решил держаться безразлично-вежливо, однако, так, чтобы Волин почувствовал: ничего особенного он, Балашов, не сделал и ни в чем не раскаивается. Это будет состязание в выдержке и вежливости, но каждый останется на своих позициях.
Борис уверен был, что разговор пойдет о происшествии на уроке химии, и так как считал себя без вины оскорбленным, то готов был защищаться до последнего.
Директор, всегда спокойный, на этот раз при появлении Балашова встал и, не отвечая на его корректное «Здравствуйте», подойдя к нему вплотную, слегка побледнев, сказал с нескрываемым отвращением:
— Гадость, гадость, ну какая же это гадость!..
Балашов с недоумением посмотрел на директора.
— Оскорбить молодую учительницу-комсомолку, которая отдает школе столько сил! Как можно после этого относиться к вам? Чего вы заслуживаете? Вы сами не уважаете себя как человека… И я не могу вас уважать… Идите!
Так вот что вызвало гнев Бориса Петровича! Балашов никогда не мог предположить, что директор, отбросив присущую ему сдержанность, целиком отдастся чувству возмущения. Это было по-человечески очень понятно, и Борис почувствовал вдруг, что он действительно тогда, на уроке литературы, вел себя мерзко. До сих пор он как-то не думал об этом, но сейчас его грубость, несправедливость так ясно предстали перед ним, что он буквально на глазах у Волина увял, и от его щегольства и позерства не осталось и следа.
— Борис Петрович, — начал виновато юноша, но директор остановил его властным жестом.
— Я с вами не хочу больше разговаривать, — отчеканил он, — вы свободны, — и, сев за стол, углубился в свои дела.
Смеркалось, когда Борис Петрович вышел из кабинета на небольшой балкон. Только узкая желтоватая полоса на горизонте отделяла землю от темносиреневого вечернего неба. Легкий ветерок доносил осенний запах реки, неясные шумы далекой набережной.
Внизу по асфальту промчался мотоцикл, и звуки мотора долго еще дрожали в воздухе, пока снова не наступила тишина, только где-то на заводском дворе раздавался мелодичный звон, словно кто-то ударял о рельс.
«Борисом надо серьезно заняться, — с тревогой подумал директор о Балашове, — и без помощи комсомола мы здесь не обойдемся…»
Будто по мановению чьей-то руки, в городе зажглись огни.
— Ого, сколько их! — с гордостью окинул взором развернувшуюся панораму Борис Петрович.
Давно ли электростанция стояла полуразрушенной и районы получали ток по очереди, а сейчас море веселых огней заливало город, уходило вдаль, к изгибу реки.
За ним, за этим изгибом, виднелась плотная стена леса. «Через недельку — туда», — с радостью подумал Волин и глубоко вдохнул свежий воздух.
Осенью у Бориса Петровича наступали «охотничьи запои». В ожидании их Волин несколько дней летнего отпуска переносил на осень.
Накануне такого охотничьего выхода, в пятницу, он звонил в районо: «Завтра у меня уроков нет и в школе меня не будет».
В районе уже знали эту слабость Волина и относились к ней терпимо: не может же быть человек без сучка, без задоринки.
После охоты Борис Петрович возвращался в школу помолодевшим и работал с таким напряжением, так увлеченно, будто сбрасывал с плеч добрый десяток лет.
* * *
Давно угомонилась школа, и потухли огни в ее классах, но в окнах кабинетов директора и завуча все еще горит свет.
Яков Яковлевич ворожит за столом над листом расписания. Заболели два учителя, их надо заменить, и завуч бесконечно передвигает полоски бумаги с написанными на них фамилиями учителей — решает, кого призвать на помощь вместо выбывших из строя.
«Сергея Ивановича на пятый урок ставить нельзя, — размышляет Яков Яковлевич, подперев подбородок карандашом, — у него в этот день семинар докладчиков, а вот Анну Васильевну можно попросить… Хотя позвольте, позвольте, у вас ведь, сударыня, свои уроки в девятом классе? Вот уравненьице, скажу я вам!»
Расписание, расписание! Только завуч знает, как много хлопот приносит оно, как нелегко составить его так, чтобы и не отнести на последние часы трудные предметы, и не дробить день учителя, и не перегрузить учащихся.
Ослепительно яркий свет большой лампы падает на исчерканный лист бумаги перед Яковом Яковлевичем, на его неровный пробор, заливает всю комнату.
Сейчас здесь тихо. Только прирученный Фомой Никитичем кот, — рыжий, с царапинами на разбойничьей морде, — блаженно мурлычет, привалившись к валику широкой кушетки.
Тихо. А сколько народа перебывало в этой комнате за день!
Яков Яковлевич утомленно потер лоб. «Не забыть завтра проверить домашние тетради седьмого „Б“… Пора им переходить к более сложным задачам… Потом… Что потом? Ах, да, — пойти на урок Корсунова… Увлекается проверкой заданий, а на объяснение оставляет маловато времени».
Невнятно зазвонил телефон. Яков Яковлевич поднял трубку.
— Засиделся… Да, я кончаю… Скоро приду домой, — и положил трубку на место.
«Как помочь Игорю Афанасьеву? В семье у них дело идет к разрыву между отцом и матерью. Игорь перестал учиться. Вот драку затеял из-за „драгоценного“ своего папаши. Я бы таких, что романами своими рушат семьи!..» — Яков Яковлевич сердито переставил с места на место пресс-папье, с сердцем бросил на стол линейку.
Но мысль увела его дальше, и вдруг, перед глазами возникло потное, измазанное чернилами лицо Толи Плотникова.
«Беда мне с Тобою, — мысленно говорит ему Яков Яковлевич, — ну, зачем ты лазил на крышу? И чем открывал замок чердачной двери?»
«Железкой», — покорно признается Плотников, но в глазах его нет истинного покаяния.
Думы Якова Яковлевича текут неторопливо, но как-то отрывочно, — сказывается усталость.
«Шутка ли, тридцать два года на ниве просвещения, пора и на покой, — цветы разводить буду… пчелками займусь».
Он усмехается. Сам понимает — никуда не уйдет из школы, пока нужен ей, пока может давать свои уроки математики. Не прожить ему без привычного школьного шума, без плотниковых, без балашовых.
В комнату вошел Борис Петрович.
— Дорогой завуч, — говорит он мягко, — не пора ли домой?
— Сейчас, сейчас, вот только в восьмом «Б» заменю — и все.
Борис Петрович подходит к столу.
Завуч решительно сдвигает очки со лба на глаза и озабоченно бубнит:
— Восьмой «Б», восьмой «Б», кого в восьмой «Б»?
— А если Капитолину Игнатьевну? — советует Волин.
— Вполне резонно! — охотно соглашается Яков Яковлевич. — Придется вам, Капитолина Игнатьевна, порадеть для общества, — весело заключает он и встает. — Я готов!
— Тогда поехали домой.
Они вместе выходят в темный коридор, и Борис Петрович зажигает карманный фонарик.
— Тверже шаг, — говорит он, посмеиваясь, и берет под руку Якова Яковлевича.
— Будет тут твердый шаг, когда весь день взаперти, — добродушно бурчит завуч.
Во дворе школы тоже темень.
— Ночь-то, ночь какая! — восхищенно говорит Яков Яковлевич, запрокидывая голову и глядя на небо в редких звездах. — А воздух! Вы чувствуете, от леска-то потянуло? — хитровато спрашивает он.
— Шутки-шутками, Яков Яковлевич, а там физически, понимаете, прямо физически чувствуешь пушкинский стих. Помните:
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса…— М-м-да! — лукаво усмехается Яков Яковлевич.
Они минуют школьные ворота, идут сквером.
— Что-то нам надо с Корсуновым делать, — после некоторого молчания говорит Борис Петрович, — вчера приходит ко мне и требует «примерно наказать Балашова за хулиганство». Однако, судя по всему, поднял бурю в стакане воды сам наш милейший Вадим Николаевич.
— Что за человек! Ну что за человек! — удивленно восклицает Яков Яковлевич. — Я думаю на него лучше действовать всем миром, коллективно.
— Да, пожалуй, — соглашается Волин и ускоряет шаг, — надо домой поспеть, — сегодня по радио передают «Черевички». Этого, батенька, пропустить никак нельзя.
— А мы и не пропустим, — весело поддерживает Яков Яковлевич и тоже ускоряет шаг.
ГЛАВА VII
Во второй половине выходного дня Борис Петрович мастерил с шестилетним внуком Славиком небольшую оранжерею.
У Славика был такой же, как у деда, широкий нос, а коротко подстриженные волосы блестели, словно корка каштана.
Дочь Бориса Петровича, Валя, — артистка драматического театра, высокая стройная брюнетка, с яркими губами, — работала в соседней комнате над ролью.
— Папа, — приоткрыла она дверь на веранду, где, стоя на коленях, дед и внук молотком сбивали на полу планки, — прошу тебя, послушай, так ли я передаю чувство радости? Мама недовольна…
Волин поднялся, стряхнул стружки с колен, весело скомандовал Славику: — Перерыв! — и прошел в комнату Вали; там, сидя у окна, вышивала жена Волина — Екатерина Павловна, худая высокая женщина с тугим узлом пепельных волос на затылке. Наверно оттого, что Екатерина Павловна держалась прямо, выглядела она молодо.
Опустившись в шезлонг, Борис Петрович закурил и приготовился слушать дочь. Славик примостился на скамеечке у его ног.
На парадном раздался звонок. Славик побежал открывать. Через несколько секунд он возвратился и полушопотом сообщил:
— Деда, к тебе… такая, — он попытался объяснить какая, но, не найдя слов, выпалил:
— Беленькая…
— А-а, — догадался Борис Петрович, — это Анна Васильевна, — помните, я вам о ней рассказывал?
Он пошел навстречу гостье.
Анну Васильевну приняли как близкого человека, она почувствовала это с первой минуты. Жена Бориса Петровича стала показывать ей вышивки, Валя рассказывала о своих поисках:
— Понимаете, Анна Васильевна, — блестя жгучими глазами, говорила она, — готовлю роль Рашель в «Вассе Железновой» и хочется, очень хочется вызвать большую симпатию не только к Рашель-революционерке, но и к Рашель-матери. Мучаюсь, ищу, но чувствую — не получается еще!
В дом директора Анна шла робко, мучительно думала по дороге, как будет снова говорить о своих неудачах в девятом классе. Рассказывать об этом Серафиме Михайловне было проще. То, что она застала Волина не одного, — усилило неловкость, — как при всех признаться в своих сомнениях и провалах?
Борис Петрович, прекрасно понимая состояние девушки, старался отдалить главный разговор, дать ей осмотреться, успокоиться, и поэтому весело рассказывал о вещах малозначащих.
— Нет, Анна Васильевна, — поглаживая усы, говорил он, — только истинный рыболов может оценить прелесть голубоватых окуньков, знаете, с этакими зеленоватыми разводами…
Потом он посвятил гостью в план строительства оранжереи.
— Будут у нас свои цинерарии. А ну-ка, садовник, — обратился он к Славику и выжидающе прищурил глаза, — расскажи нам, что это за цветок такой?
— Лепестки фиолетовые… — начал было Славик, но в дверях показался белый, с темными пятнами, сеттер-лаверак, и мальчик закричал: — Рой, Ройка, иди сюда!
Только сейчас Анна Васильевна заметила в уголке, среди игрушек Славика, фотографию собаки: Рой был в тюбитейке и покорно держал в зубах трубку.
Сеттер, виляя хвостом, подошел к мальчику.
— Он у нас дрессированный, — сообщил Славик Анне Васильевне.
Ей было здесь очень хорошо и все нравилось: и яркая, беспокойная дочь Бориса Петровича, и его жена с горделивой осанкой и чуть глуховатым быстрым говорком, и непоседа-Славик, ласкающийся к ней, и картины маслом на стенах, — их писал Волин, — и мерный ход больших часов в углу комнаты, и вся обстановка уюта и взаимного уважения, парившая в семье, а больше всех нравился сам Борис Петрович, походивший в синей вельветовой блузе на художника.
Сначала Анна Васильевна удивлялась, почему Борис Петрович говорит о чем угодно, кроме «безобразного случая», — она приготовилась именно к этому разговору. Но вскоре поняла — директор щадит ее.
К обеду вышли муж Вали — майор авиации, рослый мужчина с веселыми глазами, мать Бориса Петровича, бодрая для своих лет старушка; рядом с Волиным сел его племянник, студент-путеец и за столом сразу стало многолюдно и шумно.
После обеда Волин шутливо сказал, обращаясь ко всем:
— А теперь мы с коллегой удаляемся на производственное совещание за круглым столом, — и, распахнув застекленную дверь на веранду, увитую пурпурными листьями дикого винограда, предложил Анне Васильевне пройти вперед.
Они вышли в сад, сели на скамейку возле небольшого, действительно круглого стола, вросшего в землю, словно гриб, единственной ножкой. Над столом широко раскинула поблекшую листву ветвистая слива. В проеме, между кронами деревьев, виднелся синий кусок неба, в нем, резвясь, кувыркались голуби, плыли облака, подбитые золотом солнца. Где-то далеко мужской голос, приглушенный расстоянием, пел о сердце, которому не хочется покоя. Прогрохотал по мосту курьерский поезд, и перестук колес, затихая, замер вдали. Осеннее солнце бросало какой-то особый вялый свет на красные крыши домов, на дальние поляны.
— Как хорошо! — воскликнула Рудина.
— Так хорошо, что любо! — мягко улыбнулся Борис Петрович.
Несколько минут они молчали, наслаждаясь тишиной осеннего дня, но Анна Васильевна чувствовала, как ее снова охватывает волнение в ожидании предстоящей беседы.
Волин откинулся на спинку скамейки, скрестил руки на груди, и, глядя перед собой, как бы всматриваясь во что-то, вспоминая, наконец, сказал негромко:
— Тридцать шесть лет я, Анна Васильевна, учительствую…
Рудина тихонько сидела на скамейке, положив тонкие пальцы на круглый стол, слепка склонив голову к плечу. Она знала — начался самый важный для нее разговор.
— Мне хочется рассказать вам о первых своих шагах…
Борис Петрович помолчал немного. Провел рукой по щекам, словно пробовал, гладки ли.
— После учительской семинарии приехал я в довольно большой провинциальный город. В гимназии, куда я попал, царили взаимное недоброжелательство и разобщенность. Всяк работал на свой риск, в одиночку… Не было и в помине дружного коллектива, товарищеской поддержки. Почти каждый считал себя самым умным и значительным. И правду скажу: мне, молодому учителю, приходилось тяжело. Физику, кроме меня, преподавал Осмоловский, прозванный гимназистами «хорьком». Такой худощавый мужчина лет за сорок, с острым носиком, белыми тонкими губами и бегающими глазами. Редкие волосы на голове, вжатой в плечи, он старательно зачесывал назад. Мне все казалось, что кожа щек прилипла у него к скулам, так она была натянута. Видите, как он мне в память врезался! — усмехнулся Борис Петрович. — Даже помню: пальцы у него были в бородавках. Ходил Осмоловский крадущейся походкой, говорил таким елейно-рассудительным голоском, будто беседовал сам с собой. В учительской прикидывался человеком мягким, а в классе тонко и ядовито восстанавливал гимназистов против всех остальных учителей. Невинно намекал на какой-нибудь недостаток «уважаемого коллеги», сетовал на его «неоправданную строгость», великодушно заявлял, что «не станет снижать балл по физике за погрешность в речи», рассказывал на уроках анекдоты, защищал «обиженных». Обо мне и моей требовательности Осмоловский отзывался в классах с напускным доброжелательством, с эдакой добродушной иронией: «Все мы в молодости характерец проявляли. Bona fide»[1].
Он любил приводить латинские цитаты, нагромождать мудреные слова, суесловить, пряча за всем этим свое желание прощупать собеседника, найти его уязвимое место. К урокам Осмоловский готовился на уроках же. Заходил в класс, садился и минут десять-пятнадцать молча перелистывал учебник физики, не обращая внимания на шум. Затем начинал объяснять только что прочитанное…
…А был еще и такой, — неторопливо продолжал Борис Петрович, — математик Авдей Авдеевич, лысый, толстый, с двойным подбородком, на редкость трусливый человек. Он всего боялся: суда, ответственности, «дирэктора», как он произносил, возможности попасть впросак, «инспэктора», новых «требований». Любимой темой его разговоров были деньги. В учительской он только и говорил о них: о недополученном гривеннике, о том, как его обвесили и где недодали, об отложенных на лето «срэдствах», о скорой надбавке за «безупрэчную службу». Но никогда, поверите ли, никогда не слышал я от него ни слова о нашем труде. Признаком «дурного тона» считалось говорить в учительской во время отдыха о работе, которая воспринималась многими как обременительная служба. Сами посудите, Анна Васильевна, мог ли я, скажем, о чем-нибудь посоветоваться с Авдеем Авдеевичем, получить помощь, как у старшего товарища?
«А я-то неблагодарная», — виновато подумала Анна Васильевна. Она с теплотой вспомнила Серафиму Михайловну, по-матерински опекающую ее. Да и каждый из товарищей всегда готов был придти к ней на помощь. «Какое, счастье, что я начала свой путь сейчас».
Вчера она с Серафимой Михайловной возвращалась домой, и старая учительница сказала ей: «К каждому ребенку надо относиться так, будто он твой — единственный, тобой рожденный и воспитанный… Возмутилась ты чем-то, все бушует в тебе, а ты всмотрись в лицо пострела… Да ведь это твой собственный сын! И вихорочек этот — твой, и конопатинки твои, и ссадинка на лбу… И тогда станет он тебе сразу очень близким. Плотников ли, Пронин ли, всякий!»
— Конечно, было и не только мрачное, — продолжал Борис Петрович, задумчиво постукивая пальцами по столу. — Встречались и светлые головы, и смелые умы, и любящие свое дело учителя, но общая атмосфера, Анна Васильевна, понимаете, ведущий тон, оказывался таким, что молодому учителю работать было чрезвычайно трудно. Кто поддержит? Плыви как умеешь… В советской же школе, даже самые хорошие учителя, если они одиночки, — обречены на провал… Успех школы — в дружбе учителей, в том, чтобы на каждом шагу опираться на комсомольцев, пионеров. Коллективом воспитывать коллектив, терпеливо, очень терпеливо… Надо, чтобы коллектив этот дышал одной грудью… Вот оно что, Анна Васильевна!
Лучи солнца пробились сквозь листву и мягко легли на дорожку, посыпанную гравием, подобрались к столу, накрыли его узорной скатертью из бликов.
— Завтра у меня интереснейший урок, — неожиданно сказал Волин, но, видно, была какая-то мысленная связь между только что рассказанным и этим сообщением. — И верите ли, немного волнуюсь… Нет, это даже не то слово. Какое-то приподнятое настроение. Такое бывает в ожидании радости. Сегодня до позднего вечера буду сидеть, готовиться к уроку, создавать еще одну маленькую главку поэмы формирования нового человека, потому что… потому, что каждый урок должен быть произведением искусства!
Борис Петрович пытливо посмотрел на учительницу, как бы проверяя; так ли думает и она?
Голос его окреп.
— Мы не терпим серых книг, недовольно отворачиваемся от посредственных картин, так можем ли, вправе ли мириться с посредственными уроками? Нет, тысячу раз нет! Вот вы вошли о класс, — Борис Петрович смотрел прямо перед собой, наверно, видел этот класс. — Переступая его порог, вы забываете о личных неприятностях, болезнях и горестях, это отходит куда-то прочь… прочь… Здесь только они — ваши дети… Внимательным взглядом обвели вы их ряды, задали первый вопрос. Это вы взяли первый аккорд… И всем существом своим, каким-то особым чутьем, присущим учителю, безошибочно почувствовали: какое сегодня звучание у коллектива, как он настроен? Вы перебираете клавиши, — Волин поднял большие руки над столом, и Анне Васильевне на секунду показалось, что он действительно начнет сейчас играть, — одного мальчика вызвали к доске, от другого требуете показать что-то в физическом приборе, третьему разрешаете дополнить с места, задать вопрос… Когда надо — вы приглушаете тона — прищуром глаз, поворотом головы, жестом; надо — и желанные для вас чувства, как музыкальные волны, идут от класса к вам навстречу. И мелодия бодрого, я не боюсь сказать, радостного обучения подчиняет себе всех, захватывает и вас. Вы творите!
Из открытого окна квартиры Волиных донеслись звуки рояля, к клавишам прикасались сильные, чуткие руки. И звуки музыки Чайковского, которую узнаешь всегда, полились серебристым потоком по саду, залили его, казалось, перебирали трепещущие листья деревьев.
— Валюша играет, — с гордостью сказал Борис Петрович и стал чуть заметно покачиваться в такт музыке.
…Анна Васильевна шла домой в приподнятом настроении. Она была переполнена мыслями, вызванными разговором в саду. Думала теперь уже беззлобно о Борисе Балашове: «Невоспитанный мальчишка… Но мы сделаем тебя хорошим человеком. Я была обидчивой барышней, а не серьезным воспитателем… Работать, работать, не покладая рук, не унывая!
Есть величайшее наслаждение в том, чтобы побороть плохое, проверить свои силы на самом трудном, искать именно это трудное. Вот и труден мой класс, а люблю его. Мы любим ведь не только потому, что хороший, а и потому, что хотим сделать хорошим… Мать не думает о сыне, достоин ли он ее чувств. И часто, именно к самому „неудачному“ обращены ее заботы и тревоги…»
Немногим более года работала Анна Васильевна в школе, а уже срослась с ней. Все было дорого здесь: и покрытый зеленым сукном стол в учительской, а на нем бюст Горького с надписью «Любимой школе от выпускников», и большой глобус на окне у Якова Яковлевича, и встречи с товарищами, родителями. А главное — дети.
Это был родной дом, семья, где каждый день обещал новую радость.
Анна Васильевна представила, как завтра непринужденно войдет в девятый класс и с увлечением начнет урок. Эта картина так ясно возникла перед нею, была ей так приятна, что она даже тихонько запела любимую с детства песенку о весёлом ветре и в такт ритму пошла быстрее.
* * *
Проводив Анну Васильевну, Волин, еще немного побыл с внуком, уложил его в кровать, рассказал сказку и, наконец, ушел к себе в кабинет.
Там, подсев к письменному столу, он зажег настольную лампу и открыл тетрадь. Надо было продумать логику завтрашнего урока, ту цепь мыслей, что приучает детей к самостоятельному выводу.
Эта работа приносила Волину особенно большое удовольствие. Закончив ее, Борис Петрович решил написать письмо в редакцию местной газеты. На днях в ней была помещена статья, в которой некий добрый дядя, из числа любителей благотворительности за чужой счет, рассказывал душещипательную историю пятнадцатилетнего Эдика Ч. из соседней школы. Эдик, «из-за отсутствия индивидуального подхода», имел, оказывается, восемь двоек, потому что классный руководитель (тут уж следовала полная фамилия, — пощады нет!), «проявил бездушие и формализм».
Борис Петрович знал этого классного руководителя как добросовестного человека, знал случайно и лодыря Эдика Чистякова — и ясно представлял себе его победоносный вид при чтении статьи, шельмующей учителя. Борис Петрович мог предугадать ее последствия: директора шестнадцатой школы начнут осаждать те мамы, что слепо влюблены в своих детей; они будут требовать пересмотра оценок; сподвижники Эдика постараются распространить статью по всем школам города, а сам Эдик, чувствуя такую мощную поддержку, развернется к десятому классу во всю красу.
Борис Петрович откинул голову на спинку кресла, прикрыл глаза. «Индивидуальный подход! — этим понятием начинают спекулировать, извращать, представляя его как требование возиться с отдельной личностью. Да, к детям надо проявлять чуткость, знать их интересы, внутренний мир. Да, я за индивидуальный подход, но это не значит, что во имя его я к Ване буду предъявлять одни требования, а к Эдику — совершенно иные, в своем принципе нарушающие интересы коллектива…»
Часы в столовой размеренно пробили одиннадцать. Борис Петрович подошел к окну, открыл его. Помигивали звезды. Временами по верхушкам деревьев пробегал осенний ветер, и тогда, казалось, сад ворочается, готовясь ко сну.
«Наша педагогика — это не педагогика уговаривания и ухаживания за Эдиком Ч. Не упуская его из поля зрения, надо пуще всего заботиться о коллективе, в котором он находится. Потому что только в коллективе расцветает личность».
Борис Петрович снова подсел к столу. Он еще не написал ни строчки, но знал, как только продумает все, уяснит для себя, — слова польются легко и свободно.
«Вы не думайте, что я — противник критики учителя и пекусь о чести мундира, — мысленно продолжал он спор с кем-то, — нет, нет, я за самую нелицеприятную критику его на педсовете, на партийном собрании, в кругу взрослых… Но так же, как в армии старший начальник не сделает замечания младшему в присутствии подчиненных, так нельзя допускать и статейки, подобные вашей, и непочтительные разговоры в семье, в присутствии детей, об их учителях — это нам дорого потом обходится».
Он стал писать: «Порой бывает в семье так: „добрый“ папа, на все дающий разрешение сыну, которого он видит несколько часов в неделю, и „вредная“ мама, не позволяющая ничего лишнего. Легко быть добрым, не обременяя себя».
Через полчаса письмо было готово.
На веранде послышались шаги — возвратился муж Вали.
Борис Петрович вспомнил Анну Васильевну, как она тихонько, словно притаившись, сидела несколько часов назад в саду и слушала его. Было много подкупающего в синеве ее глаз, золотистом ореоле белокурых волос, общем впечатлении юности, безыскусственности. Борис Петрович подумал: «Она смело преодолевает робость, присущую неопытным учительницам в начале их пути, в ней есть внутреннее бесстрашие, та благородная искорка творчества, то упорство, серьезность, что принесут, в конце концов, успех. Хорошо, что Анна Васильевна попала в нашу школьную семью» Он встал, подошел к книжному шкафу.
Приоткрыла дверь жена.
— Боренька, ужинать, — позвала она.
— Сейчас, сейчас. — Борис Петрович снял с полки и положил на столик у кровати книгу Флобера в подлиннике.
— Папа, мы ждем, — раздался голос Вали.
Он вышел в столовую.
ГЛАВА VIII
Почти в каждой школе есть свой «трудный класс», о котором больше всего говорят в учительской, на комитете и в учкоме.
От случайного ли подбора, оттого ли, что стал этот класс притчей во языцех и увлекся своей ролью, но о нем только и слышно: «Ну и класс!», «В небезызвестном классе…»
Такой «знаменитостью» школы в прошлом году был шестой «Б».
По успеваемости он шел впереди всех, — преподаватели только диву давались, так легко там усваивали новое, — но зато если в шестом «Б» исчезала тряпка для доски — ищи ее на лампочке у потолка, если сорван урок ботаники — то это произошло обязательно в шестом «Б».
За год работы с этим классом Рудиной удалось сплотить его. Стала меркнуть его дурная слава, все реже говорили, теперь уже о 7 «Б» на педсоветах, и Анна Васильевна могла сейчас главным предметом своих забот сделать таких, казалось бы, благополучных учеников, как Алеша Пронин.
Он беспокоил ее потому, что мог учиться лучше, чем учился, но дома, предоставленный самому себе, уроков почти не готовил и перебивался с тройки на четверку.
Мать Алеши умерла, тетка, на попечении которой находился мальчик, была слабовольна, а отец — главный инженер завода — дневник не подписывал, в школу не являлся и даже прислал Анне Васильевне записку в незаклеенном конверте: «Удивляюсь вашим претензиям. Я занят с утра до ночи большим государственным делом, а ваша обязанность — воспитывать моего сына. На меня не рассчитывайте и справляйтесь сами».
Анна Васильевна пошла в партийный комитет завода. Ее принял пожилой худощавый мужчина с высоким, изрезанным морщинами лбом.
— Мне нужен секретарь партбюро завода, — решительно заявила Анна Васильевна.
— Это я, — приветливо посмотрел на посетительницу секретарь и протянул руку — Васильев.
Она сразу понравилась секретарю. При внешней своей хрупкости, девушка, видно, была с характером.
Анна Васильевна, немного торопясь, начала возмущенно рассказывать о нерадивом отце:
— Вот прочтите, — протянула она записку Пронина.
— Это хорошо, что вы пришли к нам, — прочитав записку, сказал Васильев. — Мы поможем коммунисту Пронину понять свои родительские обязанности.
…Пронина он вызвал во время обеденного перерыва. Инженер вошел, торопливо пряча блокнот в карман. Пожав руку Пронина и предложив ему сесть, секретарь спросил с недоумением: — Что это вы, Степан Афанасьевич, сына своего забросили?
Он смотрел на Пронина внимательными, немного усталыми глазами, и Пронину стало неловко перед этим человеком, которого он очень уважал за прямоту и честность. «Сколько дел у него, а вот обо мне заботится», — подумал он.
— Без аркана не желаете в школу являться? — спросил Васильев. — Ко мне сегодня учительница вашего сына приходила… Нехорошо получается, Степан Афанасьевич.
— Приходить жаловаться у нее есть время? — возмущенно воскликнул инженер и взъерошил черные жесткие волосы. — А заняться воспитанием — подмогу просит! Я никого не прошу за меня новый цех пустить! Так пусть же они моего сына воспитывают!
«Они» — он подчеркнул голосом и посмотрел на Васильева в полной уверенности, что тот согласится с ним.
— Те-те-те, — удивленно протянул Васильев и сочувственно покачал головой, словно врач, увидевший опасную опухоль.
— Где у них индивидуальный подход? — воскликнул инженер, встал и прошелся по комнате. Шрам от осколка побагровел на его подбородке.
— Вот что, Степан Афанасьевич, вижу — путаница у вас в этом вопросе неимоверная, — неожиданно для инженера сказал Васильев. — Не знаю, откуда у вас появилась такая странная теория, что, мол, наше дело — строить, а «их» — детей воспитывать? У меня, сами знаете, трое мальчат, а я не собираюсь отстраняться от их воспитания. И вам не советую… Не по-партийному это. И с «индивидуальным подходом» у вас, Степан Афанасьевич, какое-то жонглерство получается. Я так понимаю: в том и состоит он, этот подход, что учительница пришла сюда, что она вам житья не даст, пока вы сыном не займетесь. Да и цех-то пускаете не вы один, если быть справедливым, а мы все… коллективно.
Он помолчал, раскурил трубку, потом, что-то решив, сказал:
— Я посоветуюсь в райкоме, может быть, мы на следующем открытом партсобрании обсудим вопрос об ответственности коммунистов за воспитание своих детей… И не обессудьте — придется мне рассказать о вашей точке зрения на сей счет… Не думаю, чтобы товарищи одобрили ее.
* * *
Через два дня после этого разговора в учительскую, хмурясь, вошел высокий статный мужчина с широким шрамом на подбородке.
— Могу я видеть Анну Васильевну? — вежливо спросил он у Якова Яковлевича, снимая синюю шляпу.
— Анна Васильевна, к вам, — окликнул Рудину завуч.
Достаточно было Анне Васильевне Взглянуть на черные вьющиеся над выпуклым лбом волосы, на крутой подбородок, чтобы безошибочно определите: «Отец Алеши».
У Пронина был немного недовольный и расстроенный вид. Он не знал, как следует держать себя: возмущаться ли тем, что эта девчонка опозорила, как он считал, его на заводе, или дипломатично и деликатно выслушать ее. На заводе Пронина называли «комсомольским папашей», потому что он охотно проводил беседы с молодежью, заботился о ней, а здесь его обвиняют чорт знает в чем!
Анна Васильевна сама разрешила его сомнения. Как только они поздоровались, познакомились и сели на диван, она сразу же перешла в атаку:
— Вы знаете об увлечении Алеши кроссвордами? — неожиданно спросила она.
— Н-нет… но что же тут такого? — недоуменно расширил глаза инженер. — Мой Алексей вполне благополучный ученик… Подумаешь, кроссворды! — фыркнул он.
— А то, что ваш вполне благополучный Алексей, окрыленный первым успехом (ему за удачно составленный кроссворд прислали из редакции гонорар шестьдесят рублей), теперь только тем и занимается на всех уроках, что составляет кроссворды, и вместо пятерок у него почти сплошные тройки. Вас это не беспокоит?
Учительница строго и внимательно посмотрела на Пронина.
— Да я и сам заметил, что он перестал зарабатывать… — пробормотал инженер.
— Где зарабатывать? — насторожилась Анна Васильевна.
— Это у нас игра такая, — немного смущаясь, объяснил Пронин. — За каждую пятерку я ему выдаю пять рублей, за четверку — три, а тройка идет бесплатно.
— Значит, перевели на сдельщину? — ахнула Рудина. — Но вы же приучаете его учиться ради денег и этим развращаете!
Отец молчал, чувствуя, что, действительно, что-то сделал не так в этом тонком деле, и в его больших черных глазах появилось выражение смущенности.
Яков Яковлевич, слышавший весь разговор, сказал как бы про себя: «Ну, и ну!» — и вышел, чтобы не стеснять Рудину.
— Вы своим сыном по-настоящему не интересуетесь! — вдруг решительно заключила Анна Васильевна и с неприязнью посмотрела на Пронина.
— Что же, я по-вашему, не хотел бы заняться сыном? — оскорбленно спросил инженер, — но некогда, понимаете, дохнуть не-ког-да… Завод! А вам государство поручило… — Но здесь он запнулся, вспомнив свой недавний разговор с секретарем.
— Воспитание — наше общее дело! — непримиримо сказала учительница. — Кроме завода, у вас есть еще долг вырастить сына коммунистом, от этого вас никто не освобождал. Вы же не знаете ни его товарищей, ни его жизни. Разве это можно оправдать?
Она посмотрела на него требовательно, и Пронину неловко было от этого взгляда.
— Я хочу, понимаете, очень хочу вместе с вами воспитывать Алексея!
Сначала, слушая Анну Васильевну, Пронин сердито думал: «Тебя самое еще воспитывать надо… Прибегаешь на завод, компрометируешь, поучаешь», — но в словах молодой учительницы было столько страстной убежденности, столько бескорыстного желания помочь его сыну и ему самому, что Пронин невольно и даже с некоторым удовольствием подумал: «Хорошо, что у Лешки такая!»
— Вы знаете, что он на прошлой неделе катал в такси девочку из пятого класса? — ошеломила его новым вопросом Анна Васильевна.
— В такси? Лешка? — вытаращил глаза отец и вдруг рассвирепел. — Ну, я ему покажу — такси!
Анна Васильевна успокоила отца, постаралась представить все в юмористическом свете. Они еще поговорили о том, что надо делать Пронину и его сестре. Уходя, инженер примиренно сказал:
— Придется хлопцем серьезно заняться… — И дружелюбно улыбнулся учительнице.
ГЛАВА IX
Переход в середине дня из младших классов в старшие требует от учителя большого искусства: приходится целиком переключать себя на «новую волну», изменять язык, приемы, в какой-то мере даже линию отношений.
Старшие не терпят начальственного тона, младшие с удовольствием подчиняются ему; старшие ценят тонкую шутку и не так взыскательны, как малыши, к внешности учителя.
Вот и сейчас, придя из шестого класса в девятый, Сергей Иванович сразу почувствовал эту разницу.
Здесь он мог почти приблизиться к лекции, приучать юношей к большей самостоятельности мысли, едва уловимым оттенком обращения, словно бы мимоходом подчеркнуть, что он имеет дело со взрослыми людьми и вправе ждать от них многого.
Во второй половине урока Сергей Иванович предложил классу составить план главы из книги — пора было научить и этому. Все с готовностью открыли учебники, достали тетради, только Балашов, лениво перелистывая книгу, пренебрежительно бросил:
— Детское занятие!
— Ну, еще бы, — добродушно усмехнулся Кремлев, — при вашем жизненном опыте и задатках…
На Балашова сильнее всего действовала ирония, он боялся выглядеть смешным, поэтому и сейчас он только скептически поморщился и нехотя придвинул к себе учебник.
Кремлев объяснил, что надо делать, и стал перелистывать классный журнал, изредка поглядывая, все ли работают?
В классе стояла та хорошая тишина, при которой слышны только поскрипывание перьев да шелест страниц.
Сергей Иванович встал и прошелся между партами.
После первого неудачного знакомства с девятиклассниками на уроке химии, после разговора с ними в тот же день, он стал напряженно искать — с чего же, собственно, начать работу классного руководителя?
Лет семь тому назад Сергей Иванович потерпел поражение у выпускников только потому, что пытался чрезмерно опекать восемнадцатилетних «деток», водить их за руку, то и дело обращался к их родителям, а не к их комсомольской чести. Ошибку нельзя было повторять.
В классе Кремлева, еще до его прихода, созрел коллектив, но какой-то замкнутый, не ощущавший себя частицей общешкольного, Не плохо учились, однако, не многие помогали соседям, дружили, но «по-семейному», взглядом не охватывая флангов всего школьного строя, и жили по принципу «главное, чтобы у нас все было в порядке». Надо было влить их в общий школьный поток, но это могло произойти не раньше, чем он изучит своих питомцев.
Сергей Иванович прочитал сочинения юношей по литературе, где они рассказывали о любимых героях и книгах, побывал на комсомольском собрании, в первый же воскресный день отправился с ними на выставку картин художников города.
«Завитки личности», о которых говорил великий педагог Макаренко, стали проступать все яснее и яснее, и теперь можно было подумать о месте каждого из них в общешкольном строю.
Но для того, чтобы девятый класс почувствовал ответственность за успех всей школы, надо было найти опору внутри класса.
— Сергей Иванович, можно вас на минутку? — шопотом обратился к учителю Костя Рамков, поднимая от учебника возбужденное лицо.
— Что у вас? — подходя к Косте, спросил Кремлев.
— Сергей Иванович, можно таким тезисом изложить эту мысль? — протягивая учителю тетрадь, спросил Рамков и выжидающе устремил на него огромные глаза.
— Вполне, — одобрил учитель, возвращая тетрадь.
Костя быстрым движением руки забросил рассыпающиеся светлые волосы назад и снова припал к тетради.
«Вот один из этой желанной опоры», — подумал Сергей Иванович.
Костя был вспыльчив, но добр, находился вечно в движении, был переполнен планами и легко поддавался хорошему влиянию. Казалось, Костя только ждал, когда развяжут его энергию, дадут ей развернуться по-настоящему. В перемены он кого-то мирил, на кого-то обрушивался, стремительно появлялся то на первом, то на третьем этаже, с готовностью брался за каждое поручение комитета или классного руководителя и вкладывал в эти дела весь жар свей поэтической души.
Стоило Косте появиться в актовом зале, как тотчас к нему слетались помощники и друзья.
— Костя, ты написал статью для газеты?
— Костя, в восьмом «Б» плохо сдают на ГТО…
Он был вратарем школьной команды «Стрела», гимнастом и стрелком.
Как председатель учкома Костя восполнял недостающие секретарю комитета комсомола Богатырькову быстроту и страстность действий, но сам нуждался в контроле. Он иногда терял чувство меры и забывал об ученических обязанностях, поэтому его следовало даже ограждать от некоторых общественных забот.
Впереди Кости сидел Сема Янович — маленький, с темными родинками на тонкой шее, с копной черных колец — волос.
Отвечая учителю, Сема так увлекался, что мог вдруг полезть пальцем в свой ботинок, будто затем, чтобы достать попавший туда камушек, и продолжать при этом говорить, как ни в чем не бывало. Если же класс при виде такого зрелища от удовольствия грохотал, он делал паузу, непонимающе поморгав, выжидал, пока товарищи успокоятся, и, мотнув головой, как бы говоря «ну, я пошел дальше», — продолжал отвечать.
В разбухшем Семином портфеле с плохо закрывающимся замком всегда было что-нибудь интересное и самое новое: свежий номер «Огонька», только что вышедший роман, объемистый труд ученых-астрономов.
У Семы — лучшего математика школы — множество подшефных из других классов, на него невозможно было глядеть без улыбки, когда он, стоя в стороне, с сияющей физиономией слушал, как кто-нибудь из его опекаемых обещал Якову Яковлевичу «улучшить успеваемость». При этом умные, добрые глаза Семы как бы говорили: «Уверяю вас, все получится именно так, как он обещает».
Сергей Иванович тихо подошел к нарте, за которой сидел Виктор Долгополов.
Как всегда безупречная чистота в тетради. Круглый, ясный почерк. Обстоятельность плана.
Виктор Долгополов был «ходячей энциклопедией» класса, его «ученым мужем».
Застенчивый, немного сутулый, с мягкими, округлыми чертами лица и золотистым пушком на девичьи-нежных щеках, он сам почти никогда не поднимал на уроках руку для ответа. Но если никто ответить не мог, и вызывали его, Долгополов вставал, проводил несколько раз чуткими пальцами по крышке парты и, словно смущаясь своей осведомленностью, негромким голосом давал краткий точный ответ.
В его характере, пожалуй, нехватало мужественности, инициативы, но он был кристально честен и охотно поддерживал любое хорошее дело.
Почувствовав за своей спиной учителя, Виктор поднял голову и посмотрел на Сергея Ивановича рассеянно-вопросительным взглядом.
— Работайте, работайте, — легко прикасаясь ладонью к его плечу, сказал учитель и прошел дальше.
В общем, опора была. И, конечно, для него, как для классного руководителя, сейчас важнее было не Балашова «завоевать», а противопоставить ему коллектив.
Приглядываясь в эти дни к Борису Балашову, Сергей Иванович обнаружил в нем тонко развитый художественный вкус, казалось бы находящийся в полном противоречии со склонностью Бориса к показному, к позерству. На людях он все время выдумывал себя и выдумка была много хуже оригинала. Он любил разыгрывать сноба, хотя, по существу, не был им; иронически улыбался, желая скрыть замешательство или недовольство собой; не обладая выдающимися способностями, умел делать вид, что они у него есть; имея хорошую память, не очень-то обременял свою персону работой и, с подчеркнутым спокойствием, получал тройки. Его страстью был спорт, особенно водный. Балашов мог не помнить исторических дат, потому что в нем не было пробуждено самолюбие ученика, но зато знал десятки цифр — рекордов и норм; мог не помнить имен героев изучаемых произведений, но знал имена и даже отчества чемпионов, эксчемпионов и претендентов в чемпионы. Да и сам был чемпионом города по плаванию стилем «кроль».
Кремлев не считал Балашова очень трудным учеником, но отдавал себе ясный отчет: Борисом придется заняться серьезно, а пока не следует растрачивать на него одного энергию, принадлежащую всему классу. Заблуждением Кремлева в прошлом было то, что, увлекаясь перевоспитанием одного-двух, он упускал из вида остальных.
— Готово, — первым громко сказал Балашов и, приподняв за один конец свою развернутую тетрадь, небрежно передвинул ее на край парты, словно бы приглашая учителя убедиться, с какой легкостью это пустяковое задание выполнено.
Достаточно было Сергею Ивановичу мельком пробежать написанное, чтобы увидеть, насколько недобросовестно отнесся Балашов к своей работе.
— Плохо, совсем плохо, — с огорчением сказал Сергей Иванович негромко, но все уже насторожились и прислушивались к этому разговору, — очень непоследовательно и потом, смотрите — ведь вы извратили здесь смысл… Главное-то и упустили!
Борис нахмурился и молчал. Он понял, что самоуверенность на этот раз подвела его, но, чувствуя на себе взгляды товарищей, придал лицу безразличное выражение.
— Плохая работа, — повторил учитель.
Сергей Иванович успел проверить еще несколько тетрадей, прочитал вслух наиболее удачные работы. После звонка он собрался уже выйти из класса, когда к нему подошел бледный Балашов, и, положив на стол какие-то исписанные листы, мстительно, но стараясь сохранить при этом безразличный тон, процедил сквозь зубы:
— В спектакле вашем я участвовать не буду!
Девятый и седьмой классы недавно начали готовить чеховскую пьесу «Свадьба», и у Балашова была роль Жигалова.
— Неволить не стану, — тоже, как можно спокойнее, ответил учитель, хотя внутри у него все клокотало.
К столу быстро подошел необычайно возбужденный Виктор Долгополов. До этого он упорно отказывался от какой бы то ни было роли в пьесе: «Да ну, что вы! Какой я артист? Никогда не играл. И не просите — не смогу». Услышав отказ Балашова, Виктор, словно бросаясь с вышки в воду, выкрикнул, с возмущением глядя на Бориса:
— Так ты к школе относишься! Я сыграю! — Он протянул руку к листам роли, лежавшим на столе.
— Желаю успеха, — прищурил глаза Балашов и невозмутимо удалился из класса.
* * *
В этот же день, после уроков, девятые и десятые классы вышли на работу в пришкольный сад. Разбившись на бригады, вскапывали землю под длинными рядами яблонь, рыли ямки для новых деревьев.
Дул холодный ветер, гнал по небу свинцовые тучи; где-то на соседнем дворе билось о крышу сорванное железо, но разгоряченные работой юноши ничего этого не замечали.
— Профессор, как вы себя чувствуете? — громко осведомился Костя у Виктора Долгополова. Он уже сбросил куртку, сбил на затылок фуражку и яростно нажимал подошвой на лопату.
Костя был бригадиром и считал своим долгом «поднимать рабочий дух», хотя в этом не было ровно никакой надобности.
— Tres bien[2] — с шутливой важностью ответил Виктор, рукавом стирая пот со лба, — а насколько успешно вгрызается в землю наш гроссмейстер?
Гроссмейстером звали в школе шахматиста Сему.
Янович только что выкопал ямку и засеменил дальше. Услышав вопрос Виктора, он остановился, крикнул ломким голосом;
— Это легче, чем заучивать французские слова!
Балашова здесь не было. Он притворился больным.
Сергей Иванович, видя, что его класс кончает работу, сказал, как о деле, само собой разумеющемся:
— Нам придется еще задержаться, выполнить норму заболевшего Балашова.
Ребята помялись. Все знали, что Балашов ничем не болен.
— Ну, что же, братцы, — первым сказал Костя, — попотеем за бедного болящего Боричку…
…На следующий день в перемену Борис подошел в зале к Сергею Ивановичу.
— Извините за беспокойство, — начал он. Кремлев смотрел выжидающе. — Я убежденный противник благотворительности и сегодня после уроков сам сделаю свою часть работы в саду, не потому, что вы меня перевоспитали, а просто мне это самому надо… чтобы не одолжаться.
Балашов спокойно выдержал взгляд учителя и пошел дальше.
«Ну, что же, — решил Сергей Иванович, — если можно сыграть на твоем самолюбии, мы сыграем на нем».
Кремлев направился в учительскую.
«Коллективу ты подчинишься, — продолжал он думать, — или будет худо тебе же самому. А для меня важнее всех „побед“ над тобой то, что в девятом классе „А“ появились первые ростки заботы обо всей школе, что Костя после уроков забегает в седьмой „Б“ посмотреть, убрали ли там, расспросить, как прошли уроки, а Виктор помогает Серафиме Михайловне. Это поважнее развенчания твоих фокусов…»
* * *
После первых безуспешных столкновений с классным руководителем Балашов решил избрать иную форму сопротивления — оскорбительное безразличие ко всему, что делалось в классе. Но Сергей Иванович и здесь разглядел за внешней, кажущейся пассивностью — страстное мальчишеское желание «не поддаться», не потерять своей «независимости», «перебороть».
Пришлось сначала отколоть от Балашова последних его «соратников», превратить Бориса в одиночку, чтобы впоследствии присоединить его к коллективу. Сергей Иванович был убежден, что «педагогические взрывы» вовсе не обязательны для обуздания строптивых. В характере может происходить просто количественное накопление, приводящее к новому качеству.
Кремлев делал вид, что Борис Балашов для него безразличен, и хотя не говорил об этом, но Борис должен был думать, и действительно думал: «Он считает меня пустым человеком, ждал большего и полагает, что ошибся».
А тут еще Сергею Ивановичу пришел на помощь случай — прислала письмо тетка Балашова. Она до этого заходила как-то в школу, знакомилась с Кремлевым, и у него уже тогда сложилось впечатление, что женщина эта искренне переживает неудачи в семье Балашовых.
«Борис держит себя дома, как барчук, — писала она. — Третирует мою сестру — „ты для меня не авторитет“, но снисходительно принимает ее неумеренные заботы. Отец Бориса занят работой и сыном не интересуется. Надо решительно вмешаться, иначе вырастим тунеядца и хама».
Действительно, следовало что-то предпринимать. Прочитать в классе это письмо? Нельзя. От Балашова все надолго отшатнутся, а это не входило в планы воспитателя. Да и болезненное самолюбие Бориса могло привести к полной отчужденности, при которой возврат в коллектив невозможен.
Но почему он, классный руководитель, должен так много думать об одном эгоисте? Не правильнее ли, как это сделал Борис Петрович, показать Балашову свое «неуважение», подчеркнуть, что превыше всего для него, воспитателя, интересы коллектива?
Вызвав Балашова, Кремлев протянул ему полученное письмо.
— Прочитайте, — с неприязнью сказал он.
Юноша пробежал письмо глазами и побагровел, но пытался скрыть смущение неестественной усмешкой:
— Тетушкины страхи…
«Значит, есть у тебя совесть», — подумал учитель.
— Классу я читать не стану — для этого я слишком дорожу его честью, — сказал он жестко и умышленно не вступил с Балашовым в объяснения, давая понять, что знает истинную цену ему, Балашову, и не хочет тратить слова попусту.
Борис ходил мрачный. На диспуте «О честности» он сидел в зале у окна, хмурый и раздраженный.
— Почему вы не выступаете? — вежливо поинтересовался в перерыве Сергей Иванович.
— Кому интересно мнение человека, недостойного уважения! — невольно с горечью вырвалось у юноши, и в этом восклицании Кремлев уловил оттенок надежды — может быть, с ним не согласятся? Сергей Иванович прекрасно видел, что Борис переживает и свой разговор с директором, и холодное отношение классного руководителя, и укоры товарищей, но надолго ли хватит ему этих переживаний, — это было неясно учителю.
Он не сразу ответил Балашову, молчанием как бы подтверждая его предположение, и, наконец, скупо сказал:
— Уважение надо заслужить.
Сергей Иванович не раз задавал себе вопрос: прав ли он, намеренно обостряя свои отношения с нарушителями порядка, даже тогда, когда эти нарушения незначительны? Не надо ли искать обходных путей, как это делают некоторые мастера сглаживания острых углов? Но, видно, такой уж был у него характер: он непримиримо, а подчас даже резко оценивал, казалось бы, «пустяковые отклонения», ничего не прощал и не боялся, прослыть «придирой». Да и называли его так редко, чувствуя в самой непримиримости — доброжелательность, понимая, что это строгость, а не злость, что его «внимание к мелочам» — не мелочность. Кремлев уверен был: все ученики; даже из младших классов, в подавляющем большинстве стоят за строгость, строгость им даже нравится, они сами заинтересованы в порядке. Отсюда и уважение к требовательным учителям и гордое восклицание: «У нас в школе не разбалуешься!»
Нет, Сергей Иванович не собирался поглаживать Бориса по головке и участливо спрашивать: «Почему ты так нервничаешь?»
Не собирался и не хотел!
ГЛАВА X
«Принципиальная драка», о которой несколько дней назад рассказывал Волину завуч, произошла между учениками седьмого класса «Б» — Левой Брагиным и Игорем Афанасьевым.
Проходя коридором второго этажа, Яков Яковлевич еще издали заметил кружащихся, как петухи, Брагина и Афанасьева.
— Ты не имел права! — сверкая глазами, тоненько кричал Афанасьев.
Хрупкий, в синей сатиновой рубашке под черным, аккуратным пиджаком, Игорь Афанасьев ростом был меньше Левы, слабее его, но что-то настолько его взбудоражило, что он, никогда не отличавшийся воинственностью, бесстрашно наступал сейчас на Брагина. Его бледное лицо выражало ярость, а короткие волосы торчали, как у ежа.
— Подумаешь, защитник нашелся, — немного растерянно бормотал Брагин, презрительной ухмылкой стараясь прикрыть свою неуверенность. Широкие мясистые губы его пренебрежительно кривились, но боязливое выражение лица от этого не менялось.
— Ты отца моего оскорблять, отца?! — задыхаясь, кричал Игорь.
И не успел завуч дойти до спорщиков — они его не видели, — как Афанасьев ладонью с треском шлепнул Брагина по губам.
Яков Яковлевич повел Игоря к себе.
— За что ты его? — спросил он Афанасьева, когда они вошли в кабинет.
Яков Яковлевич не обрушился с гневной речью на Игоря, не стал отчитывать его, а задал этот вопрос потому, что чутьем, каким-то совершенно необъяснимым чутьем человека, долго проработавшего с детьми, почувствовал, что надо задать именно такой вопрос.
Афанасьев, который ожидал упреков и решил молчать, вдруг уловил в голосе Якова Яковлевича нотки благожелательности, словно бы даже участия.
— Он еще и не так заслуживает! — невольно вырвалось у Игоря.
— Почему?
Игорь снова умолк, но во всей его фигуре, в бледном лице было столько решимости, так ясно боролось сознание своей правоты с сознанием вины, что завуч невольно проникся к нему уважением.
«Хороший ты, видно, человечек, — подумал Яков Яковлевич. — Ну, как можно бросать такого парня! Как можно? — мысленно, обратился он к отцу Игоря. — Слепой вы человек, сами себе готовите безрадостную старость!!!»
Кот из-за дивана с любопытством поглядывал то на Якова Яковлевича, то на Афанасьева.
— Ну что же, не хочешь сказать — дело твое, но, я ведь должен принять меры… безнаказанным это пройти не может… Директору о твоем поступке расскажу. Что же мне — о хулиганстве говорить?
Завуч выделил последние слова, как бы подчеркивая их обидный смысл.
— Он обозвал моего папу… — хрипло сказал Игорь. Голос его осекся, — мальчик не осмелился повторить грязное слово. — Пусть только кто-нибудь еще попробует!
— М-м-да, — понимающе произнес Яков Яковлевич. — И все же не следовало давать волю рукам… Надо было обратиться к товарищам, ко мне.
…Вот об этом-то происшествии и решил поговорить сегодня Борис Петрович с седьмым «Б».
Когда он вышел из кабинета, до конца урока оставалось несколько минут.
«С мальчонкой что-то происходит, — тревожно думал об Игоре Борис Петрович, — мы тут упустили…»
Правда, он переговорил с Анной Васильевной, — просил, чтобы она после сегодняшней его беседы с классом продолжила их общую линию («заступничество — поощрите, драку осудите»), и с Богатырьковым («надо, Леня, кому-нибудь из комсомольцев поручить пробрать Афанасьева построже»). «Пробрать-то пробрать, но что у него в семье?»
Волин вошел в физкультурный зал. Семиклассники в спортивных костюмах стояли у турника, а розовощекий учитель физкультуры Анатолий Леонидович отмечал в журнале, кто как подтягивается на турнике.
— Афанасьев, слабо. Еще попробуйте.
Игорь повисал на тоненьких руках, силился подтянуться несколько раз, но быстро уставал и только, как-то боком, всем телом дергался.
«Ишь ты, защитник отцовской чести! Откуда только прыть взялась?» — глядя на него, усмехнулся Борис Петрович и, подойдя к учителю, попросил:
— Позвольте, Анатолий Леонидович, мне попробовать?
Физкультурник довольно сверкнул золотыми зубами:
— Пожалуйста! И отметку поставим…
Борис Петрович никогда не боялся простотой своих отношений с учащимися уронить достоинство директора, никогда не разыгрывал напускной важности и недоступности. Наоборот, он считал, что, чем естественнее держит себя учитель, тем ближе стоит он к детям и большего добьется.
Волин стал под турником, легко подпрыгнул и, несколько раз подтянувшись на сильных руках, молодцевато соскочил.
— Пять с плюсом! — весело объявил Анатолий Леонидович, с удовольствием глядя на плотную фигуру Волина.
— Так-то, вояка, — сказал директор Игорю, — мускулы тренировать здесь надо…
И уже обращаясь ко всем, закончил:
— После урока останьтесь в классе. Хочу поговорить с вами.
Он ушел.
— О чем поговорить? — тревожно спросил Афанасьев у своего друга Алеши Пронина.
— О хулиганствующих элементах, — кому-то подражая, съязвил Пронин и подошел к турнику.
— Седьмой «Б», равняться на директора! — громко скомандовал Анатолий Леонидович.
— Пронин, начи-най!
* * *
Класс собрался после звонка и с нетерпением ждал директора.
Стоило Борису Петровичу мельком, словно делая мгновенный снимок, окинуть взглядом лица ребят, чтобы тотчас понять: они настроены против драчуна, знают, что разговор будет именно о нем, и что он, директор, недоволен Афанасьевым.
— Д-д-а-а, дела у нас творятся, — в раздумье произнес Волин, поглаживая подбородок и не глядя на Игоря. — Дожили!
Ребята смотрели на Афанасьева осуждающе, а Пронин даже прошептал:
— Средневековье!
Трудно было сказать, что он имел в виду, но ясно, что — осуждал. «Надо Игоря на совет отряда вызвать, редактор называется!» — с возмущением думал Алеша Пронин об Афанасьеве.
— А вы знаете, почему он Брагина ударил? — совершенно неожиданно для класса спросил Волин и, прищурившись, посмотрел на Леву.
Никто не ожидал такого вопроса, и все головы повернулись теперь в сторону Брагина. Он смущенно заерзал на парте и обильные капли пота сразу выступили над его толстыми губами.
— Не знаете? Так я скажу! А потому, что Брагин грязно обругал отца Афанасьева, назвал так, что я, старый человек, не могу даже повторить… не могу, стыдно!
Теперь класс смотрел уже на Леву не как на жертву, а как на отступника. «Сидит — тихоня. А, оказывается, хорош! Да на месте Игоря каждый бы не выдержал!»
— Еще мало заработал! — прошептал сосед Брагина.
— Все это так, Лева Брагин поступил не по-пионерски, — делая вид, что не замечает ни перемены настроения класса, ни приободрившегося Афанасьева, продолжал Волин, — но если мы начнем защищать свою честь и честь родителей кулаками, во что мы превратим школу?
— В бурсу! — веско сказал Пронин и плотно сжал губы. «Нет, на совет отряда мы Игоря обязательно вызовем», — твердо решил он.
— Вот именно! — согласился Борис Петрович. — Изволите ли видеть, драку затеял! Другого способа не нашел защитить отца… Что ж ты к коллективу за помощью не мог обратиться?
Объявив драчунам выговор и отпустив класс, Борис Петрович отправился в учительскую.
«Сразу и прокурор и защитник, — усмехнулся он, вспоминая разговор в классе, — и каждый день ставит такие задачки… Пойди, разреши все правильно. Да будь ты семи пядей во лбу и то сам не разрешишь».
В коридорах уже мыли полы. Пробежал малыш и юркнул в пионерскую комнату.
«А надо из эдаких „задачек“ и выводы извлекать!»
Вывод в данном случае был для него ясен: школа еще мало делает для упрочения авторитета родителей. Мало и крайне непродуманно. Стоп, стоп, — мысль!
«В младших классах следует дать сочинение на тему „За что я люблю своих родителей“. Потом вокруг этих сочинений месяцы можно работать всему коллективу. А Рудиной подготовить бы вечер для родителей… С подарками, таинственностью».
Волин довольно улыбнулся. «„Эврика“, как говаривал один, далеко не глупый старик».
Волин открыл дверь в учительскую. Там была одна Анна Васильевна. Она сидела на диване и что-то читала.
Увидя директора, Рудина закрыла книгу и поднялась.
— Борис Петрович, мне надо с вами поговорить.
— «Неужели опять укололась?» — внимательно посмотрел Борис Петрович. Она поняла, о чем он думает, и торопливо успокоила:
— Нет, нет, я не о себе…
— Пожалуйста.
— Понимаете, Борис Петрович, — взволнованно начала Анна Васильевна, — что-то неладное творится у меня в классе с Марией Ивановной.
Преподавательница физики Мария Ивановна крохотная, немолодая женщина, в сапожках на высоких каблуках, с коротко подстриженными волосами, слыла учительницей строгой и знающей.
— Что же с ней такое происходит? — недоверчиво спросил Волин.
— Да я и сама не пойму, — с огорчением призналась Анна Васильевна, — семиклассники стали ей дерзить, умышленно не готовят уроков, а в чем дело — не добьешься… И сама Мария Ивановна, мне кажется, растерялась, но из самолюбия ни к кому не обращается… Я начала было с ней говорить, но Мария Ивановна обиделась.
— Та-а-к… — неопределенно протянул Борис Петрович, — «не успел одно распутать — новое дело».
— У вас Пронин председатель совета отряда?
— Да…
— Пришлите-ка его ко мне завтра, после уроков.
— Хорошо.
— А теперь, Анна Васильевна, у меня к вам просьба.
Он рассказал ей о только что проведенной с семиклассниками беседе и о возникших у него планах работы.
— Что же касается Игоря, то к нему, Анна Васильевна, надо отнестись сейчас как можно внимательней. Может надломиться. Пораздумайте, что нам делать?
* * *
Игорь шел домой расстроенный. Хорошо, Борис Петрович почти оправдал его в глазах класса, хотя и объявил выговор, но сам-то Игорь не маленький и прекрасно понимает — в доме у них происходит неладное.
В редких разговорах между отцом и матерью все чаще звучат глухие, пугающие ноты. Мать почти все время молчит, но смотрит на отца с таким недоумением и тоской, так худеет, будто тает, что у Игоря сердце обливается кровью. А отец делает вид, что ничего особенного не происходит, охотно с напускным оживлением обращается к Игорю, но говорит о чем-то не главном, кажется все время, что он оправдывается и сам не верит в свои слова. А в глаза боится смотреть, как прежде, прямо, просто и добро.
И от этих ускользающих взглядов, от пустых ненужных слов Игорю становится мучительно тоскливо.
Над семьей нависла давящая туча. Напряженное ожидание чего-то страшного, надвигающегося, было так невыносимо, что не хотелось брать в руки учебники, не хотелось думать и говорить.
Зарыться бы головой в подушку и крикнуть им:
— Папа! Мама! Да что же вы делаете? Зачем вы так? Ведь вы не одни! А братик Петя? А я?
Он ударил Брагина неожиданно для себя, потому что внутри давно накипело, а Левка притронулся к самому больному, к тому, что и так без его слов жгло, не давало спать, душило слезами.
Этим ударом по толстым, противным губам Левки Игорю хотелось оттолкнуть от себя то неотвратимое, что надвигалось на него, и сказать всем, а прежде всего самому себе; «Неправда, неправда, отец не изменился, он такой же, как: прежде, и так же любит нас, как прежде».
Игорь любил отца, любил в нем все: даже родинку у широкого носа, даже волоски в его ушах. Отец дорог был Игорю таким, каким он был еще до войны: добродушным, спокойным, справедливым. Игорь любил его улыбку, от которой светлело на душе, любил его неторопливую походку и речь, любил даже его черный полушубок, отороченный кудрявым темносерым каракулем. Он гордился тем, что внешне похож на отца, тем, что отец диспетчер завода, и должность эта казалась Игорю самой важней на заводе — убери диспетчера и все остановится!
Но с войны отец возвратился каким-то совсем чужим. Он вызывал и жалость своей нервозностью, смятенностью, и чувство гнева, возмущения, что не может найти в себе силы стать таким, как раньше.
Временами, — теперь все реже и реже, — отец, казалось, становился прежним, обнимал Игоря, нежно брал на руки братика Петушка, носил его по комнате. И хотя чутьем подростка Игорь смутно догадывался, что это ненадолго, он с радостью шел навстречу ласке, все забывая и прощая.
* * *
Игорь поднялся по деревянной лестнице своего дома, палочкой отодвинул изнутри щеколду и вошел в комнату. Дома было все то же. У матери покрасневшие от тайных слез веки, отец уткнулся в газету, и его добрые растерянные глаза избегали смотреть на сына.
Пройдя в свою комнату, Игорь бросил портфель на кровать и, не раздеваясь, сел на стул. «Когда же это кончится?»
— Игорь, иди обедать, — позвала мать.
— Не хочется, — безразлично ответил он.
Ждал — не позовет ли отец? Нет! «Раньше обязательно позвал бы, а теперь хоть подыхай с голоду, — ему все равно».
Но тут раздался голос отца.
— Что же ты, сынок, не идешь?
«Очень надо, зовет, чтобы показать, что добрый и внимательный, очень надо!»
Игорь взял было в руки детали радиоприемника, но тотчас бросил их — не работалось, вот уже несколько месяцев он не может заставить себя закончить сборку.
На что-то решившись, Игорь вышел в столовую. Мать, склонясь над колыбелью, укачивала Петушка. Отец продолжал читать.
— Слушай, папа, — ломким срывающимся голосом сказал Игорь, — почему ты стал чужим?
Отец с недоумением отложил газету в сторону и, густо покраснев, посмотрел на него.
Мать быстрее закачала колыбель.
Леонид Михайлович, словно спохватившись, что ему надо возмутиться этим вмешательством сына, напомнить мальчишке его место, грозно крикнул:
— Да, ты что?! Или у вас в школе принято, чтобы яйца курицу учили?!
Лицо Игоря сделалось белым, как мел, только глаза, сейчас такие же скорбные и суровые, как у матери, глядели с отчаянным бесстрашием.
— У нас там принято, — таким тонким голосом, что, казалось, он вот-вот прервется, сказал Игорь, — у нас принято любить отца. А как тебя любить, когда ты такой? Как?
— Игорь, не надо, прошу тебя, — глухо сказала мать, но невольно из ее темных глаз покатились слезы.
— Мама, не плачь! Слышишь, не плачь!
Игорь весь дрожал от горя, возбуждения, и его худенькое тело билось, как в лихорадке. Он подошел к отцу вплотную.
— Я Левку Брагина ударил за тебя… Он сказал: ты развратник и еще…
— Молчать! — стукнув кулаком о стол, закричал отец и встал во весь рост. Лицо его покрылось пятнами. Непослушными руками он начал сдергивать с вешалки пальто, фуражку, молча оделся, и, подняв воротник, сгорбившись, словно чем-то придавленный, вышел.
Игорю было бы легче, если бы отец ушел оскорбленным, гордым, но он ушел как человек, которого выгоняют. И у Игоря, — он не мог бы объяснить почему, не отдавал себе в этом ясного отчета, — недавнее гневное возмущение против отца вдруг сменилось чувством щемящей жалости к нему.
Догнать бы его сейчас и сказать: «Папа, прости, я виноват… Я знаю, ты не такой! Мы будем, как раньше… Разве ты не видишь, что я люблю тебя, что мама любит тебя!»
Мать подошла к Игорю, обняла его обеими руками, до боли прижала к груди.
— Что поделаешь сынок, — сказала она ему, как взрослому. — Надо крепиться…
Оторвавшись от Игоря, она, как в забытье, провела рукой по своим черным, блестящим волосам, сказала напряженным голосом:
— Ты садись обедать и за уроки…
* * *
Леонид Михайлович Афанасьев брел по улице, не разбирая дороги.
Как быть дальше? Как разрубить этот безнадежно запутавшийся узел?
Потеряв первую жену и протосковав по ней пять лет, он женился на Людмиле Павловне, найдя в ней хорошего человека и не веря, что сможет снова полюбить кого-нибудь, как прежде. Людмила Павловна была верным другом, хорошей матерью их сына Игоря. Все, с кем она работала, — а она работала бухгалтером на заводе, — говорили о ней как об очень честном и скромном человеке. И действительно, чем лучше узнавал ее Леонид Михайлович, тем большим уважением проникался к ней, однако, любви, той нежной любви, что до пределов заполняет жизнь счастьем, когда радостно каждое прикосновение, каждый взгляд любимого, когда ждешь встречи с ним, а, встретившись, видишь его всегда по-новому, и, кажется, чувство растет, и нет ему границ, — такой любви у него к Людмиле Павловне не было. Он решил, что это и необязательно, что это навсегда ушло, и не такой у него уже возраст, чтобы мечтать о влюбленности, — достаточно спокойной, честной привязанности, настоящего человеческого уважения. Надо жить для детей.
Но на фронте, в санитарном поезде, куда его привезли раненым, Леонид Михайлович встретил женщину, которая подняла со дна его души все то, что, ему казалось, давным-давно улеглось.
Нина Ивановна, — так звали ее, — оказалась землячкой Леонида Михайловича. Она работала медсестрой. Спокойная, с мягким взглядом серых ласковых глаз, с неторопливой окающей речью, она очень напоминала Афанасьеву первую жену, словно была ее старшей сестрой.
В дороге вражеская авиация разбомбила санитарный поезд, при этом тяжело ранена была в грудь Нина Ивановна и тогда они уже вместе попали в госпиталь в одном и том же дальнем городке.
Выздоровление приходило медленно, а землячество, общие воспоминания, оторванность от родных мест — сближало их.
Нина Ивановна поведала Афанасьеву о гибели в начале войны своей дочери и мужа, Леонид Михайлович доверчиво рассказал ей о себе, своей семье, которая казалась ему потерянной, — так заставлял он себя думать, чтобы заглушить голос совести, запрещающий сближение.
Их почти в одно время демобилизовали по ранению, и они возвратились в родной город. Леонид Михайлович не нашел в нем ни своего дома, ни своей семьи и убедил Нину Ивановну, что они вправе строить жизнь вместе.
Но вскоре приехала из эвакуации Людмила Павловна с Игорем и поселилась в домике около завода.
Леонид Михайлович возвратился к ним — на этом настаивала и Нина Ивановна, — но сердце рвалось к Нине.
Людмила Павловна, узнав обо всем от мужа, стала еще сдержанней, чем раньше, еще более замкнутой. И теперь женственность Нины, какая-то особенная, присущая ей материнская мягкость, стали казаться Афанасьеву особенно желанными. Он невольно вспоминал то поворот ее головы, то взлет руки, то ласковый взгляд, в котором чувствовал отзывчивую нежную душу, и эти воспоминания отравляли его жизнь, вызывали неприязнь к матери Игоря.
«Почему я должен приносить себя, свою жизнь в жертву детям? — думал он сейчас, идя темной улицей. — Разве не имею я права на личное счастье?»
Леонид Михайлович вспомнил недавнюю сцену дома и, как это бывает у слабовольных людей, когда их кто-то укоряет в неблаговидных поступках, ему захотелось усилить свою вину, назло всем и самому себе, не думая о том, что из этого получится:
«Ну, и пускай… Кому какое дело? Кто смеет обвинять меня… В этом вопросе я отвечаю только перед своей совестью».
Афанасьев остановился у фонаря, раскуривая папиросу. Пальцы его немного дрожали, когда он доставал спичку.
— Останусь у Нины… навсегда, — решил он и, глубоко засунув руки в карманы пальто, пошел в темноту.
ГЛАВА XI
Алеша Пронин пришел к директору неохотно, очевидно догадываясь, о чем будет разговор и заранее решив отмалчиваться. Он стоял, будто собирался бодаться, Борису Петровичу виден был только очень выпуклый лоб да черный вихорок, торчащий на темени.
— Я прошу тебя, Алексей, как коммунист пионера, не кривя душой, расскажи мне правду, почему так изменилось отношение класса к Марии Ивановне?
Пронин ожидал чего угодно, только не такого обращения, и оно сразу лишило его мальчишеской недоверчивости.
Он поднял голову, его глаза сверкнули решимостью.
— Она нечестный человек! — воскликнул Алеша.
Волин нахмурился.
— В чем же эта нечестность выразилась?
Пронин мгновенье помолчал, судорожно вздохнул и, волнуясь, сбиваясь, начал рассказывать:
— В прошлый вторник едем мы в трамвае… Я и Димка… знаете — из нашего класса Дима Федюшкин. Купили билеты, стоим на площадке, а дверь в вагон приоткрыта… Смотрим — вошла она… Мария Ивановна. Села, книгу толстую читает. Четыре остановки читала. В это время — контролер. Она — туда, сюда. Билет-то забыла купить! Ну, что ж тут такого, со всяким может быть… и скажи прямо… как нас сама учишь. А она покраснела и говорит контролеру: «Я потеряла». Ведь неправда, мы ж видели!..
Он так разволновался, что у него начали дрожать губы.
— Спасибо, Алексей, что ты мне честно все сказал, — подошел к Пронину Борис Петрович. Он не положил руку на плечо мальчика, — не любил этого, а только стал рядом.
— Мария Ивановна, видно, растерялась, — продолжал он. — Но все равно нехорошо. Мне самому неприятно было услышать это… Однако могу тебя успокоить, я ее давно знаю как честного человека. Завтра я поговорю с классом, а вы, пионеры, поддержите меня, Это досадная случайность.
Лицо Пронина просветлело. Он и сам глубоко переживал крушение веры и теперь рад был возможности возвратить ее.
— Я объясню ребятам, — тихо сказал мальчик.
Борис Петрович остался один.
«Как легко учителю из-за мелочи лишиться авторитета! — думал он. — И мелочь ли это? Мелочь ли кружка пива, выпитая учителем перед приходом в школу? Или необдуманно сказанное им слово? Или вот этот случаи в трамвае? Мы все утешаем себя: „они не видят“. Ан не так, дорогая Мария Ивановна!»
Волин пошел советоваться с Яковом Яковлевичем.
— Надобно помочь Марии Ивановне…
— Надобно-то, надобно, — согласился Яков Яковлевич, — да вот из-за таких «случайностей» можно и доброе имя потерять. Это не вредно бы внушить, кроме Марии Ивановны, и еще кое-кому.
— А не поговорить ли нам, Яков Яковлевич, на педсовете о «мелочах» в нашем труде?
— И правда — дело!
Они решили, как лучше подготовить педсовет, и вместе стали просматривать контрольные работы по французскому языку в девятом классе.
— Ошибок много, — недовольно сказал Волин, поднимаясь.
— Не устроить ли нам, Борис Петрович, основательную проверку Капитолине Игнатьевне? Недельки две подряд походим на ее уроки… Что бы не было случайного впечатления от одного урока, а проступила система работы?..
— Согласен, завтра и начнем. Ну, я пошел в гороно. Если кто будет спрашивать — приду к трем часам.
* * *
Только в кабинете директора Балашов понял, что вел себя с Анной Васильевной возмутительно.
«Нечего сказать — хорош, — укорял он потом себя, — обиделся на химика, — видишь ли, он недостаточно почтительно с тобою обращался, а сам ни за что ни про что оскорбил человека».
Балашову тяжело было даже вспоминать разговор с Борисом Петровичем. «Он прав, он, конечно, прав, — думал Борис. Но тут же возникало и глухое недовольство директором: — Неужели я такой уж никудышный человек, что не достоин уважения? Будто сговорились… и он, и Сергей Иванович, и Виктор…»
После долгих и мучительных колебаний Балашов решил еще раз поговорить с Волиным.
«У Анны Васильевны я просить прощения не могу… Это было бы фальшиво и сентиментально… Лучше постараюсь получать пятерки по литературе, — она поймет… Но Борису Петровичу я должен все объяснить…»
Зная обыкновение Волина рано утром выводить на прогулку своих охотничьих собак, Борис будто случайно очутился в этот час у дома директора.
«Я скажу ему: „Да, я действительно поступил, как человек, не уважающий себя, но прошу вас не относиться ко мне с презрением“».
Балашов не смог бы объяснить, почему он так хотел услышать прощение именно от Волина, но он чувствовал: это для него важнее всего.
Из калитки своего сада вышел Борис Петрович, выпустил двух собак. В домашних брюках в полоску, в простеньком пиджаке он показался Борису особенно близким.
Волин не удивился, увидя Балашова, только холодно, выжидающе посмотрел на него, будто опрашивал: «Что вам здесь надо?»
Есть такие мимолетные, мгновенные изменения лица, которые человек бессилен утаить. И тогда вдруг проглянет то, что он старательно прятал в себе, или, если и не прятал, то не хотел бы показать другим; проглянет в невольном выражении глаз, каком-то особенном их блеске, в почти незаметной игре мускулов.
Сейчас, по едва уловимому беспокойству теней у губ Бориса, Волин безошибочно определил, что Балашов пришел с повинной, и что это далось ему нелегко.
Юноша сразу забыл приготовленную речь, забыл даже поздороваться, и с трудом произнес:
— Простите, Борис Петрович…
Волин с горечью посмотрел на него.
— Что простить? Ну, так скажите, что? Лично мне вы ничего не сделали. Уж если и просить вам прощения, то у Анны Васильевны, у Сергея Ивановича. Да разве в извинениях дело?
— Нет, вы простите, — совсем по-новому, как он никогда еще не говорил, попросил Балашов, и Борис Петрович почувствовал это. — Никому я больше не дам повода говорить мне так, как вы тогда! Это мне урок навсегда…
— Вот что, Борис, — сурово сказал Волин, но в голосе его уже не было прежней сухости, — простить тебя я не могу, понимаешь, не могу, как не могу смириться с грубостью, невоспитанностью или самоуверенностью, но поверить, — поверить я в состоянии.
Балашов метнул на Бориса Петровича благодарный взгляд, сказал глухо:
— Вы не ошибетесь! — и быстро пошел прочь.
* * *
После уроков Корсунов, дежурящий по школе, привел в кабинет к директору Толю. Это был не первый «привод» Плотникова, и он, видимо, к ним привык.
— Вот, полюбуйтесь, — возмущенно указал в сторону Плотникова учитель, стараясь не глядеть на него, — получил сегодня двойку, а остаться в школе приготовить то, что не соизволил сделать дома, — не желает.
Корсунов хмуро посмотрел, наконец, на мальчика и вышел.
Толя окинул взглядом знакомую обстановку.
Кабинет директора был небольшим и светлым. В простенке между окнами висела нарисованная масляными красками картина «Дети в гостях у Сталина и Молотова».
Позади кресла на застекленном книжном шкафе рядком стояли серебряные кубки — спортивные награды школы. Около широкого окна на высоком круглом столике лежал макет — пушкинский Руслан на коне перед бородатой головой.
— Садись, — предложил Борис Петрович Плотникову и посмотрел на него долгим внимательным взглядом.
Толя сделал покаянную физиономию и опустил глаза.
Он был в синей косоворотке, в серых, изрядно измятых брюках, до отказа перетянутых тонким ремешком. На лбу его, почти у самых волос, виднелось чернильное пятно… Мальчик нерешительно помялся и сел на краешек стула, обреченно ожидая нотации. Но вместо этого Борис Петрович спросил:
— Как ты думаешь, Анатолий, мне легко было учиться?
«Ловит, — недоверчиво решил Плотников. — Ясно, легко ему было учиться… такой умный, все знает». Он искоса, не поднимая головы, взглянул на Бориса Петровича, но вслух ничего не сказал, только, на всякий случай, сокрушенно вздохнул.
— Очень трудно, — сам же ответил Волин. — Мать у меня, как и твоя, была труженицей. Меня не хотели принимать в земскую начальную школу. Мать едва умолила. А ходить не в чем было. Обуви нет, одежды нет и учебников нет… И всегда голоден. Легко?
Толя опять притворно-сочувственно вздохнул.
— А потом я студентом стал… И за то, что мы в городском саду песню спели: «Как у нас на троне чучело в короне!» — нас в Сибирь сослали.
Плотников затаил дыхание. Вот уж никогда бы не подумал, что Борис Петрович в ссылке страдал, как те декабристы, о которых он, забегая вперед, прочитал в учебнике истории. Как Борис Петрович жил там в снегах? Побег, наверно, устраивал!
Плотников быстро посмотрел на Волина, на лице мальчика ясно отразилось изумление.
— А сейчас, Анатолий, — продолжал Борис Петрович, — учиться радостно… Почему же ты плохо учишься? Чем ты хуже других? Или ты самый отсталый в Советском Союзе? Не понимаешь, что это твой долг? Да ведь ты умный человек, так уважай же себя, и мы тогда тебя уважать будем!
— Я возьмусь, Борис Петрович, я возьмусь! — вскочил Плотников и столько в его голосе было убедительности, страстной просьбы поверить ему, что директор, с трудом скрывая добрую улыбку, сказал серьезно:
— Хорошо, посмотрим…
Отпустив Плотникова, Борис Петрович вызвал к себе секретаря комсомольской организации школы — десятиклассника Леонида Богатырькова.
Это был скромный, несколько медлительный юноша с очень широкой грудью, большими руками, крупными чертами лица. Во всем Леонид проявлял редкостную добросовестность: если конспектировал статью, то уж основательно, с ссылками на страницы и издание; делал радиоприемник — так на приемник, этот любо было поглядеть.
Вызванный учителем, Богатырьков отвечал не сразу. Несколько раз поглубже вобрав воздух, будто собираясь с силами, он, наконец, начинал рассказ — неторопливо, с паузами, но в ответе чувствовалась крепкая логическая кладка, самостоятельность мысли, ясной и глубокой.
Глядя на него, Борис Петрович не раз с удовольствием думал: «Крепок. Такой не оставит и горящий самолет».
Еще в шестом классе Богатырькова прозвали «точкой» за паузы в самых неподходящих местах рассказа: скажет «потому, потому что» и замолчит. Но скоро товарищи пригляделись к нему, прониклись уважением и вот второй год избирали секретарем.
Малыши и сейчас за добродушие и силу почтительно величали его Добрыней.
И в комсомольских делах Леонид отличался некоторой медлительностью, но все делал на совесть. Если уж он предлагал на комитете: «Давайте освободим учителей от дежурства, у них и так много дел», — то можно было положиться — комсомольцы дежурство организуют безупречно.
— Вот что, секретарь, — сказал Волин, пригласив Леонида сесть, — в классе Серафимы Михайловны учится Толя Плотников, неплохой парень, но неорганизованный, несерьезный. Он мне сегодня слово дал — хорошо заниматься. Возьмите-ка и вы его на свой комсомольский прицел… Надо, чтобы у мальчика появилось самоуважение.
— Мы в тот класс, Борис Петрович, решили послать для работы с пионерами Виктора Долгополова, у него задатки воспитателя, — солидным баском сообщил Богатырьков и посмотрел на директора спокойными внимательными глазами.
— Это уже ваше дело. Только не перегружайте поручениями одних и тех же. Комитет и учком вместе собирали?
— Нет еще…
— А пора бы! — посоветовал Волин и тихо покашлял. В покашливании этом слышался упрек: «Посамостоятельнее, друзья, надо быть. Не все же вам ждать указаний».
В кабинет опять вошел Вадим Николаевич. Волин рассказал ему о разговоре с Толей и его обещании.
— Сомневаюсь, очень сомневаюсь, — буркнул Корсунов, — завтра же все забудет.
— Нам надо, Вадим Николаевич, больше верить, — мягко возразил Волин, — это, знаете, ими оценивается и они не подведут….
— Да забудет же этот Плотников все, что обещал!
— А мы ему напомним, на то ему и двенадцать лет, чтобы забывать… А мы не поленимся — и раз, и два напомним, да вот и комсомольцы нам помогут, гляди, дойдет до сознания. Допускаете?
Корсунов покосился на Богатырькова и промолчал.
— Прошу вас, Вадим Николаевич, задержаться еще ненадолго, — попросил директор.
Богатырьков, деликатно попрощавшись, вышел.
Волин был сегодня на уроке у Корсунова и решил сейчас поговорить с учителем. Вадим Николаевич сел в кресло у стола.
После нескольких замечаний по уроку, Борис Петрович опросил:
— Я бы хотел знать, Вадим Николаевич, что вы предпринимаете, чтобы отстающие ученики успевали?
Корсунов поморщился:
— Правильно было бы спросить, что они предпринимают? Не успевают они, а не я! — резко ответил он.
— Нет, я спрашиваю именно о ваших действиях. Мы для того и существуем, чтобы учить, нерадивых заставлять работать, слабым помочь, узнавать: не мешает ли что-нибудь дома, есть ли учебники, так ли, как следует, они готовят уроки? Может быть, разумно вызвать неуспевающего на комсомольский комитет, или прикрепить к отстающему кого-либо из родителей, из комсомольцев? Во всяком случае, неверно зачислять всех неуспевающих в разряд лентяев, следует терпеливо доискаться истинных причин, а не думать, что спасение утопающих — дело самих утопающих.
— Но есть же такие, которые не хотят, чтобы их спасали!
— Явление очень редкое и тоже преодолимое, — убежденно сказал Борис Петрович.
— А если все же это лень?
— Ее надо перебороть. Оставляйте ленивых после уроков, действуйте на них через печать, ученические организации, заинтересуйте кружком, пришлите ко мне, вызовите родителей. Общими усилиями мы воспитаем чувство ответственности. Но только не оставайтесь, Вадим Николаевич, бесстрастным наблюдателем. Это не сделает вам чести.
— Все? — с оскорбительной небрежностью в голосе спросил Корсунов и встал.
— Нет, не все, — с трудом сдерживая себя, медленно ответил Волин, тоже вставая, — то, что я сейчас говорил, — мои категорические требования. Попрошу продумать их и принять к исполнению.
* * *
Серафима Михайловна имела обыкновение вечерами и в воскресные дни заходить домой к своим ученикам посмотреть, как они живут, поговорить с родителями, просто самой отдохнуть. Бокову везде принимали, как родного человека, советовались, жаловались, делились наблюдениями, не отпускали, не напоив чаем, огорчались, если приходила редко или ненадолго.
Бокова была и у Плотниковых — они жили в многоэтажном доме рабочего поселка, — знала, что отец Толи — сержант-артиллерист — погиб в уличных боях за Мелитополь в сорок третьем году, а мать работала обмотчицей на заводе.
В первый же приход Серафимы Михайловны Плотникова почувствовала в учительнице близкого человека и доверчиво стала поверять ей свои печали.
— Трудно мне приходится, — говорила она тихо.
Преждевременные морщины, словно иссеченная над губами кожа, придавали ее лицу особый отпечаток усталости и душевных тревог.
— Есть у меня еще и меньшенький, до работы отвожу его в детский сад. Как получила извещение о гибели мужа, Толя совсем от рук отбился, на улице пропадает, — она смотрела на Серафиму Михайловну с тоской в глубоких, темных глазах, и учительнице было мучительно жаль эту рано увядшую женщину. «Ей надо помогать больше, чем кому бы то ни было», — решила она.
— Ничего, Раиса Карповна, мы за ним в школе присмотрим. Он непоседа, а душа у него золотая. Но и вы за ним, по возможности, приглядывайте.
— Я и хочу, да не всегда время есть, при том же малограмотная…
— Пусть вас это не останавливает, — учительница положила свою руку на руку Плотниковой, — вы просматривайте его тетради. Есть кляксы, криво, грязно написано, — заставьте переписать. Потребуйте, чтобы вслух урок рассказал.
— Это я могу, — приободряясь, согласилась Плотникова.
В классе Толя первое время сторонился учительницы, не поддавался ее ласке. Его недоверчиво-насмешливый взгляд говорил: «Я сам по себе, вы меня не трогайте». Глядя на него, Серафима Михайловна невольно вспоминала одну из присказок Волина: «Колется, как еж, в горсть не сгребешь». И правда, так сразу не сгребешь.
О своем разговоре с Толей Борис Петрович рассказал Серафиме Михайловне в тот же вечер, когда они вместе были на семинаре пропагандистов в райкоме партии, и Бокова решила, что ей надо в ближайшие дни снова заглянуть к Плотниковым, поддержать Толин порыв.
Она зашла к Плотниковым в субботу, в час, когда Раиса Карповна была на работе.
Дверь открыл Толя, с ложкой в руке. Он, видимо, обедал и встретил учительницу настороженным взглядом.
— Мама дома? — делая вид, что не замечает настроения нерадушного хозяина, спросила Серафима Михайловна.
— Нету… на заводе, — недружелюбно ответил он, и учительница удивилась: куда только исчезли обычные для Плотникова ужимки, он был серьезен и замкнут.
— Я посижу минутку, отдышусь, да и пойду, — как ни в чем не бывало сказала учительница и села на табурет у стола, выскобленного добела.
Комната была небольшая, но чистая и старательно убранная. За ширмой стояла детская кровать, на которой опал Толин братишка. По стенам развешаны карта Советского Союза и вырезанные из какого-то журнала фотографии артиллеристов. «Хозяйничает здесь он», — подумала Бокова.
Толя устроился против нее, рукавом ситцевой рубахи стыдливо прикрыл тарелку.
— Что это у тебя? — поинтересовалась Серафима Михайловна.
— Каша, — неохотно объяснил Толя и убрал руку.
— Вкусная? — спросила учительница таким тоном, будто хотела узнать рецепт приготовления.
— Да! — скупо ответил мальчик и подозрительно насторожился.
— А кто ее приготовил? — не смущаясь его тоном, продолжала расспрашивать Серафима Михайловна.
Толя покраснел. С трудом подняв глаза, сказал:
— Я сам. — И с грубоватой решимостью предложил: — Дать вам?
Не дожидаясь ответа, отделил на своей тарелке половину красновато-желтой тыквенной каши и, достав еще одну ложку, предложил:
— Вот, попробуйте!
Это было диковинное кулинарное творение с избытком постного масла и кусками недоваренной тыквы, но учительница бесстрашно взяла в рот полную ложку каши и, не показывая вида, как трудно проглотить ее, воскликнула:
— Превосходная каша! Я давно хотела поесть такую и совсем не предполагала, что ты мастер, готовить.
И вдруг произошло удивительное превращение: Толя оживился, лицо его просияло и глаза стали приветливыми. Отделив учительнице еще каши, он хлебосольно предложил:
— Кушайте… Да вы кушайте… в другой раз, как придете, я не такую еще сварю!
Он стал доверчиво рассказывать: какие обеды готовит, как мама его бранит за то, что он тратит много масла, да разве можно жалеть? Для вкуса надо!
Потом, понизив голос, чтобы не разбудить брата, — стал рассказывать страстным полушепотом:
— В кино «Гигант» новая картина идет, ребята говорят — здорово интересная! А я еще не был. — Он вздохнул: — Денег мама не дает.
Серафима Михайловна обещала, что картину пойдут смотреть всем классом, поблагодарила за вкусный обед и, довольная своим посещением, отправилась домой. «Надо ребятам сказать, — думала она дорогой, — чтобы они почаще у Плотникова бывали, и с Сергеем Ивановичем посоветоваться, чем его комсомольцы могут помочь».
* * *
Шел урок географии. Серафима Михайловна показывала через эпидиоскоп картины.
— Вы понимаете, ребята, в какое время мы живем? — увлеченно говорила она, — мы покоряем Арктику, стремимся ввысь в стратосферу, подчиняем себе реки и ветры. Империалисты только и думают о новой войне. А мы с вами хотим мирной жизни, и вас уже ждет страна для великих дел.
Толя Плотников сидел, сложив кулаки у подбородка, устремив глаза на экран, жадно слушал рассказ учительницы.
То он видел перед собой дрейфующую льдину, и на льдине он — Плотников… То представлялось ему, что он изобретает машину, которая и по воде плавает, и по земле ходит, и по воздуху летает!
А учительница убежденно говорила:
— Вы, именно вы, сейчас пионеры, потом комсомольцы, коммунисты, будете знаменитыми шахтерами, токарями, построите рабочие дворцы, откроете залежи ценных металлов, изобретете способы продлить жизнь человека…
На экране возник караван судов в Северном Ледовитом океане. На пловучих льдинах морж и медведица с медвежонком. Стаи птиц кружатся в свинцово-сером небе. Караван пробивает путь меж льдов.
— А что сделаешь ты, если будешь полярным летчиком? — опросила учительница Петра Рубцова.
Строгий Петр неторопливо встал.
— Я полечу в разведку и потом дам знать ледоколу, где меньше льдов, — веско сказал он.
— Верно, — словно другого ответа она и не ждала, одобрила учительница, — ты у нас сообразительный человек!
На лице Петра Рубцова появилась улыбка, будто она прорвалась сквозь тучки строгости, но они тотчас скупо сомкнулись, и Петр с достоинством сел за парту.
— Но имей в виду, — голос учительницы прозвучал требовательно, — волевой человек должен уметь и подчиняться…
«И папа так говорил, и Борис Петрович, — подумал Петр. — Значит, действительно, надо», — соглашаясь, он кивнул головой.
Серафима Михайловна невольно вспомнила недавнюю беседу в кабинете, у Бориса Петровича. Приходили родители Петра, и на «консилиуме» они решили вместе преодолевать упрямство мальчика.
— А теперь, — складывая картинки-стеклышки, предложила учительница, — мы по карте совершим путешествие из Архангельска во Владивосток. Только надо подробно рассказывать, через какие моря и проливы вы пройдете, какие острова минуете, где сделаете остановки? Кто желает?
Желали все.
ГЛАВА XII
Во время большой перемены Серафима Михайловна на ходу разрешила уйму неотложных дел, — мало ли их можно успеть разрешить, пока стоишь у двери класса или идешь в учительскую.
В коридорах не было крика и толкотни, хотя всюду слышался веселый смех, детские голоса и на каждом шагу встречались оживленные лица.
Дежурные комсомольцы, окруженные малышами — «адъютантами», расхаживали вдоль стен у своих постов.
— Серафима Михайловна, вот в наш ящичек для вопросов бросили, — подошел к учительнице озабоченный Платой Тешев и протянул несколько листков.
Серафима Михайловна пробежала их глазами.
«Почему империалисты хотят, чтобы война была?»
«Почему у стариков ноют кости?»
«Почему Некрасов писал такие грустные стихи?»
«Почему, когда плачут, то слезы соленые?»
«Почему, когда ударишься лбом, из глаз искры сыпятся?»
«Почему собака высовывает язык, когда ей жарко?»
— Ответим! — успокаивающе сказала Серафима Михайловна Платону. — А если мы с тобой затруднимся, — спросим у Бориса Петровича.
— Ответим! — убежденно подтвердил Платон, тряхнув русой головой, и добавил, имея в виду директора. — Он все знает!
Подошел редактор классной газеты Ваня Чижиков с Женей Тешевым.
— Серафима Михайловна, мы шестьдесят книг собрали для школы в Кривых Лучках. Там наш директор учился, когда маленьким был. Ваня Стоянов заметку написал, чтобы в других классах тоже собирали.
— Молодцы! — похвалила учительница. — А это что у тебя? Новая заметка?
— Это Женя Тешев написал: «Я хочу поскорее вырасти и на деле показать, как сильно люблю свою Родину»…
Серафима Михайловна ласково посмотрела на Женю.
— Вот это правильно, — самое лучшее — на деле показать! Ну, а ты что, Платон?
Платон протянул ей портрет стахановца. Над открытым лицом, с немного несимметрично нарисованными глазами, была сделана надпись: «Он уже выполнил пятилетний план».
Портрет всем понравился, а Петр Рубцов предложил:
— Серафима Михайловна, давайте стахановцу письмо напишем!
Но учительница возразила:
— Нам сейчас еще нечем особенно хвалиться, надо сначала улучшить свои дела, а потом написать… У Жени, например, тройка по арифметике.
— Я отвечу на пять! — клятвенно пообещал Женя, прикладывая руку к груди.
— Посмотрим… А Вене ты помогаешь?
— Помогаю, — радуясь, что может сообщить об этом, воскликнул Женя. — Мы утром, как приходим в школу, друг у дружки проверяем: перья есть? промокашки есть? Вчера я перышко сломал, он мне запасное дал.
— Так и должно быть, — одобрила учительница, — мы люди дружные, нас потому никто и не одолеет! Ну, марш, марш отдыхать, — притворно сердитым голосом сказала она, — сейчас у вас иностранный, ведите себя примерно, — и строго поглядела на Плотникова.
Толя кротко потупил взор, но сквозь щелочки приспущенных век глаза поблескивали озорно.
— Товарищи учащиеся, — раздался голос диктора, — говорит радиоузел школы имени Героя Советского Союза Василия Светова. Сегодня мы передаем советы учителя: «Как лучше готовить уроки» и обзор: «Новости школьного спорта»…
* * *
Возвратившись в свой класс после того, как окончился урок иностранного языка, Серафима Михайловна по многим мелочам — безупречной чистоте пола, ровным рядам парт, спокойным лицам детей — безошибочно определила, что урок прошел хорошо. Но вот она нахмурилась. Доска с написанной по-французски фразой «Мы за мир» не была вытерта. Она подошла к доске, взяла тряпку.
— Если дежурному так трудно выполнять свои обязанности, — сухо сказала она, — я за него это сделаю, — и начала медленно вытирать доску.
Подскочил дежуривший Веня Стоянов.
— Серафима Михайловна, я сам! — умоляюще воскликнул он.
На него зашипели со всех сторон:
— Дежурный называется!
— Руку лень поднять!
Под осуждающими взглядами товарищей Стоянов вытер доску.
Особенно возмущался промахом дежурного «завхоз класса» Женя Тешев. Должность эту учредили сами ребята и очень гордились тем, что у них — «свой Савелов».
У Жени в специальном ящичке хранились: стакан для воды, мыло и полотенце. Перед уроками он строго следил, чтобы дежурный протер стекло на столе Серафимы Михайловны и налил чернила в ее чернильный прибор.
В следующую перемену в учительской к Боковой подошла маленькая, белая как лунь, Вера Семеновна.
— Должна вас огорчить, Серафима Михайловна… Ваши пострелята сломали цветок в моем классе.
— Кто? — Бокова сжала губы, и от этого яснее проступили усики над ними.
— Но знаю… Боролись и сломали.
Когда окончился последний урок, Серафима Михайловна задержала класс. Обводя всех суровым взглядом, она опросила:
— Кто из вас сломал цветок в четвертом «В»?
Учительница заметила, что Толя Плотников сидел необычайно смирно, и подумала: «Неужели опять он?»
— Это не мы, — раздался хор голосов.
— Значит, я могу сказать директору, что виновные не в нашем классе? Я не обману его?
Класс молчал. В разных углах его раздавался взволнованный шопот. Петр Рубцов, сидящий за первой партой, с огорчением смотрел на учительницу серьезными глазами.
— Так я пойду к Борису Петровичу, — взяв свой портфель, решительно повернулась Бокова и пошла к двери, — скажу, что мы тут ни при чем!
— Подождите, Серафима Михайловна! — отчаянным голосом закричал Петр Рубцов, словно спасал учительницу от огромной опасности.
Все вскочили.
Серафима Михайловна возвратилась к столу, дети сели. Стоял только Петр Рубцов, потому что учительница осуждающе смотрела на него.
— Зачем же ты это сделал? — спросила она с недоумением.
— Это не я! — мрачно сказал Петр Рубцов. — Я не знаю, почему он сидит и молчит.
— Кто? — невольно вырвалось у Серафимы Михайловны.
— Пусть сам скажет! — гневно глянул через плечо Петр Рубцов и плотно сжал губы. Класс тревожно притаился. Над партой у окна поднялась рука Платона.
— Серафима Михайловна, кто за то, чтобы Петр Рубцов назвал… пусть поднимет руку?
Все тотчас подняли руки. Только Веня Стоянов, подняв ее с большим опозданием, опустил, словно отдернул, и с отчаянием воскликнул:
— Я нечаянно! Я пойду скажу…
— Ну, вот! — с облегчением вздохнул Петр Рубцов и сел.
Серафима Михайловна пожурила виновника. Решили один свой цветок отдать пострадавшим.
Учительница отпустила детей домой, а сама, оставив свой портфель в классе, зашла в школьную библиотеку. Она взяла свежий номер журнала, только что вышедшую книгу «Сын полка» и возвратилась в класс. Ее портфеля и тетрадей там не оказалось. Серафима Михайловна улыбнулась, — она уже знала, где они.
Энергичной походкой Бокова стала спускаться по лестнице. В синем пальто, плотно облегающем ее широкие плечи, с решительной поступью полных, словно выточенных ног, она была величава и по-своему красива. Зимой, осенью и весной Серафима Михайловна носила на шее неизменную бурую горжетку, из-за которой воинственно поглядывала на мир.
Она вышла на улицу. Подумала о своем младшем сыне, недавно уехавшем в артиллерийское училище: «Как Сашенька там?»
На школьном стадионе дети играли в мяч, и звонкие крики их разносились в воздухе. Как только появилась учительница, из-за угла вынырнул подстерегавший ее Толя Плотников. В одной руке он держал портфель Серафимы Михайловны, в другой — тетради, которые она должна была дома проверить. Через плечо Плотникова была переброшена полевая сумка на простой веревке в узлах.
Плотников оглянулся по сторонам и, смущаясь непривычной для него ролью, бочком подошел к учительнице.
— Я ваш портфель понесу, — грубовато объявил он.
Учительница поблагодарила Толю и взяла из его рук тетради.
Неожиданно появились Петр Рубцов и братья Тешевы. Они с завистью поглядывали на счастливца Плотникова.
— Серафима Михайловна, дайте, пожалуйста, тетради я понесу! — попросил Платон.
— Ну, что же, спасибо, — энергичным жестом протянула ему стопку тетрадей учительница.
Забияка Женя подскочил к брату — хотел отнять у него тетради, но Платон, пригнувшись, укрыл их.
— А ты, Платон, дай половину Жене, — посоветовала Серафима Михайловна.
Они поделили тетради — досталось немного и Петру Рубцову; он доволен — не ожидал, что перепадет.
К ним присоединилось еще несколько человек. Теперь дети плотно окружили медленно идущую учительницу. Все вместе они вошли в густой парк, растянувшийся на несколько кварталов. Около могил героев Великой Отечественной войны дети остановились, притихнув, их лица стали серьезными.
На могилах лежали свежие цветы.
— Наши комсомольцы принесли, — прошептал Петр Рубцов Плотникову.
— Мы, дети, не хотим войны и новых жертв, — сказала Серафима Михайловна со скорбью в голосе. Ученики знали, что у нее на войне погиб старший сын — моряк.
Постояв немного у могил, они пошли дальше.
Рядом с детьми Серафима Михайловна чувствовала себя особенно хорошо. Почему-то вспомнилась Рудина: «Поняла ли она, когда была вчера у меня в классе, как важно для учителя управлять коллективом? Надо будет к ней пойти на урок. Когда-то и я была такой… Крылышки у нее еще слабые, но окрепнут… Когда есть дружба — легко работать».
— Серафима Михайловна! — нарушил ее мысли голос Жени Тешева, — а папа гуся купил!
— Да ну!
— Не верите? Когда его зажарят, мы с Платоном вам подарим половину!
— Спасибо большое, — улыбнулась Серафима Михайловна, — съешьте лучше его сами за мое здоровье.
— Нет, мы принесем, принесем, — запрыгал на одной ноге Женя, приложив ладонь к уху так, словно в нем была вода, и он хотел ее вытряхнуть.
— Ты, Женя, сделай лучше мне другой подарок, — попросила учительница.
— Какой? — с готовностью спросил Женя, и длинные черные ресницы его на мгновенье замерли.
— Перестань подсказывать, — с укором посмотрела на него Серафима Михайловна.
Женя смиренно опустил глаза.
— Я вот тебе расскажу о Сталине, — негромко сказала учительница. — Ему было тогда столько же лет, сколько сейчас тебе. Лучше его — товарища не сыскать, но никогда Сосо не подсказывал. Учился вместе с ним беспечный лодырь Петре Адамашвили…
Плотников локтем толкнул Петра Рубцова в бок и, сделав гримасу, прошептал: «Петре». Рубцов молча отодвинулся от Плотникова.
— Петре Адамашвили все норовил шпаргалку получить, списать, за чужой счет прожить. Вот идут экзамены. Впереди Петре сидит Сосо. Адамашвили шопотом умоляет его: «Подскажи!» Сосо отрицательно качает головой. Петре предлагает ему свой широкий пояс, потом красивый перочинный нож, с замечательной ручкой, но Сосо неподкупен. Наконец, он говорит тихо:
— Не могу, Петре, понимаешь, — не могу, потому что тебе добра желаю… Хочу, чтобы жил ты своим умом и у тебя свои знания были…
Учительница умолкла. Несколько секунд молчат и ребята. Прервав паузу, Женя Тешев решительно заявляет:
— Я больше подсказывать не буду!
— Я верю, что ты — хозяин своего слова, — убежденно говорит учительница.
Они продолжают путь.
Толя Плотников, стараясь держаться поближе к учительнице, в разговоре особого участия не принимает, но слушает внимательно. В последнее время он стал учиться старательнее. Правда, еще считал «неудобным» для себя так сразу измениться к лучшему, стеснялся похвал, но по всему чувствовалось, что у него появилась внутренняя потребность быть серьезнее, насколько в состоянии быть серьезным мальчик его лет.
Две недели тому назад он послал собственный кроссворд в «Пионерскую правду». Оттуда ему тактично ответили, что составлять кроссворды — дело хорошее, но надо при этом и грамоте учиться — в послании Толи были ошибки. Он не скрыл от учительницы этого письма, а вскоре, составив новый кроссворд, пришел с ним к Боковой.
— Серафима Михайловна, вот, проверьте… — небрежно, как о деле пустяковом, попросил он.
Учительница удивилась.
— Зачем же нам газету обманывать? Я лучше дам тебе задание, выучишь правила, на которые ты ошибки допустил. Я проверю, как ты правила знаешь, а потом и пошлем кроссворд.
Он неохотно согласился.
…На перекрестке улиц Серафима Михайловна заявила тоном, не терпящим возражений:
— Ну, спасибо, ребятки, здесь мы распрощаемся. Я в поликлинику зайду…
Они стали уверять учительницу, что им тоже надо в поликлинику, Толя даже покачал молочный зуб в подтверждение, но Серафима Михайловна решительно отобрала свой портфель, тетради и приказала идти домой.
…Бокова заняла очередь к терапевту: пошаливало сердце. Да и немудрено, она прожила большую, нелегкую жизнь. С юных лет Серафиме Михайловне пришлось работать, мать-ткачиха умерла рано, только вечерами могла Бокова учиться: готовилась дома по программе гимназии. Потом были педагогические курсы, полуголодные годы, визиты пристава, подозревающего ее в неблагонадежности, запрет учительствовать. И, наконец, Октябрь. Он пришел, как свежий ветер, а сразу стало легко дышать, и поток школьных дел захватил, закружил…
Во время Отечественной войны она уходила от фашистов пешком, с рюкзаком через плечо.
Да, сердце пошаливало…
Она вошла в кабинет.
За столом сидел молодой врач в белом халате и что-то за писывал.
Бокова подошла к столу. Врач поднял глаза и вскочил так стремительно, что стул с шумом отодвинулся.
— Серафима Михайловна, — радостно крикнул он. — Не узнаете?
— Жора… Жора Симаков! — растроганно промолвила она я смутилась, — Георгий… не знаю дальше как…
— Серафима Михайловна, родная, для вас — всегда Жора!
Он усадил ее на стул, не мог оторвать от нее взгляда, и на лице его появилось то выражение восторженности и нежности, какое бывает у школьников, встретивших любимого учителя после долгой разлуки. Она была все такой же, те же полные красивые руки; только появилась седина — словно серебристая сетка наброшена на волосы.
…Кем бы мы ни стали, как бы ни выросли, школьный учитель всегда остается для нас самым близким и дорогим человеком, и среди высоких и святых чувств наших особое место занимает признательность к учителю. Он — первый проводник в жизни, учил складывать буквы в слова, открывал перед нами мир и, даже состарившись, даже умудренные жизнью, мы приходим к своему учителю, как сыновья, при встрече с ним доверчиво раскрываем все лучшее, что есть в нас.
…Они сидели рядом — Серафима Михайловна и Жора Симаков и вспоминали третий класс «А», каким он был четырнадцать лет тому назад.
— Ты на второй парте сидел, — говорила учительница, и ее блестящие черные глаза ласково глядели на него. — Помнишь, ты как-то сказал в классе: «Я дома кошку оперировал».
— А вы мне тогда посоветовали: «Врачом ты стать стремись, а кошек все же не мучай».
— А помнишь, однажды вместо того, чтобы прочитать: «чудо овощи» ты с выражением прочел: «чудовищи!»
— Да, неужто? — расхохотался доктор, — нет, этого я не помню!
Потом он начал рассказывать Серафиме Михайловне о том, чего достиг за эти годы, о своих планах. Это было обычное для учеников, долго не видевших своего учителя, подсознательное желание заверить его: «Вы не ошиблись в своем ученике, ваш труд не пропал даром».
Из поликлиники Серафима Михайловна вышла помолодевшей.
«Вот и лекарство получила! Какие, мы счастливцы, что можем видеть плоды своего труда!»
Она опять вспомнила Анну Васильевну. Та сетовала: «Работаю, а неясно — чего же добилась?»
«Увидишь и ты!» — мысленно пообещала ей сейчас Бокова.
Девушка была строга к себе, не прощала ни малейшей оплошности, и вчера исповедовалась перед Серафимой Михайловной: «Я когда писала на доске, загораживала ее собою. Поздно спохватилась… А в конце урока повысила голос из-за пустяка. Наверно, на мегеру походила».
«Зачем же так строго, — подумала Серафима Михайловна, и на ее широком загорелом лице появилось то выражение доброты, которое так любили в ней все, кто ее знал. — Нет. Анечка, ты подаешь неплохие… надежды. Вот, пожалуйста, завела на каждого ученика „лицевые счета“».
Она улыбнулась, вспомнив, как на последнем уроке Рудина в классе повторила присказку Бориса Петровича: «Правило без примера, что суп без соли».
«Надо ее предостеречь, чтобы попустому не тратила силы: при повторении в старшем классе можно иногда позволить себе сидеть; голос обязательно экономить: если негромко говоришь, то даже шопот в классе кажется вопиющим нарушением порядка».
Серафима Михайловна остановилась у крыльца своего дома, достала ключ и открыла дверь. Муж недавно возвратился из командировки и был сегодня дома. Он встретил ее радостным возгласом:
— Симочка, от Саши письмо!
— Где? — живо спросила она и, не присев, жадно начала читать письмо.
* * *
После уроков у Бориса Петровича и Якова Яковлевича бывал напряженный час «пик»: приходили родители, учителя, разбирались дела, заседал комитет комсомола и учком.
Сегодня этот час начался с неприятности. В кабинет Бориса Петровича ворвалась мать ученика шестого класса Альфреда Гузикова, похожая на оплывшую свечу, женщина лет сорока пяти. Свое чадо она тащила за руку. Еще у двери Гузикова начала кричать истерическим голосом:
— Это школа? Да? Это школа? Вот полюбуйтесь, полюбуйтесь! — трагическим жестом она указала на сына.
Под левым глазом Альфреда красовался изрядный синяк. Борис Петрович спокойно выжидал спада истерической волны. Тот, кто плохо знал Волина, мог решить, что он всегда невозмутим, так умел он владеть своими нервами и мимикой. Только иногда его выдавала лихорадочно пульсирующая жилка у виска. И лишь дома знали, чего ему стоила эта сдержанность, — вечерами после таких происшествий разыгрывалась невралгия.
Гузикова, видимо, не собиралась останавливаться. Она говорила так быстро, что, казалось, слово наскакивает на слово, а все они сливаются в булькающий поток.
— Учителям тысячи платят, они обязаны… А они ничего не делают… Ни за что двойки ставят. У них любимчики… Читали в газете статью? Формализм! Нет подхода!.. Альфред — золотой ребенок… А у вас пионервожатая, девчонка, назвала его лодырем… Я буду жаловаться в гороно!
«Золотой ребенок» не прочь был бы подпевать маме, но под суровым взглядом Бориса Петровича благоразумно помалкивал.
«Полюбуйтесь, — защитница Эдика Ч.», — подумал Борис Петрович и, не выдержав, гневно потребовал:
— Перестаньте!
Гневный голос его, если и не привел Гузикову в чувство, то, по крайней мере, заставил ее умолкнуть.
— Постыдились бы отзываться так о людях, отдающих свое здоровье и знания вашим детям… Кто это тебе синяк набил? — спросил Волин, повернувшись к мальчику, и прищурил, словно прицеливаясь, левый глаз.
— Ко-о-тька Бударов, — начал притворно хныкать Альфред, прижимаясь к сочувственно пододвинувшейся матери.
Борис Петрович открыл дверь в коридор и попросил вызвать с репетиции хора Костю Бударова.
— О каких несправедливо выставленных двойках вы говорили? — спросил он мать ученика.
— А как же! — оживилась она. — Ни разу ребенка по русскому не спрашивали и двойки в дневник поставили. К нему придираются, а у него сложная психика. Альфред очень способный ребенок…
— Это вам Альфред объяснил насчет двоек? — невесело усмехнулся Волин.
Он достал из стопки тетрадей одну, где делал свои отметки, и начал ее внимательно рассматривать.
— Ты двадцать первого правило не выучил? — обратился он к Альфреду.
— Не выучил, — покорно опустил голову тот, понимая, что отступать некуда.
— А двадцать шестого диктант плохо написал?
— Плохо, — еще тише ответил мальчик.
— А двадцать восьмого домашнюю работу не сделал?
— Не успел… — прошептал Гузиков, пряча глаза от матери.
— Альфред! — с воплем всплеснула она руками. — Ты мне лгал? За что же я купила тебе велосипед? Альфред!
— Слушай, парень, — нахмурился Борис Петрович, — совесть-то у тебя есть?
В это время в кабинет вошел крохотный Костя Бударов и, поглядывая исподлобья, выжидающе остановился у двери. Он был щедро разукрашен синяками, но, видно, не собирался никому жаловаться.
— Поглядите на этого «тирана!» — обратился Борис Петрович к Гузиковой.
Альфред стыдливо потупился.
ГЛАВА XIII
Леонид Богатырьков возвратился домой в четыре часа дня. Неторопливо разделся, положил портфель на свой стол и заглянул в соседнюю комнату. Там сестра, старательно склонившись над тетрадью, немилосердно грызла ручку; светлые косички перекатывались у нее по спине.
— Ленечка, — увидя брата, вскочила Тая, — у меня задачка не получается, — решаю, решаю, никак не выходит. Хоть умри!
Она умоляюще посмотрела на Леонида и в ожидании слегка вытянула вперед пухлый подбородок.
Леонид подсел к столу, не спеша прочитал условие задачи, подумал: «И мы в шестом классе эту решали», заглянул в тетрадь сестры и осуждающе сказал:
— Ход решения у тебя правильный, а вычисляешь невнимательно… торопишься.
— Я уже час вычисляю! — с отчаянием воскликнула Тая, но покорно села на стул, — знала, что иной помощи от брата не дождешься. И мама вот такая же, говорит: «Сама думай!» А если не надумаешь — покажет, но зато еще две задачи даст… Другой раз и не захочешь, чтобы за тебя решала.
Тая вздохнула и с силой опустила перо в чернильницу. На балконе промяукала кошка. «Дать ей хлеба? Нет, — потом, а то Леня опять скажет: „рассеиваешься“». Запахло паленым.
— Леня, что-то горит, — потянув маленьким носом, озабоченно сказала Тая.
— Ты знай работай! — добродушно посоветовал брат. — Я сам разберусь, горит или не горит…
Он вышел в коридор. Оказалось — соседский мальчишка жег резину.
Леонид принес со двора воды, наколол дров на завтра и, умывшись, сказал сестре:
— Пойду за Глебкой в детский сад.
Он выбрал самый ближний путь: через стадион, трамвайное полотно и строительную площадку.
«С Афанасьевым попрошу поговорить Костю. Он его так проберет, что Игорю не захочется больше драться», — думал Леонид, лавируя между штабелей досок. «В таких случаях сильнее всего действует общественное мнение… Но, с другой стороны, Анна Васильевна просила и помочь ему в учебе… Он начал отставать».
Путь преградила глубокая канава, Богатырьков легко перескочил через нее.
«А жаль со школой расставаться. Конечно, и на заводе появятся друзья, — Леонид решил по окончании школы поступить на завод, — и будет очень интересно, но здесь все так знакомо и дорого… Как хорошо Пушкин сказал: „От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам“».
Богатырьков вошёл во двор детского сада. Двор был широкий, с клумбами и горками чистого песку.
Глебка сидел на скамейке у веранды и увлеченно беседовал со своим другом Тодиком, таким же, как он, мальчиком лет шести, курчавым, как барашек.
Леонид подошел, к ним незамеченный.
— У меня кашлюк был, — с гордостью сообщил в это время Тодик, несколько свысока глядя на своего друга, — а у тебя?
— Не было, — виновато признался Глебка, — у дади Степы был, — стал фантазировать он, но тотчас спохватился, — нет, то у него пендицит был… — У Глебки совершенно белые волосы и губы такие полные, словно он постоянно немного обижен.
Увидя старшего брата, Глебка ринулся к нему:
— Ленчик! Ленчик!
По дороге домой он болтал безумолку:
— А Тодик говорит: «У меня папа директор театра», а я говорю: «А у нас мама новые машины выпускает. Самые, самые новые! Две нормы делает». Ленчик, я когда вырасту, тоже буду два нормы делать…
— Ну, еще бы! — добро усмехается Леонид. — Конечно, будешь.
Рядом с Глебкой он выглядит еще взрослее. Спортивная байковая куртка с широким поясом делает его плотнее, кряжистее.
Крепко держа брата за руку, Леонид идет, стараясь соразмерить свои шаги с его маленькими и быстрыми, — но это ему не удается.
— Ты сегодня самолетик мне сделаешь? — деловито осведомляется малыш, снизу вверх поглядывая, на брата.
— Сделаю завтра, — баском отвечает тот.
— С мотором? — допытывается мальчик и ногой подбивает спичечную коробку.
— По специальному заказу, — улыбается Леонид, — Завтра и к папе пойдем.
Василий Васильевич Богатырьков вторую неделю лежит в больнице.
В прошлое воскресенье Леонид пришел в палату позднее всех. Отец лежал возле окна и читал книгу. У Леонида сжалось сердце при взгляде на его лицо, измученное болью, с комками морщинок у сухих уголков рта.
— Пришел, сынок! — обрадовался отец. — Мама говорила, что ты запоздаешь… Ну, как ваш воскресник?
Леонид неторопливо пододвинул стул к кровати, положил на тумбочку какой-то сверток.
— Сто десять деревьев посадили! — И с тревогой в голосе спросил: — Больно, папа?
— Да, что ж душой кривить, больновато, — признался отец. — Врачи говорят нежно: «камешки в почке», а мне кажется — булыжники ворочаются.
Он добродушно рассмеялся и положил шершавую ладонь на руку сына.
В палату вошла сестра. Она ходила между коек так осторожно, будто ступала босыми ногами по острым камням.
Где-то близко прозвонил на обед колокол, в окно Леониду видно было, как из машины выгружали фрукты.
— Как у вас с Балашовым? — спросил отец и поправил подушку. Ты бы как-нибудь привел его к нам домой…
Леониду очень приятна была и эта заинтересованность отца школьными делами, и его всегдашняя готовность помочь ему, и то, что разговаривал с ним отец, как с равным.
Но сейчас, в больничной обстановке, ему не хотелось говорить о школе — это казалось здесь неуместным.
— Мама собирается зайти к Балашовым, — сдержанно ответил он. — а Борис бывает у меня…
Он умолк и, ласково глядя на отца, стал неловко раскрывать сверток на тумбочке.
— Я вот тебе принес… — сказал он смущенно, поставив банку любимых отцом маринованных огурцов. Леонид разыскал их в магазине на другом конце города.
— Э, родной, вот этого-то мне как раз и нельзя! — с сожалением воскликнул отец и даже вздохнул. — Жалость-то какая, нельзя!
Леонид огорченно поглядел на банку и решительно завернул ее снова в бумагу.
— А ко мне вчера товарищи приходили, — сказал Василий Васильевич, и лицо его просветлело. — Наш цех на второе место вышел по заводу… Знаешь, как радостно?
От недавнего укола атропина зрачки его расширились и возбужденно блестели, он устало откинул голову на подушку. Палатная сестра издали посмотрела на Леонида, и тот, поняв, что пора уходить, встал.
— Ты за Таей приглядывай, — попросил отец, слабо пожимая руку Леонида, — ей усидчивости нехватает. Пусть она чаще вслух читает, с выражением…
…Сейчас, идя с Глебкой, Леонид вспомнил этот разговор с отцом и беспокойно подумал о сестре: «решила ли?»
Потом мысли его невольно возвратились к Балашову и товарищам. «Конечно, Костя прямее, душевнее Бориса, а Виктор скромнее и внутренне гораздо богаче его, но и Борис хороший парень, я в этом убежден; надо только, чтобы рядом с ним были добрые друзья».
Дома Леонида и Глебку уже ждала мать — Ксения Петровна. Она подогревала обед, и в кухне вкусно пахло жареным луком. На раскаленной плите клокотал и побулькивал суп.
— А, Богатырьковы прибыли! — увидя сыновей, радостно блеснула молодыми глазами быстрая в движениях и речи Ксения Петровна. — Тая, накрывай на стол! Мойте руки! — и, отбросив со лба прядь светлых волос, стала энергично скрести ножом кухонный стол.
Девочка с гордостью посмотрела на Леонида, и он, не спрашивая, понял, что задача решена.
Вчетвером они сели за стол. На матери было синее, в белую крапинку, платье, дети его особенно любили.
— Главному помощнику! — протянула Ксения Петровна Леониду тарелку супу, ласково улыбаясь круглым, с ямочками на щеках, лицом.
Глебка, вооружившись ложкой, терпеливо ждал своей очереди.
— Мамуня, — спросила Тая, поднимая на мать такие же голубые, как у нее, глаза, — Машу в комсомол приняли?
Богатырькова работала на заводе контролером, а помощницей у нее была молоденькая Маша Плетенцова, частая гостья в их семье и любимица Таи.
— Нет еще — готовится, — ответила мать и испытующе посмотрела на дочь, — да и тебе об этом пора подумать.
Девочка радостно вспыхнула.
— Мне только через три месяца можно будет…
После обеда Леонид ушел к себе заниматься. Тая, вымыв посуду, отправилась к подруге, в квартиру через коридор, а Ксения Петровна, поставив на стол швейную машину, склонилась над шпулькой.
— Мама, — обнял ее за шею Глебка, — а ты обещала рассказать, как Сталина видела.
— Раз обещано, значит, закон, — улыбнулась мать и немного отодвинула машину. — Ну, садись рядком, потолкуем ладком. — Глебка с готовностью подтащил свой стул к стулу матери, коленками уперся в ее колени и приготовился слушать.
— А дело было так… Приехали мы в Москву, рабочие с разных заводов, поговорить, посоветоваться, как еще лучше работать… И застал нас в Москве праздник майский. Пошли мы с утра на Красную площадь. Поглядел бы ты, что там было! Знамена, народ — вся Москва!
И как на беду — дождь. Да такой сильный! Так думаешь, кто-нибудь ушел? Ни один человек! Все идут, идут мимо трибуны. Ждут, вот-вот родной наш Сталин появится.
А дождь поутих и кое-где над площадью уже голубое небо проглянуло. Мы в это время как раз проходили мимо мавзолея, смотрим — Сталин!
Глебка сидел, затаив дыхание, устремив на мать горящие глаза.
— Рукой помахал, и каждому кажется — это ему привет… И будто солнышко засияло!
Свет лампы падал на сблизившиеся головы матери и сына. Было очень тихо. Пел свою песенку счетчик у окна. Из-за стены едва слышно доносились звуки пианино.
Леня у себя в комнате захлопнул книгу и начал негромко декламировать.
* * *
Костя, которому Богатырьков поручил «пробрать, как следует Афанасьева за драку», приступил к делу с присущей ему решительностью.
Разыскав в коридоре Игоря, он кратко сказал ему:
— После шестого задержись. Будет крупный разговор.
Сначала все шло так, как предполагал Рамков: он с Игорем отправился домой, путь их лежал через сад, и никто им не мешал. Костя, заранее продумавший, о чем он будет говорить, начал строго:
— Ты почему затеял драку?
В этом месте Игорь должен был оправдываться, а Костя — обрушиться на него со всей силой общественного гнева.
Но Игорь тихо сказал:
— Костя, я тебя очень уважаю…
У него дрогнул голос.
— Но ты пойми… если бы… о твоем отце… что он последний человек, и такая гадость, что дальше некуда…
— Во всяком случае, — не отказываясь от обвинительного тона, продолжал Костя, — я бы не дрался, а обратился к организации…
— Не могу… — еще тише, через силу сказал Игорь я опустил голову так низко, словно ее прижимал кто-то к его груди.
— … мой отец… правда такой… Он бросил нас…
Игорь начал рассказывать и не смог, зажал рот рукой, не давая вырваться рыданьям.
Горе товарища было таким огромным, так охватило все его существо, что Костя растерянно забормотал:
— Ну, что ты, что ты… Брось, — он стиснул хрупкие плечи мальчика, — мы тебе поможем. Вот чудак, да брось же!
Игорь, наконец, овладел собой и поднял голову.
— Я только тебе, Костя… Ничего, мы и сами… С мамой…
— Я понимаю… Я вот поговорю с Леней, с ребятами. Ну, тюка! Выше голову, гвардия! Вот так!
* * *
Девятиклассники Костя, Сема, Виктор и Борис договорились придти к Богатырькову под выходной день.
Юноши любили собираться в большой, просторной комнате Леонида. Им нравилось и спокойное гостеприимство хозяина, и то, что мать Леонида тактично не заходила в комнату сына, когда там находились его друзья, и то, что они могли свободно говорить обо всем и чувствовать себя непринужденно.
Леонид больше, чем с другими, дружил с Костей Рамковым, — у них было много общих интересов, дел, и эта дружба приближала Богатырькова ко всем девятиклассникам, которых он шутливо называл «нашими преемниками».
Первым пришел Костя. По тому, как он с размаха нацепил свою фуражку на крючок вешалки, как стал прохаживаться по комнате, Леонид сразу определил, что его друг чем-то взволнован.
— Леня, — останавливаясь, тревожно сказал Костя, — с Игорем Афанасьевым дело сложнее, чем мы предполагали.
— Упорствует?
— Нет, не то… Ты знаешь, почему он все забросил? У него страшный разлом в семье.
Костя опять начал быстро ходить по комнате.
— Я бы таких отцов, что думают только о себе… я бы их выселял на необитаемый остров, как вредный для общества и государства элемент!
Леонид улыбнулся.
— Ты всегда предлагаешь самые крутые меры.
— Ты бы посмотрел на Игоря! Он извелся. Слушай, ему надо помочь! И помочь немедленно!
— Хорошо, комитет комсомола помирит отца и мать Афанасьева.
— Неуместная и бездушная шутка! — вспылил Костя. — Ты так рассуждаешь, потому что сам не знаешь, что такое разбитая семья!
Леонид пожалел, что так необдуманно пошутил. Еще до войны отец Кости бросил семью и, хотя с тех пор прошло много лет и отец Кости погиб на фронте, юноша не мог простить ему измены.
— Ты извини, — взял друга за локоть Леонид, — я сам готов помочь Игорю в учебе.
— Помоги, — сразу смягчаясь, попросил Костя, — но только главное: поддержать Игоря морально.
В комнату вошли Сема, Виктор и Борис, и сразу стало так шумно, как в классе на перемене.
— Братцы, поиграем в слова! — предложил Сема.
— А какое слово возьмем?
— Равнодействующая!
— Превосходство!
— Электрификация!
Остановились на слове «электрификация» и начали из него составлять меньшие.
Победителем, по-обыкновению, вышел Виктор.
— Ферт — такого слова нет! — доказывал Костя.
— Есть, — мягко возражал Виктор, глядя на Костю добрыми светлыми глазами, — это старинное название буквы «ф» и, кроме того, так называют самодовольного, развязного человека, который ходит как бы подбоченясь, как эта буква…
— Так ты бы сразу и сказал, что это наш Борька! — воскликнул Костя и, довольный шуткой, откинулся на спинку стула.
— Кустарное остроумие! — самолюбиво насупился Балашов.
— Ну, уж и обиделся, и обиделся! — протянул Костя и добродушно толкнул несколько раз Бориса ладонью в плечо.
— Давайте проведем блиц-турнир! — вскакивая, предложил Костя.
Шахматный турнир они закончили через полчаса и хохоча надели на шею чемпиону Семе мохнатое полотенце с подвязанной к нему луковицей.
— Там-та-ра-ра-ра-рам! — играл на губах туш Костя, а остальные, в такт ему, пристукивали подошвами.
— Я сейчас, — сказал друзьям Леонид и вышел в другую комнату.
Через минуту он принес отцовскую плащпалатку. Они расстелили ее во всю ширину на полу и каждый устроился поудобнее. Костя сел, скрестив ноги, Борис расположился полулежа, Сема, Виктор и Леонид привалились спинами к ножкам стола и кровати.
Друзья притихли и повели серьезные разговоры.
— Лучше всего читать первоисточники, — по-мальчишески важничая, говорил Сема, — ты понимаешь, — опираясь рукой о пол, повернулся он к Леониду, — нельзя быть, скажем, настоящим химиком, не изучив «Диалектики природы», не зная истории. Будешь узким специалистом, ограниченным человеком.
Леонид опять ненадолго вышел и возвратился с тарелкой, доверху наполненной подрумяненным «хворостом» в сахарной пудре.
— Дань мамаши нашему хуралу, — шутливо сказал он, — ставя тарелку на плащпалатку посреди комнаты.
Костя вытащил «хворост» подлиннее и, понюхав, понимающе сообщил:
— С ванилью!
Комната наполнилась аппетитным хрустом, и очень скоро тарелка опустела.
Рамков лег на живот, подперев щеки руками. Лицо его стало, строгим и мечтательным.
— Вы, друзья, думали уже, кто кем будет?
Виктор подумал: «Учителем», Леонид — «Конечно, электриком», Сема вслух сказал:
— Я бы хотел стать авиаконструктором.
А Борис промолчал.
— Я буду офицером, — признался Костя, расширив, словно полыхнувшие внутренним огнем, глаза, и голос его прозвучал со страстной убежденностью.
Он помолчал и добавил:
— Таким, каким был Сергей Иванович!
— Что-то орденов у него не богато… — небрежно заметил Борис и лег на спину.
Костя, возмутившись, вскочил.
— Да разве это главное? — сверкнул он на Бориса огромными глазами. — Выполняй самоотверженно долг и тебя будут чтить, уважать. И потом у Сергея Ивановича медаль «За отвагу». Не знаю, как ты, а я эту медаль очень высоко ценю — она боевая… и если бы я выбирал…
— Да ты не кипятись, это я просто так, — примирительно сказал Борис и улыбнулся. — Сергей Иванович, конечно, был храбрым офицером. — А про себя подумал: «Самое главное — честно служить Родине».
Рамков сразу успокоился и сел. Наступила тишина.
— Я вам даже больше скажу, — доверчиво проговорил Костя, — я хочу стать политработником. Разве не благороднейшее дело воспитывать наших воинов?
— Да, уж ты воспитатель! — с одобрительной улыбкой подтвердил Леонид, и все понимающе переглянулись, вспомнив, как в прошлом году Костя один заставил весь класс отказаться от неверного поступка.
В городе последний день шел интересный фильм, и они, тогда восьмиклассники, решили уйти с уроков. Кто-то подложил бумажку в патрон лампочки и торжествующе объявил: «Ура, света нет, айда в кино!» Все подхватили сумки, портфели и с радостными криками устремились к выходу. Но в дверях стоял Костя. Выражение лица его было решительным, он распростер руки и, словно для удара, подставил грудь.
— Ребята, — с тревогой закричал он. — Нельзя!
В его взгляде было столько убежденности, горячего желания остановить товарищей от неверного шага, что они невольно подчинились ему и отхлынули от двери.
…В соседней комнате Глебка что-то громко рассказывал матери, слов нельзя было разобрать, но доносился смех Ксении Петровны и звонкий голос малыша…
— Мы на комитете решили, — сказал Леонид, продолжая разговор, — провести в школе диспут на тему: «Что нам больше всего нравится в людях».
— Шумим, братцы, шумим, — насмешливо бросил Борис и повернулся на бок.
Леонид нахмурился, внимательно посмотрел на Балашова серыми продолговатыми глазами.
— Напрасно ты вышучиваешь каждое наше хорошее дело, — сказал он. — Ты, Борис, сам того не замечая, откалываешься от коллектива.
— Это ты сказал как Леонид или как ответственный товарищ Богатырьков — государственный деятель нового типа? — иронически приподнял бровь Балашов.
Обычно сдержанного Леонида на этот раз взорвало и, как это бывает со спокойными людьми, когда их кто-нибудь выведет из себя, лицо его стало неузнаваемым, оно то бледнело, то волна краски заливала его. Он вскочил и с негодованием взглянул на Балашова.
Виктор испуганно встал, Сема растерянно бормотал:
— Ну, что ты, Борис, разве можно так?
— Однако ты не очень-то гостеприимный хозяин, — криво улыбнулся Борис.
Леонид, овладев собой, недовольно подумал: «Да что я на самом деле?» — и, тяжело дыша, опустился на пол.
Костя гневно посмотрел на Бориса.
— Леня — хозяин и ему, может быть, неудобно тебе все сказать… Так это я, как гость, сделаю…
Костя пальцами обеих рук забросил свои рассылающиеся волосы назад и, отчеканивая каждое слово, произнес:
— Мы недовольны тобой. Откуда у тебя такой гонор? Почему ты не считаешься с нами, с интересами школы, учишься кое-как? Ты стал походить на стеклышко, возомнившее себя солнцем. Имей в виду, если ты не изменишься, то станешь чужим для нас человеком!
— Правда, Борис, — мягко поддержал Костю Рамкова Виктор, и его круглые, в золотистом пушке, щеки порозовели, — ты должен понять, что если хочешь иметь друзей, надо прежде всего самому быть другом.
Борис гибким движением поднялся.
— И здесь нравоучения, — процедил он сквозь зубы и, быстро одевшись, вышел.
Леонид чувствовал неловкость. От вспышки гнева у него не осталось и следа, но было досадно, что так хорошо начавшийся вечер закончился неудачно, и он — старший здесь и хозяин — не смог предотвратить этой стычки.
— Мы все на него так навалились… — виновато сказал он.
— Пусть подумает! Когда-нибудь ему надо было это сказать, — непримиримо возразил Костя и так крутнул пустую тарелку, что она закружилась на плащпалатке. — И лучше раньше, чем когда уже будет поздно, — решительно закончил он.
— Борис не такой уж плохой парень, — заметил Леонид, — фанфаронство у него напускное. В прошлом году знаете, как он помогал Диме Федюшкину из шестого «Б», когда Дима вышел из больницы? Объяснял по математике, делился всем…
Богатырьков сокрушенно вздохнул.
— Нет, комсомольцам его отталкивать от себя нельзя, — убежденно сказал он. — Ведь Борису жить и работать в нашем государстве, и нам не безразлично, каким он станет.
— Может быть, расшаркаться? Извиниться? — загорячился Костя: — Он, видите ли, в прошлом году помогал! Ура, ура! Ты пойми: учится с прохладцей, от роли в пьесе отказался, наплевал на коллектив, на работу в сад не вышел… — ах, у него голова болит! — учителям грубит. Так что, прикажете ему спасибо сказать? Или делать вежливое лицо? Не желаю! Категорически не желаю! Пусть подумает! И если у него не кровь, а нейтральная химическая жидкость, и для него наше мнение — ничто, он мне не товарищ! — Костя обнял руками колено и, упершись в него подбородком, стал напряженно смотреть в одну точку на полу.
Борис в это время шел по улице и мысленно вел спор с самим собой. «Они правы… Да, но об этом можно было сказать иным тоном… Подействует на тебя иной тон, когда ты стал эгоистом… Это неправда, я ценю их дружбу».
Мимо прогрохотал трамвай. В другое время Борис побежал бы и на ходу вскочил на подножку вагона, но сегодня он плелся, сгорбившись и втянув голову в плечи. Невеселые мысли не давали ему покоя.
ГЛАВА XIV
В длинной светлой учительской, с высокими окнами — шумно, как на ином уроке рисования. Два учителя — всегда педсовет, в комнате же человек двадцать, а это — по крайней мере педагогическая конференция.
Учителя особенно любят эту комнату, где со стены внимательно смотрит сквозь очки без оправы мудрый Макаренко, где красные флажки отмечают на карте Китая продвижение народных войск, где можно досыта побеседовать, прочитать «Учительскую газету» и выпить стакан чаю.
Солидный бритоголовый географ Петр Васильевич, добряк и знаток своего предмета, блаженно откинувшись на спинку дивана, рассказывает меланхоличной «француженке» о своих летних приключениях. Каждое лето с рюкзаком за плечами он совершает дальние походы и потом весь год рассказывает о них.
— Представляете, Капитолина Игнатьевна, добрался я до вершины Ай-Петри и вдруг — ливень, настоящий крымский ливень!
Капитолина Игнатьевна широко раскрывает глаза и восклицает по обыкновению трагически и слегка в нос:
— Это уж-жасно!
Искусно сделанная прическа почти совсем прикрывает ее большие уши. Она любит яркие длинные платья, большие сумки и крупные брошки.
У правой стены комнаты, под газетой «Учитель», сидит в кресле маленький ворчливый Глеб Степанович Багаров. Он влюблен в свой предмет — химию и неутомим в выдумках. Ребята прозвали его благосклонно-иронически «Сгусток энергии».
До поздней осени Багаров ездит на велосипеде. Перед каждым уроком химии несколько учеников-добровольцев стерегут появление Глеба Степановича. Вот вдали показывается маленькая фигурка, изо всех сил нажимающая на педали.
— Едет! — восторженно кричат снизу наблюдатели, и весь класс прилипает к окнам, — а дежурный спешит приготовить лучший сухой мел.
Ученики снисходительно прощают Глебу Степановичу рассеянность, и когда он, увлекшись, стирает с доски пальцами, они только добродушно перемигиваются, — мол, видели, в какой азарт вошел человек?
Однако Багаров всегда чем-то недоволен, кто-то ему вечно мешает работать так, как хотелось бы, суживает размах, приглушает инициативу. Он ссорится с бухгалтером школы из-за недополученных на стеклодувную мастерскую денег, с завучем — из-за невыписанной аппаратуры, с завхозом — ревнуя его к другим, и даже с директором, который, по мнению Багарова, уделяет больше внимания физическому кабинету, чем химическому. И хотя во время отпуска он вместе с Борисом Петровичем сутками пропадает на охоте, это ему не мешает, когда дело касается его бесценной химии, вступать в бон и с Волиным.
Громовым голосом, неожиданным для его маленького роста, он требует:
— Дайте мне развернуться!
Ему давали. Но он считал, что этого мало и требовал большего.
…Математики, собравшись в дальнем углу учительской, оживленно обсуждают чей-то урок; возле шкафа с книгами физкультурник Анатолий Леонидович рокочущим баском говорит молоденькому биологу:
— Вы знаете, как силен во мне школьный рефлекс? — он делает испуганное лицо. — Вчера пошел с женой в театр. Ну, в фойе обычный шумок. Так я чуть было не крикнул: «Тише!»— Анатолий Леонидович вздыхает: — Чисто профессиональное!
Учитель биологии улыбается, и его широко поставленные лукавые глаза превращаются в темные щелочки.
— А мотоцикл ваш жив? — спрашивает он Анатолия Леонидовича.
— Жив и здравствует! — с задором отвечает физкультурник, сверкнув рядом золотых зубов..
Анатолий Леонидович страстный мотоциклист. Из каких-то старых, неведомо где раздобытых частей, он вместе с ребятами собрал для кружка дребезжащий, бьющийся в припадке мотоцикл, при виде которого Фома Никитич неизменно отплевывался. Но как сияли лица создателей этого чуда, когда их сооружение победоносно проехало несколько шагов по школьному двору!
Учителя сидят на диванах, на стульях у стола, одни записывают что-то в журналы, другие переговариваются.
Снова раздается голос Анатолия Леонидовича.
— Фаина Михайловна, — вкрадчиво обращается он к худенькой ясноглазой женщине с прозрачной кожей лица, — а вы знаете серенаду, посвященную вам вашими признательными учениками?
Преподавательница пения Фаина Михайловна всплескивает руками и мелодичным приятным голосом говорит:
— Неужели? Это интересно! Расскажите!
Приняв торжественную позу, заложив руку за борт пиджака, физрук нараспев произносит:
До-ре-ми, фа-соль-ля-ми. Ты, Фаина, ее шуми! Если будешь ты шуметь, Перестанем песни петь!Фаина Михайловна звонко смеется.
В учительской Стоял негромкий, приглушенный гул, Яков Яковлевич назвал бы его «рабочим».
Беседуют об удачах и поражениях, радуются и возмущаются, но в каждом слове чувствуется страстная заинтересованность своим делом. И хотя говорят на десятки различных тем — об охоте и новом мотоцикле, о телевидении и балете, — в гамме голосов звучит этот постоянно повторяемый мотив. То там, то здесь слышится:
— Если учитель дает отрицательную характеристику, ни в пионеры, ни в комсомол принимать нельзя!
— Вы знаете, «Педагогическая поэма» вышла на болгарском языке…
— Ермолаев из пятого «В» сегодня сказал вместо «безобразничает» — «вульгарничает»!
— А у меня один знаток вместо. «жемчужина» написал «джем-чужина», джем-то он хорошо знает!
Рудина, увидев вошедшую Серафиму Михайловну, обрадованно подбежала к ней. Усадив на диван, стала оживленно рассказывать:
— Дала я им тему: «Кем бы стал Ванька Жуков, если бы жил в Советской стране?»
— Ну и что же? — спросила Серафима Михайловна и одобрительно, словно говоря «хорошая ты моя выдумщица», посмотрела на Анну Васильевну.
— Ой, чего только не написали! Определили Ваньку и в ремесленное училище, и в суворовское, и в институт, и дедушка приехал к нему, а потом Ванька стал героем Отечественной войны…
— Это они напишут! — улыбнулась Серафима Михайловна. — А как дела идут с подарками для родителей? Вы, Анечка, имейте в виду, если надо что-нибудь раздобыть — картон или фанеру — мои пострелята вам притащат с превеликим удовольствием.
Неделю назад Анна Васильевна предложила ученикам седьмого класса «Б» сделать к празднику Октября подарки родителям.
Предложение встретили скептически:
— Да ну!
— Что же мы подарить можем?
— Это они нам должны дарить!
Учительница возмутилась:
— «Должны!» А почему не вы, пионеры, должны? Знаете, как бы это интересно получилось? Полная тайна! Приглашаем на вечер ваших родителей. И вдруг сюрпризы: кто рисунок им подарит, кто полочку сделает, стихотворение напишет. А потом и в других классах начнут…
Она сумела их увлечь.
— С подготовкой все в порядке. Ученики — молодцы, — с гордостью ответила Анна Васильевна. — А вот их учительница сплоховала. Боюсь я завтрашнего семинара!
Серафима Михайловна и Анна Васильевна учились в вечернем университете марксизма-ленинизма. Завтра предстояла первая беседа.
— А мы сегодня, в порядке подготовки, пойдем в Дом учителя на лекцию, хотите? — предложила Серафима Михайловна. Рудина согласилась, они решили встретиться вечером.
В это время учитель биологии подсел на диван к Сергею Ивановичу и стал рассказывать:
— Вчера Пронин футбольным мячом разбил в классе стекло.
Анна Васильевна прислушалась.
— Я возмутился, а Пронин мне в ответ: «Ну, что тут такого? Я заплачу!» Понимаете? Он заплатит! Сегодня я в этом классе в конце своего урока минутки три урвал — прочитал отрывок из пьесы Островского — купчина разгулялся, кричит: «Бей, круши, за все заплачу!» Что же вы думаете? — Дошло! Пронин встает и виновато говорит: «Я тогда вам ответил, как купец»…
— Хорошо, что вы рассказали об этом случае, — подошла Анна Васильевна. — Я тоже кое-что предприму, и не только в этом классе.
Она вспомнила давний разговор с отцом Пронина, после той встречи отец часто звонил ей по телефону и приходил в школу. «Надо попросить его, — подумала она, — провести беседу со всей дружиной… рассказать, как рабочие охраняют Социалистическую собственность».
* * *
Яков Яковлевич быстро, словно догоняя кого-то, вошел в учительскую. Остановившись у стола, он обвел всех загадочным, сияющим взглядом и, подняв руку ладонью вперед, произнес:
— Товарищи! Минуточку внимания!
В выражении лица завуча, его торжественно приподнятой руке, было что-то до того значительное, что заставило всех сразу умолкнуть.
— Товарищи, — повторил завуч, — рад сообщить вам… Академия педагогических наук утвердила для чтения работу Серафимы Михайловны… Зимой Серафиму Михайловну вызовут в Москву…
Все знали, что Бокова, вот уже третий год, пишет работу о воспитании чувства чести у школьников, многие учителя помогали ей, и сообщение завуча принято было с радостью.
Сразу зашумели, словно посылали их всех, окружили растерявшуюся Серафиму Михайловну, пожимали ей руки, обнимали и напутствовали:
— Серафима Михайловна, главное — не теряться!
— В добрый путь!
— Восемнадцатая школа в гору пошла!
— А я завидую, по-хорошему завидую!
— Серафима Михайловна, давайте еще разок обсудим на педсовете ваши тезисы!
Бокова, взволнованная, оглядывалась вокруг, отвечала на рукопожатия.
— Мы и там будем вместе… Я расскажу прежде всего о вашей работе…
Она раскраснелась и сразу помолодела.
Багаров протиснулся к ней поближе.
— Серафима Михайловна, дорогая, — умоляюще начал он, — зайдите там в сто десятую школу, у них, говорят, в химическом кабинете… Короче, я приготовлю вам вопросничек.
— Хорошо, зайду, — с готовностью согласилась Серафима Михайловна, нисколько не удивляясь просьбе. Багаров сам охотно выполнял такие поручения.
— А на Садовом кольце, около Каляевской, есть магазин наглядных пособий… — продолжал Багаров.
Бокова покорно приняла и это поручение.
— Серафима Михайловна, — осуждающе глядя на Багарова, сказал завуч, — я дам вам несколько интересных работ восьмиклассников на тему: «Как мы боремся за честь школы».
— Вот за это спасибо! — обрадованно воскликнула Бокова.
— А мы с комитетом комсомола подготовим вам фотоальбом о Герое Светове, покажете в Академии, — раздался голос Сергея Ивановича.
— Вы в Москве остановитесь у мамы… Обязательно! — требовала Анна Васильевна.
— Но, может быть, это неудобно? Я стесню ее…
— Неудобно? — с недоумением, поражаясь такому предположению, переспросила Рудина. — Да вы никогда не можете стеснить мою маму!
В дверь учительской просунулась голова Бориса Балашова:
— Сергей Иванович, вы меня вызывали? — разыгрывая заинтересованность, спросил Балашов.
Кремлев нахмурился. Извинившись перед Серафимой. Михайловной, он направился к Балашову, отвел его в сторону и тихим властным голосом стал за что-то отчитывать. Можно было разобрать только: «Долго ли это будет продолжаться?.. ответственность… самоуважение». Балашов побледнел. Наконец классный руководитель отпустил его.
К Сергею Ивановичу подошел завуч. Вопросительно посмотрел на Кремлева:
— Напутствовали?
— Надолго запомнит, — коротко бросил Кремлев.
— А вот и напрасно, коллега, вы его именно сейчас вызывали, — мягко сказал Яков Яковлевич, — Этими внушениями в перемену мы только взбудораживаем, выключаем виновника из очередного урока, да… и правду сказать… мешаем своим товарищам отдохнуть.
Сергей Иванович удивленно посмотрел на завуча: «Вот о чем не подумал»… И вдруг сделал для себя открытие: ни сам Яков Яковлевич, ни директор никогда не выговаривали учителям перед уроками. В этом был свой смысл.
* * *
В учительскую вошел Борис Петрович.
— Кто ко мне на урок, товарищи? — громко спросил он. — Прошу в физический кабинет.
Раздался звонок. Несколько человек пошло за Волиным. В коридоре им встретились торопливо идущие учителя. Это была неисправимая категория вечно «въезжающих» в перемену. Не успевая записать пройденное, они, к огорчению товарищей, всегда с опозданием, под самый звонок, приносят в учительскую журнал и, на ходу протягивая его преемнику, говорят извиняющимся тоном: «Несу, несу! Простите, на минуточку задержался»…
Анна Васильевна, идя рядом с Боковой, виновато прошептала:
— У меня сегодня на уроке неприятность произошла: неверно назвала год рождения Некрасова. А они сразу заметили… Я не стала выкручиваться и говорю честно: «Ошиблась».
— И правильно сделали, — одобрила Бокова, — ошибиться каждый может, а лгать да изворачиваться — никому не простительно!
…Бориса Петровича учителя называли в шутку между собой «возмутителем спокойствия». Он с готовностью подхватывал каждое интересное начинание, не давал никому зазнаваться, жить прошлой славой и любил говорить, что нельзя авторитет завоевать однажды на всю жизнь, что его следует постоянно поддерживать и укреплять настойчивым трудом.
Волина неспроста назвали «возмутителем спокойствия». Он приглашал ученых города в школу на «Ломоносовские чтения», вместе с учителями посещал вечерний университет, сооружал с ребятами ветродвигатель. Если, придя на урок к учителю, Борис Петрович «с пристрастием» проверял знания детей или на педсовете придирчиво критиковал урок, то получалось это у него не желчно, не зло, а так, что учитель чувствовал — это делается для его же собственной пользы, и после кипения страстей дружба с директором становилась еще крепче.
Борис Петрович умел легко и просто сходиться с людьми: с охотником поговорить об охоте, с сельским плотником — о том, как лучше строить избу — в «лапу» или в «крюк», с пчеловодом — о таинствах сбора меда, и его искренняя общительность привлекала к нему людей.
Чутко прислушиваясь к работе школьного механизма, Волин сразу улавливал нарушение ритма или «холостой ход» и, опираясь на коллектив, принимал меры, чтобы подъемы были решительней, а спады — неопасными. Он понимал: успех школы зависит от учительского коллектива, и все свои душевные силы, весь свой большой опыт направлял прежде всего на создание такого коллектива.
Но первейшей и святой своей обязанностью Борис Петрович считал — быть честным учителем физики. Никогда, даже в дни самой большой занятости, он не отодвигал подготовку уроков на второй план. Если бы он это сделал, то потерял бы уважение к себе.
* * *
На урок Бориса Петровича пошли все, кто был свободен в этот час.
Борис Петрович не любил специально подготовленные «открытые уроки», называл их расписными пряниками, считал, что любой урок должен быть открытым, что к каждому из них учитель обязан готовиться так, словно бы знал наверное, что к нему придут взыскательные критики.
Когда учителя вошли в физический кабинет, девятиклассники были уже там. Двое из них — ассистенты — заканчивали расстановку приборов на длинной невысокой стойке.
Распределительный щит, реостаты, гальванометр делали комнату похожей на кабину какого-то фантастического корабля для межпланетных путешествий.
Кабинет физики был гордостью школы, ее детищем. Ученики своими руками собрали генератор, сделали киноэкран, подвели электропроводку к каждому столу, нарисовали портреты великих русских изобретателей и сталинских лауреатов-физиков.
Внес свою лепту и завхоз Савелов: две великолепные доски были его вкладом.
Учителя сели за дальние столы. Сергей Иванович оказался рядом с Анной Васильевной. Впереди них расположились Корсунов, Серафима Михайловна и Яков Яковлевич.
Волин начал урок не по укоренившемуся шаблону, не с опроса, а с рассказа. Тема — «Центростремительная сила» была, как назвали бы ее искатели внешних эффектов, «невыигрышной». По всему чувствовалось, что это обычный для Бориса Петровича урок, какие он дает всегда.
В синей куртке, седоволосый, торжественный, Волин походил на всемогущего волшебника: протягивал руку — и зажигалась лампочка, делал плавное движение — и гудели приборы. Он передвигал рычажки пульта, вращал центробежную машину, вызывал отвечать с места то одного, то другого ученика, рисовал на доске цветными мелками и уточнял ответы. Было такое впечатление, что класс вслед за учителем втянут в стремительное движение мысли, что какими-то невидимыми путями ему передается энергия учителя.
— Как вы думаете, почему наружный рельс железнодорожного полотна на заворотах приподнят? — пытливо спрашивал он у класса и тотчас же десятки рук тянулись вверх.
— Я вам позже задачу дам: рассчитать мертвую петлю, сделанную впервые в истории отважным русским летчиком Нестеровым, — мимоходом сообщил учитель, и любители таких задач нетерпеливо заёрзали на своих местах.
— Борис Петрович, — поднялся Рамков, — если можно, дайте сегодня.
Волин улыбнулся.
— К ее решению надо подойти…
Сразу после звонка все, кто был на уроке, собрались в учительской на обсуждение.
— Только без любезных расшаркиваний, — предупредил учителей Борис Петрович. — Прошу говорить, как всегда — прямо и честно.
Первым выступил Кремлев.
— Урок хороший, но, думаю, Борису Петровичу интересно послушать о кое-каких мелких недостатках, более приметных со стороны, а нам обменяться мыслями…
— Несомненно!
— Мне кажется, Борис Петрович, — продолжал Кремлев, — что когда отвечал Машков, вы напрасно остановили его на полуфразе… Интересно, как бы он дальше изложил свою мысль, какова логика построения…
Волин быстро записывал что-то у себя в тетради, но стоило Кремлеву на секунду умолкнуть, как он попросил:
— Вы продолжайте, продолжайте. Я внимательно слушаю.
— Полагаю, что физика как предмет, — Кремлев сделал шаг к столу, за которым сидели товарищи, — должна питаться и историей техники. Тогда научные положения предстанут в развитии. Я имею в виду не только исторические справки, но и сравнения, биографии ученых, борьбу этих ученых за новое, за приоритет нашей отечественной науки. Здесь и я, как историк, могу, Борис Петрович, быть полезен вам. Нам надо вместе подумать над этим…
Потом стала говорить, робея и смущаясь, Анна Васильевна. Она словно бы извинялась за то, что вот осмеливается высказывать свое мнение об уроке такого мастера, как Борис Петрович, но вскоре преодолела робость и, прижав руки к груди, взволнованно говорила:
— Я чувствовала движение самостоятельной живой мысли учеников. Нам всем надо стремиться развивать это движение… Вы простите, я, может быть, говорю неясно… Было дано много фактов, сделано много опытов, но все это — в системе, ученики подведены к пониманию законов диалектики… Об этом Энгельс говорил: вовсе не следует диалектические законы вносить в природу извне, а надо их найти в природе… Так? — спросила она у Бориса Петровича.
— Так, — с удовольствием подтвердил Волин, приподняв голову, и перестал писать.
— Вот вам и воспитание в обучении! — воскликнула Анна Васильевна будто сама сделала открытие, и все улыбнулись, а Яков Яковлевич с юмористической назидательностью оказал:
— Что и требовалось доказать!
Вечером Сергей Иванович и муж Серафимы Михайловны остановились у дома Рудиной, а Серафима Михайловна вошла в ворота.
Рудина заканчивала в это время письмо к подруге в Красноярск.
В маленькой комнате было тепло и тихо. Белоснежное покрывало на узкой высокой кровати, сияющие белизной скатерть и занавес на окне делали комнату светлой даже в наступающих сумерках.
На минуту Анна Васильевна перестала писать, задумалась, глядя в окно. С Варей, которой сейчас писала, она дружила в институте: они любили вот такими вечерами ходить вместе по Москве и мечтать о будущем.
Как она живет сейчас, хохотушка Варя? Она пишет, что вышла замуж, скоро станет матерью. Варя — жена и мать! Это как-то не вязалось с представлением о маленькой, смешливой непоседе, о Варюшке, которая на своем первом уроке, слушая бойкий ответ ученика, вдруг встревоженно остановила его, боясь, что ей ничего не останется рассказывать:
— Хватит, хватит, дальше я сама…
Когда студенты разбирали ее урок, Варя призналась: «Меня латка на классной доске загипнотизировала. Пишу мелом, хочу эту латку обойти и никак не могу, все на нее натыкаюсь».
Анна Васильевна придвинула лист бумаги и продолжала писать:
«Я здесь нашла таких товарищей, которые делают мою жизнь полной и радостной. Помнишь, ты всегда подтрунивала надо мною, называла неисправимым романтиком, говорила, что я склонна идеализировать людей. Право же, ты заблуждалась: просто книги Горького научили меня искать в людях прежде всего хорошее, чистое… И мне очень везет на встречи с хорошими людьми».
Предзакатное небо окрасило в розовый цвет лист бумаги, тонкие пальцы Анны Васильевны, ее лицо. Вечерние краски сгущались, наполняли комнату синеватыми тенями, но Рудина продолжала быстро писать — свет включать не хотелось.
«Варюша, близкая моя! Если бы знала ты, как я счастлива сейчас! Нет, это не самодовольство. Я знаю, у меня есть и болезненное самолюбие, и вспыльчивость, и нехватает терпеливости… но рядом такие люди! Они помогут мне все преодолеть. Понимаешь, рядом с ними нельзя быть плохой»…
В дверь постучали. Вошла Серафима Михайловна и сразу заполнила собой комнату, внесла в нее волну шума — громким голосом, решительной походкой. На эту квартиру Анна Васильевна переехала недавно, и Бокова здесь еще не была.
— Нашла-таки вас! Анечка, почему сумерничаете? Почему не одеваетесь? Нас ждут внизу мой муж и Сергей Иванович.
— Да я готова, — обрадованно сказала Анна Васильевна и повернула выключатель. Яркий свет на секунду ослепил их. Серафима Михайловна, прищурившись, весело смотрела на Аню. На ней было коричневое вышитое платье, и вся она с крохотными мочками ушей, черной родинкой над припухшими, наивными губами — показалась сейчас Серафиме Михайловне такой милой, свежей, юной, так вдруг растревожила ей сердце воспоминаниями о ее собственной молодости, что Бокова не удержалась и чмокнула девушку в щеку.
— В поход, в поход! — воскликнула Серафима Михайловна, делая вид, что не замечает, как смущенно зарделась Анна Васильевна от ее ласки.
Девушка спрятала в книгу письмо, поправила стопку ученических тетрадей на столе и, надев пальто, подошла к зеркалу. Бокова в ожидании ее остановилась у стола.
На всех вещах в этой светелке, как тотчас же назвала ее про себя Серафима Михайловна, лежал тот отпечаток девичьих рук, что сразу бросается в глаза, придает комнате свою особую прелесть.
Над столом в рамке репродукция картины Шишкина «Апрель»: стая грачей взвилась над по-весеннему оголенными деревьями, проступили лужицы подтаявшего льда на реке, и лодка на берегу, накренившись, привалилась к прибрежным безлистым кустам.
Возле стола, на этажерке — ровные ряды книг, пожалуй, их было больше всего в комнате.
Серафима Михайловна осторожно отодвинула узкую высокую вазу на столе с лиловыми слегка присушенными цветами «Сентябринами», как называли их в этих краях, и взяла в руки вышитую дорожку.
— Новая? — спросила она, с интересом разглядывая рисунок, сделанный художественной гладью.
Через несколько минут они вышли на улицу.
— Претите, что заставили вас ждать, — извинилась Анна Васильевна, когда они подошли к Бокову и Кремлеву.
— Пора им привыкать — густым голосом заявила Серафима Михайловна. — Рыцари, за нами! — скомандовала она и, продев руку под локоть Анны Васильевны, ласково привлекла девушку к себе: — Литераторша вы моя!
Они шли впереди мужчин, и Серафима Михайловна громко рассказывала:
— Я вашего Балашова встретила у школы, остановила: «До меня дошли слухи, Борис, что вы неважно учитесь… — дурная слава». Так, поверите ли, — оскорбился: «Это мой вчерашний день, — говорит. — Сведения, поступившие к вам, задержаны доставкой».
Они рассмеялись: Серафима Михайловна — баском, Анна Васильевна — звонко. Уж очень все это походило на Балашова, и они сейчас так ясно представили его, словно увидели перед собой.
— За Бориса сейчас и комсомольцы и мы все основательно взялись, — сказала Рудина. — Между прочим, он мои задания по литературе выполняет так, что любо слушать и читать.
— Вы представляете, Анечка, — воскликнула старая учительница, делая такие крупные шаги, что Анна Васильевна едва поспевала за ней, — читала я своим мальчишкам «Слово о полку Игореве»:
Ибо стали брат брату «Это мое! А то — тоже мое» — говорить И стали про малое молвить князья: «Это великое!»…Поднимается Петр Рубцов, есть у меня такой су-у-рьезный юнец, и вывод делает:
— Сплочения не было, вот и силы не было!
Серафима Михайловна с гордостью посмотрела на Анну Васильевну, призывая ее в свидетели исключительной развитости своих детей.
— Я поручила, Серафима Михайловна, Виктору Долгополову провести у вас в классе беседу: «Что значит быть пионером?» — ведь скоро у вас все они станут пионерами.
— Скоро, скоро! А вы, Анечка, когда проводите сбор в шестом «А»? Хочу прийти с Плотниковым — пусть посмотрит, послушает, уж больно тема для него подходящая: «Терпение и труд — все перетрут». В самую точку!
— Послезавтра. Приходите!
Они вышли на неширокую улицу. Коридор из деревьев упирался в темносинюю пропасть неба.
— Жаль мне будет расставаться со своими пострелятами, — призналась Серафима Михайловна. — Никак привыкнуть к таким разлукам не могу, как доведу до пятого класса, так жаль отдавать их. Да, кажется, в первом классе, что я получу в следующем году, будут и девочки, и мальчики…
— А я своим девятиклассникам предложила: прочитайте «Грозу» Островского и подумайте — кто виноват в гибели Катерины? — посмотрела на Серафиму Михайловну увлеченно загоревшимися глазами Анна Васильевна, — какие споры поднялись, какие споры! Вы знаете, как они любят изрекать философские истины, и все таким «высоким штилем». «Дикой — носитель грубой самодурствующей силы!»… А в общем-то мнения разделились: Рамков говорит: «Борис виноват!», Балашов: «Я считаю — Кабанова и ее милый сыночек», «Нет, — кричит Сема, — религиозные суеверия Катерины». И только наш классный мудрец Витя Долгополов застенчиво изрек: «Я думаю, Катерину погубил уклад тогдашней жизни».
* * *
…Слушателей собралось в Доме учителя много, лекция о международном положении была интересной, но лектор — высокий мужчина с быстрыми движениями рук — несколько позировал, «играл», и это не понравилось Сергею Ивановичу.
Каждый раз, когда лектор театрально замирал, готовя эффектную фразу, многозначительно приподнимал указательный палец правой руки, Кремлеву становилось неловко, он морщился, словно от боли. «Хороший лектор, — досадуя, думал он, — и не понимает, что сила в естественности. Попробовал бы говорить так перед учениками!»
Не понравилась Сергею Ивановичу и склонность докладчика к многозначительным недомолвкам.
После лекции Сергей Иванович попросил своих товарищей подождать его несколько минут у выхода, а сам прошел в кабинет заведующего Дома учителя, где лектор в это время надевал пальто. Больше никого в кабинете не было.
Сколько раз внушал себе Кремлев, что не станет вмешиваться «не в свои дела», но всякий раз нарушал обет, потому что каждое дело считал своим, не мог равнодушно проходить там, где чувствовал, что в состоянии помочь.
Вот и сейчас он подошел к лектору.
— Не посчитайте это за проявление нескромности, — просто сказал он, — но мне хотелось бы дать отзыв рядового слушателя…
— Пожалуйста, — с любезной улыбкой повернулся к нему лектор, готовясь услышать привычные для него похвалы.
Сергей Иванович высказал то, что он думал о лекции.
— Может быть, из ложной деликатности вам об этом до сих пор никто не говорил, и это вводило вас в заблуждение.
Лектор стал серьезным. Ему неприятно было услышать такую критику, но чутье опытного человека подсказывало ему, что она — не от желания поучать, а от честного стремления помочь.
— Спасибо, — искренне сказал он, — я подумаю над вашими замечаниями.
Сергей Иванович нашел своих товарищей на улице.
— Теперь вы меня извините, что я заставил вас ждать, дела, и здесь дела, — шутливо сказал он, обращаясь ко всем, но глядя на Анну Васильевну..
— Догадались мы уже, какие у вас дела, — засмеялась Серафима Михайловна. — Небось, отчитали? И поделом! Хорош, но нуждается в методических советах…
В разговор вмешался муж Серафимы Михайловны.
— Бывает так; и неплохо играет артист, но чувствуешь — он внутренне любуется собой, и невольно появляется неприязнь к нему… Не можешь забыть ни на минуту, что он играет. Или журналист… написал статью… и остроумно, и стилем хорошим, но сквозь строки пробивается самолюбование: «вы поняли, какой я умный… а этот, этот оборотец каков!» И читать не хочется!
— Верно! Так и в нашей профессии, — подхватил Кремлев. — Иной учитель как будто все делает правильно, а тошнит от его действий, потому что он видит не школу, а себя в школе, и все озирается: заметили? Оценили как следует его благородство, дальновидность, самоотверженность?
ГЛАВА XV
Электрические часы у почты показывали без четверти шесть, когда Кремлев, выйдя из трамвая, встретился с Вадимом Николаевичем. Корсунов обрадовался.
— Хорошо, что я тебя увидел. Пойдем ко мне, покажу радиоприемник новой марки…
Кремлев, сожалея, развел руками.
— Не могу… У меня в шесть часов исторический кружок.
— Подождут полчаса… Ничего не произойдет.
— Нет, нельзя, я приду к тебе завтра.
Он пожал руку Вадиму Николаевичу и пошел широким шагом к школе. Как будто ничего особенного и не сказал Вадим Николаевич, а в этом его «подождут» был весь он.
«Если к детям относиться с большим человеческим уважением, — думал Кремлев, — они ответят тем же».
Поднимаясь по лестнице школы, он прикидывал, с чего сегодня следует начать? Наверно, с организационных дел… Затем Костя Рамков сделает политинформацию, Сема Янович покажет аллоскопную ленту «Жизнь Радищева» и прочитает документы о Радищеве. Сергей Иванович помог Яновичу разыскать их в городской центральной — библиотеке. В конце занятия проведем викторину «Кто, где, когда?» Победителю Сергей Иванович решил подарить книгу академика Грекова с надписью: «От исторического кружка».
Интересно, сколько человек прийдет на занятие? Оно было третьим по счету. На первое явилось одиннадцать, на второе — семнадцать… Даже Борис Балашов пришел, — вероятно, чтобы разведать — стоящее ли дело?
Сергей Иванович поднялся до площадки второго этажа, мельком взглянул в окно. Внизу черную крышу невысокого дома устилали опавшие листья. Вот и осень глубокая…
Школьный сторож Фома Никитич, сидя на табуретке, недалеко от вешалки, одобрительно смотрел вслед Кремлеву.
«Самостоятельный», — с уважением подумал старик, вкладывая в это понятие свой особый смысл.
Фома Никитич был в некотором роде достопримечательностью школы, частью ее истории.
Раненный в русско-японскую войну, он, после госпиталя, поступил в маленькую частную гимназию, что была на месте нынешней школы. На его глазах, уже в советское время, школу расширили, и он точно помнил, в каком году какой корпус вырос.
Во время Великой Отечественной войны Фома Никитич оказал немалую помощь Волину, оставленному в городе обкомом партии для партизанской борьбы с оккупантами. Фома Никитич прятал оружие, был верным, надежным человеком. Его наградили медалью «За победу над Германией», и в первый день учебы, на октябрьские и майские праздники, он с гордостью прикалывал эту медаль рядом с георгиевским крестом.
Фома Никитич неизменно стоял «на вахте» в вестибюле у часов, давал звонки, а в свободное от службы время столярничал, — делал школьную мебель.
Трудно было бы представить себе восемнадцатую мужскую школу без Фомы Никитича. Его помнило несколько поколений, закончивших эту десятилетку, и если старые друзья-одноклассники встречались где-нибудь после долгой разлуки, один обязательно спрашивал у другого:
— Фома Никитич-то жив?
И тот, кого спрашивали, с радостью отвечал, подражая Фоме Никитичу:
— Еще ба!
И они весело хохотали, вспоминая, как не раз пытались провести Фому Никитича, отвлечь его внимание, улизнуть из школы и как всегда терпели неудачу — он разгадывал все их плутни.
…Сергей Иванович пересек зал. В пионерской комнате репетировал струнный оркестр. За дверью учительской — там заседал родительский комитет — слышался голос Ксении Петровны Богатырьковой:
— Нас двадцать семь человек, да актив… представляете, какая мы сила, если все придем на помощь учителям?
В приоткрытую дверь географического кабинета Кремлев увидел Серафиму Михайловну. Она с малышами мастерила карту. Склонившись над огромным полотном, расстеленным на столах, Бокова командовала:
— Толя — ножницы! Вот здесь мы изобразим новую железную дорогу. У кого фотография Сталинграда?
Войдя в исторический кабинет, Кремлев был приятно поражен: «Ого, да здесь человек двадцать пять!»
В задних рядах сидел Балашов. «Понравилось, дружок, — подумал Сергей Иванович. — Надо будет поручить тебе один из докладов».
Подойдя к столу, Кремлев взглянул на ручные часы.
— Восемнадцать ноль-ноль, — сказал он спокойно. — Начнем нашу работу.
Костя Рамков, быстро наклонившись к Долгополову, шепнул: «Военная точность».
Сергей Иванович достал из полевой сумки общую тетрадь, передал ее Рамкову.
— Здесь прошу отмечать, чем мы занимались. Поручите художнику красиво написать в начале тетради: страница почета. На нее по решению большинства мы будем заносить имена самых лучших и активных историков кружка…
— Сергей Иванович, — принимая тетрадь, сказал Костя, — я думаю, страницу почета надо покрасивее нарисовать: знамена, кругом лента…
— Конечно! Да вот еще что, — обратился Кремлев ко всем, — вы знаете ученого нашего города, профессора Сабурова? Как вы считаете, не следует ли избрать его почетным председателем нашего кружка и поручить трем кружковцам попросить профессора прийти к нам? Он недавно возвратился из очень интересной археологической экспедиции.
Руку поднял Костя Рамков, встал, энергично убрал со лба прядь волос.
— Предлагаю выбрать делегацию из пяти человек.
— Не многовато ли? — усомнился Сергей Иванович.
— Пять! Пять! — раздалось несколько голосов.
Главой делегации избрали Бориса Балашова.
— Он найдет там, что сказать профессору.
— Дипломат… — иронически заметил Костя.
Борис Балашов снисходительно улыбался, но чувствовалось, что ему приятно было это поручение.
— Нам надо, товарищи историки, выработать устав кружка, — предложил Кремлев. — Но по одному принципиальному вопросу следует договориться сейчас. Я думаю — членом кружка может быть только тот, кто по истории имеет оценку не ниже четверки. А это покажут итоги в конце четверти. Каково ваше мнение?
Кое-кто помялся, пробурчал: «А если способности средние?» — но руку за это предложение подняли все.
— А теперь подумаем о плане работы. Вы, Долгополов, хотите что-то предложить?
— Да, — поднялся Виктор. — Хорошо бы, Сергей Иванович, кино-вечер устроить. Показать фильм «Петр I», выставку в фойе сделать…
— И чтобы консультант от кружка сидел, на вопросы отвечал, — не выдержав, перебил Виктора Костя Рамков.
— Верно! — согласился Долгополов и кротко посмотрел на Костю, словно ждал, не будет ли тот еще говорить, но Костя, сам недовольный тем, что выскочил, нахмурился. — И потом интересно было бы, — продолжал Виктор, — писать историю нашего города.
В это время в коридоре школы директор с недоумением спрашивал у Толи Плотникова:
— Ты почему здесь так поздно?
— У нас кружок «Умелые руки», мы с Серафимой Михайловной карту делаем, — поднял Плотников вверх лицо со свежей глубокой царапиной во всю щеку и вдруг с гордостью сообщил:
— Борис Петрович, у меня двоек нет!
— Вот это молодец! — воскликнул Волин. — Порадовал, право порадовал! Передай маме: директор похвалил, сказал, что ты честный человек. Ясно?
— Ясно, — блаженно улыбаясь, подтвердил Плотников.
— А теперь достигай следующей высоты, чтобы троек не было!
— Трудно! — вздохнул Толя и потупился.
— Не спорю! «И косить тяжело, и копнить тяжело, только спать легко, да не нанимает никто!» Верно? — смеясь одними глазами, спросил директор.
Толя понимающе улыбнулся, воинственно выпятил грудь и убежденно воскликнул:
— Достигну! Вот посмотрите, Борис Петрович, — достигну! — И почему-то добавил: — А я с Леней Богатырьковым и Борей Балашовым дружу, они у нас были дома. Старшие товарищи!
— Добрые друзья! — похвалил Борис Петрович. — Ну, желаю успеха!
«Ишь ты… Старшие товарищи… Умеет сказать! А недавно заявил: „Бояре подстригли Шуйского под монаха“. Резонно. Если можно подстричь под бокс, то почему нельзя под монаха?»
Он пошел дальше и не видел, как Плотников от избытка переполнивших его чувств подскочил а дернул себя за ухо.
* * *
К восьми часам вечера школа погружалась в тишину. Уходил дежурный учитель, сделав последние записи в журнал, группами, оживленно обсуждая что-то, спускались по лестнице запоздавшие ребята. Хлопала внизу дверь. Фома Никитич начинал свой вечерний обход.
После восьми часов он становился, по его собственному выражению, «ночным директором». Ему оставляли «всю секретную часть», — ключи, и он, позванивая ими, раза два в течение ночи делал обходы: не попахивает ли где гарью, нет ли подозрительного шума? Сейчас он проверил, везде ли потушен свет, набросил громыхающий крюк на выходную дверь и ушел в свою комнатку.
Школа отдыхала.
Через два-три часа по домам уснут и ее неугомонные питомцы, и только учителя еще долго будут сидеть за своими рабочими столами, составлять конспекты уроков, проверять тетради.
Фома Никитич, придя в свою комнату, сказал удовлетворенно жене, вешая пиджак на спинку стула:
— Все в порядке… Объявляется перекур с дремотой…
Он снял ботинки, улегся в пестрых, старательно заштопанных носках на высокую, с широкими спинками, кровать, покрытую серым, почти до пола свисающим одеялом.
Протянув сухонькую руку к бра над кроватью, зажег свет, упавший ярким кругом на подушку, и, привалившись к матерчатому коврику на стене, стал читать вслух роман.
В комнате вкусно пахло печеным хлебом, громко постукивали ходики на стене. Фоме Никитичу не читалось: скучно без газет. Понедельник был самым нелюбимым днем его. Фома Никитич считал себя большим знатоком политики, знал названия партий и газет буржуазных стран, хорошо понимал десятки мудреных фамилий, любил делать политические прогнозы, комментировать Лукерье Ивановне международные обзоры, или поддразнивать ее, затевая антирелигиозные диспуты. В таких случаях она сердито говорила:
— Молчи уж лучше, шалаш некрытый. С тобой говорить, что кнутом по воде бить.
Отложив роман, Фома Никитич включил радио и добродушно предложил:
— Танцуй, бабка, што ж музыку даром расходовать! — и, довольный своей шуткой, расхохотался.
— Залился, залился, пустосмех, — начала беззлобно пробирать его Лукерья Ивановна, но Фома Никитич в последние годы стал туговат на ухо, особенно в сырую, как сегодня, погоду, и обращал внимание на воркотню супруги не больше, чем на жужжание мухи. Лукерья же Ивановна, вдоволь отчитав мужа, усмехнулась:
— Благодать: и душу отвела, и человека не обидела…
Пришел в гости завхоз Савелов. Сели пить чай.
Фома Никитич, аппетитно отхлебывая с блюдечка и придерживая его снизу растопыренными пальцами, говорил внушительно:
— Наш-то директор, Борис Петрович, — правильный человек. Школа, как тот смазанный механизм работает.
Он звонко откусил крепкими зубами кусок сахару и, пососав его, солидно продолжал:
— Мне вчерась говорит, наш-то директор, — не думайте, говорит, Фома Никитич, что вы есть винтик небольшой, неважный, — от вас многое зависит…
Он помолчал и значительно подтвердил:
— Еще ба! Стою на ответственном посту.
Фоме Никитичу на мгновенье представилась сияющая от восторга рожица Толи Плотникова, когда тот подбежал недавно к нему: «Фома Никитич, Фома Никитич, я по географии пять получил!» Он его тогда еще похвалил: «Молодец, Плотников, я же говорил, что у тебя голова, как у того министра. А ты кем полагаешь быть, как подрастешь?» — «Первым помощником Сталина!» — ни на секунду не задумываясь ответил Толя. — «Хорошее дело задумал», — одобрил Фома Никитич.
Старик при этом воспоминании улыбнулся и веско повторил, глядя на гостя:
— Свой ответственный пост имею.
— Да вы, Сидор Сидорович, вареньица побольше берите, — пододвинула вазочку Лукерья Ивановна.
— Благодарствуйте, — деликатно покашлял Савелов на тыльную сторону ладони и вытер большим платком широкое с красноватым отливом лицо.
Фома Никитич придвинулся к гостю вплотную, испытующе посверлил его маленькими глазками.
— Как полагаете, Сидор Сидорович, кто воспитал, к примеру, таких, как Гастелло? А?
Савелов посматривал выжидающе, знал, что отвечать в таких случаях не следует.
— А вашего сынка Петра инженером кто сделал? — продолжал допытываться Фома Никитич и после паузы убежденно воскликнул:
— На-аши ж! Учителя! Я считаю, — от их работы все будущее в полной зависимости. Верно? Скажем, вы и я — образования не получили… не дали нам его те буржуи… А теперь, — Фома Никитич приблизил свое лицо почти к самому лицу собеседника, всматривался в него несколько секунд и, откинувшись на спинку стула, закончил — всеобщее образование! Я в газете прочитал: двести тысяч школ у нас в Советской России. Шутка сказать — двести тысяч!
Он разгладил седые свисающие усы.
— Хочу я, Сидор Сидорович, — старик строго посмотрел на жену, предостерегающе свел на переносице седые брови, словно этим давал понять, что здесь уж не потерпит никаких возражений, — хочу письмо написать самому товарищу Швернику Николаю Михайловичу. Напишу: сорок один год в школе работаю… Досконально знаю, как учителя наши трудятся… знаком… и надо, Николай Михайлович, указ такой издать, чтобы учителям звание Героя Труда присваивали. Верно?
— Оно так, — согласился гость, — но только затруднительно определить качество. Скажем, зерно — это понятно: влажность, сорность… Или, к примеру, прокат стали…
— И здесь все ясно! — решительно прервал Фома Никитич, — Серафима Михайловна наша сколько людей достойных воспитала? Это вам качество? Есть у нее и герои, и ученые, — и никакой сорности. Или взять Бориса Петровича… — Фома Никитич опять подошел к излюбленной теме, и Лукерья Ивановна только поспевала подливать мужчинам чай.
* * *
…Закончив занятие с кружком, Кремлев вышел с несколькими ребятами из школы на улицу. Они проводили его до трамвайной остановки, подождали, пока сядет, и дружной ватагой двинулись в противоположную сторону.
— Он мне нравится, — словно продолжая ранее начатый разговор, признался Виктор Долгополов. Виктор не назвал имени Сергея Ивановича, но все поняли, что Долгополов имел в виду его.
— Резкий, — мимоходом, не настаивая особенно на своем мнении, бросил Балашов и начал что-то независимо насвистывать.
— С такими деточками, как мы, не только резким будешь — из себя выйдешь, — возразил Виктор и повернул к Борису свое круглое добродушное лицо. — Но зато Сергей Иванович не заигрывает… и нет у него казенщины. Когда мало — деловой и строгий, и всегда отзывчивый, как отец…
— И слов зря не тратит, а учит, — подтвердил Костя, стремительно перебросил сумку из правой руки в левую, — не то, что француженка — Капитолина, как заведет, как заве-де-ет свою машину: «Тише, тише, сколько раз вам, говорить… Почему вы такие несознательные? Вы уже не маленькие», — тошно слушать! А иногда мед точит, вроде она такая добрая: «Мальчики, перестаньте», — за нее стыдно!
Они были, как всегда, прямолинейно-жестоки в оценке взрослых и не делали никаких скидок.
— Химик вчера опять отличился, — презрительно усмехнулся Балашов.
Он шел несколько впереди товарищей и говорил не оборачиваясь.
— Кол мне поставил не потому, что я не знал, а за фамилию, — не нравится она ему. Мне теперь за химию тошно браться…
Он зевнул с деланным равнодушием.
И тут прорвалось долго сдерживаемое недовольство Корсуновым. Обрадовались возможности, хотя бы между собой, за глаза, отплатить недобрым словом за сухость, придирки, за то, что сторонился их.
— Воображает и любуется собой! «Я — свирепый», а толку-то от этой свирепости, — осуждающе воскликнул Рамков и даже побледнел от возбуждения. — И Борис Петрович строг, а у него не обидно двойку получить. После этого его даже еще больше уважаешь, а самому стыдно…
— Но химик хорошо знает свой предмет, — стараясь быть беспристрастным, возразил Долгополов.
— Метан презренный! — с новой силой обрушился Костя, — Просим его: давайте вечер химии проведем, так куда там! Как что нас касается — ему сразу некогда. Когда Анна Васильевна говорит мне, — Рамков энергично снял и снова надел фуражку, — «еще немного настойчивости и будет пять», так хочется действительно добиться, оправдать ее доверие. А этот, Кол Николаевич, замораживает: трудишься, трудишься и хоть бы слово похвалы, — ну прямо руки опускаются!. Дружков на пять ответил, а он говорит: «После тройки пять не ставлю».
— У председателя учкома отсталые настроения, — поддел Костю Виктор и, близоруко сощурив глаза, посмотрел добродушно на него.
— Ничуть не отсталые! Но нельзя же опрос превращать в допрос! Дело не в двойке его. Я и сам прекрасно понимаю, что требовательность нам на пользу. Но эту требовательность по-разному можно проявлять. А он во всем формалист!
— Я случайно слышал, как Сергей Иванович внушал «Колу», — живо сказал Сема, срываясь с баска на фальцет — «Нам пора работать с микронной точностью». Это, значит, в педагогике… А химик ответил, — Сема очень удачно скопировал его — «Рано об этом говорить, уважаемый товарищ, мы в педагогике ходим по колено в сугробах — едва ноги вытаскиваем, а ты нам пластикой советуешь заниматься».
— Вот в том-то и беда, — саркастически заметил Борис, небрежно просунув руку за борт пальто, — он «по сугробам ходит», а отдуваться приходится нам.
— Вспомните Гаврилу! — озорно блеснул глазами Рамков.
Так непочтительно они называли учителя русского языка в 6 и 8 классах Гавриила Петровича. Это был один из тех, сейчас уже нечасто встречающихся учителей, которые, приобретя в институте некоторые знания, на всю жизнь застывают в начальном положении, вопреки всем законам диалектики.
Познания Гавриила Петровича не выходили за пределы учебника. Он будто бы и старался, и к урокам готовился, но в классе сразу отдавал все, что было у него за душой, и, не имея «запаса прочности», беспомощно барахтался, если ему задавали вопросы.
Он нудно мямлил в ожидании звонка и, казалось, сам делал все, что мог, чтобы ребята у него на уроках баловались. У такого и не хочешь, а начнешь, от тоски и нудьги, придумывать себе развлечения.
— Да, Гавриле до пластики далеко! — улыбнулся Сема.
На перекрестке юноши остановились.
— Значит, у Виктора встретимся? — напомнил Костя. — Сергея Ивановича ты пригласил на именины? — спросил он Долгополова.
— Еще утром… Но не знаю, придет ли?
Они разошлись в разные стороны.
* * *
Сергей Иванович, расставшись с ребятами, хотел было поехать домой, но потом решил сойти у сквера, посидеть, подумать наедине.
Он выбрал скамейку в тени. Из-за ограды виднелись широкая улица, матовые гроздья плафонов. С утра шел дождь, к вечеру подморозило, и застигнутые врасплох листья деревьев, тяжело, неохотно, падали наземь.
Кремлев раскинул руки вдоль спинки скамьи и сидел отдыхая.
Классом он был доволен. Девятый «А» отрешался от своей замкнутости. Костя организовал в школе стрелковые состязания, Сема — шахматный турнир, Виктор все свободные часы пропадает у малышей Серафимы Михайловны. Не было такого большого дела в школе, которое девятиклассники не считали бы своим.
«Но вот — Балашов… Придется серьезно заняться воспитанием его родителей, а для Бориса найти интересное дело в школе… Главное же, самое главное — расширять опору в классе, неутомимо внушать: мы — частица общешкольного коллектива».
Уже теперь заносчивость Балашова не находила поддержки у класса, вызывала возмущение.
— Ты разыгрываешь из себя критически мыслящую личность, — прямо говорил ему Рамков, — нас нулями считаешь, но единица-то без нулей — ничто… Согласись, ничто?
Сергей Иванович улыбнулся, провел ладонью по высокому лбу. — Посмотрел на часы. Было около девяти. Он вспомнил, что Виктор просил его прийти сегодня к нему — отпраздновать день рождения. Сергей Иванович ответил ему неопределенно:
— Если смогу…
Сейчас решил: «Зайду на часок» — и, поднявшись, направился к выходу из сквера.
* * *
На главной улице в окнах витрин сверкали неоновые лампы, толпы гуляющих заполнили тротуар. Как и в каждом небольшом городе жизнь вечерами сосредоточивалась на этой главной улице, и она становилась шумной и многолюдной.
Сергей Иванович прислушался к разговорам. Паренек в матросском бушлате говорил белокурой девушке:
— Представьте себе шторм… и опять же — представьте себе маленькую посудину, по-нашему, шхуна. Но комсомольский экипаж…
— Скорость резания можно увеличить втрое!.. Я это доказал Никанору Алексеевичу практически, — жестикулируя говорил крепыш в длинном синем пальто.
«Каждый о своем, и каждый увлечен, — подумал Кремлев. — Вот бы подслушать, о чем говорили на этой улице сто лет назад и о чем будут говорить через столько же лет?»
К удивлению Сергея Ивановича торжество у Долгополовых не начинали, ждали классного руководителя. Здесь уже были Сема, Костя и другие друзья Виктора.
Сияющий именинник радостно встретил Кремлева.
— Спасибо, что пришли!
Сергей Иванович мысленно побранил себя: «Сухарь, не додумался купить подарок». Но тотчас нашел выход: достал из кармана гимнастерки самопишущую ручку и протянул ее Виктору.
— Извини, скромный подарок…
Скоро все уселись за стол, но учитель заметил, что ребята почему-то мнутся, многозначительно переглядываются.
«Ах, вот оно что!»
Посередине стола красовалась бутылка вина.
«Кто его знает, как следует поступать в таких случаях классному руководителю? Учебники педагогики этого не предусматривали. Сказать: „Я не пью“, — значит, быть ханжой; улыбнуться и твердо потребовать: „Уберите!“ — это будет вполне правильно… и немного глупо. Они, конечно, поставили эту проклятую бутылку не потому, что уж так им хотелось вина, а для испытания моей педагогической ортодоксальности. Вот хитрые, и глаза потупили — выжидают»…
Костя, сидящий ближе всех к Сергею Ивановичу, глядел прямо, и на его восторженном лице можно было прочитать: «Неужели вы, Сергей Иванович, после того, как мы вас так доверчиво, с открытой душой пригласили сюда, неужели вы будете сейчас читать нам нотацию о вреде крохотной рюмочки, сурово сдвинув брови, окажете: „Ни в коем случае“?»
Мать именинника — веселая, еще молодая женщина с совершенно седыми волосами, — желая выручить воспитателя, сказала извиняющимся тоном:
— Нас здесь, Сергей Иванович, шестнадцать человек… это по наперстку получится.
Когда же открыли бутылку, наполнили рюмки и пригубили их, Костя Рамков не выдержал и, пригибаясь к столу, беззвучно затрясся: в бутылке с винной этикеткой был квасок.
Вволю нахохотавшись, с увлечением набросились на пироги. Стало шумно и весело.
— Как хотите, но это непорядочно, — возмущался Кремлев, — вы безупречно держитесь на моих уроках и позволяете себе безобразничать на уроках французского языка. Я требую от вас…
— Сергей Иванович, — умоляюще сложил руки Сема Янович, — разрешите перейти на нейтральную тему…
Учитель рассмеялся.
— Пожалуй, правильно. Не будем омрачать именин.
Шумнее всех вел себя Костя.
— Близорук, близорук, — возглашал он, подмигивая в сторону Виктора, — а до торта через хлеб дотянулся!
Виктор смущенно отдернул руку от торта.
— Друзья, — не унимался Костя, — кто пробовал шампанское с горчицей?
Сергею Ивановичу приятно было, что его присутствие не сковывает ребят, что они оставались самими собой, хотя и не забывали о нем. Расстояние между учениками и учителем — естественно. Но оно должно быть соответственным образом окрашено, и дело учителя позаботиться об этом.
— Сергей Иванович, возьмите, пожалуйста, — через стол подал учителю самый большой кусок торта Костя и, покосившись на Виктора, хитро добавил: — От прогрессивной и наиболее сообразительной части нашего общества.
Сам Костя ел очень мало, но больше всех заботился, чтобы у соседей на тарелках было полно. Убедившись, что все заняты едой, Костя начал приставать к имениннику:
— Нет, ты скажи, скажи несколько раз быстро: «Съел тридцать три пирога с пирогом да все с творогом».
В передней раздался звонок. Открывать пошла мать Виктора. В дверях показался широкоплечий Богатырьков. Он действительно походил сейчас на юного Добрыню Никитича, каким его рисуют в былинах: широкоскулый, с сильной шеей, открытым добрым лицом. Нехватало только русой редкой бородки.
Богатырькова встретили радостными возгласами: — Леня, скорей!
— Твоя порция забронирована!
— Со щитом! — с гордостью сообщил Богатырьков, не спеша приглаживая ладонью светлые, немного взлохмаченные волосы и усаживаясь между Семой Яновичем и Костей. — Заводские ребята обещали привезти Плотниковым уголь.
— За дружбу! — сияя огромными темными глазами, порывисто вскочил Костя Рамков и энергично, словно что-то поднимая, взмахнул руками снизу вверх, предлагая всем встать.
А когда друзья его поднялись, он повторил:
— За дружбу! — и как дирижер подал рукой знак.
— Ура! Ура! Ура! — подхватили все.
Кто-то опять позвонил.
— Не беспокойтесь, я открою, — вскочил Костя и побежал в коридор.
Он, видимо, был здесь своим человеком, и мать Виктора крикнула ему вдогонку:
— Костенька, крючок там справа…
Костя возвратился, размахивая над головой полоской бумаги.
— Громадяне, телеграмма имениннику!
Виктор приподнялся из-за стола. «От кого бы это?» — удивился он, распечатывая телеграмму.
— От четвертого «А» и Серафимы Михайловны, — радостно воскликнул Виктор, и телеграмма пошла по рукам.
ГЛАВА XVI
Неуютно в большой комнате, зябко прижимаются к полу вещи, ветер то врывается в чердачное оконце и надсадно воет, то свирепо сечет стекла струями дождя.
На кровати, вытянув поверх одеяла тонкие руки, дремлет мать Игоря. На стуле, около нее, термометр, бутылка с лекарством, крохотное блюдце с надрезанным лимоном.
Игорь, сидя у лампы, пытается решать задачи по алгебре, но мысли его все время возвращаются к отцу, и чем больше думает он о нем, тем враждебнее эти думы.
— Игорек, — слабым голосом зовет Людмила Павловна.
Он осторожно садится на ее постель, мягко кладет руку на одеяло.
— Больно, мама?
Она смотрит на сына широко открытыми бархатными глазами. Во взгляде ее и мужественное желание скрыть свои страдания, не огорчать сына, и любовь к нему, и боязнь за его будущее.
— Теперь лучше, — говорит она. — Я почти совсем здорова. Завтра встану. Давай поговорим, как взрослые. Ты уже все можешь понять… Я не хочу насильно удерживать тебя… У отца другая жена, но ты ведь любишь его… Если хочешь, живи с ним, а ко мне в гости будешь приходить. Ты не беспокойся… я сильная.
Дальше Игорь не может слушать. Все, что передумал, перечувствовал он за эти месяцы, сплелось сейчас в клокочущий клубок, залило нестерпимым жаром грудь, лицо, сдавило горло. Хотелось плакать, но слез не было.
Он припал к матери с такой страстностью, так судорожно, словно у него кто-то хотел отнять ее, и заговорил захлебываясь, успокаивая:
— Ничего… мама… Мы сами… Ничего…
Когда же через несколько минут он приподнял свое лицо, мать поразилась. Оно сразу стало старше, совсем взрослым, как у человека, преодолевшего очень тяжелую болезнь.
Заплакал во сне братишка. Игорь подошел, постоял тихо над ним. Спит. Снова сел рядом с матерью.
— Не бойся, мама, мы не пропадем, — сказал он спокойным голосом. — Я окончу семилетку, поступлю работать. Хорошо окончу, вот посмотришь! Мнет сегодня Костя Рамков, из девятого класса, говорит: «У тебя же сильная воля!» А потом Леня, наш секретарь, встретил и спрашивает: «Готовишься в комсомол?» У нас, знаешь, какие ребята в школе? А учитель истории, Сергей Иванович, дневник мой проверяет…
И они, прижавшись друг к другу, стали тихо говорить о том, как устроят теперь свою жизнь.
* * *
Анна Васильевна никак не могла уснуть. Уже давно умолкли шумы в доме, выключили соседи за стеной радио, а девушка все ворочалась на постели.
Чем могла она помочь Игорю? Что надо было предпринять? Она не имела права проходить посторонней наблюдательницей мимо жизни Игоря и спокойно смотреть, как он все более замыкается, уходит в себя от товарищей, от нее. Но что же делать? Что вообще понимала она, выросшая в очень дружной семье, не знавшей разлада, что понимала она в таких вопросах, какой встал перед нею сейчас?
Пойти к отцу Игоря? Но, скорее всего, он даже не захочет говорить с ней на эту тему. Встретиться со второй женой Афанасьева? А вдруг она выгонит или скажет: «Вы лезете в чужие дела».
«Нет, не чужие! Не чужие!» Она скажет и ему и ей: «Как можете вы так бессердечно относиться к детям, ломать их жизнь? Кто дал вам на это право? Ваша любовь? Но и в любви есть запреты! И разве общество не вправе сказать вам: „Нельзя. Нельзя, вы делаете преступление!“»
Нет, это все как-то не так… Они окажут: «Молоды вы учить нас». Что же делать?
Над кроватью, в темноте, тикали на стене отцовские часы, лунный луч проник через окно и осветил корешок пушкинского томика на этажерке. Что же делать?
Сегодня она была у Афанасьевых. Мать Игоря еще не возвратилась с работы. Игорь и обрадовался приходу учительницы, и застыдился: он с ложечки кормил братишку, измазал Петушку киселем нос и щеки, потому что кормя, заглядывал в лежащий на столе учебник физики.
В комнате был тот беспорядок разворошенного гнезда, что безжалостно рассказывал об отсутствии в доме мужской руки, о неумелых усилиях Игоря: вешалка держалась в углу на одном костыле, из-под криво постеленного на широкой кровати одеяла виднелась простыня, на стуле стояла кастрюля.
Рудина пробыла у Игоря с полчаса, не спросила его о главном, ради чего пришла, и он ей ничего не рассказал.
Она ушла ни с чем, очень недовольная собою. Надо было прямо сказать Игорю: «Мы знаем о твоем горе, но крепись, мы с тобой». Или к больному месту нельзя притрагиваться?
Анна Васильевна снова беспокойно заворочалась. Что же делать? Что делать?
Она уснула, так и не найдя пути, по твердо решив посоветоваться с товарищами и прежде всего с Кремлевым — его недавно избрали секретарем партийной организации школы.
Утром Рудина встала с головной болью, но полна решимости. В школу она пошла немного раньше начала своих уроков. Посмотрела расписание. Кремлев был на уроке.
Он вошел в учительскую не сразу после звонка, быстро направился к стойке для журналов, легким, свободным движением поставил журнал на место и достал папиросу. Лицо его еще было возбуждено от недавнего разговора с детьми, и в глазах не погас тот огонек, что появляется в минуту увлечения работой.
— Сергей Иванович, — подошла к нему Рудина, — мне очень надо посоветоваться с вами…
Она стала рассказывать об Игоре, о его семье, о том, что увидела у Афанасьевых, о своих мучительных поисках, и чем дальше слушал ее Кремлев, тем сосредоточеннее становился. Было видно, что рассказ Анны Васильевны взволновал его, и он сейчас тоже напряженно думал — чем же можно помочь Игорю?
— Что-то надо предпринять… — произнес он словно про себя, — всем нам… вместе. Знаете что, зайдемте-ка к Борису Петровичу.
У Волина была Серафима Михайловна.
— Ага, вот она! — воскликнула Бокова, увидев Анну Васильевну, — а я директору жалуюсь, что комсомольцы из девятого «А» с моими пионерами работают недостаточно. Виктор Долгополов — да! А выделен ведь не один он. Надо на комитете комсомола их заслушать. И Щелкунова из восьмого класса. Болтает да обещает много: «учком решил», «учком постановил», а сам ничего не делает.
Когда Борис Петрович и Бокова услышали рассказ Анны Васильевны о семье Афанасьевых, их лица помрачнели. У директора резче обозначились мешочки под глазами.
— Давайте, товарищи, попросим секретаря райкома партии вызвать этого «коммуниста» на бюро. Такого из партии исключать надо! — он так надавил карандаш, что сломался графит.
Сергей Иванович не согласился.
— Нет, я думаю, нам самим следует поговорить с ним, — возразил он.
— Это не Игорь! — сурово сдвинул брови Директор. — Читать мораль о долге и нравственности сорокадвухлетнему попрыгунчику, занятие, по крайней мере, бессмысленное… Знал, на что идет!
— И все-таки, — настаивал Кремлев, — надо нам, коммунистам школы, собраться вот здесь, у вас, Борис Петрович, сесть за этот стол рядом с отцом Игоря и прямо, честно сказать ему обо всем… Мы должны это сделать как люди, очень желающие добра его сыну и ему самому… И если совесть этого человека еще способна прислушиваться к голосу товарищей, если он еще коммунист, разговор не будет напрасным… Позвольте мне посоветоваться об этом в райкоме?
— Ну что ж, попробуем, — после долгой паузы неохотно сдался Борис Петрович.
* * *
Этот разговор состоялся через неделю.
После него Леонид Михайлович вышел из школы, как в тумане. Лицо его горело, сердце билось учащенно.
Когда директор позвонил ему на завод и попросил прийти, Афанасьев обещал, думая, что ему сообщат об учебе Игоря. Леонид Михайлович давно не был в школе, но теперь считал своим долгом прийти, и хотя бы так проявить внимание к сыну, которого любил и, как считал в глубине души, предал.
К маленькому тоже была жалость, и перед ним чувствовал вину, но какую-то совсем иную, чем перед Игорем. Может быть, потому, что к Петушку, не успел еще привыкнуть, а в Игоре вдруг увидел человека, по-взрослому переживающего разлад в семье.
Разговор в школе оказался мучительным. Леонид Михайлович не мог и уйти от него: рядом сидели друзья, и не мог оправдаться — разве оправдание то, что он сказал им:
— Семья была где-то далеко… да и увижу ли ее? А здесь очень хороший человек, ставший близким. Ей было сказано так много сердечных слов, что и от них отступить — большая подлость.
Тогда Волин сказал:
— Нельзя, Леонид Михайлович, строить счастье, разломав три жизни… Такой поступок ставит человека вне партии.
Леонид Михайлович посмотрел Волину прямо в глаза:
— Вы правы… нельзя, — ответил он.
Он не сказал при этом, что точно такую фразу недавно услышал от Нины, что только вчера, обняв его, когда он уходил на работу, она с тоской сказала:
— Не будет у нас с тобой, Леня, счастья… Крадем мы его. Мечтала я о нем по-бабьи, а не подумала обо всем как следует. Только о себе мы думали…
Он хотел ее успокоить, но сразу не нашел нужных слов и молчал. Не мог признаться ей, хорошей: «Нет не только счастья, нет и радости». Все чаще приходилось ему насильно заставлять себя не думать о детях, не идти к ним. Игоря стал любить еще сильнее, но боялся натолкнуться на детски-жестокую непримиримую правдивость. И Петушок тянул к себе. Вырастет, скажет: «Что же ты за отец… Изуродовал наши жизни»…
Выплыли на мгновенье лицо Игоря, красивое и строгое лицо жены Людмилы Павловны… «И перед тобой кругом виноват. Прости, если можешь».
ГЛАВА XVII
Сергей Иванович проснулся, когда едва забрезжило. Включил настольную лампу, — свет ее не потревожил спящего сына, и, выдвинув коврик на середину комнаты, начал бесшумно делать утреннюю зарядку.
Обмывшись холодной водой и докрасна растерев тело мохнатым полотенцем, Кремлев оделся и подсел к столу.
Сегодня у него были уроки древней истории в пятом классе и истории СССР — в восьмом.
Древнюю историю Сергей Иванович преподавал впервые, и ему приходилось «поднимать целину». В таких случаях он обычно разрабатывал всю тему. На отдельные листки записывал факты, выводы, ссылки на документы, и складывал все это в одну папку. В нее же трудолюбиво сносил потом выписки из журналов и книг, вырезки из газет, рисунки и карты. Это было увлекательное и непрерывное обогащение.
Пожалуй, ни в какой другой профессии нет такой требовательной обязанности ежедневно готовиться дома к рабочему дню, как у школьного учителя. Это становится необходимой частью его труда, условием успеха, заставляет его до глубокой старости, до последнего урока в жизни, обучая других, учиться самому.
Пятилетний сын Василек зашевелился в постели. Сергей Иванович подошел к нему. Нет, спит так, положа на подушку руку, словно что-то ловит ладошкой. Кремлев, опять подсев к столу, продолжал обдумывать урок.
Важно было показать Москву объединительницей Руси.
Сергей Иванович долго смотрел на небольшой портрет Дмитрия Донского — благородное лицо обрамлено густой бородой, из-под шлема смело глядят умные глаза. Хотелось ясно представить характер Дмитрия, то отдаленное время, в которое он жил, почувствовать «цвет и запах» эпохи.
«Да, не забыть рассказать, как приняли весть о разгроме „непобедимых“ татар европейские страны!»
Кремлев почти закончил подготовку урока, когда вспомнил, что не прочел отрывок из летописи. Мелькнула мысль: «Не обязательно все перечитывать». Но сейчас же сердито подумал: «Зазнаваться начинаешь… уповаешь на прошлые знания».
Он внимательно прочитал летопись и успокоился. Теперь явится в класс во всеоружии. Каждый урок надо готовить так, словно ты уверен, что на него придет инспектор.
Да он и действительно, будет, этот инспектор — твоя совесть учителя. Что может огорчить больше, чем неудача на уроке? И разве не портится у тебя настроение на весь день, если урок прошел не так, как хотелось?
Сергей Иванович заглянул в блокнот — какие сегодня дела? Райком партии поручил сделать в заводском клубе доклад: «Семья и школа» — это уже подготовил, только просмотреть тезисы и подчеркнуть главные мысли. Затем…
— Папуня, — раздался голос проснувшегося Василька.
Сергей Иванович подошел к сыну, взял на руки. Ребенок прижался к отцу теплым телом, от него исходил особый запах парного молока.
— Ой, ты колючий, — тихо, счастливо засмеялся мальчик, — ты сегодня скоро придешь?
Пока бабушка, Наталья Николаевна, одевала Василька, Сергей Иванович побрился, и они вместе сели завтракать. Потом бабушка повела мальчика в детский сад, а Сергей Иванович еще остался хозяйничать дома. Он смазал швейную машину, туже натянул сетку на кроватке сына и в десятом часу вышел из дома.
Надо было зайти до уроков в шестнадцатую школу, взять на время альбом исторических картин. В обеих руках Кремлев нес книги. Он никогда не ленился прихватить в школу самый увесистый том, если в нем была хотя бы маленькая иллюстрация к уроку.
Проходя мимо киоска с фруктами, Сергей Иванович невольно остановился. В окошечке киоска, на небольшом листе бумаги, было крупно написано:
«Срочно требуется „Книга для родителей“ товарища Макаренко. За ценой не постою».
Сергей Иванович с любопытством заглянул в окошечко. За прилавком стоял в белом переднике старик без фуражки. Сквозь редкие седые волосы на его голове просвечивала розовая кожа, внимательные глаза выжидательно смотрели на Кремлева.
— Скажите, пожалуйста, — обратился к старику Сергей Иванович, — почему вам так срочно понадобилась эта книга? — он глазами показал на объявление.
Старик обрадованно распахнул форточку и выглянул.
— Вну́чку воспитывать, — общительно объяснил он, — дочка моя плохо ее воспитывает. Чуть что — девочка на пол и верещит, прямо в ушах звенит. Ну, мама и делает все, что Галочка захочет. Так я своей дочери книгу эту хочу купить. — Он просительно посмотрел на Кремлева. — Вы мне не поможете, товарищ? Знаете, это такая замечательная книга!
Сергей Иванович с удовольствием посмотрел на старика.
— Попробую достать, — пообещал он, вспомнив, что у Серафимы Михайловны дома он видел два экземпляра этой книги, и пошел дальше.
Стояло ясное, зябкое утро. Поздняя осень чувствовалась в сероватых красках неба, неживом постукивании веток деревьев, в плотном, холодном воздухе, в том, как невольно поеживались и спешили прохожие.
Кремлев вспомнил такую же осень тысяча девятьсот сорок третьего года. Ночные марши, короткие привалы… Так же постукивали ветки деревьев, и тело окутывал холод, пробирался под плащпалатку. Три года всего прошло…
Батальон, которым он командовал, ворвался в Мелитополь на рассвете и устремился к вокзалу. Завязался уличный бой. Солдаты бежали вперед, падали и тотчас отползали в сторону, поднимались и снова бежали. Было единственное желание — страстное и всепоглощающее — взять вокзал! Как будто только от этого зависело все: окончательная победа над врагом, возвращение домой, счастье Василька и его собственное. Резко щелкали разрывные пули, лопались где-то позади, сбоку, и от этого казалось, что враг стреляет отовсюду. С хрустом, будто чьи-то огромные руки ломали гигантские сучья, ложились мины, вздымая комья мерзлой земли. Роты залегли.
— Вперед! За Родину! — простуженным голосом крикнул он и, вскочив во весь рост, стремительно кинулся к небольшому кирпичному дому, из окна которого бил неприятельский пулемет. Немного не добежал. Правую руку пронзила страшная боль, будто по телу прошел ток огромного напряжения. Попытался приподнять руку, но она сразу стала свинцовой, повисла плетью. В это время неподалеку разорвалась мина, и его волной повалило на землю…
Очнулся он в санбате. Все время, пока был в полубреду, тревожила мысль — взяли станцию или нет? Придя в себя, успокоенно улыбнулся: сестра читала соседу по койке напечатанный в газете приказ о присвоении его, Кремлева, дивизии особого наименования. Кремлев хотел крикнуть от радости и не мог — язык не подчинялся.
Сергей Иванович не считал себя смелым человеком, ему на войне не раз бывало страшно, однако он умел не показывать этого страха и слыл в полку храбрым офицером. Но чего он боялся больше всего, — может быть, больше смерти, — так это такого ранения, которое помешало бы ему возвратиться после войны в школу.
И вот случилось то, чего Кремлей так боялся: после ранения он стал заикаться. Перебитые кости руки постепенно срастались, пальцы уже действовали, рука набирала силу, а заикание не проходило.
Только тогда, когда человек теряет очень дорогое, он начинает понимать, как велика была та ценность, которой он владел.
Сергей Иванович и до войны знал, что школа для него значит очень много, но теперь она стала всем: без нее не было жизни. Он видел школу во сне, вспоминал ее, как вспоминают родной дом, воображение то и дело рисовало ему: вот он входит в класс, кладет на стол журнал, пробегает глазами по лицам ребят…
Покорно и терпеливо исполнял он все предписания докторов, и речь его стала ровнее. Но в это время новый удар постиг Сергея Ивановича: при налете на город фашистской авиации погибла его жена — Таня. Известие об этом пришло в госпиталь и вызвало резкое ухудшение здоровья Кремлева. Несколько дней у него был такой упадок душевных сил, при котором человек становится безучастным ко всему окружающему. Он стал молчалив, много курил, часами лежал неподвижно или слонялся вокруг госпиталя, избегая людей, отыскивая самые пустынные уголки.
За лечебным корпусом, в низине, извивалась речушка. Сергей Иванович пришел сюда в сумерках, угрюмый, худой, и сел у берега на поваленное дерево. Лед на реке припорошило снегом. Зажглись первые огни в поселке на другой стороне. Неподалеку два мальчика, лет по тринадцати, катались на санках. Вволю набегавшись, они вытащили санки на пригорок, чинно сели на них рядом, локоть к локтю, и, не обращая внимания на Кремлева, начали говорить о школе и учителях:
— Я люблю учителей строгих, чтобы требовали и пикнуть не давали, — сказал мальчик в большой папахе, которая то и дело съезжала ему на глаза.
— А мы своего физика вареной картошкой прозвали, — веселой скороговоркой сообщил другой, в стеганом ватнике. — Ну, такая мямля! Правда, добрый… у него ни за что четверку можно получить… Но это его тактика, — быстро пояснил он, — чтобы мы довольны им были.
— Такую четверку и получать неинтересно, — с пренебрежением сказал мальчик в папахе.
— Точно!
— Не-е-т, у нас физик, знаешь, какой? — захлебываясь от восхищения, воскликнул первый и еще плотнее придвинулся к другу. — Скажи в классе любому: «Отдай жизнь за Василь Андреича» — каждый согласится! Потому для Василь Андреича школа — все! И мы — все!
Ребята умолкли, сосредоточенно глядя перед собой на огни противоположного берега.
Сергей Иванович поднялся, расправил плечи, словно сбрасывая с себя большую тяжесть. «Довольно слабодушия, — думал он, решительно шагая к госпиталю. — Да, я потерял очень многое… Любимый труд, почти все личное, но есть большее, чем это личное. Есть строй борцов, из которого я не вышел и не выйду. Есть вот эти дети, что сидят на берегу… есть мой Василек…» Он вдруг почувствовал, что у него еще немало сил, что несчастья не сломили его.
После этого вечера здоровье его стало быстро поправляться, и вскоре Кремлев возвратился в часть.
Через год исчезло и заикание. Только в минуты волнений оно иногда появлялось.
* * *
Сергей Иванович пересек железнодорожный путь, миновал заводскую стену и парк и очутился у школы. На сиреневом полотне неба она выглядела особенно красивой. Ее белоснежные стены тесно окружала вереница каштанов. За узорчатой оградой с невысокими тумбами виднелись дорожки, большие вазы для цветов, клумбы и молодой фруктовый сад. На оголенных ветках деревьев, точно пришитые ниточками, трепетали редкие потемневшие листья.
Кремлев всегда с нетерпением ждал часа встречи с детьми, со школой, — каждый день подходил к ней немного волнуясь. Он свернул на прямую асфальтовую дорожку, ведущую к парадному входу, и прошел мимо скульптур, недавно выбеленных ребятами. На цементном пьедестале склонился над книгой комсомолец, против него, по другую сторону аллеи, пионер поднес к губам горн.
Сергей Иванович мысленно давал себе наказ на день: «С Богатырьковым пойду в парткабинет райкома, попрошу, чтобы подобрали Лене литературу для доклада. Надо посоветовать комсомольцам провести „выездное бюро“ в восьмом „А“. Собрать добровольцев для оформления стенда по Конституции. Здесь мне может помочь Анна Васильевна… Ничего не делать за ребят, если они это могут сделать сами».
Он вспомнил недавно услышанную от Волина фразу: «В школе все определяет черновая работа учителя, его умение опереться на детей».
«Мотай себе это на ус, товарищ историк!»
Сергей Иванович легко поднялся по ступенькам школы, пожал руку Фоме Никитичу, поздоровался с Яковом Яковлевичем, и его сразу охватило то знакомое состояние озабоченности, увлеченности, та атмосфера радостного труда, которые превращали часы в незаметно пролетающие минуты.
Просматривая в историческом кабинете аллоскопную ленту, подумал: «Надо ребятам задание дать: расспросить дома у старых людей, кому в городе до революции принадлежали заводы».
Довольный этой мыслью, Кремлев даже начал тихонько насвистывать, да во-время спохватился. Закончив просмотр ленты, он выключил аппарат, поднял одну из штор и прошел в комнату рядом с историческим кабинетом. Здесь был школьный краеведческий музей. Всего два месяца как он существовал, а уже собрали коллекцию монет, наконечники стрел, череп половца, медный щит с гербом.
Плотников у себя на огороде нашел орден петровских времен с надписью: «Трудами моими создал я вас» — ликуя, принес находку Сергею Ивановичу.
— Вот раскопал… для нашего музея…
Звонили из райкома комсомола:
— Товарищ Кремлев, рабочие рыли на заводе котлован и обнаружили какие-то кости, возможно, мамонта, разрешите вам прислать?
Дед Рамкова передал кремневое ружье, чудом сохранившееся у него, а пионеры Анны Васильевны нашли черный отшлифованный каменный топор.
Сергей Иванович начал подумывать о расширении музея. Надо было показать в нем знатных людей края, его природные богатства. Хорошо бы в отдельной комнате собрать материал о Василии Светове.
Кое-что он уже предпринял: попросил у матери Василия его письма с фронта и фотографии. Василий был снят в кругу заводских товарищей, затем в форме курсанта и офицера. Из политуправления округа прислали армейскую газету с описанием подвига Светова: при форсировании Днепра он, под ураганным артиллерийским обстрелом, шесть раз нырял в воду, у моста, чтобы на дне закрепить болты…
Кремлев вспомнил глаза Плотникова, когда тот прочитал эту газету. Из-за одних только этих глаз стоило потрудиться.
…Отобрав то, что понадобится сегодня на уроке, Кремлев медленно пошел в учительскую. Из буфета доносится позвякивание посуды, аппетитный запах чайной колбасы. Смешно здороваются малыши: останавливаясь, они энергично опускают голову, словно она у них подламывается, и так застывают на несколько секунд. Это, конечно, их собственное изобретение.
Мимо прошел ленивой походкой, не в меру откормленный мамой, мальчик с сонными глазами. Щиколотки полных ног его при ходьбе трутся одна о другую. Стройный юноша, с шапкой каштановых волос над высоким лбом, говорит увлеченно другому:
— Пушкинского «Онегина» я могу перечитывать бесконечно.
Федюшкин из класса Рудиной сказал с апломбом:
— Он административно вышел!
Сергей Иванович усмехнулся: «Это, наверное, вместо „демонстративно“».
— Ну, а вы что? — нетерпеливо спросил звонкий взволнованный голос.
— Мы его на классное собрание — пожалуйте! — и решили: посадить за отдельную парту. Пусть сидит, как свинья под дубом!
— Верно! От собрания не уйде-е-шь!
Дверь девятого класса прикрыта неплотно. Дежуривший Виктор Долгополов, решив, что классный руководитель направляется к ним, крикнул классу, не рассчитав голоса:
— Подбирайте бумажки под партами, Сергей Иванович идет!
Недалеко от учительской Сергей Иванович встретил Игоря Афанасьева.
— Договор наш выполняете? — спросил учитель, ласково глядя на Игоря.
— Выполняю!.. Я сейчас! — Он умчался и, через полминуты возвратившись с дневником, застенчиво протянул его Сергею Ивановичу.
— Вот…
У Кремлева всегда складывались простые, искренние отношения с подростками. Так получалось, может быть, потому, что он очень хорошо помнил, как думают, о чем мечтают в их возрасте, и никогда не позволял себе сюсюкать с ними или говорить фальшиво-серьезным тоном.
С Афанасьевым у него был уговор: если через две недели Игорь принесет дневник с четверками и пятерками, то учитель возьмет мальчика с собой в городской клуб летчиков, где будет читать доклад о полководческом искусстве Сталина.
Учитель внимательно перелистал дневник.
— Хорошо! Послезавтра в пять часов вечера зайдите за мной в кабинет истории, и мы отправимся в клуб.
— Есть зайти за вами!
Игорь пошел в класс, крепко прижимая к груди дневник. «Отогревается мальчонка», — посмотрел ему вслед Сергей Иванович.
ГЛАВА XVIII
После уроков и лекции на заводе Сергей Иванович поехал к Балашовым. Отец Бориса, заведующий здравотделом, известный в городе хирург, в школу ни разу не приходил и отговаривался занятостью даже тогда, когда его вызывал родительский комитет. «Идти к нему на дом или настоять, чтобы он все же явился в школу?» Самолюбие говорило: «Не ходи», а долг требовал пойти.
Дверь открыла домработница. Узнав, что это учитель, крикнула нараспев:
— Валерия Семеновна, Боричкин учитель до нас…
Навстречу Сергею Ивановичу вышла женщина лет сорока с белым, холеным, когда-то, наверно, даже красивым, а сейчас очень раскрашенным лицом.
На ней было свободное домашнее платье с широкими рукавами.
— Очень рады, очень рады, — наигранным голосом произнесла она и пригласила Кремлева в комнату.
Это, очевидно, была столовая, но с таким невероятным нагромождением вещей, что трудно было разобраться, каково их назначение. Половину комнаты занимал огромный буфет, один за другим стояли два сундука, тумбочка загораживала дверь в соседнюю комнату. На стенах висели в массивных рамах натюрморты — битая дичь и зайцы.
— Прошу вас, присаживайтесь, — предложила Балашова после того, как они познакомились, и выжидательно посмотрела на Кремлева подрисованными глазами.
— Я хотел бы подробнее узнать у вас о том, как ведет себя Борис в семье, — сказал учитель, когда они сели.
Мать, видно, ожидала навета на своего мальчика, приготовилась к отпору, но, услышав о таком естественном желании учителя, сразу переменила тон и начала сама жаловаться на сына. Говорила она быстро и как-то обиженно, словно ища сочувствия у Кремлева:
— Я готова ему жизнь отдать, а он не ценит… Три костюма ему сделала… Ведь молодым человеком становится… Надо… Так, думаете, он благодарен?
Она вдруг спохватилась, не слишком ли откровенно говорит с малознакомым человеком, и, желая сгладить, может быть, неблагоприятное для ее сына впечатление, добавила:
— А мальчик он умный, все читает, читает до трех часов ночи.
— Так поздно?
— Он в воскресенье до полдня спит, — словно успокаивая, сообщила мать.
— А по дому работает?
— Так зачем же я и Клаша? Не буду же я его заставлять посуду мыть! И потом он у нас такой болезненный!
«Кто-о?» — едва не вскрикнул Кремлев, но решил выслушать все до конца. Ему стали понятны записки Балашовой о пропуске занятий Борисом «из-за недомогания».
— А что он в школе дерзкий, — за это я его не раз осуждала. Говорю, есть же у вас там и хорошие учителя…
Сергей Иванович нахмурился.
— И смею вас уверить, их немало, — сказал он сухо, но Балашова не заметила этой сухости.
— Я же и говорю — есть, — подтвердила она.
Через — полчаса пришел отец Бориса — Дмитрий Иванович — средних лет мужчина, в великолепно отутюженном костюме, тонкий, с морщинками усталости у глаз под квадратными стеклышками пенсне.
Кремлев представился.
— Преклоняюсь перед воспитателями подрастающего поколения, — мягко сказал Балашов, протягивая узкую руку, и в голосе его Сергей Иванович уловил виноватые нотки.
— Так я не прощаюсь, ненадолго отлучусь, — сказала Валерия Семеновна. — Митя, машина твоя внизу? — «Если к маникюрше, то можно бы повременить», — чуть было не вырвалось у Дмитрия Ивановича, но он постеснялся учителя.
— А я думал мы втроем посоветуемся, — с сожалением сказал Кремлев.
— Какая я советчица? — жеманно ответила Балашова. — Все, что и есть у меня, — материнское сердце! — Она произнесла эту фразу с той неискренностью, сквозь которую проступало убеждение: «Хватит и этого, и сына воспитаю не хуже других, и в ваших-то советах не очень нуждаюсь» и вышла из комнаты.
Мужчины сели на диван.
— Я бы к вам сам пришел, — извиняющимся тоном проговорил Дмитрий Иванович, — да, знаете, завертели дела… — Усталым жестом он снял пенсне и пододвинулся ближе к учителю.
— Верите ли — днем и ночью…
— Буду, товарищ Балашов, откровенен, — прямо начал Кремлев, — знаю, вы заняты… Ведете важную работу. И все же вы не вправе забывать о сыне. Он становится себялюбцем. Думаю, что ваши товарищи по работе не одобрили бы вас, как отца…
— Но позвольте! — оскорбленно возразил Балашов и отодвинулся от Сергея Ивановича.
— Нет, уж вы позвольте мне досказать: у вас в семье растет барчук и эгоист. Супруга ваша, очевидно, полагает, что счастливое детство — это заласканное детство, право Бориса на обслуживание — и только.
— Мне это нравится! — немного растерянно воскликнул Дмитрий Иванович, снова надевая пенсне, и попытался шуткой прикрыть неловкость: — Пришел человек первый раз в дом и прокурорские речи произносит.
Сергей Иванович встал:
— Извините, н-невежливость.
— Нет, нет… — поднимаясь и усаживая гостя, неожиданно мягко сказал Балашов, — садитесь, пожалуйста. Так я вас не отпущу, здесь действительно что-то надо предпринять. Я и сам чувствую неладное.
А про себя подумал: «Резковатый, но симпатичный человек».
— Учтите, это только для начала, — предупредил Сергей Иванович, когда они разработали план действия.
— Моя супруга частенько за кустами не видит леса, — скорее сожалея, чем жалуясь, сказал Дмитрий Иванович. — Вы правы: воспитание Бориса надо мне взять в свои руки.
Он побарабанил пальцами по столу.
— Я понимаю, строгий режим установить надо… и потребовать от Бориса участия в трудовых делах семьи… прекратить грубости… Вы знаете, — словно прося о некотором снисхождении, проговорил Балашов, — в Борисе есть и хорошее: он, например, страстно мечтает стать журналистом…
«Это новость!» — подумал Кремлев.
— Об одном особенно прошу вас, Дмитрий Иванович, — поддерживать связь со школой, вместе мы — непобедимы.
— Ну, батенька, — весело поглядывая на учителя, признался Балашов, — вы, кажется, воспитание начали с меня, а уж я поднажму по всем линиям!
Балашова возвратилась довольно скоро, и Дмитрий Иванович уговорил Кремлева остаться пообедать. Они втроем сели за стол.
— Где Борис? Почему с нами не обедает? — недовольно спросил Дмитрий Иванович у жены.
— Да разве он передо мной отчитывается? — нервно ответила Валерия Семеновна.
— А надо, Лера, чтобы отчитывался… — строго сказал Дмитрий Иванович и заговорщически, краем глаза, поглядел на учителя.
Борис пришел к концу обеда. Увидев классного руководителя, он смутился, но тотчас овладел собой и внутренне насторожился. По глазам Сергея Ивановича, отца и матери пытался определить, что здесь происходило без него. Он был уверен, что это посещение ничего приятного ему не сулит.
— А я зашел познакомиться с вашей семьей, — непринужденно обратился к нему учитель.
— Милости просим, — ответил Борис, и на губах его показалась недоверчивая улыбка.
— Между прочим, мне было приятно узнать, что вы интересуетесь журналистикой…
Борис укоризненно посмотрел на мать: ясно, это она постаралась, — но все же он был доволен тем, что Сергей Иванович знает об этом.
Борис мечтал об институте журналистики, особенно внимательно читал критико-библиографические отделы журналов, писал отзывы о прочитанных книгах и собирал эти отзывы в отдельную тетрадь.
После обеда Сергей Иванович, простившись с отцом и матерью Бориса, попросил его:
— Проводите меня немного…
— С удовольствием, — вежливо согласился юноша и быстро оделся.
Они вышли на улицу. Ветер гнал тучи низко над городом. Луна, казалось, то камнем падала на землю, то вдруг взмывала вверх. На площади ярко горели огни театра. По мостовой проскакал всадник, и цокот копыт, становясь все глуше, замер вдали.
— Как вы полагаете, я вправе входить в вашу личную жизнь? — неожиданно прервал молчание воспитатель.
— Конечно, — не колеблясь ответил Борис.
— Тогда скажите, почему вы не комсомолец? — остановившись, в упор спросил Сергей Иванович.
Борис молчал.
— Грехи не пускают, — наконец с горечью сказал он тихо.
— А думаете быть?
— Да, — скупо ответил юноша и выпрямился.
— Тогда я требую от вас, будущего комсомольца и коммуниста, оберегать честь нашей школы.
Борис поднял голову.
— Троек у вас не должно быть! — настойчиво продолжал Сергей Иванович, и в голосе его Борис почувствовал требовательность человека, имеющего на то право.
— Их и не будет! — твердо сказал юноша и порывисто добавил: — Я знаю: вы обо мне дурно думаете, и Борис Петрович, и Анна Васильевна… Я позер и эгоист! Часто за это презираю себя. Но чувствую, что могу стать лучше… и стану!
— Понимаешь, Борис, — мягко сказал учитель, переходя на «ты», — тебе жить при коммунизме… Об этом надо помнить!..
Балашов проводил Сергея Ивановича до трамвайной остановки. Возвращаясь домой, он размышлял: «Нет, Сергей Иванович все же уважает меня и ждет хорошего. Я научусь преодолевать трудности».
Проходя в ворота, Борис увидел над собою знакомую круглую перекладину, высоко подпрыгнул, ухватился за нее, подтянулся на сильных руках и, глядя в темноту, восторженно крикнул.
— Научусь!
Спрыгнул и быстро пошел к парадному.
Войдя в столовую, Борис услышал, как мать раздраженно говорила отцу:
— Спрашивается, зачем он приходил? В семейные дела вмешиваться? Что, мы сами не знаем, как жить? Все поучают… Навели бы лучше у себя в школе порядок…
— Перестань, Лера, — морщась, словно у него болели губы, сказал отец. — Кто же виноват, что ты действительно не знаешь самых простых истин…
Дмитрий Иванович глазами показал жене на Бориса, давая понять, что разговор этот следует прекратить, но Валерия Семеновна, не обратив внимания на предостережение, продолжала:
— Много они понимают! В шестнадцатой школе учитель на детей кричит и оценки на глазок ставит… Так дети и говорят: «Справедливости нет!»…
— Ты больше прислушивайся к сплетням, — резко вмешался в разговор Борис, — обиженные деточки наговорят! Сергей Иванович тебе же добра хочет…
— А я тебе не хочу? — оскорбленно воскликнула Валерия Семеновна, — я тебе не мать? При твоих способностях могли бы найти к тебе индивидуальный подход… а не обивать чужие пороги…
— Лера! — с угрозой в голосе произнес Дмитрий Иванович.
— На меня это не подействует! — успокаивающе сказал отцу Борис и, повернувшись к матери, добавил: — О способностях моих необычайных ты уже давно прокричала везде, где могла. Я же в классе в последних рядах плетусь. А Сергея Ивановича не трогай! — Он вышел в соседнюю комнату, хлопнув дверью.
— Как ты можешь, — понижая голос до шопота, возмущенно сказал Дмитрий Иванович, и, сняв пенсне, стал его нервно протирать, — как ты можешь? Мы должны охранять авторитет его учителей… К нам в семью пришел друг, скажи ему спасибо… А ты оскорбляешь! Это куриная слепота!
Дмитрий Иванович ушел к себе, тоже хлопнув дверью.
* * *
Дома Василек и Наталья Николаевна ждали Кремлева. Василек бросился отцу навстречу, завизжал от радости, вскарабкался на грудь. Сергей Иванович, прижав его к себе, покружил, осторожно ставя на пол, сказал:
— Погоди-ка, умоюсь!
Мальчик тотчас полез под кровать, за домашними туфлями, принес полотенце, бегал, пританцовывая и припевая:
— Папка пришел… папка пришел…
Наталья Николаевна жалостливо вздыхала, и горестные складки у ее губ делались при этом резче. Горе очень состарило ее. Похоронив Таню, Наталья Николаевна решила остаток своей жизни отдать внуку и зятю. Они жили дружно, их роднили общие воспоминания, общее горе утраты. Старуха души не чаяла в мальчике, была заботлива и внимательна к Сергею Ивановичу.
Кремлев рано лишился родителей, — они погибли от рук деникинцев, — воспитывался в семье старшего брата — и, пройдя нелегкую школу жизни, умел ценить доброе отношение к себе. Он ясно видел, что Наталья Николаевна привязалась к нему, как к родному сыну, и отвечал ей тем же.
Временами Наталья Николаевна подумывала о его возможной женитьбе: Сергей Иванович был молод и одинок, мальчику необходима была мать. Но ревнивое чувство не хотело мириться с какой бы то ни было заменой Тани, и она решила: «Если это случится, я тотчас же уеду».
Сергей Иванович сел за стол, а Василек расположился против него и, подперев кулачками щеки, не отрываясь смотрел на отца.
— Ну, как, сынок, поделился в детском саду конфетами с товарищами?
Сергей Иванович вчера принес Васильку целый кулек конфет.
— Поделился, — быстро ответил мальчик, — только Вовке не дал!
— Это почему же?
— А он утром дерево шатал!
Василек вскочил со стула и показал, как Вовка раскачивал дерево.
— Шатает, шатает! Я ему говорю: «Не надо», а он: «Это не твое». А я говорю: «Папа говорит — это всех. Дедушка Сталин сказал — посадите везде деревья». Так я Вовке конфет и не дал! — снова усаживаясь на стул и грудью наваливаясь на скрещенные на столе руки, решительно заключил Василек.
— Ты бы его постыдил, а потом все же конфетку дал, — посоветовал отец. — А бабушке ты сегодня помогал?
— А как же! — воскликнул Василек, — тарелки вытирал, Тиграна кормил.
Тиграном называли черного котенка с зелеными глазами.
— Из пшена сор выбирал, — напомнила бабушка.
— Горсть выбрал! — вытянул перед собой полураскрытую ладонь Василек.
— Помощник ты мой! — ласково похвалил Сергей Иванович.
Перед сном Василек всегда просил отца рассказать сказку, но сегодня, когда Сергей Иванович присел на край его кровати, мальчик тихо спросил:
— У нас мамы больше никогда не будет?
Сергей Иванович ответил не сразу:
— Не знаю, сыночек.
— Я б ее, знаешь, как любил!
Отец в темноте погладил мальчика.
— Ты слышал, к нам в город зверинец приехал? В воскресенье мы с тобой и отправимся, — с напускным оживлением сообщил он.
— Ура-а! — вскочил с постели Василек и шумно, радостно запрыгал.
— Кто там шумит? — раздался из соседней комнаты строгий голос бабушки.
— Тише, — прошептал Сергей Иванович, — а то попадет нам с тобой, ложись, ложись… Чем скорее заснешь, тем скорее наступит завтра.
— Я сейчас, папуня…
Отец укрыл сына, зажег лампу над своей кроватью, приставил к кроватке Василька стул так, чтобы его спинка отбрасывала тень на подушку мальчика, и, достав «Педагогическую поэму», лег почитать перед сном.
Книгу эту он мог перечитывать бесконечно, и каждый раз находил в ней новое и новое. Его особенно привлекали в Макаренко отвращение к самоуспокоенности, неистребимый оптимизм очень честного человека. «Как жаль, что Антон Семенович так рано умер, не успел осуществить многие свои замыслы!»
Сергей Иванович прочитал несколько страниц «Поэмы» и задумался:
«Что сделал я сегодня? Очень мало. Не успел пойти на урок к Серафиме Михайловне… не так, как следовало бы, говорил с матерью Бориса».
Он был недоволен собой. Намечал прочитать книгу воспоминаний Репина, но она лежит нераскрытой на столе…
— Надо списаться с заочной аспирантурой и сдавать кандидатский минимум… Пора.
Сергей Иванович закинул руки за голову — хорошо было вот так остаться наедине со своими самыми сокровенными мыслями.
«Люди любят по-разному: одни — восторженно, порывисто, громко высказывая свои чувства, другие — сдержанно, про себя, глубоко и навсегда… Наверное, так и в чувстве к Родине…
Всем, что есть во мне, я обязан ей. Она воспитала меня, сделала народным учителем. Но мне хочется не столько говорить о своей любви к Родине, сколько делать полезным для нее каждый свой поступок. От моей, именно и от моей работы тоже зависит приближение коммунизма… Он придет тем скорее, чем лучше я подготовлю урок, чем взыскательнее и справедливее буду к себе и к детям, чем более щедро отдам свои силы им».
И, как всегда, когда Кремлев думал о Родине, возникал образ того, кто вел в бой, помогал в беде, ободрял в радости. Он был самым великим и самым лучшим, настоящим и будущим, совестью и верой.
…Мирно спал Василек. Ветки дерева постукивали в оконное стекло, в углу потрескивал сверчок.
ГЛАВА XIX
Открытое партийное собрание назначено было на семь часов вечера.
Когда Кремлев вошел в учительскую, там уже сидели Серафима Михайловна, географ Петр Васильевич, Рудина и Волин. На Борисе Петровиче был его лучший костюм, ордена Ленина и Отечественной войны на груди, «парадный мундир», как называли его учителя.
— Добрый вечер, — приветливо сказал Сергей Иванович, обращаясь ко всем и, усевшись у стола, начал отмечать приходящих на собрание, временами незаметно поглядывая на Рудину. Она была в том же скромном синем платье, в котором он увидел ее впервые в кабинете директора, и оживленно рассказывала что-то Серафиме Михайловне, доверчиво заглядывая ей в глаза.
«Какое у нее открытое лицо», — невольно подумал Кремлев об Анне Васильевне.
Рудина почувствовала на себе взгляд Сергея Ивановича, посмотрела краешком глаза в его сторону и повернулась так, что теперь он видел только венчик золотистых кос на ее затылке.
Ровно в семь собрание началось, Председателем избрали Бориса Петровича.
Сергей Иванович особенно любил собрания, подобные этому. Они как-то приподнимали, освещали труд новым, сильным светом; яснее ощущалась слитность коллектива, общее стремление найти самые лучшие приемы работы, добиться того, чтобы «наша школа», именно «наша школа», стала передовой.
Здесь особенно хорошо можно было сравнить свою работу работой товарищей, предъявить им счет, произвести переоценку ценностей, а плоды собственных усилий увидеть со стороны.
Яков Яковлевич неторопливо надел очки и подошел к небольшой кафедре, рядом со столом президиума.
— Мне, товарищи, партийная организация поручила сделать доклад о самокритичности в нашей работе…
Говоря, Яков Яковлевич имел привычку часто снимать и надевать очки или, повесив их одной дужкой на левое ухо, правую дужку сосредоточенно покусывать, ища необходимое слово.
— Увы, у нас есть еще учителя, считающие, что превыше всего — завоевать любовь учащихся, но безвольно опускающие руки при первых же неудачах…
Анна Васильевна мучительно покраснела и опустила голову: она приняла эти слова на свой счет и уверена была, что все присутствующие посмотрели на нее, хотя, в действительности, все внимательно слушали завуча.
Волин, заметив смятение Рудиной, подумал; «Надо ответить на письмо из пединститута». Оттуда справлялись, как работает их воспитанница Рудина?
— Я имею в виду Капитолину Игнатьевну, — продолжал завуч и осуждающе поглядел на «француженку». Она начала старательно прятать ноги под стул. — Я и Борис Петрович были у Капитолины Игнатьевны на шести уроках подряд, чтобы лучше ознакомиться с ее работой, и должен сказать: Капитолина Игнатьевна недостаточно требовательна, иногда незаслуженно ставит высокие баллы. Мы думаем — не злонамеренно, а скорее непродуманно… Капитолина Игнатьевна легко обижается даже тогда, когда замечания товарищей справедливы. Видите ли, она считает, что ее назначение — уроки давать, а завуч и директор должны «обеспечивать ей порядок», и поэтому Капитолина Игнатьевна то и дело пачками присылает ко мне нарушителей. Под этим бременем я раньше времени зачахну! — воскликнул он, и все улыбнулись, потому что скуластое жизнерадостное лицо Якова Яковлевича не подтверждало такого мрачного предположения.
— А есть и такие, — продолжал он, — которые бездушие, формализм величают строгостью. Да, да, Вадим Николаевич, это именно так!
Корсунов нахмурился и, повернув голову к окну, стал внимательно разглядывать улицу, будто ничего не слышал. «Знает ли он, — посмотрел на химика директор, — что ребята прозвали его Колом Николаевичем?»
Корсунов очень беспокоил Бориса Петровича, Человек, несомненно, одаренный, хорошо знающий предмет, по-своему даже любящий детей, как любит детей деспот в семье, держащий их в черном теле ради их же, по его убеждению, пользы, — Корсунов был с ними очень холоден, а временами даже резок. Трудно понять, отчего это проистекало — от болезни ли, издерганности или «педагогической установки»? Или оттого, что преподавал он еще и в техникуме и на каких-то курсах? А, может быть, все вместе взятое, да еще и семейные неурядицы портили характер Корсунова.
Когда Яков Яковлевич готовил доклад, Волин и Кремлев посоветовали ему не только показать образцовую работу Боковой, Багарова, но и беспощадно покритиковать Корсунова: «Испробуем это лекарство».
— Казалось бы, — говорил Яков Яковлевич, — учитель сделал все и объяснил урок чин-чином, и задание дал, и ответил на все вопросы. А успеваемости нет! Почему?
Он покусал дужку очков.
— Ясно: что-то недодумано! Что-то мешает! Может быть, тон учителя, общий стиль? Отчужденность? Может быть, его бесхарактерность или грубость, замысловатость речи или непоследовательность? Учитель — исследователь. Он ищет пути… чем труднее задача, тем более загорается… Но необходима система. Если ее нет, успеха не добьешься. Не надо быть «совместителем» в худшем смысле этого слова! — воскликнул он и резким жестом, — словно срывая повязку, снял очки.
Глаза у него были светлозеленые и, лишенные очков, глядели как будто с удивлением.
— Строгая требовательность не означает, Вадим Николаевич, придирчивости. И конфликт с Балашовым вы сами раздули, — одно и то же замечание можно сделать по-разному: и так, что оскорбите ученика, ожесточите его, и так, что он постарается исправить свою ошибку. Мы требуем уважения к себе, но должны и сами глубоко уважать в школьнике человеческое достоинство.
— С отпетыми лентяями я не собираюсь играть в вежливость! — бросил с места Корсунов и нервно, точно он озяб, передернул плечами.
«Ну вот, опять та же самая линия, — с досадой подумал Борис Петрович, — ему про Тараса, а он: полтораста. Нет, видимо, я так ни в чем и не убедил тогда Корсунова. Он не понимает, что иногда детям достаточно доброжелательной улыбки, кивка головы, одобрительного огонька в твоих глазах, чтобы появилась настоящая близость, безо всякого сюсюканья, появилось желание сделать так, как ты того ждешь от них».
Яков Яковлевич собрал листки доклада, провел по ним ладонью, словно погладил.
— Почти в каждой работе брак виден сразу и его можно все же выправить. В нашем труде мы брак обнаруживаем подчас слишком поздно. И если мы хотим научиться видеть его, когда еще можно помочь беде, то начинать надо с честной самокритичности. Нечего прятаться за разговоры «о трудных пятых и восьмых классах», о том, что «мы повысили требования» и потому так много троек. Все это так, но долга с нас не снимает. Главное сейчас воспитание у питомцев чувства ответственности перед коллективом, чтобы у нас были не только дружные классы, а и дружная школа. Нам нельзя забывать, что, скажем, Плотников — ученик не одной Серафимы Михайловны, а всех, здесь сидящих, потому что школа — единый коллектив, и неудача в воспитании Балашова — это неудача и Сергея Ивановича и Серафимы Михайловны…
Выступающих было много. Корсунов раздраженно отбивался.
— Советским законодательством не запрещено совместительство, хорошо работать можно и в трех местах!
— Вы о своей работе с отстающими подробнее расскажите, — раздалась реплика с места.
Вадим Николаевич иронически приподнял бровь, медленно сказал:
— Я оратор неопытный и могу сбиться, поэтому вы меня не перебивайте…
Сергей Иванович колебался — говорить ли сейчас о педагогических заблуждениях Вадима? После первого разговора у него на квартире и позже, в беседах с ним, Сергей Иванович все яснее убеждался, как неправ Корсунов. Но чем резче были их споры, тем тверже становилось желание Сергея Ивановича помочь Вадиму.
И когда Кремлев готовил это собрание, его неотступно преследовала мысль именно о Вадиме. Может быть, как раз здесь сумеет он понять ложность своих позиций и найдет силы оттолкнуться от них? Да, надо сейчас, в присутствии товарищей прямо и открыто высказать все, что он думает.
— Разрешите? — поднялся Кремлев и привычным движением расправил складки гимнастерки вокруг ремня.
— Я и Вадим Николаевич были на одном участке фронта, — дружески посмотрел он в сторону Корсунова. — На пополнение к нам пришли люди из Западной Украины. Долгие годы их сознание старались отравить ядом пилсудчины, после освобождения, в 1939 году, подышали они немного свободно — и опять попали в фашистский плен. И вот за несколько месяцев, всего за несколько месяцев напряженной воспитательной работы мы, казалось, совершили чудо. Посмотрели бы вы, как дрались эти люди с фашистами! Так нужно ли разъяснять Вадиму Николаевичу решающую роль кропотливой воспитательной работы? А к чему он сейчас свел дело? Ставит «карающие» единицы, говорит о: «безнадежных», о каких-то «пределах». Для Балашова, видите ли, предел — тройка. Почему? Откуда вы это взяли?
Анна Васильевна теперь безбоязненно смотрела на Кремлева. Во всем его облике, смуглом и худощавом лице, в гибкой фигуре, в неторопливых, но решительных жестах угадывался характер энергичного человека. «А глаза — добрые», подумала Анна Васильевна и рассердилась на себя. «Ну, чего уставилась?» Однако продолжала, внимательно слушая, смотреть на него.
— Вадима Николаевича не увидишь среди детей, запросто беседующим с ними. Окружил себя плотным слоем морозного воздуха. Ну к чему это?
«Вот улыбнулся, и в серых радужках заплясали озорные огоньки». Анна Васильевна сама себе не призналась бы в том, что Кремлев для нее был тем благородным героем, которого она давно знала по книгам, а вот теперь увидела в жизни.
Себя она искренне считала настолько глупенькой сравнительно с Сергеем Ивановичем, неинтересной девчонкой, что ей и в голову не могло прийти думать о нем иначе, как о герое.
— К школе надо прирасти душой, и тогда перед тобой откроется чудесный мир, — убежденно говорил Кремлев, — а истоки вредной предельщины Вадима Николаевича — в незнании им учащихся, в отказе от черновой работы.
— Ярлыки лепишь! — грубо бросил с места Корсунов и, не вставая, решительно заявил:
— Никто не вправе обсуждать оценки, выставленные учителем. Я отвечаю…. — он помедлил, подыскивая слово.
— …Перед господом богом! — вдруг насмешливо подсказала Анна Васильевна. Она сказала это тихо, но все услышали, и заулыбались. Анна Васильевна после неожиданного для самой себя вмешательства спряталась за широкую спину одобрительно подмигнувшей ей Серафимы Михайловны.
— …перед своей совестью! — повернулся к Анне Васильевне распаленный Вадим Николаевич и посмотрел на нее вызывающе.
Рудина выпрямилась и смело встретила взгляд химика. Он нахмурился, самолюбиво умолкнув.
Совсем недавно между ними было столкновение.
— Требовательнее, сударыня, надо быть, — назидательно поучал ее Корсунов, — вы по молодости Афанасьеву пять поставили, а он, как известно, стал великим молчальником.
— Он отвечал на пять! — возмутилась Анна Васильевна. — А вы знаете, что у него в семье и почему он такой мрачный и рассеянный?
Ее до глубины души возмущало стремление Корсунова прикрыть сухость, нежелание трудиться кропотливо, разговорами о своей высокой требовательности.
«Это даже оскорбительно для всех нас, — возмущалась Рудина. — Что же — мы менее требовательны, и лишь он один — такой неподкупный блюститель честности?»
Слово попросил Борис Петрович.
— Не думаю, чтобы кто-нибудь, из присутствующих здесь, — сдержанно начал он, — понял наш разговор как осуждение Вадима Николаевича за то, что он ставит двойки. Я бы первый назвал бесчестным человеком, того, кто во имя дутого авторитета стал бы завышать оценки. И я, как вы знаете, противник немедленного, на другой же день проведенного изничтожения двоек ради внешнего благополучия. Надо — если уж двойка появилась, чтобы ученик прочувствовал ее тяжесть, чтобы он сам и коллектив класса переболели ею больше учителя.
Все понимающе переглянулись, потому что действительно знали один из жестоких приемов Бориса Петровича — если ученик, обманув его доверие, получал после пятерки плохую оценку, он недели на две становился «дежурным отвечающим» и должен был все это время дополнять, отвечать с места, а новую оценку ему Борис Петрович все не ставил. Попасть в «дежурные отвечающие» ученики считали для себя худшим наказанием.
— Все это так, — продолжал Борис Петрович, — но теперь нам пора говорить о высоком качестве работы учителя. Я согласен с вами, товарищ Корсунов, следует постоянно держать ответ перед своей совестью. Но надо уважать также и мнение ваших товарищей, а они говорят вам здесь, Вадим Николаевич, по-большевистски прямо, что вы недостаточно самокритичны, что огромным черновым трудом можно добиться гораздо больших успехов, что надо неутомимо находить пути к сердцу каждого ребенка, срастись со школой. У нас тысячная армия, требуйте от нее, но и верьте в нее!
Он помолчал, медленно разгладил белые усы, потом, обращаясь ко всем, спросил:
— В чем главная сила нашего коллектива?
И сам же ответил:
— В единстве воли, в дружной работе. Мы по-партийному осмысливаем ее. Именно партия воспитывает в нас взыскательную самокритичность. Мы приходим на помощь друг другу, если надо — самой суровой критикой. То, что нашел один, становится достоянием всех. Мы никогда не удовлетворяемся достигнутым. И для каждого из нас прежде всего дорог успех школы и только потом — успех его класса и личный… Верно, Анна Васильевна? — неожиданно обратился он к Рудиной.
— Верно! — громко ответила она и покраснела до слез.
ГЛАВА XX
После партийного собрания Сергеи Иванович еще минут десять разговаривал с учителями, расспрашивал об их работе на агитпункте. Кандидатом в депутаты горсовета была выдвинута Серафима Михайловна, и этим гордилась вся школа.
— Комсомольцы наши помогают? — спросил Кремлев у председателя избирательного участка Багарова.
— Еще как! — воскликнул Багаров. — Оборудовали комнату, дежурство установили. Я их привлекаю и как агитаторов.
— И правильно делаете, только направляйте их работу…
Когда Сергей Иванович подошел к вешалке, она уже опустела… Лишь мрачный Корсунов, сидя на табуретке, надевал галоши да сиротливо висело легкое пальто Анны Васильевны.
— Пойдем вместе? — дружески спросил Сергей Иванович.
Корсунов резко встал. Непримиримо глядя на Кремлева, процедил:
— Рановато начальственный тон взял! Станешь директором — тогда и будешь поучать.
— Так вот как ты понял товарищескую критику? — изумился Сергей Иванович.
— Можешь оставить ее при себе! — Вадим Николаевич побледнел и, сильно прихрамывая, быстро пошел к выходу.
Сергей Иванович надел шинель, раскурил папиросу. Было и обидно, что Корсунов ни за что ни про что оскорбил его и вместе с тем жаль Вадима. Этот раздраженный тон во многом, конечно, объясняется нервозностью Корсунова, и заблуждается он искренне, сам того не понимая. «Пусть успокоится, сейчас он не в состоянии быть справедливым», — подумал Сергей Иванович.
К вешалке подошла Рудина.
— Меня Яков Яковлевич задержал, — как бы оправдываясь, сказала она. — О вечере для родителей говорили…
Анна Васильевна с Кремлевым вышли из школы и некоторое время молчали, каждый думая о своем.
Недавно прошел дождь. В воздухе был разлит особенный осенний запах разбухшей коры деревьев. Огни фонарей отсвечивали в лужицах на асфальте тротуаров, покрывали лаковым блеском плащи прохожих. Задние, сторожевые огоньки автомобилей струящимися столбиками отражались в глади мостовой, и впечатление было такое, будто машины катят на красных колесах.
Кремлев и Рудина свернули в аллею каштанов. Анна Васильевна чувствовала себя с Кремлевым удивительно спокойно. От него исходила уверенная сила, рядом с ним все было просто и ясно.
Сергей Иванович, отогнав неприятные мысли о недавней стычке с Корсуновым, взглянул на спутницу, она доверчиво улыбнулась. Сергей Иванович нахмурился: «Ты, старый, начал заглядываться на девушек?»
То, что у него был сын, то, что сам он прошел большой жизненный путь, разница в годах, — восемь лет казались Сергею Ивановичу огромной разницей, — а, главное, желание для Анны Васильевны гораздо лучшего, несравненно лучшего, чем он сам, делало его сдержанным и он сознательно заглушал в себе возникающее застенчивое чувство.
Рудиной очень хотелось рассказать Сергею Ивановичу о том, как она переборола в себе болезненное самолюбие. Теперь она поняла, что терпеливость — необходимое качество учителя, — не всетерпение, нет, не примиренность, а именно мудрая терпеливость, и она быстро, то и дело останавливаясь и пытливо заглядывая в глаза Сергею Ивановичу, будто спрашивая: «Ничего, что я занимаю вас такими пустяками?» — начала рассказывать о событиях в девятом «А», о разговоре с Борисом Петровичем, о том, как на следующий день пришла в класс, и урок был удачным.
— Урок освежил мне душу! — воскликнула она. — И ребята, по-моему, поняли, что я стала выше обидчивости. Между нами теперь настоящая близость.
Он ободряюще улыбнулся:
— Вот и хорошо, что вы сумели перебороть себя!
Заговорили о сегодняшнем собрании, и Сергей Иванович огорчением спросил:
— Неужели мне следовало молчать? Это, конечно, легче и спокойнее — отмалчиваться. Но разве не должен товарищ быть очень требовательным и прямым?
Анне Васильевне было приятно, что вот такой сильный человек, как Кремлев, ищет у нее поддержки, и она горячо подтвердила:
— Вы правильно говорили. И все так и поняли — выступили потому, что добра ему хотите!
Они остановились на повороте аллеи, у фонаря. Здесь надо было расстаться, и Сергей Иванович, взяв ее руку в свою, благодарно пожал ее.
— Поговорили и легче стало, — сказал он.
— И мне, — чистосердечно призналась Анна Васильевна.
Кремлев увидел под большим деревом сухую скамейку и предложил:
— Давайте посидим немного.
— Завтра — уроки, — нерешительно сказала Анна Васильевна, но, заметив, как помрачнел Кремлев, быстро добавила: — Да ничего, я успею!
Они сели на скамейку, ярко освещенную электрическим светом. Этот вечер, мягкий, влажный воздух, тихий шелест капель, скатывающихся с веток, дружеский разговор, задумчивость парка навевали покой. Кремлев снял фуражку, положил ее на колени.
— Сколько на свете прекрасного! — сказал он и провел рукой по волосам.
— Особенно в людях, — убежденно подхватила Анна Васильевна.
Изредка появлялись пешеходы — в одиночку и парами. Вдоль ограды погромыхивал, звеня, трамвай и скрывался вдали. Со стороны вокзала доносились звуки радио. Мягкий баритон пел о Москве.
Анна Васильевна умолкла, задумавшись… Москва, Москва, она родилась и училась в Москве, и когда, по окончании института, получила назначение в этот город, за тридевять земель от любимой Москвы, отрывала ее от себя с болью. Тысячи воспоминаний роднили ее с Москвой: школа в тихом переулке, военные окопы, что рыли они, комсомольцы, лыжный кросс в Сокольниках, дом на Верхне-Радищевской, где прожила двадцать лет, первое в жизни свиданье с одноклассником Вадиком Рощиным на Тверском бульваре у памятника Пушкину, на перекрестках улиц на мгновенье застывшая лавина машин. Ане доставляло особенное удовольствие прошмыгнуть под самым носом у них, раньше, чем они выйдут из оцепенения…
Только тот, кто долго жил в Москве, сросся с ней сердцем, знает, как трудно покидать ее.
И даже если нечасто бываешь в Большом и Художественном театрах, в Третьяковской галерее, — одно сознание, что они здесь, рядом, что можешь пойти туда завтра или через неделю — одно это сознание действует успокаивающе, вызывает чувство гордости, что ты москвичка.
Но надо было уезжать, так велел долг. И на комиссии, распределявшей места, Рудина не позволила себе даже упомянуть о своем московском старожительстве, о том, что у нее здесь мать — учительница-пенсионерка.
Она должна была ехать, и ей даже хотелось попасть куда-нибудь подальше — на Колыму, на Камчатку.
Сначала все в этом южном городе, куда назначили Рудину, показалось ей очень провинциальным. «Здесь люди по улицам ходят медленнее, чем в Москве в Парке культуры и отдыха, — писала она подруге. — Но мы счастливы там, где труд приносит нам радость». Когда Анна Васильевна увлеклась работой, ей стал нравиться и город: плавный бег реки, огибающей его, парки и сады, сады почти при каждом доме.
Ей нравилось, идя домой, десятки раз отвечать на приветствия детей:
— Здравствуйте, Анна Васильевна!
— Анна Васильевна, здравствуйте!
Приятно было сознавать, что нашла свое — и не малое место в жизни. Она и матери говорила, когда та в прошлом году приезжала из Москвы на новоселье:
— Глупо было писать тебе, что у меня ничего не получится. Это минутная слабость, — нет получится, все получится! Никогда, мама, понимаешь, никогда жизнь — не казалась мне такой полной и интересной!
Сейчас, в парке, Анна Васильевна благодарно думала именно об этом. Видя чем-то расстроенное, сумрачное лицо Сергея Ивановича, она простодушно постаралась развеять его плохое настроение.
— Я вчера возвращалась из школы домой, — повернула она к Сергею Ивановичу оживленное лицо, свет фонаря сделал его золотисто-матовым, лег тенями под глазами, и от этого глаза стали еще больше, — … возвращалась из школы, а впереди меня мальчуган лет двенадцати… с портфельчиком… штанишки аккуратно вправлены в толстые рубчатые чулки. Скачет на одной ноге и что-то приговаривает. Я прислушалась. Он через лужу скок! — и скороговоркой: «Так сказать!» Опять — скок-скок! — и снова: «Так сказать!»
— Что это у тебя за игра такая? — поинтересовалась я.
— Да это у нас географ сегодня на уроке семьдесят шесть раз «так сказать» сказал! Мы подсчитали.
— О, ребята — наши самые строгие критики! — рассмеялся Сергей Иванович.
Кремлеву сейчас было очень хорошо. Он и боялся этого, и не мог заставить себя уйти от этого. Да и надо ли было уходить от такого хорошего?
А девушка, словно понимая его состояние, желая отвлечь от ненужных мыслей, удивляясь собственной словоохотливости, с увлечением рассказывала о своем самом первом уроке, о Москве, о школе, где училась.
— В десятый класс пришел к нам молоденький литератор Виктор Федорович, — ну не больше двадцати одного года ему было! Не уроки давал, а ораторствовал. Каждый день новый галстук надевал. Вот одна моя подружка — Зиночка Болдина — черноглазая такая, очень хорошенькая, на фарфоровую куколку похожа, и говорит: «Девчата, давайте поспорим, я не буду учить урока, а когда Виктор Федорович вызовет меня, глазки ему сострою, и он двойки не поставит». — «Ну, это ты уж слишком, Зинка!» — «Почему — слишком? Посмотрите!»
Мы следующего урока едва дождались. И надо ж так случиться, — он ее вызывает! Болдина ничегошеньки не знает, но смотрит на молоденького учителя и тает, тает… А он покраснел, даже капельки пота на лбу выступили, и… единицу Зиночке поставил. Да такую жирную, с подставкой! У нас от сердца отлегло, у всех сияющие лица, а Виктор Федорович строго посмотрел на класс и говорит (Анна Васильевна придала лицу строгое выражение, откашлялась и сказала баском): «Поражен — чему вы радуетесь? Печалиться надо, что ваш товарищ не ответил».
Сергей Иванович расхохотался.
— Мы почти все, начиная работу в школе, немного важничаем, стараемся этим прикрыть неуверенность… — живо сказал он. — Учась на третьем курсе института, я вечерами преподавал в заводской школе взрослых, в десятом классе. Ученики у меня были люди солидные, почти каждый вдвое старше меня: мастера цехов, знатные стахановцы. Вот рассказываю им о XVI съезде партии. Спрашиваю: «Вопросы есть?» — Поднимается рука. — «Товарищ преподаватель, — деликатно говорит рабочий, вставая, — я на этом съезде делегатом был… он немного иначе проходил, чем вы рассказывали». — Думаете, я растерялся? Нисколько! «Вот хорошо! — бодро подхватил я, — участник XVI съезда партии расскажет нам сейчас подробно»…
Готовился я к урокам тщательно, давал их с увлечением, но вроде вашего Виктора Федоровича — много ораторствовал, и завуч школы однажды сказал мне мягко: «Эдак, Сергей Иванович, вас надолго нехватит, — горло беречь надо и силы экономить». Да куда там!.. И апломб, конечно, был. Этот апломб меня иногда в смешное положение ставил. Захожу однажды в класс, конечно, стремительно, конечно, с нахмуренными бровями. Решительно раскрываю журнал. Но, чтобы продемонстрировать память, не смотрю в него. «Отвечать пойдет, — пробегаю суровым взглядом по рядам притихших учеников, паузу затягиваю так, что всем становится не по себе, — Крикунов!..». Никто не поднимается. Я снова: «Отвечать пойдет Крикунов!» — Опять все сидят. Что за безобразие! Я подхожу к парте ученика — бородатого пожилого мужчины, возмущенно отчеканиваю: «Я вас вызываю, товарищ Крикунов!» Он, озираясь, поднимается, виновато поясняет: «Так, товарищ преподаватель, я же Оралов». Вот ведь какие истории бывают!
Эти смешные случаи, неожиданно всплывшие сейчас в памяти, несмотря на всю их незначительность и наивность, как-то сближали Рудину и Кремлева и неизбежно, — потому что это было самым главным и дорогим для них, — они заговорили о своей школе.
— Вы — знаете, какие чудесные превращения происходят о Балашовым? — спросил Сергей Иванович.
После своего посещения семьи Бориса он делился впечатлениями с Рудиной, и поэтому она сейчас с интересом переспросила:
— Неужто!
— Ну, может быть, только начало их. Вчера он мне говорит в своем обычном ироническом стиле: «Что вы наделали с моими славными предками! Они абсолютно вышли из повиновения… И, если сказать правду, — это даже приятно мне. Появились эдакие стальные нотки в домашнем воспитании… У отца, конечно».
Анна Васильевна улыбнулась:
— Наконец-то! А знаете, Балашов пишет стихи. Я видела их на обложке его тетради.
И вдруг неожиданно спросила:
— Сергей Иванович, а вы когда-нибудь стихи писали?
Задала вопрос и смутилась: «Что это я?»
Но Сергей Иванович был сегодня таким простым, как-то так, совсем по-новому, открылся, перед нею, что Анне Васильевне захотелось продлить эту задушевность.
«И сейчас пишу», — хотел было признаться Кремлев, но ответил уклончиво:
— Это как корь… почти неизбежно…
Через несколько минут Анна Васильевна поднялась.
— Пора идти! — с сожалением сказала она и посмотрела на Сергея Ивановича, словно извиняясь. Кремлев тоже встал.
Они подошли к трамвайной остановке…
— Вы бы как-нибудь заглянули к нам в гости, — дружески предложил он и, спокойным голосом, будто отсекая что-то, добавил: — С сыном моим познакомитесь — серьезный товарищ… в детский сад ходит.
— Спасибо, — только успела ответить Анна Васильевна. Подошел трамвай.
— До свиданья! — Она помахала рукой.
Сергей Иванович ответил ей и долго еще глядел вслед убегающим синим огонькам.
В трамвае было пусто, он мчался быстро, вздрагивая на стыках, устало звеня.
Анна Васильевна осталась на площадке; мелькали огни магазинов, площади и скверы. Обрывки мыслей, как вспышки, то появлялись, то исчезали. «Завтра начинаю интересную тему… У Сергея Ивановича сын… Глупая, глупая…».
ГЛАВА XXI
После звонка Сергей Иванович на минуту задержал девятиклассников.
— Завтра, товарищи, контрольная по математике, надеюсь, вы подготовитесь как следует, — он посмотрел испытующе.
— Постараемся…
— Не посрамим земли!
— Все будет в порядке… — раздалось несколько голосов.
— Сема с Балашовым позанимается… — предложил Костя.
— Спасибо… — самолюбиво отказался Борис. — Я сам!
— А я прошу помочь мне, — поднялся Дружков и виновато поглядел на товарищей.
— Да, пожалуйста, — с готовностью воскликнул Сема Янович.
Кремлев отпустил класс.
— Сергей Иванович, — подошел к нему в коридоре Богатырьков, — плакаты для агитпункта мы нарисовали. — Леонид развернул два листа.
— Хорошо, — внимательно разглядывая плакаты, похвалил Сергей Иванович и подумал о Леониде: «На этого парня всегда можно положиться».
— Зайдемте ко мне, — попросил он.
Миновав фотолабораторию и спортивный зал, они задержались у большого листа бумаги с надписью: «Конкурс на лучшего чтеца стихотворений Маяковского».
— Учком вывесил, — пояснил Богатырьков с ноткой гордости.
— Вы на комитет думаете Щелкунова вызывать? — спросил учитель, продолжая путь.
Щелкунов был членом ученического комитета, работал плохо и к критике относился несерьезно: «Можете вывести из учкома, только спасибо скажу».
— Мы его завтра вызываем, — ответил Богатырьков.
— Я приду. Вы когда собираетесь?
— Сразу же после уроков.
— Приду обязательно! Щелкунова надо так пробрать, чтобы на всю жизнь запомнил!.. Садитесь, — пригласил Сергей Иванович Богатырькова, когда они вошли в кабинет истории.
Издали, из актового зала, доносилась песня — репетировал хор. Кто-то заглянул в дверь и поспешно закрыл ее.
— Как Балашов выполняет поручение комитета? — спросил Сергей Иванович.
По его совету Борису поручили редактировать стенную газету «За честь школы».
— Вы знаете, Сергей Иванович, к удивлению многих, очень добросовестно! — улыбнулся Леонид. — Мы ему прямо сказали: «Поведением твоим комитет недоволен, однако считает, что еще не все потеряно. Ты пока не комсомолец, но относись к делу по-комсомольски. Доверяем тебе общешкольную газету и спросим с тебя». — Он помолчал и добавил: — А прежнего редактора — Дорохина — сняли и за плохую работу дали выговор. Так и записали: «Выражаем комсомольское осуждение». Сообщили решение по радио и вывесили на доске комитета.
— Правильно. Вы план уже обсуждали?
— Да. Мне Анна Васильевна посоветовала подготовить конференцию: «Борьба за честь школы», Анна Васильевна обещала, что выступит несколько пионеров. Между прочим, и Афанасьев.
Богатырьков задумался, собрал и расправил морщинки на лбу.
— Мы думаем попросить Бориса Петровича сделать доклад на этой конференции. — Он вопросительно посмотрел на Сергея Ивановича: «Как вы к этому относитесь?» Заметив одобрение, продолжал: — Яков Яковлевич дал согласие провести беседу в восьмых классах «Об упорстве и настойчивости»…
— Хорошо, что сами думаете, — похвалил Кремлев. — Знаете, я бы мог рассказать комсомольцам о странах народной демократии.
— Это нас очень интересует! Значит, можно включить в план?
— Можно… Имейте в виду, Леня, в следующем месяце мы заслушаем на партийном собрании отчет комитета о работе с пионерами.
Богатырьков внимательно посмотрел на учителя. «Мы что-нибудь не так делаем?» — спросил его взгляд, но тотчас же юноша спокойно сказал:
— Подготовимся.
— И еще, — не пора ли подумать о молодежном лектории?
— Своими силами? — быстро спросил Богатырьков, и глаза его разгорелись. — Рамков давно просит дать ему доклад-решение ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Анна Васильевна поможет… Она говорила…
— Тогда за дело! — весело заключил Сергей Иванович.
* * *
Члены комитета комсомола, как обычно, собрались в кабинет директора и разместились за вторым столом, в некотором отдалении от Волина. Он продолжал писать и, временами, приблизив голову к сидящему рядом физруку, что-то тихо говорил ему.
Напротив Волина, по другую сторону стола, сидел в кресле Сергей Иванович; внимательно просматривал ученическую тетрадь с нарисованной картой и красным карандашом делал пометки.
На диване расположилась Серафима Михайловна, двое ребят ее класса и Анна Васильевна. На стуле, возле самого валика дивана, скромно примостился Виктор Долгополов. Остальные вызванные на комитет сидели на длинной скамье, принесенной из спортивного зала.
Богатырьков достал большие часы — подарок отца, — положил их перед собой.
— Начнем, товарищи, — предложил он.
Сначала разобрали, достаточно ли комсомольцы помогают Анне Васильевне в подготовке вечера для родителей, как прошли районные спортивные соревнования, и только после этого Богатырьков сообщил:
— А теперь мы послушаем объяснение Щелкунова, почему он бездействует в учкоме?
Восьмиклассник Захар Щелкунов, высокий, нескладный, с очень яркими губами, которые он то и дело облизывал, склонил набок голову на тощей шее и бойко начал:
— Я неоднократно предупреждал, что моя кандидатура не подходит в качестве члена учкома…
Идя сегодня на комитет, Захар твердо решил «избавиться от обузы».
— Это почему же — не подходит? — недобро сузил глаза Богатырьков.
— Я имею смелость заявить…
— Да ты говори попроще, без своих выкрутасов, — недовольно прервал его Костя Рамков и, держась руками за сиденье стула, приподнялся, — мы твои обороты знаем: «персонально», «вполне терпимо»… Ты нам прямо отвечай: почему не работаешь, если коллектив тебе поручил?
— Собственно говоря, мое право… — промямлил Щелкунов, теряя бойкость.
Рамков поднял руку, вставая, гневно повернулся к Щелкунову:
— Ему говорить нечего! Эгоист, только о себе и думает..
Захар побледнел, переменился в лице:
— Я прошу уважать…
— А за что тебя уважать? — спросил Костя, непримиримо глядя на Щелкунова. — Как дело какое-нибудь общественное, ты сейчас же: «У меня бабушка больна» или «Мне в музшколу пора»… Для тебя наша школа — проходной двор, а мы все — ничто, а сейчас ты вспомнил, что мы тебя уважать должны?
Плотников шепнул Петру Рубцову: «Ясно, чего же его уважать?»
— Позвольте мне задать несколько вопросов? — поднялся Виктор Долгополов и, получив разрешение, прокашлявшись, спросил тихо Захара:
— Вы любите нашу школу?
Долгополов как всегда был тактичен, и Леонид, понимая, что в этой тактичности кроется сила не меньшая, чем в порывистости Рамкова, с удовольствием прислушивался к вопросам Виктора.
— В этом даже странно сомневаться, — оскорбленно произнес Щелкунов и облизнул губы.
— Вы считаете себя членом нашего коллектива?
— Конечно!
— А, вступая в комсомол, в заявлении вы что писали?
Виктор близоруко прищурил глаза и выжидающе смотрел на Щелкунова.
Захар помедлил с ответом.
— Ну… «Хочу быть в авангарде»… — в замешательстве, наконец, ответил он, еще не понимая, к чему задал этот вопрос Виктор, но чувствуя в нем какую-то опасность для себя.
— У меня вопросов больше нет, — заявил Долгополов и сел, как ни в чем не бывало.
Борис Петрович и Сергей Иванович, переглянувшись, незаметно улыбнулись.
— А я убежден, — сердито сверкая глазами, всем телом подался в сторону Щелкунова Костя, — что он политический обыватель! Считает, что Устав не для него писан… Его надо из учкома вывести и написать об этом в «Комсомольскую правду»!
«Сколько же усилий ты нам стоил, и как хорошо, что они оправдались», — думал Борис Петрович о Косте, слушая его.
В шестом классе необузданная энергия Рамкова приносила много огорчений учителям. То Костя оказывался на чердаке школы и напарывался там на гвоздь, то в перемену устраивал матч-бокс. Его видели почти в одно и то же время в нескольких местах и еще журили, в одном конце школы, как он уже проказил в другом. Химик Багаров (есть такие на словах кровожадные, а на поверку очень добрые люди) требовал от Бориса Петровича:
— Рамкова надо немедленно убрать из школы. Это смертоносный яд!
Но тот же Багаров защищал Рамкова на педсовете, когда его хотели исключить на месяц:
— Ручаюсь, что из него выйдет хороший человек!
В комнату вошел Яков Яковлевич. Члены комитета вежливо привстали и снова сели, продолжая работу.
— Всего полгода прошло, как человека приняли в комсомол, — жестко сказал Богатырьков. — А он уже забыл о своем долге, уже успел побывать на комитете. Да и с учебой у тебя не ахти как хорошо, — вчера тройку получил. Кто тебе давал рекомендации? — сурово посмотрел он на Захара.
— Папа, — упавшим голосом ответил тот.
— Очевидно, кому-нибудь из членов комитета надо будет поговорить с коммунистом Щелкуновым. Он поторопился дать рекомендацию своему сыну.
Захар стал еще бледнее.
— Разрешите присесть… Мне нездоровится, — сказал он голосом глубоко несчастного человека. И, сев на стул, горестно опустил голову.
«Надо будет посоветовать школьному комитету от вступающего в комсомол требовать отзыва родителей», — подумал Волин.
— Дело ясно… Рекомендовать собранию вывести Щелкунова из состава учкома и избрать другого, — неумолимо настаивал Костя. — Комсомол — боевая организация, отлынивающие от работы и мямли нам не нужны!
Захар поднялся, прерывающимся голосом сказал:
— Если можете… оставьте… в учкоме…
Богатырьков мельком посмотрел вопросительно на Бориса Петровича.
— Я считаю, товарищи члены комитета, — пригладив усы, спокойно сказал Волин, — что Щелкунов сделает необходимые выводы из сегодняшнего разговора и советую пока оставить его в учкоме.
Теперь понимающе переглянулись Богатырьков и Долгополов. Рамков покусывал губу. Достаточно было посмотреть на его лицо, чтобы понять, какая напряженная внутренняя борьба происходила сейчас в нем.
— Хорошо, оставим, — с трудом произнес он, — но выговор за безответственность запишем!
С этим согласились. Щелкунов выслушал решение, неуклюже сунул подмышку портфель и понуро пошел из кабинета. Закрывая за собой дверь, он обернулся к членам комитета:
— До свиданья!
Костя, строгий и хмурый, кивнул ему головой.
— Теперь, товарищи, мы разберем вопрос о работе комсомольцев девятого класса с пионерами Серафимы Михайловны, — объявил Богатырьков. — Доложит нам об этом Виктор Долгополов.
Виктор говорил неторопливо, обстоятельно, и его тихий голос звучал с особой убедительностью.
— Вот взять, например, Плотникова, — Виктор поглядел на Толю. — Как ты учишься?
Толя втиснулся в угол дивана.
— Ничего! — приглушенно ответил он оттуда.
— Видите, какая установочка? — казалось, обращаясь только к членам комитета, спросил Долгополов. — Четверок и пятерок у него почти нет, а он нам говорит «ничего!»
Плотников забился еще глубже.
— Ты от нас не спрячешься, — дружелюбно усмехнулся Богатырьков и подумал: «Неужели и Глебку моего через несколько лет будут так спрашивать?»
— Дай-ка свой дневник, — уже строже потребовал он от Плотникова.
Толя порылся в сумке, встал и, не смея поднять глаз, подал дневник. Он пошел по рукам членов комитета, и пока они внимательно перелистывали дневник, Толя продолжал стоять, виновато понурясь.
— Почему у тебя мало хороших оценок? — допытывался Леонид. — Вот смотри: тройка, и еще тройка…
— Да ты смелей отвечай, — вставил свое слово и Яков Яковлевич, — ишь, какой здесь ягненочек… Вы бы на него поглядели, товарищи члены комитета, во время перемен!
— Видели, как не видеть? — откликнулся Богатырьков.
— Пусть ответит, почему у него мало четверок и пятерок? — настаивал Виктор Долгополов.
Плотникову стыдно было и перед ребятами старших классов, и перед Серафимой Михайловной, и перед директором, который посматривал на него, как казалось Толе, осуждающе.
— Безответственность!.. — наконец выдавил он из себя слово, только что услышанное здесь, и сейчас же мысленно ужаснулся: ведь именно за это дали выговор Захару.
— Кто же позволил тебе быть безответственным? — строго спросил Костя Рамков, но совсем не таким голосом, каким он разговаривал со Щелкуновым.
— Ты помни о чести нашей школы… — сурово сказал Леонид, стараясь не глядеть на Плотникова.
У Толи был такой несчастный, пришибленный вид, он чувствовал себя таким страшным преступником, что без улыбки на него нельзя было смотреть.
«Сейчас скажут: „Не достоин уважения“», — со страхом подумал Толя, но никто так не сказал.
Историк старших классов задал вопрос:
— Как ты думаешь, Плотников, почему тебя, не комсомольца, вызвали на комитет?
— Комитет болеет за всю школу, — тихо ответил Толя.
Серафима Михайловна зарделась, а Сергей Иванович сказал:
— В этом ты прав… Вполне!
— Да, болеет, — подтвердил и член комитета девятиклассник Девятко, юноша с орлиным носом и синими, часто меняющими свой оттенок, глазами. — И когда ты выламываешь доску в заборе городского сада, нам стыдно за тебя, потому что этим поступком ты позоришь восемнадцатую школу имени Героя.
Плотников поразился: «И об этом знают… так это ж было давно!»
— Ты помни, Плотников, — сказал Леонид, — для нас уроки — это главное, а самый близкий нам человек — учитель. Ты должен как пионер во всем помогать Серафиме Михайловне.
— Разрешите мне сказать, товарищи члены комитета, — поднялась с дивана Серафима Михайловна и сложила на груди полные руки. — Я замечаю, что Плотников в последнее время стал серьезнее, начал понимать, что плохой оценкой он всем нам приносит вред, что учеба его и поведение — дело государственное. И думаю, он будет лучше учиться, хорошо учиться! — Она остановилась, испытующе посмотрела на Толю и прочитала в его умоляющем взгляде: «Серафима Михайловна, не сомневайтесь!»
— Мы через некоторое время проверим тебя, — сказал Леонид.
— Я бы хотела, чтобы вы в своем решении, — предложила учительница, — отметили добросовестную работу не только пионервожатого Виктора Долгополова и его товарищей из 9 «А», они сейчас стали моими помощниками, но и «внештатного» шефа — Бориса Балашова.
«Верно, Серафима Михайловна, верно! — мысленно воскликнул Плотников. — Я завтра расскажу Боре, что его… отметили в решении», — повторил он новый для себя оборот речи.
Борис Петрович одобрительно кивнул, а Костя оказал:
— Конечно, надо!
Богатырьков пошептался с членами комитета и громко сообщил:
— Это мы отметим! — Он повернулся к Долгополову. — А Борису ты скажи, что его общественной работой мы довольны, но вот по учебе ему надо подтянуться.
ГЛАВА XXII
Сергей Иванович не раз уже замечал, что «хождение в народ», как в шутку называл он посещения учеников на дому, открывало воспитателю глаза на многое: застенчивый Дружков оказался хорошим сыном и братом, ухаживал за тремя маленькими сестренками, но дома у него всегда был такой шум, что ему следовало бы заниматься в читальном зале школы; Виктор Долгополов, как выяснилось, делал выписки из педагогических книг и мечтал стать учителем, а Костя мастерил радиоприемник.
Правда, посещения учеников на дому приносили подчас и огорчения, — находились родители, которые встречали учителя холодно. Но все эти «издержки производства» не останавливали Сергея Ивановича, и если он не в состоянии был сам пойти к ученику, а это было необходимо, он просил активистов из родительского комитета помочь ему.
Пожалуй, больше всех помогала ему мать Леонида Богатырькова. Она тоже была у Балашовых, познакомилась с родителями Бориса и очень пришлась по сердцу Дмитрию Ивановичу своим простодушием, а главное — рассказами о том, как она воспитывает Леню.
Даже Валерия Семеновна растрогалась:
— Что ж я, не хочу моего Боричку воспитывать как следует? Я для него готова жизнь отдать…
— Я вам вот еще что скажу, Валерия Семеновна, — говорила Богатырькова, — если вы наказали — ни за что не отступайте! Пусть сердце разрывается, хочется простить, а вы все-таки будьте твердой! Я сначала тоже жалоблива была, а потом приучила себя.
Рассказывая Кремлеву об этом посещении, Богатырькова сокрушенно сказала:
— Не дошло, Сергей Иванович, до нее! К иному привыкла…
И потом горячо, с недоумением спросила:
— Я не пойму, почему у нас до сих пор не додумаются в загсе там, или где, вручать библиотечку молодым родителям, книги Макаренко, книги об удачном воспитании. Разве можно допускать в таком деле кустарщину?
На другой же день после посещения семьи Балашовых Сергей Иванович почувствовал, что между ним и Борисом возник какой-то мостик, словно бы произошло нечто важное, связавшее их, что юноша доверил ему личное, свое, о чем другие не должны знать.
К своим новым обязанностям редактора Борис отнесся с неожиданным для всех, кроме Сергея Ивановича, рвением и учителю ни разу не пришлось пожалеть, что он посоветовал Леониду дать юноше это поручение.
Балашов ввел в газете постоянный раздел «Хроника дня» и, собрав «собственных корреспондентов», говорил им веско:
— Вы в мелочах находите ростки нового. Скажем, — восьмой класс отремонтировал книги нашей библиотеки — немедленно дайте об этом информацию. Понимаете? В несколько строк! Но чтобы это было оперативно.
В разделе «Школьный крокодиленок» появились краткие заметки:
«Ученик пятого класса Лемешко, отвечая по истории, вместо „восстания в Сиракузах“, сказал „восстание серопузых“ — недослышал подсказку».
«Ученик седьмого класса Брагин, столкнувшись в дверях с Серафимой Михайловной, не догадался уступить ей дорогу, — пошел на таран».
Балашов организовал тринадцать сменных редколлегий и выпускал газету через день.
На «прессконференции» он спрашивал у читателей:
— Что вас не удовлетворяет в нашей газете?
— Да толк-то какой от заметок? — говорил скептически кто-то из старшеклассников.
— Вы имеете в виду действенность материалов? — осведомлялся редактор. — Мы на это обратим внимание.
И в конце каждой статьи начал теперь делать пометки: «Вызвали на учком», «помогло», а в газете появились отделы: «По следам наших выступлений» и «Как преодолеваются пережитки старого».
Изредка он сам выступал с хлесткими фельетонами, подписывая их «Каран д’Аш», а в передовице «В чем сила коллектива?» обрушился на отлынивающих от общественных поручений.
Только однажды ответственный редактор поскользнулся.
Приложением к стенной газете была газета световая. На стеклышках рисовали каррикатуры и по субботам показывали их в, зале через эпидиоскоп. Сергей Иванович посоветовал Богатырькову:
— Дайте-ка в светогазету материал о ее редакторе. Он на уроках французского языка по десять раз меняет место.
— Дадим! — охотно, согласился Леонид. — Заметку можно озаглавить «Тушинские перелеты». Только поместит ли? — усомнился он.
На подученной каррикатуре Борис размашистым почерком начертал:
«Ввиду нехватки стекла материал не может быть опубликован».
Сергей Иванович раздобыл у Савелова большой кусок стекла, и принес редактору:
— Вот вам запасец, — как ни в чем не бывало протянул он Балашову стекло.
Редактор испытующе посмотрел на Сергея Ивановича, улыбнулся и пропустил каррикатуру.
* * *
Рядом с расписанием в учительской Волин прикрепил кнопками свежий номер заводской многотиражки. И сразу около этой газеты оказались и Капитолина Игнатьевна, и Сергей Иванович, и химик Багаров. Передовица называлась «Наша школа». Целая страница отведена была письмам родителей, учителям. Мать Толи Плотникова писала:
«Примите наше рабочее спасибо… Для нас и Серафима Михайловна, и Яков Яковлевич, и все вы — родные, близкие люди».
— Это очень трогательно, — тихо сказал химик Багаров и задумчиво отошел к окну. — Очень трогательно и дорого…
Сергей Иванович, прочитав газету, подошел к «француженке», сел рядом с ней на диван. Она зябко куталась в платок, черные жесткие волосы беспорядочно обрамляли ее длинное унылое лицо.
— Капитолина Игнатьевна, категорически настаиваю на том, чтобы вы больше требовали от моих девятиклассников, — как можно мягче, но решительно сказал Кремлев. — Если ученик того заслужил, вы не бойтесь его «обидеть», обострить отношения. Не прощайте ничего нарушителям порядка, а мы, все остальные, вас поддержим. Что толку в том, что они, скажем, на моих уроках хорошо себя ведут? У всех должны хорошо сидеть! Вы думаете, почему они безупречно ведут себя у Анны Васильевны? Она не боится быть требовательной. Не обижайтесь на резкое слово, но у вас, Капитолина Игнатьевна, какие-то крайности: то на многое смотрите сквозь пальцы, думаете снисходительностью добиться авторитета, то начинаете выгонять из класса.
— Ищу метод, — смутилась учительница и, помолчав, меланхолично, словно перечисляя какие-то скучные цифры, сказала: — Янович читал на моем уроке учебник истории, потом шлепнул соседа линейкой, я его послала к директору…
— Сема? — поразился классный руководитель. — Ну, не завидую я ему, он меня не минует! А к директору отсылать не советую, это значит — расписываться в своем бессилии.
Дверь в учительскую приоткрыл завхоз Савелов.
— Сергей Иванович, вас спрашивают.
— Сейчас, — откликнулся Кремлев, вставая, — Капитолина Игнатьевна, завтра я на полчаса собираю всех, кто преподает в моем классе, поговорим о нашем общем плане воспитательной работы… Вы сможете быть в пять часов?
— Смогу…
Оказалось, пришел отец Балашова и сидел в кабинете у Бориса Петровича.
Когда Кремлев открыл дверь кабинета, Волин заканчивал разговор:
— Я вас прошу, Дмитрий Иванович, взять под свое влияние и вашу уважаемую супругу. Простите, но ведь портит она парня…
Балашов неловко поеживался и как-то виновато посмотрел на Сергея Ивановича. «Не получается. Стараюсь, но не получается».
Кремлев крепко пожал его руку.
— Ну, я вас оставлю для семейного разговора, — поднялся директор, — располагайтесь, как вам удобно…
— Вы нам нисколько не помешаете.
— Да у меня своих дел полно, — лукаво прищурился Волин и вышел из комнаты.
— Как у Бориса сейчас с успеваемостью? — спросил Дмитрий Иванович.
— Дело поправляется, — успокоил Кремлев, — думаю, пробудили мы в нем ученическое самолюбие, и ему теперь стыдно тройки получать.
Дмитрий Иванович улыбнулся.
— А дома не все гладко, — признался он. — Вчера нагрубил матери. Не знаю, как вы посмотрите? Я его за это вечером никуда не пустил — категорически! Так он, знаете, Сергей Иванович, стал в позу оскорбленного.
— Это не страшно.
— Да и я так думаю! — воскликнул Дмитрий Иванович, ободренный ответом учителя, — но как лучше снять с него этот ореол «оскорбленного»?
Балашов пытливо смотрел на учителя, в глазах его было напряженное ожидание.
Помолчав несколько секунд, Сергей Иванович, наконец, сказал:
— Попробуем вот что… сегодня же скажите ему: «Я напишу в вашу школьную газету статью о твоем двуличии: как редактор, ты поучаешь других, а сам»… Понимаете?
— Хорошо, — сразу уловив замысел, с готовностью ухватился за этот план отец. — Хорошо! Мы его с двух концов зажмем, Бориса-то Дмитриевича!
Он открыл портсигар, протянул его Кремлеву и, раскурив папиросу, признался:
— Тут, Сергей Иванович, вот какая сложность… Валерия Семеновна, — он неловко помялся, но решил быть откровенным до конца, — донимает Бориса пустяковой опекой. Скажем, читает он учебник, откинулся на спинку стула, обдумывает. И начинается: «Зачем отвлекаешься? Барышни в голове! Я тебе добра хочу». Вечером возвратится домой немного позже — на час упреков: «После одиннадцати пускать не буду». Так он, негодник, что делает? Просидит во дворе на крылечке до одиннадцати, потом еще пять минут — специально для мамы, — и только тогда домой возвращается. У нас сейчас баталия за баталией. Я требую, чтобы он дров наколол, а жена жалеет… Потом она вспоминает, что рассказывала Ксения Петровна, спохватывается, но запаздывает…
— Я, Дмитрий Иванович, на этой неделе к вам загляну, с Валерией Семеновной поговорю, — пообещал Кремлев.
— Вот спасибо, — я ее предупрежу. Да, Сергей Иванович, мне как-то неудобно, что я ничего не делаю для нашей школы… Я мог бы доклад подготовить, что ли, ну, скажем, о международном положении или по медицинской части.
— Мы вам будем очень благодарны, — живо откликнулся Кремлев. — Я хотел вас просить — вы депутат горсовета… не могли бы прийти к нам в кружок Конституции и рассказать о работе горсовета?
— С удовольствием!
Они условились о дне.
Сергей Иванович решил порадовать отца.
— Я Бориса попросил, чтобы он опекал одного малыша в четвертом классе… Есть там такой сорванец — Толя Плотников. Так мне вчера учительница этого класса говорит: «Ваш опекун хорошо влияет. Даже на комитете его отметили».
Отец довольно рассмеялся:
— Это для меня ново — Борька в роли воспитателя!
* * *
Попрощавшись с Балашовым, Сергей Иванович возвратился в учительскую. У него было два свободных часа. Решил никуда не уходить. Достав из полевой сумки последний номер журнала «Вопросы истории», он сел на диван и углубился в чтение.
Из соседней комнаты — там была бухгалтерия — доносилось пощелкивание счетов да кто-то одним пальцем однообразно и негромко выстукивал на пишущей машинке, — казалось, дятел долбил клювом кору.
Прочитав статью, Сергей Иванович отложил в сторону журнал, оперся локтем о валик дивана и задумчиво стал смотреть в окно. Густой снег падал на землю. Сквозь белую пелену неясными очертаниями проступали заводские трубы. Мысли текли неторопливо, как этот падающий за окном снег. «Надо будет зайти в партбюро завода, спросить, чем мы можем быть им полезны… Интересно, как прошла беседа Анны Васильевны в токарном цехе?..» Кремлев стал думать своем классе, о Борисе Балашове. То, что он услышал о Борисе от его отца и Богатырькова, не удивило учителя. Борис, собственно, был неплохим юношей, и судя по рассказам учителей, «испортился», перейдя в девятый класс, стал разыгрывать эдакого Печорина XX века. Сергей Иванович уверен был, что Борис станет иным, уже становится иным, и в этом нет никакого педагогического чуда. «Просто внимание, во-время обращенное на него нами и комсомольцами, снимает с Бориса всю эту накипь… Я сегодня напрасно повысил голос, разговаривая с ним. Можно было обойтись без этого».
Сергей Иванович считал, что для учителя очень важно владеть своим лицом, голосом, жестом. Он научился с десятком тончайших оттенков произносить: «Я вас слушаю», быть холодно вежливым, тонкой репликой сражать провинившегося и питал отвращение к длительному морализированию. Он был уверен, что подчас большее сделает лукавая усмешка, скучное выстукивание дроби пальцами — «надоело», «надоело», ироническая улыбка или поощрительный взгляд, чем долгая душеспасительная беседа.
Кремлев прошелся по комнате, остановился у длинного стола. Здесь была «выставка» портфелей учителей: желтых и черных, старых и новых. «Только тощих нет», — усмехнулся он.
В учительскую вошел директор.
— Смотрите, зимища-то какая нагрянула! — с удовольствием глядя на падающий снег, воскликнул Волин. Они вместе подошли к окну..
— А знаете, я вчера имел разговор с вашим лидером печати, — сообщил Борис Петрович.
— С Балашовым?
— С тезкой, с тезкой… Похвалил за ценную инициативу. Вы видели, он номер газеты посвятил теме: «Подсказка друга — медвежья услуга». Материал подобрал великолепный. И статья «Комсомольский комитет требует от пионера Плотникова учиться без троек» — хороша. Между прочим, я обещал Балашову дать несколько книг для награждения активных корреспондентов. И дам. Обязательно. А в конце разговора поинтересовался: думает ли он вступать в комсомол?
— И что же? — живо спросил Кремлев.
— Очень, — говорит, много думаю об этом… Но чувствую: пока недостоин.
* * *
…В этот же день в классе Анны Васильевны разыгрались такие события.
Дима Федюшкин не выучил правила по русскому языку. И когда Анна Васильевна после уроков спокойно приказали ему: «Останьтесь выучить», — Федюшкин возмущенно сжал в комок губы и пошел из класса, независимо откинув назад белобрысую голову.
— Федюшкин! — строго повысила голос учительница.
Дима на секунду остановился в дверях, строптиво сверкнул угольками глаз:
— Не хочется здесь учить! — и вышел.
В первую секунду Анна Васильевна растерялась. Что делать? Догнать? Привести за руку? — Нельзя. Серафима Михайловна учила: «Помните золотое правило педагогики — руками к ребенку не притрагивайся — и не гладь, и не тяни. Так-то вернее будет».
Не придать значения этому случаю? — Ни за что! Против такого решения в учительнице все восставало. Надо было придумать способ, чтобы и маленького ослушника проучить и других на этом воспитать. Вызвать его к директору? — Нет, это тоже ей претило. Может быть, настоять на исключении из пионерской организации, на время снять галстук? Сказать ему: «Вы не понимаете, что галстук — это частица нашею славного советского знамени!» Или вызвать Диму Федюшкина на родительский комитет, чтобы его там пробрали? Были бы в классе комсомольцы — другое дело. Но они появятся только в третьей четверти.
Дома она не находила себе места. Что же предпринять? Наконец снова отправилась в школу.
Около пионерской комнаты она встретила Алешу Пронина в лыжном костюме с нашитыми на рукаве лычками председателя совета отряда. Лоб Алеши был перевязан широким белым бинтом и от этого волосы его казались особенно черными.
— Есть очень важное дело… — обратилась к нему учительница.
— Важное? — подтянулся Пронин и выжидающе посмотрел на Анну Васильевну.
Она рассказала о происшествии.
— Нужна ваша помощь. Давай соберем актив класса. Я буду ждать вас в учительской.
Не прошло и получаса, как перед Анной Васильевной сидели: классный организатор, члены редколлегии во главе с редактором Игорем Афанасьевым и еще три пионера.
— Ребята, — сказала учительница с такой тревогой в голосе, что все насторожились, — два часа тому назад у нас в школе произошел позорный случай.
Ребята сидели серьезные, притихшие.
— Представьте себе, — сурово говорила она, — станет наш Федюшкин работать на заводе, даст ему мастер задание, а он ответит: «Не хочется делать» — и уйдет домой. Вот, скажут, воспитала школа! Какая? Восемнадцатая имени Героя Советского Союза Василия Светова. Приятно нам будет? Думает ли Федюшкин о чести нашей школы? Нет, конечно! И нам надо напомнить ему об этом.
Подойдя к столу, она взяла карандаш, хмурясь, постучала им беззвучно по ладони.
— Хуже всего то, что так недостойно поступил человек, изучающий Сталинскую Конституцию. Что же это получается? Отвечает по Конституции на пять, а что делает?..
Она умолкла. После недолгой паузы спросила:
— Могу я рассчитывать на вашу помощь?
За всех ответил Пронин:
— Будьте спокойны, Анна Васильевна!
И, став смирно, скомандовал:
— Сбор по цепочке!
Они все мгновенно исчезли, только Пронин остался и, озабоченно расхаживая по учительской, что-то сосредоточенно обдумывал.
— Надо, чтобы цепочка не ржавела, — наконец сказал он.
— Верно! Когда все соберутся, председательствовать, конечно, будешь ты, — заметила Анна Васильевна, словно иначе и быть не могло.
— А о Федюшкине вы расскажете?
— Нет, зачем же, ты председатель совета отряда… тебе доверено руководство…
— Ясно! — решительно сказал он.
В это время из двора во двор мчались пионеры.
— Сбор по цепочке!
— Сбор по цепочке!
И маленькие фигуры, запахивая на ходу пальто, надвигая поглубже на головы шапки, бежали в школу.
Отряд собрался в пионерской комнате. Пронин поднялся, оперся пальцами о стол.
— Товарищи, знаете, что у нас произошло?
Федюшкин сидел у двери, виновато опустив голову. Он и сам уже не рад был, что «проявил характер».
Пронин рассказал о поведении товарища.
— Желающие выступить есть?
Поднялось несколько рук. К столу подошел Игорь, не торопясь достал из кармана куртки блокнот и, постучав по его обложке карандашом, — точно так, как это делала недавно учительница, — спросил у класса:
— Если нам учителей не слушаться, так кого тогда слушаться? Он спрятал блокнот и, повернувшись к Федюшкину, воскликнул, требовательно глядя на него карими, с золотой искринкой глазами.
— Называется человек Конституцию изучает! — У него сорвался голос, он «пустил петуха», но ничуть не смутился, прокашлялся и продолжал: — А ты о чести отряда подумал? О школе подумал? Это если у тебя личные переживания, или фантазия, так что взбрело на ум, то и делай? А сила воли где? Галстук с него надо снять! — заключил Игорь энергично. — И учителя Конституции попросить, чтобы оценку снизил. Вот!
Афанасьев пошел к своему месту, Брагин шепнул ему в догонку: «Правильно!»
— Ребята, — поднялся было Федюшкин; голос его жалобно дрогнул, лицо приняло виноватое выражение.
Ему не дали договорить.
— Четырнадцать лет ребята!
— Раньше надо было думать!
— Он и учится спустя рукава!
— Садись уж!
Но Федюшкин все же выкрикнул:
— Анна Васильевна, я дома выучу… и еще дополнительно!
Его маленькое личико с невысоким лбом и несколько вытянутыми вперед губами стало растерянным, всем видом своим он умолял забыть этот прискорбный случай.
Алеша Пронин поднял руку, призывая к тишине, с возмущением посмотрел на Федюшкина.
— Нет, не дома! — и повернулся к Рудиной, сидевшей в стороне: — Анна Васильевна, пусть завтра здесь останется… и подольше.
— И останусь, а чего же, и останусь! — решительно сказал Федюшкин.
— Ясно, что останешься, — неумолимо подтвердил Афанасьев. А галстук мы с тебя все-таки снимем…
— Товарищи пионеры, — обратился ко всем Пронин и поправил марлевую повязку на голове, — кто за то, чтобы с Федюшкина снять на неделю галстук?
Все подняли руки. Сбор кончился.
По дороге домой Федюшкин обиженно говорил Алеше:
— Друг называется! «Кто за то…»
Пронин обнял сопротивляющегося Диму и задушевно сказал:
— Ты, Димка, неправ… Если все будут грубить, не подчиняться, что же это за отряд имени Фрунзе? Ну скажи по-честному, верно?
— Самый честный нашелся, — пробурчал Федюшкин, кладя руку на плечо друга.
ГЛАВА XXIII
На следующий день, после первой перемены, на стене лестничного пролета, так что все сразу в школе заметили, появилось на большом листе бумаги таинственное слово:
СКОРО!
Через час к нему прибавилось:
У НАС В ШКОЛЕ…
Прошел еще один урок, и чья-то невидимая рука дописала:
СИЛАМИ СЕДЬМОГО И ДЕВЯТОГО КЛАССОВ…
И наконец, на последней перемене появилось окончание фразы:
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ПЬЕСА ЧЕХОВА «СВАДЬБА».
В объявлении не было указано, что художественный руководитель, режиссер, костюмер, гример спектакля — Анна Васильевна. Но достаточно было посмотреть в эти дни на ее лицо, чтобы понять, сколько хлопот принес ей этот спектакль. Она волновалась больше всех потому, что волновалась за каждого в отдельности и за всех вместе взятых.
Вечер для родителей учеников седьмого класса был почти подготовлен, подарки сложены в шкафу у Якова Яковлевича. Решено было, что первый спектакль дадут для семиклассников и их родителей в воскресный день, а позже — всей школе, платный, и деньги вручат родительскому комитету для подарков школьникам-сиротам.
В субботу была генеральная уборка. Два назначенных директором класса мыли полы, убирали двор. Школа украсилась портретами вождей, праздничным кумачом, живой зеленью, гирляндами цветных лампочек.
Волнения начались задолго до вечера. Выяснилось, что несколько пригласительных билетов еще не разослано, что в зале мало цветов, что нет самовара, необходимого по ходу пьесы, а добытый в театре костюм моряка слишком широк.
Наконец, стали собираться родители, их торжественно встречали на лестнице дежурные с повязками на рукавах, вели в зал, в комнату выставки работ семиклассников. Здесь были коллекций, стенгазеты, фотоальбомы, рисунки и далее яблоки из школьного сада, сбереженные на этот случай.
Над всем этим добром висел большой лозунг:
ДОРОЖИ ЧЕСТЬЮ СВОЕЙ ШКОЛЫ!
К выставке подошел дедушка Димы Федюшкина, старик с седой окладистой бородой, перелистал несколько тетрадей с домашними сочинениями: «Ишь, красота какая!» Подумал с сожалением: «Димка-то наш меньше их старается».
Но главные, самые главные сюрпризы, о которых никто из родителей и не помышлял, были впереди, и семиклассники таинственно перемигивались, мчась по лестнице. «Затея! Ну и затея! Ну и Анна Васильевна!» Развевались алые галстуки, то там, то здесь мелькали отутюженные, с безукоризненной складкой, брюки.
Леня Богатырьков только взглянул осуждающе на нечищенную обувь Димы Федюшкина и того как ветром сдуло. Через несколько минут Федюшкин появился в ослепительно блестевших ботинках.
Толя Плотников сунулся было в актовый зал, но его деликатно выпроводили:
— Для вас — завтра.
Выйдя на улицу, Толя встретился с Балашовым. После отказа участвовать в пьесе Борису неловко было зайти сейчас школу, хотя ему очень хотелось это сделать.
— Ты чего здесь? — строго спросил он у Толи, критически оглядев его с ног до головы. На Плотникове — отцовские валенки, длинный шарф, несколько, раз обмотанный вокруг шеи, на голове шапка-ушанка. Один наушник ее настороженно вздернут, на другом, опущенном, развевается тесемка.
— Понимаешь, Борь, хотел посмотреть, но мне говорят — нельзя, — объяснил он, ища поддержки.
— И правильно, — отказал в сочувствии Балашов. — Ты свои фокусы бросил?
— Бросил! Меня сам Борис Петрович хвалил!
Плотников восхищенно щёлкнул языком, звук при этом получился такой, будто откупорили бутылку.
— Прогресс, прогресс, — недоверчиво усмехнулся Балашов.
— Не веришь? Честное пионерское под салютом, — Плотников для большей убедительности даже приподнялся на цыпочках и надвинул шапку на лоб. Физиономия его так подкупайте засияла, что Борис с мягкой снисходительностью похлопал его по плечу. — Нет, почему же, юный друг, верю. Покажи мне свои отметки, и я скажу тебе, кто ты.
Борису, привыкшему дома к тому, что все внимание родителей сосредоточивалось на нем, их единственном сыне, было теперь даже приятно заботиться о Плотникове. Естественное стремление как-то удовлетворить братские чувства, нашло выход, и Борис сначала снисходительно принимал от Плотникова его преклонение, а потом и сам искренне привязался к Толе.
— Борь, у некоторых людей сложились ложные предоставление обо мне.
— Надо говорить — представления. А именно?
— Они, например, по некоторым отрывочным случаям заключили, будто я к людям отношусь с высокой колокольни!
— О боги! Ну и язычок ты усвоил. Но кто эти «некоторые люди», эти «они»?
— Француженка!
— Наконец-то выяснилось!
— На французском я баловался… немножко… Капитолина спрашивает — почему? Я говорю: мне скучно. А люди по этому случаю рассудили, что я к ним отношусь свысока.
— О человеческая несправедливость!
— Да! А потом Женька Тешев у меня линейку взял.
— Это на французском-то?
— Да на французском же! Взял и сидит, как святой, мол, «я не я и корова не моя», а я его щелкнул, а Женька назвал меня мелким собственником.
— Ну вот что, друг, — остановил Плотникова Борис, — ты, конечно, не мелкий собственник, это для меня совершенно ясно, но я жду от тебя прежде всего пятерок. Тебе ж говорили на комитете: ты должен стать первым помощником Серафимы Михайловны.
— Это я могу! Это я могу! — воскликнул Толя. — Меня уже выдвинули в отряде барабанщиком! — Он взглянул на друга с торжеством.
— Ого, ответственность!
— Борь, ты обещал, если все будет в порядке, научить делать фигуры на коньках, — скороговоркой напомнил Плотников и просительно посмотрел снизу вверх: — Нет, ты скажи, скажи — обещал?
— Запомни, парень, — торжественно произнес Борис, — Балашов никогда в жизни не нарушал своего слова. Скажу больше: я и Сергей Иванович организуем отряд лыжников, можешь рассчитывать. Ясно? А теперь — айда домой! — дружески подтолкнул он Плотникова.
— Ты туда? — с завистью кивнул на окна школьного зала Толя.
— Туда, — решительно сказал Балашов и направился к двери.
* * *
Родители, придя в школу, прежде всего начинали разыскивать Анну Васильевну. Постороннему человеку странным показалось бы, что к этой девушке, почти девочке, то и дело подходили отцы, бабушки, и матери, о чем-то доверительно советовались, что-то рассказывали.
Борис Петрович старался держаться в стороне. Ему хотелось, чтобы Анна Васильевна чувствовала себя полной хозяйкой вечера, поэтому он ушел в учительскую со своим старым знакомым мастером Федюшкиным.
— С дисциплиной-то, Борис Петрович, еще не все ладно у нас в школе, — говорил мастер, сидя в кресле против Волина и раскуривая трубку. — Вчера иду по улице, гляжу — мальчата, один с царапиной через всю щеку… — «Плотников», — догадался Борис Петрович. — На деньги играют. Ну, пристыдил. В чем тут дело, Борис Петрович? В чем корень? — Мастер приподнял густые мохнатые брови, вопрошающе посмотрел на Волина.
— Я думаю, Терентий Петрович, — вместе с креслом пододвинулся Волин к собеседнику, — мы еще недостаточно занимаем в школе детей интересными делами. Я до войны в «Артеке» был, в гостях. Две тысячи пятьсот пионеров отдыхало там тогда, и ни одного «чрезвычайного происшествия» — мечта учителя! А почему? Да потому, что сидит мальчонка в фотолаборатории, или управляет моторной лодкой, или лобзиком что-то выпиливает. Здесь же и воспитатель-инструктор… Какой же смысл на деньги играть или хулиганить, когда есть дела интереснее? Значит, все зависит от организованности детей, от коллектива воспитателей. Мы, Терентий Петрович, к воспитателям и вас, родителей, конечно, причисляем.
— А куда же нас денешь? — с достоинством соглашается мастер. — Мы недавно на партийном собрании потребовали от одного папаши, — вы его знаете — диспетчера Афанасьева, — чтобы он вместо амурных дел сыном занялся… Повлияло, кажется…
«Повлияло?» — едва не вырвалось у Бориса Петровича, но он сдержался. «Рассказать о нашем разговоре с Леонидом Михайловичем? Нет, не надо!» — решил он.
— Я так понимаю, Борис Петрович, вот, скажем, пионеры: в барабан бить, в горн трубить — дело хорошее, но главное для них: опять же — высокая успеваемость, а мой Димка несколько троек имеет…
— Парень-то он хороший, — сказал Волин, и перед ним на мгновенье возник белобрысый Дима, — только горяч, своеволен… А с учебой — комсомольцы примутся за него, да он сам поднажмет, гляди, и все выправится.
— Ласки ему нехватает, — сокрушенно сказал Федюшкин. — Родители то в экспедициях, то на зимовках, а я тоже человек занятой, суровый, вот он и ершится… Гляжу я, Борис Петрович, есть у нас еще такие семейства, что не поймешь: не то это ресторан, не то читальный зал… Или база туристская…
— Вот именно!.. Терентий Петрович, — Волин кончиками пальцев слегка прикоснулся к колену собеседника, — а не взялись бы вы, ну, разок в десять дней — на большее я не замахиваюсь — кружок у нас слесарный вести?
Мастер помедлил с ответом, что-то прикидывая в уме. Хитрил: не хотел сказать, что об этом же его недавно просили и Богатырьков с Яковом Яковлевичем.
— Инструменты у нас есть, — продолжал директор, — Прошу вас, как нашего активиста… Знаю — заняты вы очень, но — надо!
— Можно, — сказал, наконец, мастер, — я с собой помощников приведу, из трудовых резервов… Одного кружка, я думаю, мало. Надо обмозговать и при школе техническую станцию открыть.
* * *
Анна Васильевна старалась с каждым из родителей поговорить отдельно.
— А как мой-то шалопай? Сладу с ним нету, — сетовала молодая светлоглазая женщина, но по тону ее Рудина чувствовала, что матери очень хочется услышать опровержение. И так как опровержение можно было сделать, Анна Васильевна успокаивающе сказала:
— Напрасно вы так! Ваня стал лучше…
Мать просияла.
— Неужели?
— Да. Мы его сейчас в комсомол готовим. Знаете, как он старается? Вы не внушайте Ване, что он плохой. Почаще обращайтесь к тому хорошему, что есть в нем.
В первое время, когда Рудину назначили старшей пионервожатой, ей казалось, что это станет помехой в ее труде педагогическом. Но очень скоро Анна Васильевна сделала для себя чрезвычайно важное открытие: близкое общение с пионерами, знание их интересов, мальчишеских взаимоотношений только обогащало ее, как учительницу, помогало порой развязывать самые запутанные узелки.
К Рудиной неторопливой походкой, несколько в развалочку, подошел низенький, представительный мужчина с двойным подбородком и старательно расчесанными волосами.
«Отец Левы Брагина. Очень приятно, обычно приходит мать», — подумала учительница.
— Доброго здоровья, Анна Васильевна, — густым басом, деликатно произнес он.
— Здравствуйте…
— Вы имейте в виду, Анна Васильевна, он приглушил голос до шопота, — у меня с Левой был оч-ч-чень неприятный разговор после известного инцидента. Я ему прямо вопрос поставил: «А если бы меня так оскорбили?» Лева извинялся перед Игорем.
Сообщив это, Брагин посмотрел на учительницу так, словно это он сам извинялся и теперь ждал поощрения. Не дождавшись его, он, точь-в-точь, как Лева, поднялся на цыпочках и потянулся к уху Анны Васильевны:.
— Так вы представляете, что ответил моему сыну Игорь?
Он сделал многозначительную паузу.
— «Ты извини меня».
И без того круглые глаза Брагина еще больше округлились под стеклышками очков.
— Каковы наши дети? Мы все думаем: они не видят, они не понимают! А они чувствуют сильнее нас!
Рудина заметила выходящего из учительской дедушку Димы и подвела к нему Брагина.
— Познакомьтесь.
Они знакомятся, но Брагина скоро уводит инженер Пронин.
— Терентий Петрович, — обращается учительница к старику, — двенадцатого у нас занятие родительского лектория — придете? Яков Яковлевич лекцию прочтет: «Как воспитывать у подростков скромность». Приходите!
— Приду, Анна Васильевна, обязательно приду, — обещает Федюшкин, ласково поглядывая на девушку. — Я прошлую пропустил — на заводе был занят. А о своем случае Димка мне рассказал — каялся. Я еще подбавил ему на орехи…
— Могу вас порадовать, — говорит ему Анна Васильевна, — в нашем классе за четверть только у четырех тройки…
— А по всей школе как? — интересуется Федюшкин, перебирая окладистую бороду.
— Троек еще много… — сокрушенно говорит учительница и виновато смотрит на старика.
В это время в комнату вошла мать Игоря. Рудина обрадовалась и, извинившись перед Федюшкиным, пошла к ней навстречу.
— Людмила Павловна, здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли!
«Неужели для Леонида Михайловича наш разговор прошел бесследно?» — подумала она, пожимая руку Афанасьевой.
— Здравствуйте, — ответила Людмила Павловна. — Игорек и его товарищ Костя Рамков меня, можно сказать, на буксире притащили. Спасибо, что вы к нам заходите…
Игорь стоял здесь же и смотрел на мать преданными, немного настороженными глазами, словно боялся — не обидел бы ее кто неосторожным словом.
— Как вы себя чувствуете? — участливо спросила Рудина.
— С моим сынком не пропаду, — с гордостью глядя на Игоря, ответила женщина. — Вот надо только малыша устроить в ясли.
— В этом мы вам постараемся помочь…
— Буду вам очень обязана! А как у Игоря с успеваемостью?
Игорь опустил глаза. У него было две тройки, и он стыдился их.
— Я уверена, что во второй четверти Игорь вернет себе доброе имя отличника и станет комсомольцем, — сказала Анна Васильевна.
— Вот посмотришь, мама! Посмотришь! — воскликнул мальчик.
— Ты обещал зайти ко мне в гости, почему же не приходишь? — укоризненно спросила Рудина и улыбнулась той своей милой улыбкой, которая, казалось, широко распахивала ее душу.
— Я зайду, — тихо пообещал Игорь, вспомнив и первый приход учительницы к ним домой, и то, как он ни о чем ей тогда не рассказал, и как она потом приходила снова. — Я обязательно приду, — повторил он.
Сейчас она стала для него такой же близкой, как мать, и он мог бы ей рассказать, что слышал вчера из своей комнаты, как взволнованно разговаривали о чем-то мама и пришедший к ним отец, что когда он вышел в большую комнату, отца уже не было, — но у матери тревожно и радостно блестели глаза и она как-то сразу похорошела.
Он не спросил ее, зачем приходил отец, — боялся разрушить надежду, что возникла в сердце, но от этой надежды все вокруг становилось светлым и хотелось скакать и петь непонятное для всех, но дорогое ему: «Это будет! Это будет!»
* * *
Ровно в четыре часа горн торжественно возвестил начало сбора.
Родители уже сидели в зале. Пионеры выстроились напротив большого портрета: чья-то детская рука с любовью написала красками портрет маленького Володи Ульянова.
— Отряд, к выносу знамени — смирно! — раздалась громкая команда, и ряды застыли.
Терентий Петрович расправил свою бороду и решительно встал. За ним, неуверенно переглядываясь, поднялись все родители.
Костя Рамков, ловко щелкнув каблуками, повернулся лицом к строю.
— Сдать рапорт! — приказал он.
Его осанка, горделивая посадка головы, весь он — порывистый и увлеченный — как нельзя лучше подходил к этому праздничному сбору.
Приняв рапорт, Костя начал перекличку.
— Василий Светов! — вызвал он, и голос его зазвенел, как струна.
Правофланговый Леня Пронин ответил торжественно:
— Геройски погиб, защищая социалистическую Родину!.
— Игорь Афанасьев!
— Есть!
— Лев Брагин!
— Есть!
Закончив перекличку, Костя громко предложил:
— А теперь давайте споем песню, посвященную нашей школе. — И первым начал высоким мальчишеским голосом:
Мы гордимся нашей восемнадцатой. Именем прославленным Героя…Все дружно подхватили слова песни.
Доклад «Великий Октябрь» делал Алеша Пронин. Говоря, он требовательно поглядывал на слушателей черными глазами.
Инженер Пронин сидел у стены, опершись о колени руками, и на его полном смуглом, лице были написаны удивлению и гордость.
Алеша, пригладив вихор, который тотчас же снова вскакивал, говорил звонким голосом:
— Вся наша страна выполняет пятилетний план. Да еще как! И вы, наши родители, все свои силы отдаете! Дедушка Димы Федюшкина недавно орден трудовой получил на заводе…
Терентий Петрович с удовольствием подумал: «Ишь ты, мальчонка, ножки, что сошки, а похвалил — и приятно».
— А маму Левы Брагина, — продолжал Алеша, — наградили медалью «За доблестный труд»… Значит, и мы не должны отставать от своих родителей и нам надо учиться только на «отлично». И быть дружными…
Отец Алеши оглянулся по сторонам, словно призывая в свидетели: «Видели? Какие растут наши-то?» Он гордился и тем, что сын его отлично закончил четверть, и тем, что готовится поступить в комсомол. «Теперь я действительно буду комсомольским папашей», — удовлетворенно подумал инженер.
После доклада семиклассники, взяв под руки родителей, повели их в класс. На партах лежали подарки: картины, стихи, самодельные портсигары, старательно раскрашенные глиняные кувшины для цветов. Алеша Пронин краешком глаза наблюдал за отцом. Большой, добродушный, он, улыбаясь, рассматривал выпиленную сыном полочку из фанеры; полочка отливала светлокоричневым лаком и в руках отца казалась особенно хрупкой.
— Это ты ловко сделал, — одобрительно сказал Пронин, привлекая к себе сына.
— У себя над кроватью повесишь, — стараясь сохранить серьезность, посоветовал Алеша и немного отстранился — неудобно на людях нежничать.
…Борис Петрович, убедившись, что все идет как нельзя лучше, незаметно ушел.
Сюрприз ждал и Анну Васильевну.
Вдруг открылась дверь класса, и на пороге его появился торжественный Лева Брагин. В руках он держал альбом.
— Это вам от нашего класса, — подойдя к Анне Васильевне, сказал Лева, и толстые губы его расплылись в улыбке.
В альбоме оказались портреты советских писателей. Их тайно рисовали целый месяц лучшие художники седьмого «Б».
Анна Васильевна растерянно оглянулась, но на нее так ласково-ободряюще смотрели родители и так радостно — дети (в их взглядах можно было прочитать: «Не ожидали? Здорово мы придумали?»), что, прижав подарок к груди, она ответила Леве счастливой улыбкой, чувствуя, что не в состоянии сказать ни слова.
— Спасибо, — наконец, тихо сказала она. И окончательно овладев собой, добавила: — Ребята, вы идите! Пора готовиться. Мы немножко позже придем.
* * *
Дети ушли готовиться к спектаклю, а родители сели за парты.
— Я думаю, — начала Анна Васильевна, — что этот вечер укрепит нашу дружбу.
Она мельком посмотрела на инженера Пронина. Он в последнее время был частым гостем в школе.
Пронин, с трудом втиснув себя в парту, задумчиво гладил ее лакированную крышку.
«Школьная парта, — растроганно думал он, — сколько здесь шалунов пересидело!.. Если бы описать историю какой-нибудь парты, получилась бы интереснейшая поэма. В нашей памяти могут стереться лица знакомых, события и книги, но мы всегда будем помнить каждую морщинку на лице своего учителя, будем помнить парту, за которой мы сидели, потому что невозможно забыть светлые страницы детства. Эта парта вызывает и немного грустные мысли… вдруг увидишь себя за ней мальчишкой и подумаешь: „Да как же это было давно!“»
— Именно в единстве воспитателей школы и родителей наша сила, — откуда-то, словно издалека, доносился до его слуха молодой голос учительницы, и то, что она говорила, было очень важно и близко, не отвлекало его от собственных мыслей, а как бы вплеталось в них.
«И если, обремененный делами, уже в годах, ты неожиданно оказываешься за этой детской партой, и учительница, ясная и чистая, как твой сын и его будущее, говорит: „Будь ближе к школе“, разве можно не откликнуться?»
Анна Васильевна умолкла. Пронин встрепенулся, поднял руку и, получив слово, вышел к столу:
— Давайте, товарищи, от пожеланий перейдем к делу, — оказал он. — Кто чем может быть полезен нашей школе?
«Нашей школе» у инженера получилось очень душевно и почти каждый подумал: «Действительно, школа-то наша».
— Я, например, раз в неделю мог бы руководить радио-кружком… Провести экскурсию в цехи и лаборатории. Потом, я думаю, мы с Анной Васильевной пройдем в заводской комитет комсомола, договоримся там о встрече с молодыми стахановцами. Верно?
— Ну, еще бы не верно! — воскликнула Анна Васильевна и все заулыбались.
Выступали многие, говорили недолго, но хорошо — так всегда бывает, когда слова идут от сердца.
В класс вошел Леонид Богатырьков и что-то тихо прошептал Анне Васильевне.
— Сейчас, — ответила ему Рудина и, обращаясь к родителям, пояснила: — Мы для вас пьесу подготовили. Не судите только слишком строго, как сумели!
Зал был переполнен. Все же просочились и неприглашенные ценители.
На сцене появились «артисты». В неузнаваемого старика превратился Алеша Пронин. Красноносый, беззубый Жигалов — Долгополов под всеобщий хохот то и дело повторял: «Без жульничества». Очаровательная Змеюкина (трудно было узнать Анну Васильевну в этой женщине с нелепо взбитой прической в яркозеленом платье), — жеманно вздыхала: «Дайте мне поэзии, восторгов!»
Борис Балашов, сидя в последнем ряду, бранил себя за то, что отказался от роли Жигалова. Он бы сыграл не хуже… «И все мой гонор, — когда же ты, критически мыслящая личность, избавишься от него».
* * *
После спектакля «артисты», в гриме и костюмах, к великому удовольствию семиклассников и, видимо, своему собственному, появились среди зрителей, провожали родителей.
Балашову очень хотелось подойти к Анне Васильевне, сказать ей что-то такое хорошее, чтобы она поняла — он осуждает себя. Но он не сделал этого: «Еще подумает, что заискиваю».
Домой он пошел с Виктором. Они жили по-соседству и в последнее время сдружились.
— Ну как? — допытывался Долгополов.
Рядом со стройным Борисом он казался крепышом. Черный свитер его, выглядывая из-под пальто, подступал к широкому подбородку.
— Неплохо, — скучным голосом неохотно ответил Балашов. — Были мелкие недостатки, как говорят и театральном мире — «накладки», а в общем — вполне прилично.
— Прилично? — фыркнул Долгополов. — Великолепно! А все же молодец Анна Васильевна, молодец! Ну, признайся хоть теперь, ты ведь тогда по-хамски ее обидел? Верно? Молодого учителя мы должны больше других поддерживать… Ну, признайся!
Виктор был возбужден и не замечал, что товарищ не в духе.
— Вспомнил! — сначала недовольно поморщился Борис, но справедливость взяла верх и он подумал:
«Ты прав, я знаю, что поступил, как невежа». — Ему хотелось признаться в этом Виктору, но не позволило глупое мальчишеское самолюбие.
— И все же я бы на твоем месте извинился… Лучше с запозданием, чем…
— Я не институтка! — срываясь на грубый тон, выкрикнул Балашов и, резко отбросив камень, попавший под ноги, отвернулся.
Виктор с удивлением пожал плечами.
— Что с тобой? — мягко спросил он.
— Ничего, — ответил Борис и глухо, каким-то незнакомым голосом добавил: — воспаление совести…
Виктор внимательно посмотрел на Балашова и промолчал.
У сквера их догнал Костя Рамков. Чуб выбился у него из-под кубанки, коричневая куртка была распахнута, глаза восторженно горели.
— Ну, братцы, вечерок!
После памятного разговора у Богатырьковых Костя некоторое время сторонился Бориса, хмуро поглядывал на него, как, впрочем и большинство комсомольцев класса. Но, видя, с какой энергией Борис выпускает стенные газеты, как искренне изменил он свое отношение к классу, Костя с готовностью и первый пошел на сближение с Балашовым.
— Директор только в начале вечера был. Я думаю, чтобы Анну Васильевну не связывать, — проницательно заметил Долгополов… И, помолчав, добавил: — Борис Петрович — невозмутимый. — Непонятно было, одобрительно или осуждающе оказал он это.
Балашов усмехнулся, подумав: «Много вы знаете!»
— Нет и нет! — убежденно возразил Рамков и переменил ногу, чтобы идти в лад с товарищами. — Он сдержанный… а это тоже признак воли. Он не оскорбит, не накричит, но так посмотрит. — Рамков выпрямился, вытащил руки из карманов куртки и попытался проницательно посмотреть на Бориса, но из этого ничего не получилось.
— Понимаешь, взглянет осуждающе, и ты на неделю сам не свой, потому что ценишь его уважение. Помните, мы с урока химии сбежали и потом сами явились к Борису Петровичу с повинной? Он только и сказал: «Школу позорите». Больше ничего. Но так стыдно стало!
Они подошли к трамвайной остановке, потоптались на асфальтовой площадке, шутливо боксируя и, отойдя в сторону, продолжали разговор.
— Я заметил, — скупо сказал Балашов, — у Бориса Петровича обычай: что заработал, то и получай. После двойки пять поставит, если заслужил.
— Правильно, — подхватил Костя, энергично поворачиваясь к Борису, — а хвалит редко… Но зато, если похвалит, кажется — медаль золотую получил!
— Не удостаивался, — мрачно усмехнулся Борис.
— Он особенно уважает трудолюбивых, — простодушно сказал Костя и, спохватившись, — не обидел ли Бориса? — умолк.
— Я к нему не постесняюсь за любым советом прийти, — не заметив замешательства Кости, признался Виктор.
— Да хватит дифирамбов! — сдержанно попросил Борис.
Вдали показались огни трамвая.
Костя уехал, а Борис и Виктор отправились дальше пешком.
* * *
Виктору уже давно хотелось душевно поговорить с Балашовым, да останавливало опасение, что Борис примет этот разговор как очередную попытку воздействовать на него «по комсомольской линии», «найти подход». Но сейчас, — Виктор это чувствовал, — с Борисом можно было говорить так, кал этого хотелось Виктору. И когда они свернули в городской сад и стали спускаться по лестнице к пустынной площадке у раковины для оркестра, Долгополов взял Бориса за руку повыше локтя и сказал:
— Ты знаешь, один из отделов обсерватории называется «Службой солнца». Какое название!
В голосе Виктора слышалось восхищение и удивление — придумали же люди такое чудесное название! — Борис остановился на площадке лестницы и пальцами задумчиво стал сгребать тонкий слой снега с каменных перил.
— И вот я думал, — немного стесняясь и своей откровенности и задушевного тона, продолжал Виктор, — во время блокады Ленинграда комсомольцы спасали умирающих… ходили по домам… несли в промерзшие квартиры тепло, — несли «Службу солнца».
Борис, подняв голову, жадно слушал, его охватило волнение.
— Понимаешь, Боря, — ты извини меня, я не могу это точно выразить, лучше чувствую, — чем больше людей нашей Родины будет нести «Службу солнца» для всех, тем лучше, теплее будет нам жить… и ничто не страшно!
Виктор умолк. Балашов порывисто схватил его руку.
— Веришь? Я честно буду нести эту службу!
Они долго стоили на площадке.
ГЛАВА XXIV
Опустела школа, Анна Васильевна еще раз проверила, все ли убрано. Подумала о Балашове: «Жаль, что он не участвовал».
Неприязнь к нему, чувство обиды, вызванное происшествием в классе, — прошли. Теперь Борис стал очень хорошо заниматься по литературе. «Правильно, что за четверть я ставлю ему пять». Она устало провела рукой по лбу и остановилась у окна.
В классе было темно, от этого на улице свет казался особенно ярким. Празднично горели огни города.
«Сергей Иванович делает сейчас доклад в клубе железнодорожников». Ей почему-то стало немного грустно.
Одевшись и застегивая на ходу шубку, Анна Васильевна начала спускаться по лестнице. Опустила руку в карман, нащупала конверт, достала его.
«Дорогая Анна Васильевна, комитет комсомола нашей школы поздравляет Вас с наступающим праздником Великого Октября и желает…»
Такое письмо получили сегодня все учителя.
Снег на улице почти весь смело, но ветки деревьев и кустов, провода были оторочены белыми иглистыми бахромками. В зимнем молочном тумане царили покой и торжественность.
Рудиной вспомнился отец. Он был до войны учителем, погиб, защищая Москву, в сорок первом году. Перед уходом на фронт, уже в военной форме, говорил ей:
— Мне, Анка, кажется почему-то, что ты будешь хорошей учительницей.
Вот она и стала учительницей… Но такой ли, о какой мечтал отец? Нет еще, — неуравновешенна, нетерпелива… «У Сергея Ивановича такой же высокий лоб, как у папы» — неожиданно подумала она.
Домой идти не хотелось. «Может быть, зайти к Кремлеву? Он, наверно, уже возвратился с доклада. Посижу полчаса и уйду… Нет, неудобно… Хотя, что же здесь неудобного? Ведь он приглашал. Отношения между товарищами должны быть простыми. Интересно, какой у него сын?»
Эта промелькнувшая мысль о сыне Сергея Ивановича уничтожила сомнения, и Анна Васильевна решительно направилась к автобусу.
Она поднялась на второй этаж, разыскала квартиру Кремлева и неуверенно позвонила. Дверь открыла пожилая женщина со скорбными глазами. Рудина догадалась, что это бабушка.
— Могу я видеть Сергея Ивановича? — смущенно спросила девушка.
— Его нет дома, — ответила Наталья Николаевна, внимательным взглядом рассматривая гостью. — Можно узнать, зачем он вам нужен?
— Мы вместе работаем, — неуверенно стала объяснять Рудина, — Сергей Иванович приглашал меня зайти… — Она совсем сконфузилась и мысленно воскликнула: «Ну зачем я пришла?»
«Вот как она понимает независимость», — осуждающе подумала Наталья Николаевна, недружелюбно глядя на девушку. Но когда гостья сделала движение, собираясь уйти, она вежливо предложила:
— Вы, может быть, подождете?
Анна Васильевна заколебалась.
— Можно мне с Васильком познакомиться? — по-детски непосредственно вырвалось у девушки, и она так просительно взглянула, такая искренность желания прозвучала в ее словах, что Наталья Николаевна невольно улыбнулась.
— Пожалуйста… — сдержанно сказала она и провела гостью в квартиру.
Мальчик сидел за столом, покрытым клеенкой, и что-то мастерил из катушек и щепок. У него были точно такие же, как у Сергея Ивановича, серьезные серые глаза.
Увидев незнакомую женщину, мальчик встал.
— Василек, — баском сказал он, протягивая руку.
— Аня… тетя Аня, — быстро поправилась Анна Васильевна, и с нежностью подумала: «Какой маленький… и очень похож на него».
Она подсела к столу и, не зная, что делать, о чем говорить, в замешательстве все время поправляла волосы. Наталье Николаевне стало даже немного жаль ее: «Нет, она, видно, не испорченный человек, но приходить сюда ей не следовало».
Наталья Николаевна вышла в кухню. Набирая воды для чая, она вдруг так отчетливо вспомнила Таню, что на глазах невольно навернулись слезы.
Василек первым нарушил молчание.
— А вы рисовать умеете? — спросил он вежливо.
Анна Васильевна обрадовалась:
— Умею! Давай… давай нарисую!
Он побежал в соседнюю комнату, принес тетрадь и цветные карандаши.
— Папа подарил, — с гордостью пояснил он, передавая коробку Анне Васильевне, и, положив перед ней тетрадь, спросил:
— А вы папу любите?
Рудина покраснела. Хорошо, что Наталья Николаевна вышла из комнаты.
— Его все в школе любят, — тихо сказала она, и ее ответ, повидимому, понравился Васильку. Он доверчиво подсел ближе к гостье. Анна Васильевна стала рисовать зайчиков и цыплят.
— Тетя Аня, а вы верблюдов умеете рисовать? — осведомился мальчик, и его круглое, с упругими щеками лицо выражало такое сильное желание увидеть нарисованного верблюда, что Анна Васильевна смело сказала:
— Попробую.
И хотя верблюд у нее больше походил на изуродованную собаку, Василек остался вполне доволен.
— Нарисуйте, что он плюет, — попросил он и в предвкушении удовольствия подался всем туловищем вперед.
Они не слышали, как в комнату возвратилась бабушка. Настороженно поглядывая на светлую голову девушки рядом с головой внука, Наталья Николаевна ревниво подумала: «Подход ищет».
Но Анна Васильевна так заразительно смеялась, с такой бесхитростной старательностью рисовала плюющего верблюда, что неприязнь к ней у Натальи Николаевны стала рассеиваться, и когда Анна Васильевна начала прощаться, она даже огорчилась, что гостья так быстро уходит.
— Да вы посидите еще… Сергей Иванович вот-вот придет.
— Нет, уже поздно, — с сожалением посмотрела на часы Анна Васильевна, — мне пора… Я очень рада, что познакомилась с Васильком, — она почувствовала, что сказала как-то не так, смутилась и чистосердечно добавила: — и с вами.
Сергей Иванович, сделав доклад, на концерт не остался. Не терпелось увидеть сына. Утром он купил ему книгу сказок с красочными иллюстрациями, хотел скорее порадовать Василька. Хорошо, если Наталья Николаевна еще не уложила его спать.
По дороге домой Кремлев невольно возвращался мыслями к школе, к своему классу. «Четверть закончили неплохо, тон задают комсомольцы… Чувство ответственности за честь и дела всей школы уже появилось, но его надо развивать, сделать прочным.
Взять того же Балашова. Два дня тому назад он у Анны Васильевны получил пятерку за сочинение. Прочитал всю дополнительную литературу, цитировал Ленина… Анна Васильевна даже похвалила Бориса. Правда, он, чертушка, отвесил при этом церемонный поклон и разгневал ее снова, но главное в том, что Борис честно потрудился… И дома ему вменено в обязанность колоть дрова, починять мебель, электропроводку. Он иронически называет это „использованием внутренних стратегических ресурсов“, но делает все охотно.
Надо, чтобы Борис держал ответ и за Пронина и за Плотникова… Интересно, как прошел сегодня спектакль? Анне Васильевне, наверно, изрядно досталось».
В те редкие минуты, когда Сергей Иванович разрешал себе думать о Рудиной, он честно признавался самому себе: «От всего сердца хочу я ей самого лучшего и большого, что может дать жизнь такой хорошей, как она». В чувствах своих к Анне Васильевне он замечал что-то, похожее на отношение взрослого к девочке, которую хочется бережно оградить от грубости, никому не дать в обиду, самому оставаясь при этом в стороне.
Сергей Иванович негромко позвонил в свою квартиру. Входя, тихо спросил у Натальи Николаевны:
— Спит?
Она так же тихо ответила:
— Спит.
Он разделся и осторожно ступая, прошел в комнату.
Василек вдруг вскочил с кровати и обнял его. В длинной белой рубашке, с взлохмаченной головой, он был сейчас особенно дорог Сергею Ивановичу.
— Папуня, а к нам тетя Аня приходила! — изумил его неожиданным сообщением Василек.
— Какая?
— Да твоя…
Сергей Иванович так обрадовался, услышав это, что забыл даже пожурить сына за то, что он не спит.
— Давно? — шопотом спросил Кремлев.
— Недавно. Она — хорошая! — убежденно сказал Василек.
Сергей Иванович нахмурился.
— Верно, славная, — скупо подтвердила Наталья Николаевна, стоя в дверях комнаты, и притворно-сердито погрозила внуку:
— Если ты немедленно не уснешь, я тебя на демонстрацию не возьму, так и знай.
— Я сейчас, сейчас, только папуню поцелую, — заторопился Василек, Он обвил шею отца теплыми руками, прижался щекой к его щеке.
— Теперь сразу усну, — уверенно сказал он и деловито укрылся одеялом.
«Отдам ему сказки утром», — решил отец.
ГЛАВА XXV
В актовом зале гул от голосов — собрались ученики первых семи классов. Впереди, поближе к сцене, малыши жмутся к учителям; в задних рядах — те, кто постарше.
Вадим Николаевич шутливо говорит Капитолине Игнатьевне:
— Обратите внимание: наш ответственный редактор заточил карандаш, значит, сейчас начнем…
И правда, Балашов, сидя во втором ряду, приготовился записывать. Из нагрудного кармана его пиджака выглядывают несколько запасных карандашей, на коленях лежит раскрытый блокнот.
У задней двери зала, солидно откинув корпус назад, стоит завхоз Савелов, Рядом с ним — Фома Никитич; он готов при первой необходимости выйти в коридор, навести порядок. На груди Фомы Никитича — известные всей школе медали.
Анна Васильевна шепчет Серафиме Михайловне:
— Сегодня у меня такое праздничное настроение… такое праздничное!
Бокова ласково глядит на нее, а краешком глаза отмечает: «Плотников пристроился у оркестра… вожделеет».
Действительно, живая игра его лица так ясно выражала чувства, что их можно было читать, как по открытой книге.
Оркестр гремит оглушительно, тоненько звенят оконные стекла.
Плотников с завистью смотрит на Ваню Чижикова. Ваня играет на фаготе. «Серафима Михайловна обещала, — размышляет Толя, — если окончу вторую четверть без троек, записать в оркестр. Окончить можно… надо только лучше слушать на уроках». Он мечтательно смотрит куда-то вдаль, поверх голов сидящих впереди, и представляет себе: вот выстраивается вся пионерская дружина и ему, Плотникову, объявляют перед строем благодарность. Или нет, — его фотографируют у развернутого знамени дружины.
Но от этих сладких мечтаний его опять отвлекает Чижиков. «Как здорово надувает щеки — повезло же человеку», — думает Толя. Но скоро ему надоедает заниматься одним Чижиковым. «Ага, — завертел он круглой головой, — места занимают в президиуме… историк из старших классов… Борис говорил: „Справедливый человек“. А вон наша Серафима Михайловна села рядом с Борисом Петровичем».
Плотников захлопал в ладоши, и его дружно поддержали. «А около графина с водой, — продолжал он свой наблюдения, — мать Лени Богатырькова, ох, и вредная! Как вызовет на родительский комитет — не знаешь, куда деваться. А около нее пожилая женщина в вязаной кофточке. Лицо знакомое, будто видел где-то, а где — не вспомнишь».
— Кто это? — возбужденным шопотом, спрашивает Плотников у соседа. Алеши Пронина из седьмого «Б».
— Мать Героя Василия Светова.
— Да ну! — даже подскакивает Толя и впивается глазами в лицо женщины.
Но вот его внимание привлекает старик с седой бородой. «Тот, что на улице ко мне подходил!» — узнает он.
— А с бородой кто? — снова обращается он к Лене.
— Мастер с завода… Герой Труда. Дедушка нашего Димки… — с гордостью говорит Пронин и небрежно добавляет: — Я его в докладе отметил.
— А… а… а, — понимающе протянул Толя, — общественность!
Из-за стола встает Борис Петрович.
— Дорогие товарищи, — негромко говорит он, но в зале наступает такая тишина, что каждое его слово слышно отчетливо, — сегодня, отмечая наш великий праздник Октябрь, мы, как и вся наша страна, подводим итоги своей работы. Мы закончили первую четверть почти без двоек, но разве может это удовлетворить нас?
— «…удовлетворить нас», — как эхо, шопотом повторяет Плотников.
— Конечно, нет! Надо, чтобы большинство оценок было четыре и пять. И уже появились такие классы. Например, седьмой «Б» Анны Васильевны…
На этот раз начал аплодировать из президиума Яков Яковлевич. Широкое, скуластое лицо его сияет, очки, сдвинутые на лоб, подпрыгивают.
«В зале разразилась буря приветствий», — записал Балашов в своем редакторском блокноте.
Увесисто, солидно хлопают в ладоши старшие; растопырив пальцы, жмурясь, — малыши.
Семиклассники стараются перехватить взгляд Анны Васильевны: довольна ли? Оценивает ли всю торжественность минуты?
У Анны Васильевны такое состояние, какое было, когда ее в институте приняли в комсомол. И радость и взволнованность — оправдает ли доверие? — и счастье, что близкие люди рядом, и теплота, заполняющая сердце. На мгновение она приложила руки к горящим щекам, словно хотела охладить их.
Комитет комсомола и учком решили подарить седьмому «Б»… — сообщает Волин и делает паузу.
В это время Рамков и Леонид Богатырьков бережно вносят в зал из боковой двери что-то высокое, тщательно обернутое белой бумагой, придерживая, ставят у края сцены.
Зал замер, вытянулись шеи. «Что это? — гадает Плотников и от нетерпения привстает. — Похоже на картину…»
Костя от волнения побледнел, а пышущее здоровьем лицо Леонида стало еще ярче.
Рамков снимает бумагу, и по залу проносится шопот восхищения.
Это был написанный красками портрет любимца школы Василия Светова: смелые, полные жизненного огня глаза глядели из-под густых бровей, прядь каштановых волос спадала на чистый широкий лоб, золотая звездочка горела на зеленой гимнастерке.
Все невольно посмотрели на мать Василия. Она поднялась из-за стола:
— Спасибо за добрую память… дети, — прерывающимся голосом сказала она. — Наш Вася хорошо учился, был настоящим комсомольцем…
Тут неожиданно вскочил с места Толя Плотников и воскликнул ломким голосом, восторженно глядя на мать Василия:
— Тетя, мы будем такими, как он!
Все зааплодировали, а Серафима Михайловна посмотрела на Плотникова так, будто погладила, по голове.
— Седьмой «Б» повесит портрет у себя в классе, — объявил Борис Петрович.
Не сговариваясь, все встали.
К столу президиума подошли Алеша Пронин и Игорь Афанасьев. Их лица серьезны, они молча пожимают руки Богатырькова и Рамкова, поднимают портрет и торжественно несут его из зала в класс.
Борис поспешно записывает что-то в блокнот. Ребята, оживленно делясь впечатлениями, покидали зал. Последними уходили учителя.
Кремлев, спрыгнув со сцены, подошел к Анне Васильевне.
— Как жаль, что мы разминулись вчера, я пришел домой через полчаса после вашего ухода, — с огорчением сказал он, пожимая руку Анны Васильевны.
— Зато я познакомилась с Васильком, — ответила она, глядя на Кремлева бесхитростными, ясными глазами. — И с бабушкой тоже!
— Мы ждем вас к себе!
— Спасибо! — неловко высвобождая руку, которую все не выпускал из своей Сергей Иванович, ответила она и, смутившись, поспешила уйти.
ГЛАВА XXVI
В воскресный день Раиса Карповна Плотникова неуверенно поднималась по широкой школьной лестнице. Сквозь переплеты окон зимнее солнце ложилось на ступеньки песчаным волосами. Где-то наверху хлопотливо стучал молоток.
Справа и слева Раису Карповну обгоняли мужчины и женщины. «Сколько родителей приблизили», — с уважением подумала она об учителях и невольно приободрилась. Темносинее праздничное платье ее украшала резная брошь, на худых плечах лежал белый платок, в гладко зачесанных волосах виднелся красивый гребень.
На площадке второго этажа Плотникову радушно встретила Серафима Михайловна, обласкала живыми глазами.
— Раиса Карповна, очень рада вас видеть! Очень!
— Да я ж слышала, как вы в цехе объявили, что сегодня… забыла, как вы назвали… — застенчиво сказала Раиса Карповна.
— Университет культуры!
Два дня тому назад Серафима Михайловна, во время обеденного перерыва рабочих выступала в заводском радиоузле с советами родителям и пригласила их прийти сегодня в школу.
— В аудиторий девятого класса, — стала она объяснять Плотниковой, — Борис Петрович проведет беседу о новой сталинской пятилетке; в седьмом классе — это прямо и налево — профессор из института прочтет лекцию «Есть ли жизнь на других планетах?», а в нашем классе Яков Яковлевич расскажет о роли примера в воспитании детей.
— Да что ж я пойму в этом университете? — вздохнула Плотникова.
«Ты, милая, — подумала учительница, — и сейчас понимаешь лучше иных высокообразованных, как надо сыну помогать».
Мимо прошел Леонид Богатырьков в сером, с едва заметной красной полоской, костюме и таком же галстуке, завязанном не без изящества. Леонид держал за локоть черноволосого, с глубоким шрамом на лбу, юношу. «Наш секретарь комсомольский, Луговцов», — с удивлением отметила Плотникова.
— После лекций, — неторопливо говорил Леонид гостю, — мы покажем кинокартину «Александр Невский». Вступительное слово сделает Сергей Иванович.
Он не стал объяснять, кто такой Сергей Иванович, — на заводе достаточно хорошо знали Кремлева.
— Идея! — хлопнул себя по лбу Луговцов, — давайте проведем совместный комсомольский вечер! Наши заводские ребята будут довольны…
— Это можно интересно сделать! — остановился Леонид, — Мы к вам придем со спектаклем «Свадьба»… — Он помолчал, прикидывая, как все это лучше сделать. — У нас теперь свое лекционное бюро есть…
В пионерской комнате кто-то играл на пианино. Хрустальные звуки вырвались на свободу в коридор и, шаловливо кружась, побежали вдаль.
— Музыкальный концерт можем организовать… — сказал Леонид и подумал: «Вот и задание Щелкунову!».
Юноши скрылись за поворотом коридора.
— Ксе-ни-я Пет-ров-на! — негромко, нараспев, окликнула Серафима Михайловна Богатырькову.
По одну сторону Ксении Петровны шла молодящаяся женщина с ярко выкрашенными волосами, в шелковом платье, по другую — худощавый мужчина в пенсне.
— Познакомьтесь, Серафима Михайловна, это родители нашего Бори Балашова, — представила их Ксения Петровка, подходя к Боковой.
Балашова, протягивая руку Серафиме Михайловне, натянуто улыбнулась, и на лице ее можно было прочитать недоумение: «Ну, зачем вы меня сюда привели?», — казалось, спрашивала она. В глазах же Балашова, когда он смотрел на супругу, светился из-под стеклышек холодный, настойчивый огонек: «Хочешь — не хочешь, а мы здесь послушаем умных людей и, может быть, сумеем извлечь пользу для сына. Думаешь, это приятно на следующем родительском комитете держать ответ, как мы воспитываем Бориса?»
«Мама-то, кажется, не из легких, — подумала Бокова, — а отец простой…»
Она познакомила со всеми и Плотникову.
«Дружно здесь, — подумала Раиса Петровна, — хорошо, что я пришла…»
— Вы, товарищи, куда? — спросила Серафима Михайловна Балашовых.
— Мы решили побывать на беседе Якова Яковлевича, — ответила за Балашовых Ксения Петровна.
— И вы бы, Раиса Карповна, пошли туда, — обращаясь к Плотниковой, посоветовала Серафима Михайловна.
— Да я… пожалуйста, — с готовностью откликнулась та и, подойдя ближе к Богатырьковой, приветливо улыбнулась ей:
— Я вас теперь признала, вы моего Толика на родительском комитете пробирали…
Ксения Петровна весело рассмеялась:
— Однако слава у меня незавидная… пробиральщицы!
— Нет, вы напрасно, вас все ребята очень уважают, — сказала Плотникова с такой сердечностью, что у Ксении Петровны стало тепло на сердце. — И мой Толик говорит: «Что Леня, что его мамаша — принципиальные». Видите, какую оценку дал, — с юмором и некоторой гордостью произнесла мать.
Богатырькова улыбнулась:
— Ох, нелегко воевать с ними!
Балашовы, Плотникова, Богатырькова теперь уже вместе продолжали путь. Навстречу им стремительно шел Костя Рамков. Лицо и глаза его горели, а развевающиеся волосы при каждом энергичном шаге, точно крылья, поднимались и опускались над головой.
— Простите, вам какая аудитория нужна? — озабоченно опросил он Балашова, с разбега остановившись. Узнав, куда идут гости, Рамков взмахнул головой, точно отбил ею мяч, и предложил:
— Разрешите, я вас провожу?
«Ишь ты, университет культуры!» — удовлетворение подумала Плотникова, едва поспевая за Костей.
А по лестнице все поднимались и поднимались родители: вел под руку свою хрупкую жену молчаливый Андрей Васильевич Рубцов; врач Янович, кругленький и такой же маленький, как его сын, Сема, простучал по навощенному полу сучковатой палкой; поглаживая окладистую бороду, прошел Терентий Петрович Федюшкин. Он был озабочен и немного смущен: Анна Васильевна взяла с него обещание рассказать сегодня родителям о его опыте воспитания внука. «Легче три технических доклада сделать! Конечно, с Димкой кое-какие достижения есть… но словесно передать, как мы его до ума доводим, — трудно!» Терентий Петрович вздохнул и начал думать, нельзя ли как-нибудь отказаться от выступления. Но тут же вспомнил серьезные глаза Анны Васильевны, ее настойчивый голос, когда она говорила ему: «Как это всем будет полезно!» и негромко крякнул: «Ладно уж, голуба, — расскажу, как умею». Он добродушно ухмыльнулся в бороду: «Скоро Анна Васильевна меня не меньше, чем в Академию педагогическую командирует…»
Дверь на улицу то и дело открывалась, и в вестибюль врывались потоки свежего морозного воздуха. Струи его чуть заметно шевелили надпись над портретами, сделанную большими буквами:
ОНИ УЧИЛИСЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ.
Портреты в серебристых, словно подернутых инеем, рамках, висели на боковой стене вестибюля. Первый — лейтенанта Василия Светова был обведен траурной каймой. Рядом висели портреты: знатного шахтера Шмагина, лауреата Сталинской премии химика Натальи Берковой, молодого партизана Саши Болдырева.
Входившие стряхивали снег с одежды и шапок, весело топтались, сбивая его с обуви, и от этого движения, перестука, раскрасневшихся лиц в школе становилось еще оживленнее.
За колонной, недалеко от вешалки, Сергей Иванович негромко говорил секретарю заводского партбюро Васильеву, протягивая рукописный журнал:
— Родительский комитет наш выпустил — для родителей.
Со щек Кремлева еще не сошел румянец от мороза: он только что оставил лыжи у Фомы Никитича, успел лишь зайти в учительскую захватить этот журнал.
На скромной светлосиней обложке — золотые буквы: «Культура быта». Васильев перелистывает страницы, читает заголовки, и на большом открытом лице его такая заинтересованность, что Сергей Иванович от удовольствия потирает руки точно таким жестом, как это делает Волин.
— Молодцы! Право, молодцы! Смотрите-ка: и Плотникова наша здесь корреспондентом! «Мои беседы с сыном», гм… Интересно… Дайте на вечерок! — просительно смотрит Васильев на учителя, и Сергей Иванович великодушно разрешает:
— Берите! Только, Кирилл Алексеевич, до завтра! Живая очередь!
— Ладно, — обещает тот и, достав из кармана пиджака свежий номер газеты, прячет в нее журнал. — Да, Сергей Иванович, — мы хотели бы послушать вас на партбюро, как коммунисты завода помогают школе.
Сергей Иванович, подумав, соглашается.
— А школа — заводу, — добавляет он. И Васильев весело заключает: — Принято с добавлением.
Вдруг он слегка пожал локоть Кремлева, повел глазами в сторону двери. В нее вошли инженер Пронин с сестрой — пожилой женщиной в старомодном пальто и черной кружевной шали поверх шляпы.
— Замучил меня школьными делами! — наклоняясь к уху Кремлева, страдальческим шопотом пожаловался Васильев.
— Ничего не поделаешь — член родительского комитета! — тоже тихо, с комической почтительностью в голосе ответил Сергей Иванович.
Пронины, не заметив их, сняли пальто и прошли мимо.
Неожиданная мысль возникла у него: «Этот инженер что-то слишком часто приходит теперь к Анне Васильевне… А вчера они вместе шли из школы…» Кремлев постарался отогнать неприятную мысль.
— А мальчонка Пронина как? — поинтересовался Васильев, вспомнив светлые строгие глаза молоденькой учительницы, что приходила к нему.
— В комсомол недавно приняли, — ответил Кремлев. — На комитете его, между прочим, спрашивают: «Ты знаешь, за что наш завод получил переходящее знамя министерства?» «А как же, — отвечает, — наш завод отличного качества».
— Осведомленный! — довольно усмехнулся Васильев.
— Стараемся в курсе держать, — в тон ему ответил Сергей Иванович.
ГЛАВА XXVII
К вечеру ветер утих, и облака стали походить на неподвижные багряные волны. Их отражение ложилось на стекла окон спокойными отсветами.
Сергей Иванович, сидя у окна своей комнаты, дочитывал новую книгу о школе. Дочитал и задумался. «Школьная жизнь… это сотни событий, их сложнейшие переплетения, это масса мелких движений, часто едва различимых, внешне неэффектных, казалось бы, повторяющихся, а на самом деле глубоко волнующих и захватывающих. И, конечно, нельзя представить дело так, будто каждый учитель начинает сейчас свою работу на пустом месте, сам изобретает топор и иглу, приходит из института безоружным несмышленышем, только и знает, что ошибается да нащупывает путь. Мы уже многое нашли…»
Он начал ходить по комнате, скрестив руки на груди, пальцами сдавив локти.
Перед глазами возникли лица товарищей: неугомонный Борис Петрович пишет диссертацию о педагогическом коллективе; Анна Васильевна вчера сказала: «Наша профессия мне кажется самой романтической — ведь в детях мы ясно видим будущее»; Серафима Михайловна… у нее седина пробилась в волосах, но сердце осталось попрежнему молодым.
Кремлев вспомнил слова поэта:
— Ну, что ж, мы были в жарком деле. Пройдут года — заговорят, Как мы под тридцать лет седели, И не старели в шестьдесят.Он улыбнулся, повторив: «И не старели в шестьдесят».
На секунду из сумерок выплыло лицо Боковой — с живыми карими глазами, усиками над верхней губой. «Разве можно постареть с моими озорниками?» — грубоватым, решительным голосом говорит она.
Сергей Иванович зажег свет, и в комнате сразу стало пусто и тоскливо. Василька нет — уехал с бабушкой на две недели в деревню к родным. Дома было по-холостяцки неуютно. Идти в театр Кремлеву не хотелось — не любил один смотреть спектакль. Для того, чтобы виденное приносило удовольствие, надо было чувствовать рядом какого-то, пусть даже молчаливого, но близкого человека.
«Зайти сейчас к Анне Васильевне? Нет, этого нельзя себе разрешить. Запомни раз и навсегда — нельзя. Но почему я так часто стал думать о ней, что привлекает меня?»
Лучистые серьезные глаза ее, маленькие, сильные руки, такой же выпуклый, как у Василька лоб, московский говорок — были милы ему, вызывали нежность, и когда Кремлев думал, что вот придет в школу и увидит ее, его охватывала радость. Но главная, самая глазная прелесть Анны Васильевны для него была в том, что он чувствовал в ней внутреннюю чистоту крепкой, цельной натуры, в которой не могли бы найти себе место хитрость или неискренность. Ему дороги были и ее увлеченность трудом, и непримиримость ко всему нечестному, неверному, и желание вложить всю душу в то, что она делала с самоотверженностью, не требующей вознаграждения.
«И все-таки — не имеешь права!» — снова прикрикнул на себя Сергей Иванович и решил пойти к Корсуновым. «В конце концов, что особенное произошло между нами».
Кремлев надел пальто, фуражку и вышел из дому. Миновав сквер, уже без скамеек и потому казавшийся пустынным, он очутился на шумной улице. Два ряда белых фонарей, как нанизанные крупные бусы, уходили вдаль. Вздымая снежные вихорки, пробегали машины. Афиши на круглых тумбах извещали о приезде московских артистов. «Надо завтра с товарищами пойти», — подумал Кремлев. Мимо пробежали две школьницы в спортивных костюмах, мохнатых шапочках, с коньками в руках.
Вот и набережная.
Осенью, когда Кремлев приехал в этот город, — у реки еще были горы щебня, развалины домов. Но уже сотни людей с ожесточенным упорством били ломами, тащили носилки, очищали площадку. Сергей Иванович поглядел на красивые ступенчатые террасы, сбегающие сейчас к самому берегу.
«Здесь частица и нашего труда», — с гордостью подумал он и подошел к ограде набережной. Вспомнил, как ребята помогали строителям, как химик Глеб Степанович обращался к своему отряду: «Не посрамим, орлы, чести восемнадцатой школы!», а Костя Рамков объявил бригаду гвардейской.
По высокому мосту, перекинутому через реку, прошел со звоном трамвай. Свет луны серебристой дорожкой лежал на льду, и дорожка тянулась до другого берега. На той стороне реки вспыхивали фары машин…
Кремлев стал подниматься в гору. Навстречу ему шли трое. Мужчина, счастливо улыбаясь, обнял за плечи малыша лет десяти, женщина обеими руками держалась за руку мужа. Все трое с увлечением тихо напевали какую-то песенку.
И вдруг, с особенной силой, Сергей Иванович почувствовал себя одиноким. «Напрасно отпустил Василька», — подумал он и совершенно безотносительно к этой мысли возникла другая: «Как относится ко мне Аня?»
Он впервые произнес ее имя, не прибавив отчества, и оно сразу сделалось близким. Девушка предстала перед ним такой, какою увидел ее в первый раз, когда только что пришел в школу. Словно для того, чтобы вытеснить, зачеркнуть этот недозволенно возникший образ, он стал думать о своей погибшей жене.
Кремлев встретил ее на пароходе, когда был студентом последнего курса и ехал в дом отдыха; она училась на геологоразведочном факультете к направлялась к тетке в Феодосию. Познакомились непринужденно и просто, как это умеют делать студенты. На третий день путешествия им уже казалось, что они знают друг друга давным-давно, и невозможно было представить, что пройдет еще несколько часов и придется расстаться навсегда.
Пароход приближался к Феодосии.
— Я вас очень прошу проехать со мной еще немного, — взволнованно сказал Сергей, понимая, что просит о невозможном.
— Ну, что вы, как же это я вдруг?.
— Я вас очень прошу… — он взял ее руку в свою, — что мне сделать, чтобы вы согласились?
Таня смущенно смотрела на юношу (Сергей Иванович, как сейчас, видел ее глаза), стараясь придать разговору шутливый тон, сказала:
— Доплывите до берега!
До пристани было километра два. Не успела девушка опомниться, как Сергей, оставшись в одних плавках, прыгнул в море.
На палубе началась паника, послышались крики:
— Человек за бортом!
Пароход убавил скорость, остановился, стали спускать шлюпку. Пловец удалялся к берегу. Капитан, узнав от Тани в чем дело, чертыхнулся и проревел в мегафон:
— Поднять шлюпку!
Сергей благополучно доплыл до берега, и Таня поехала с ним дальше. Через год они поженились, но жизнь их сложилась так, что Тане надо было ехать в экспедицию, а ему — учительствовать в дальнюю деревню. Если подсчитать все время, что им довелось пробыть вместе, не набралось бы и двух лет.
Во время войны он дважды, после госпиталя, приезжал домой. Встречи приносили большую радость, расставание — боль. В этих встречах было что-то очень хорошее, как сама молодость, но, кто знает, может быть, большую цену имеют чувства уже устоявшиеся, прошедшие испытания на прочность в долгой совместной жизни, когда возникает стойкий и сильный пламень, согревающий ровным теплом, когда любящие сближаются навсегда в горестях и радостях, трудностях и невзгодах?
Он снова вспомнил стихи: «Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить».
Грустно усмехнулся: «Что это у меня сегодня лирическое настроение?»
* * *
Вадима Николаевича Кремлев дома не застал.
— Вечно пропадает в школе, — недовольно пояснила Люся.
В комнате пахло печеными яблоками и едва ощутимо — духами. На столе, покрытом скатертью с длинной бахромой, лежала потрепанная книга — «Тайна Чортова острова».
— Развлекаюсь, как могу, — сделала Люся милую гримаску и особым движением, словно бы коготками, приподняла и передвинула назад накладные плечики блузки. — Мой педагогус все занят государственными делами.
Закинув руки за голову, она стала перебирать волосы, словно просушивая их.
— Простите, я на минутку оставлю вас одного, — сказала Корсунова и вышла в соседнюю комнату.
Сергей Иванович сел. «Жаль, что не застал Вадима». Его внимание привлекла открытка, прикрепленная к коврику над Люсиной кроватью. Над заплывшей жиром нимфой порхали упитанные купидоны.
Люся вышла уже в другой блузке — с короткими рукавами.
— Как поживаете? — вежливо спросил Сергей Иванович, думая, стоит ли ждать Вадима.
— Вашими молитвами, — ответила женщина мягким грудным голосом, чуть наклонив голову, так что длинные серьги ее заколыхались, и улыбнулась. Улыбка у нее была озорная, будто вспыхивала на красиво очерченных губах и, потом долго дрожала.
Люся знала о ссоре мужа с Кремлевым, но не придавала ей значения.
Опершись полными локтями о стол и положив подбородок на переплетенные пальцы, Люся плутовато посмотрела на Кремлева.
— Сергей Иванович, — протянула она вкрадчиво, — какие женщины в вашем вкусе?
Кремлеву неприятен был и этот игривый тон Люси и сам разговор, но, не желая обидеть ее, он пошутил:
— Хорошие, — и встал. — Прошу прощения, Людмила Григорьевна, я, видно, не дождусь Вадима…
Люся оскорбленно передернула плечами.
— Дело хозяйское.
Когда Сергей Иванович ушел, она сердито захлопнула книгу. «Очень нужен! Нельзя и поболтать… Бирюк!»
Корсунов возвратился домой расстроенный.
— Опять неприятности в девятом классе… — устало сказал он Люсе, моя руки. — Может быть, действительно, все дело во мне.
Она не спросила, какие неприятности, не сказала и о приходе Сергея Ивановича, но за столом, будто между прочим, бросила:
— Я знаю, чьи это штуки, кто восстанавливает класс против тебя.
— Перестань! — крикнул Вадим Николаевич, сразу догадавшись, кого она имеет в виду. И уже тише, осуждающе, добавил: — Ты напрасно склонна видеть в людях плохое… И Сергей, и все у нас в школе по-настоящему честные люди.
— Ну, конечно, — Люся стала зло покусывать губы маленькими острыми зубами и отодвинула тарелку, — конечно, каждый твой случайный знакомый для тебя дороже меня, а жена для тебя только сплетница и болтушка! — Она вскочила и вышла из комнаты.
Вадим Николаевич устало пожал плечами.
* * *
От Корсуновых Сергей Иванович пошел в школу. Там он всегда находил успокоение. Проходя коридором, он заметил полосу яркого света в физическом кабинете, — наверно Волин готовил опыты на завтра, — и приоткрыл дверь.
Борис Петрович оторвался от приборов, радушно кивнул Кремлеву:
— Заходите, заходите.
К большому своему удивлению Сергей Иванович увидел рядом с Волиным Балашова. Оба были в синих рабочих халатах. Борис складывал в ящик инструменты. «Приручил моего скептика», — с благодарностью подумал Сергей Иванович о директоре.
В кабинете горел ослепительно яркий свет, на длинном столе рядами стояли машины. Волин несколько раз крутнул какую-то ручку, повернул рычаг, низко склонив голову над прибором, что-то проверил и довольно погладил усы:
— Все! Так вы, Борис, завтра в нашей мастерской закалите спицы для каркасов моделей. Мы потом посоветуемся с Терентием Петровичем.
— Хорошо, сделаю.
— А сейчас вы свободны. Спасибо за помощь.
Юноша попрощался и ушел.
— А вы что делаете в школе в этот час? — поинтересовался Борис Петрович.
— Да я так, просто зашел, — замялся Сергей Иванович.
— И очень кстати, я с вами давно хотел поговорить на одну щекотливую тему, — посмотрел директор на Кремлева долгим внимательным взглядом. Пройдемся, свежим воздухом подышим?
— С удовольствием.
Борис Петрович надел шубу, потушил в кабинете свет, запер дверь, и они вышли на крыльцо школы. Падал мелкий, колючий снег. Морозец приятно пощипывал лицо. Борис Петрович не начинал разговора; обдумывая, как лучше к нему подойти, чтобы сказать прямо и честно то, что он хотел, и в то же время не оскорбить Кремлева вмешательством в его личную жизнь.
С первых недель прихода Сергея Ивановича в школу, Волин заметил его склонность к какому-то аскетизму, не всегда необходимой суровой самоотрешенности. Сергей Иванович забывал о том, что надо во-время пообедать, что следует отдохнуть и, будучи человеком очень непритязательным в своих потребностях, совершенно не заботился о себе, работал «на износ».
Завуч составил расписание так, что Сергей Иванович, как, впрочем, и другие учителя, в середине недели имел свободный день. Но Кремлев неизменно приходил в школу и в этот день. Он никогда не ссылался на занятость, не жаловался. Не было такого случая, чтобы он отказался от поручения, заявив, что ему тяжело, что он недосыпает, что есть в коллективе менее занятые люди, которым следовало бы дать это поручение. Нет, он молча выслушивал задание, скупо говорил: «Сделаю!» — и действительно, выполнял все добросовестно и в срок.
Даже костюм Сергея Ивановича говорил о его неприхотливости. Он постоянно носил защитного цвета гимнастерку с отложным воротником и большими карманами, бриджи, сапоги и старый армейский ремень. До последнего времени он ходил в шинели и только недавно купил теплое пальто, но, видно, чувствовал себя в нем неловко.
— Я вот о чем, Сергей Иванович, — мягко начал Волин, решив говорить без обиняков, — вы в школе с утра до ночи, часто забываете о себе… Мне кажется, вы редко бываете в театре…
Кремлев удивился. «Нет, в театре я бываю довольно часто», — хотел сказать он, но продолжал молча слушать.
— Если человек много дает, но слабо восполняет запасы, может появиться… донышко. А чтобы запасы эти восполнялись, надо разумно строить свой день — и отдохнуть, и развлечься, на концерт пойти. Извините за нескромный вопрос: вы дома другой, легкий костюм надеваете?
— Пижамное благополучие не по мне, — резко ответил Кремлев.
— Вот, вот, я так и знал, — усмехнулся Волин. — Сергей Иванович, — он прикоснулся к рукаву историка и замедлил шаг, — а я похожу на обывателя?
— Что вы!
— А ведь я, признаться, приду домой из школы или с бюро райкома и, грешник, легкий костюм надеваю. Почему же не надеть, если удобно? Ну, да не в этом дело… Меня другое беспокоит, Сергей Иванович, — в голосе Волина послышались тревожные нотки, — понимаете, если вы и дальше будете так бездумно растрачивать себя — вас надолго нехватит. Вот что главное.
— Летом отдохну, — стал оправдываться Сергей Иванович, но не так уверенно, как вначале. Мелькнула мысль: «Это замечательно! Директор уговаривает поменьше работать». Он улыбнулся.
— Улыбаетесь? А вы вдумайтесь, получше в то, что я говорю. Поверьте мне, старому воробью. Иной молоденький учитель только придет в школу, со студенческой скамьи, энергии у него — через край, и он на уроке громовые речи закатывает, этаким трибуном постоянно выступает…
Сергей Иванович вспомнил свой разговор с Анной Васильевной.
— …а техники педагогической — ни на грош, — продолжал Волин. — Советуешь — пожалейте себя, экономно расходуйте силы. Куда там! Отмахнется, как от ворчуна назойливого, да еще изречет гордо: «Надо целиком отдаваться делу». Надо, но с умом! А через год-два голос у молодца «сел», ларингит появился… приходится лечить. А работать-то нам предстоит, ой, как много! Так-то, Сергей Иванович…
— И все же, Борис Петрович, в каждом деле, а в нашем особенно, добьешься значительных результатов только тогда, когда действительно целиком отдашься ему. Помните, у Горького: «Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!» — Сергей Иванович нахмурился и решительно закончил: — Ненавижу равнодушных в работе, чрезмерно щадящих свое драгоценное здоровье и нервы. Лучше пожить на десяток лет меньше, но гореть, а не чадить!
— Все это так, дорогой Сергей Иванович, — понимающе посмотрел Борис Петрович, — но, во-первых, надо ли самому все делать, за все хвататься? Вспомните, как бывает у хорошего, скажем, батальонного командира: офицеры, сержанты — его опора и исполнители. Он появляется в подразделении не часто. Его приход — событие. Но к этому надо приучить. А, во-вторых, разве отвергается право на личную жизнь?
И, остановившись, спросил, требовательно глядя прямо в глаза Кремлеву:
— Сыну вашему дома вы нужны?
Сергей Иванович и сам не раз об этом думал. Васильком надо заняться серьезно. Не может быть достоин уважения воспитатель, у которого собственный ребенок невоспитан. Надо уметь смотреть на него сторонними глазами, как и уметь смотреть глазами отца на «чужих».
— О своем личном вы думали? — задушевно спросил Борис Петрович. — Не рано ли в тридцать два года схиму принимать? — он долго молчал, раскуривая папиросу. — Вы простите меня, Сергей Иванович. Вам, может быть, неприятен этот разговор, но я позволил его себе только потому, что вдвое старше вас и успел привязаться к вам.
И так же неожиданно, как начал разговор, Борис Петрович перевел его на другое:
— Да, я договорился с директором шестнадцатой школы. В январе мы проведем совместный педсовет. Обсудим — в чем сила педагогического коллектива. Продумайте, Сергей Иванович, свое выступлений хорошо бы рассказать о работе наших коммунистов… Вы знаете, инженер Пронин и Ксения Петровна выхлопотали на заводе узкопленочный киноаппарат для школы. Собственный! Теперь заживем. Заживем! — Он радостно похлопал перчаткой о перчатку. — Может быть, Сергей Иванович, зайдете к нам, чайку попьем? — предложил Борис Петрович, когда они дошли до его дома.
— Спасибо, как-нибудь в другой раз, — пожимая руку, ответил Сергей Иванович.
Ему хотелось остаться одному, подумать обо всем, о чем только что говорили. Кремлев и сам прекрасно понимал: дело не в количестве часов, проведенных в школе, а в том, что полезное успел сделать в эти часы. Он встречал таких директоров, которые и сами с утра до ночи толкутся в школе, и учителей заставляют «быть при себе». У таких исчезает острота восприятия, они круговорот мелких дел легко принимают за активность.
Неожиданно пришла мысль: «Странно, почему сегодня весь день не видно было в школе Анны Васильевны? Наверно, потому и день показался таким длинным».
После потери Тани, потери, пережитой, как огромное горе, Сергей Иванович решил, что все и навсегда перегорело в нем, ушло безвозвратно, как пора юности, когда мы способны прыгать за борт парохода. То, что возникало в нем сейчас, — было и радостно к тревожно. «Да что же это такое, на самом деле, — не раз говорил он, — неужели я не могу взять себя в руки? Прямо, как мальчишка…»
Но это не было влюбленностью или увлечением, Сергей Иванович достаточно хорошо знал себя.
Он боялся признаться в этом, но сейчас к тому дорогому, юношескому чувству, что было у него к Тане, не стирая, не оскорбляя ее памяти, приходило что-то новое, соединив в себе и все лучшее, что было в прошлом и что приносит зрелость.
* * *
…Борис Петрович открыл калитку в сад. «А ведь и я учусь у каждого из них… У Анны Васильевны — непосредственности, у него, — вспомнил волевую складку губ Кремлева, — вот этой его твердости, самоотверженности… С такими невозможно быть снисходительным к себе».
Борис Петрович поднялся на веранду, постоял там, глядя на заснеженные деревья.
«Педагогическая техника… это очень важно, но, конечно, не все. Можно безупречно овладеть техникой, и все-таки засушить дело. В музыке бывают виртуозы с холодной душой. Нет, надобен еще энтузиазм… Он прав, нужно горение изобретателя, увлеченного работой, и, если хотите, — тонкость психолога…»
На веранде зажегся свет. Выглянула Валя, в накинутом на голосу платке:
— Ты, папа? А мы тебя ждали-ждали…
Он вошел в квартиру.
«Да, да, тонкость психолога! Вот, пожалуйста, этот случай сегодня в седьмом „Б“ — „Проверка холодом“».
Борис Петрович повесил в коридоре шубу и открыл дверь в комнату.
За столом сидели мать, жена и дочь — пили чай.
— Добрый вечер! — сказал Борис Петрович и подошел к столу. — Чайку бы стаканчик запоздалому путнику, злостному нарушителю семейного порядка, — попросил он и покосился в сторону нахмурившейся жены. — Виноват, но достоин снисхождения! Задержался немного в школе.
У него был такой задорный вид, так веяло от него морозным воздухом, завидной бодростью, что Екатерина Павловна, собиравшаяся пожурить мужа, невольно смягчилась.
— Да уж что с тобой делать… Придется поить!
Борис Петрович подсел к столу, погрел руки о горячий стакан с чаем и, снова обведя всех веселыми, лукавыми глазами, спросил:
— А не рассказать ли вам, чада мои и домочадцы, новеллку из школьной жизни… Самую, можно сказать, свеженькую. Об интуиции и тоне.
Валя, очень любившая такие рассказы отца, пододвинула к нему сахарницу, вазу с варением, сама подсела на низкой скамеечке поближе к его коленям и, как в детстве, снизу заглядывая отцу в лицо, попросила:
— Только подробнее, папа. Знаешь, с разными такими деталями, чтобы все ясно-преясно было.
— Есть, с деталями! Ну-с, так вот… испортилось что-то в отоплении, и на несколько часов прекратилась подача пара. В школе стало холодно. Тогда милые наши дети из седьмого «Б» решили, так сказать, испытать характеры своих учителей.
— Капитолина Игнатьевна, холодно! — сгибаясь в три погибели и с шумом потирая ладони, встретили они учительницу, когда та пришла на урок.
— Ничего подобного! — недоверчиво глядя на семиклассников и ожидая от них очередного подвоха, не согласилась «француженка». И затем добрых двадцать минут шел разговор: действительно ли холодно, или это только так кажется?
— Мария Ивановна, холодно! — жаловались они на следующем уроке физики.
— А мне не холодно! — решительно объявила Мария Ивановна, всем видом своим и тоном давая понять, что именно это, в конечном итоге, самое главное.
— Анна Васильевна, холодно! — продолжалось испытание.
— Верно, — спокойно согласилась наша общая знакомая, — и мне тоже холодно. Но что поделаешь? Не бросать же работу? Не такие мы люди, чтобы при первых трудностях хныкать и отступать. Верно?
Борис Петрович набрал полную ложечку варенья — сладкое любил больше, чем внук, — и, с удовольствием съев, сказал, обращаясь к дочери:
— Комментарии нужны?
— Не нужны! Вот посмотришь, папа, Анна Васильевна еще и старичков ваших перегонит! Помяни мое слово!
— Сообразительный народ пошел, без комментариев обходится, — подмигнул Борис Петрович жене и потянулся за новой порцией варенья.
ГЛАВА XXVIII
Корсунов оступился, ушиб ногу и лежал в постели дома. В руках у него были тетрадь и карандаш. Он продумывал свое выступление на конференции по книге Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Хотелось рассказать о том новом, что лауреаты-химики внесли в науку. Теоретическую конференцию наметили провести в школе через две недели.
Откинув голову на подушку, он полежал с закрытыми глазами, потом записал план, и, приподнявшись на локоть, посмотрел в окно: видна была часть двора. Снова выпал глубокий снег, деревья облепило белой ватой, и они стояли, могучие, разлапистые, похожие на шеренгу дедов-морозов в белых тулупах.
Во дворе, на веревке для белья, лежал пласт снега намного толще самой веревки, местами он осыпался, и веревка походила на белый пунктир.
Даже подветренные стены домов занесены были снегом, словно чья-то озорная рука залепила их снежками. Корсунов поднялся с постели, набросил на себя одеяло и сел в кресло у окна. Достав из коробки спичку, задумчиво покусывал ее.
Четвертый день Вадим Николаевич не ходил в школу, и никто из ребят не навестил его.
«Почему они не приходят? — с горечью думал Корсунов, — неужели я не заслужил этого? Неужели так и не поняли, что я их друг? Значит, правы товарищи, выступавшие тогда на партийном собрании?»
Он никому не признался бы, но это собрание было очень важно для него. Конечно, нельзя быть совместителем. Душой, отношением… Да и лучше расстаться с разными курсами! Школа требует всех сил учителя. Ей нельзя приносить остатки себя.
Корсунов нервно поскоблил ногтем подоконник, словно хотел сорвать с него корку краски.
Голос совести подсказывал ему, что со многим, даже самым неприятным, о чем говорили тогда, следует согласиться; но неправда, что он «не прирос душой» к школе, неправда! «Кто это говорил мне? А-а, Сергей. Неверно это, Сережа, обидно и неверно».
Вчера у него были Серафима Михайловна и Анна Васильевна. (Люся после их ухода съязвила: «Тебя окружает хоровод дам»), передавали поклон от Бориса Петровича и Якова Яковлевича — они беспокоились о его здоровье. Это было приятно, но не главное: не приходили дети.
Люся многозначительно молчала, но он знал ее мысли и с возмущением отметал их. «Чушь, Сергей не станет восстанавливать против меня класс».
Вадим Николаевич в душе понимал, что не так, как нужно, сложились у него отношения с классом, что Кремлев в чем-то главном был прав, что надо честно пересмотреть своя позиции и первым протянуть ему руку. Но, как все упрямые люди, он не хотел в этом признаться даже себе и непримиримо думал о Сергее Ивановиче: «Критик нашелся!»
Сейчас было тоскливо и одиноко, тянуло в школу. Он ясно представил себе Фому Никитича «на вахте», торжественную тишину коридоров, голос учители за дверью класса, звонок…
«Дурачки, — с нежной снисходительностью думает он о детях, — не всякий умеет проявлять любовь так, как нам приятно. Разве обязательно подходить в перемену и спрашивать: „Ну, как дела, Вова?“ А может быть, лучше вызвать этого Владимира к доске, да спросить с пристрастием, да, любя его по-настоящему, поставить единицу вместо натянутой тройки… И заставить несмышленыша получше выучить! Пусть он сейчас меня Колом Николаевичем зовет, а вырастет — спасибо окажет…»
И все-таки — он чувствовал — было что-то порочное и его взглядах… Нельзя отгораживаться от учеников, сводить все дело к уроку, отметке…
Ему вдруг страстно захотелось очутиться в школе, хотя бы на полчаса, хотя бы на десять минут. Люся, по обыкновению, сидела у соседей и «перемывала косточки» общих знакомых. «Это тоже надо изменить, так дальше жить невозможно». Он стал торопливо одеваться.
«К чорту хворобу, погляжу на них — и станет легче».
Снег колкой пеленой окутывал город, трудно было дышать. Корсунов шел медленно. У сквера постоял около большой карты Китая, удовлетворенно подумал, глядя на флажки фронта: «Молодцы, это по-нашему!»
Возле почтового отделения он с удивлением остановился.
Из двери почты, как горошины из стручка, выскочило на улицу по крайней мере четыре десятка малышат.
«Где они там помещались и что делали? — с любопытством подумал Корсунов. — Ба, да здесь Плотников».
В дверях показалась Бокова.
— Добрый вечер, Серафима Михайловна, объясните мне эту загадочную картинку, что делал на почте сей народ?
Она с гордостью поглядела на окружавших ее ребятишек.
— Мы посылали телеграмму Иосифу Виссарионовичу.
— У него же двадцать первого день рождения! — показалась откуда-то из-под локтя Корсунова голова Плотникова.
…В школьных коридорах Вадима Николаевича охватило знакомое тепло. Учителю казалось, что он не был здесь уже много месяцев.
Заканчивался последний урок. Корсунов замедлил шаги, проходя мимо неплотно прикрытой двери девятого класса. Из-за нее доносились голоса, но он не мог разобрать, о чем говорили, только услышал фразу: «Еще выгонит!» «О ком это они?» — подумал он и пошел дальше.
* * *
А в классе в это время Сергей Иванович говорил:
— Почему вы так черствы? Ваш учитель болеет уже четыре дня, а кто навестил его?
— Он сам черствый!
— Он нас терпеть не может…
— Еще выгонит! — раздалось в перебой несколько голосов.
— Стыдитесь говорить так! — с возмущением прервал их Кремлев. Промелькнула мысль: «И я хорош! Надо завтра же зайти к Вадиму».
— Вы защищаете его потому, что он ваш товарищ… А он дружбы не признает, — мрачно сказал Виктор и насупился.
— Н-неправда! — слегка заикаясь, гневно воскликнул Сергей Иванович, и уже спокойнее, овладев собой, спросил, растягивая слова: — Если в вашем присутствии будут плохо говорить о вашем товарище, вы станете слушать?
Все молчали. Поднялся Рамков.
— Нет, конечно, — сказал он и добавил, видно, желай сделать приятное классному руководителю, — да мы его, Сергей Иванович, отчасти даже ценим… Он знания дает…
— И я не желаю слушать плохое, — решительно заявил Кремлев. — Тем более, что это несправедливо. Вадим Николаевич человек кристальной честности, мне его фронтовые товарищи рассказывали: когда потребовалось кому-либо остаться у моста, дать возможность остальным отступить, он, «черствый», добровольно остался… Ручным пулеметом скосил несколько фашистских автоматчиков, сам был тяжело ранен, едва до своих дополз. Разве любовь — в признаниях, а не в том, что он ночами проверяет ваши тетради и все свои силы отдает тому, чтобы вы хорошо знали химию?
Миновав девятый класс, Вадим Николаевич хотел зайти в учительскую, но по дороге встретил директора. Борис Петрович обрадовался, увидя Корсунова.
— Выздоровели? — спросил он, крепко пожимая руку.
— Почти что, — скупо сказал Корсунов.
— Зайдемте ко мне…
Они сели рядом, поговорили о школьных делах, о зимних каникулах. Борис Петрович вспомнил партийное собрание.
— А все же, Вадим Николаевич, вы тогда неправильно себя держали. Не надо противопоставлять свой талант учителя коллективу товарищей, думать, что ты всех умнее и опытнее и тебе прислушиваться не к чему…
— Никто так и не думает.
— И то, что озлобились вы против Кремлева, тоже нехорошо, он относится к вам, как настоящий товарищ..
— Есть любители критиканства! — сердито нахмурился Корсунов.
— Но ведь это была критика людей, имеющих на нее право, людей, честно работающих.
— А кто скажет, что я нечестно работаю? — оскорбленно поднял голову Корсунов, и уголки его губ нервно задрожали.
— Никто! — убеждённо ответил Борис Петрович. И тем более поэтому вы не вправе пренебрегать мнением таких на тружеников, как вы сами.
— Я и не пренебрегаю, — тихо сказал Корсунов.
— Надо нам, Вадим Николаевич, почаще заглядывать во внутренний мир ребенка…
— Требовать от него надо, а не психологию разводить! — воскликнул Корсунов и неловко осекся, вдруг почувствовав фальшь этой фразы. Она не выражала сейчас его новых мыслей, всего, что он передумал и к чему пришел. Борис Петрович понял это и сделал вид, что не расслышал.
— Мне кажется, Вадим Николаевич, вы иногда какие-то личные неурядицы приносите в класс, и возникает ненужный тон. А мы обязаны свои невзгоды, нервозность оставлять за порогом школы.
Корсунов еще более помрачнел, Волин переменил тему разговора.
— Вадим Николаевич, положа руку на сердце, скажите, разве только мы даем многое нашим детям? Нет, ведь! Мы и сами получаем от них: их молодость переходит к нам, их прямота, правдивость требуют того же и от нас… Здесь взаимное влияние… И от постоянного общения с юностью мы всегда юны. — Борис Петрович посмотрел на химика. — Верно?
Вадим Николаевич скупо улыбнулся:
— Верно!
Домой Корсунов пошел пешком. Разговор с Борисом Петровичем словно бы окончательно завершил кристаллизацию новых мыслей. Собственно, он и сам уже пришел к тому выводу, что во многом неправ, что незачем возводить искусственную стену между собой и классом, что надо быть таким, каким он был в первые годы учительства — проще, душевней, ближе, что надо, наконец, перебороть свою нервозность. Подумал и о жене: «Почему она стала такой? Надо что-то решить». Эта мысль преследовала его неотступно.
* * *
На следующий день Корсунов начал собираться в школу.
— Но у тебя еще бюллетень, — недоумевала жена.
— Я вполне боеспособен, — весело ответил он.
Люся давно не видела его таким оживленным и бодрым.
Он пришел в школу к началу своего урока. Обычно, как бы дети ни ценили учителя, они бывают рады, если урок не состоится, особенно урок строгого учителя. Но на этот раз, когда Вадим Николаевич вошел в класс, то по тому, как сочувственно смотрели они на его исхудавшее лицо, по мягким ноткам в голосе, когда спросили: «Выздоровели, Вадим Николаевич?»— он вдруг почувствовал, что они его, грубияна и сухаря, все же рады видеть. Это было для него совершенно неожиданное и приятное открытие.
У Вадима Николаевича непривычно защемило в горле, сдавило и отпустило сердце, и он немного растерянно улыбнулся. Однако тотчас, словно боясь, что его могут заподозрить в мягкости, сказал обычным строгим тоном:
— Начнем урок.
Но все в классе, с присущей юности чуткостью, уловили — и эту мгновенную растерянность и улыбку, поняли боязнь его показаться добрым, и сейчас глядели на своего учителя иначе. После рассказа классного руководителя Корсунов не казался им уже «сухим формалистом», как они его называли раньше, в нем открылись для них совершенно новые черты.
В конце урока, когда до звонка осталось минут пять, учитель сказал, закрывая журнал:
— А теперь, — он хотел добавить — «друзья», но постеснялся, — давайте поговорим… Что вас интересует? Какие у вас есть вопросы ко мне?
Это обращение было так необычно, так не похоже на Корсунова, что пораженный класс некоторое время молчал. Потом, робко и неуверенно, стали расспрашивать учителя о новых книгах по химии, о недавно появившейся в газетах статье лауреата…
Вадим Николаевич отвечал увлеченно, глаза его разгорелись, стали добрыми и, казалось, даже не смотрели так, как прежде, — исподлобья. Он и сам чувствовал, что разговор получается какой-то особенно душевный, и радовался этому.
Горсточкой поднял руку Виктор Долгополов, попросил деликатно:
— Вадим Николаевич, расскажите нам, если можно, фронтовые эпизоды… из вашей жизни.
Корсунова не удивило желание Виктора.
— Этого за две минуты не сделаешь. Давайте как-нибудь вечером соберемся, и я вам расскажу о нашем гвардейском батальоне, — предложил он.
Юноши могут заблуждаться в оценке взрослых, но они умеют безошибочно отличать искренность чувств от наигранной заинтересованности. Они иногда бывают и несправедливыми к взрослым, но способны под внешней строгостью обнаружить доброту сердца, и тогда проявляют настоящую привязанность.
И сейчас девятый «А» почувствовал: химик разговаривает так с ними не ради легкого завоевания авторитета, не потому, что решил подладиться и «перестроиться», а потому, что у него появилась настоящая потребность стать ближе к ним, и они с готовностью пошли ему навстречу.
Уже прозвенел звонок, пора бы уходить, но Вадиму Николаевичу не хотелось покидать класс. Окруженный кольцом еще неуверенно льнущих к нему ребят, он стоял посреди класса, шутил, отвечал на вопросы, и ему было необычайно хорошо.
Виктор Долгополов полез было, открывать форточку, проветрить класс, но Балашов грубовато остановил его:
— Повремени…
И Корсунов понял, — заботились о кем, чтобы не простудился.
А минутой позже Костя разыскал Богатырькова, притиснул его к стене и горячо задышал в лицо:
— Леня, ты представляешь, Леня!
— Ну что? Члены учкома приглашены для обмена опытом в страны народной демократии?
— Ты брось шутить, брось… Понимаешь? Вадим Николаевич оказался совсем уж не таким… А я-то! Я? — и «сухарь», и «кол», и «формалист»…
Богатырьков еще толком не понимал, в чем дело, но радость Кости была столь очевидной и искренней, он с такой готовностью отрекался от своего прежнего отношения к химику, что Леонид, невольно любуясь другом, легонько провел пальцем по его носу — снизу вверх:
— Поздравляю, первооткрыватель! — и уже серьезно добавил: — Всегда приятно в человеке находить хорошее.
Он дружески притянул к себе за пояс Костю.
— Пойдем, по дороге расскажешь…
ГЛАВА XXIX
Вадим Николаевич любил Люсю. Их крепко связывали воспоминания о совместно прожитых счастливых годах, общее горе утраты двух сыновей.
И тем мучительнее было для него то новое, что появилось в ее характере теперь.
Вадим ценил в Люсе уменье как-то мимоходом, легко и просто развеивать его мрачность, успокаивать мягким прикосновением руки. Он сохранил признательность к ней за все доброе, что она сделала для него; никогда не забывал, что Люся, узнав о его тяжелом ранении, приехала за несколько тысяч километров в госпиталь, безотлучно была там с ним, и, привезя домой, ухаживала, как за ребенком, заботливо и нежно.
Но когда он поднялся на ноги, когда первая острота переживаний Люси прошла, она очень изменилась.
Потеря детей (они умерли в одну ночь от дифтерита) опустошила ее. Она и до войны не отличалась серьезностью стремлений, но все же охотно училась, после девятилетки окончила курсы чертежников, много, хотя и беспорядочно, читала. Теперь она не видела — ради чего жить? Вначале она пыталась все свое время посвятить Вадиму, в нем одном найти все утраченное, но скоро убедилась, что заботу о муже нельзя сделать содержанием всей ее жизни. Ходить весь день с тряпкой, стирая пыль, готовить обед — в этом было мало радости. Ее стала раздражать вечная занятость Вадима, его дела. К ним, к этим делам появилась даже неприязнь: он набрал уроков, пропадает с утра до ночи, а ей остается только ждать появления главы семейства. И она умышленно старалась не расспрашивать мужа о работе, все дальше уходила от него в какой-то свой тусклый мирок. Корсунов понимал: так дальше продолжаться не может.
…После обеда, подготовившись к занятиям, Вадим Николаевич сел рядом с женой. Она шила ему рубашку. Движения ее рук были медлительны и машинальны.
— Я хотел бы с тобой поговорить, — решительно начал он, глядя ей прямо в глаза каким-то необычным, глубоким взглядом.
«О чем это?» — насторожилась Люся, сразу почувствовав, что разговор будет особенным, и пригнула голову, откусывая нитку.
— Не сердись на меня за то, что услышишь, но поверь — я хочу добра тебе.
Он говорил заметно волнуясь и стараясь скрыть свое волнение:
— Ты очень изменилась за последнее время. От безделья стала заниматься не тем, чем надо… Все эти разговоры, пересуды у соседей…
— Так я, значит, бездельница? — гневно сверкнула гладами Люся, и длинные белью серьги ее задрожали. — А то, что я тебе шью, варю, убираю за тобой, как прислуга, — это не в счет? Это не экономия?
Она отбросила в сторону шитье.
— Я растратила на тебя свою молодость.
— Молодость мы тратили вместе и неплохо, — сдержанно возразил Вадим Николаевич. Он подготовил себя к такому разговору и твердо решил довести его до ясного конца. — Ты меня не поняла, — терпеливо продолжал он. — Дело совсем не в материальных расчетах. У тебя, молодого, здорового человека, должна быть и своя жизнь, своя работа в коллективе, общественные интересы. Унизительно быть только «женой Корсунова», только шить и варить обеды, ты должна прежде всего быть самой собой. Понимаешь, я на этом настаиваю! Иначе у нас совместной жизни быть не может!
Люся, оскорбленная, вскочила:
— Ах, вот ты как! Может, уже другую приглядел? Пожалуйста, плакать не буду, — она направилась к двери, чтобы уйти к соседям.
Вадим Николаевич проворно встал и, сильно прихрамывая, преградил ей путь:
— Нет, от такого разговора уйти нельзя!
Он взял ее за плечи, — они сначала немного противились, потом сразу поддались — и, подведя к дивану, ласково, но настойчиво усадил. Люся покорно села и вдруг разрыдалась. Сквозь слезы можно было разобрать:
— Не думай… Я и сама на себя заработаю. Тебе ничего не стоит оскорбить… Я завтра найду работу.
Она все же выскочила из комнаты, но не побежала к соседям, а забилась в кухоньку рядом с ванной, заперлась там и предалась горестным размышлениям. «Он меня не любит… Конечно, не любит, но он прав, я только „жена Корсунова“. А кто тебя выходил? Кто? — ожесточаясь, спрашивала она. — Ты не смеешь называть меня бездельницей!»
Немного успокоившись, Люся стала обдумывать, что же делать? И правда, не велика радость сидеть в этих четырех стенах. Она и сама давно пыталась найти работу, но Вадиму об этом не говорила. Боялась: сможет ли, не забыла ли все, что знала раньше? «Посмотрим, как ты обойдешься без своей кухарки», — мстительно подумала она. Представив, как Вадим сам будет варить обед, она окончательно успокоилась и, достав из кармана платья зеркальце, стала вытирать разводы краски на лице. Веки и кончик коса ее немного покраснели, но лицо от этого не подурнело, а стало каким-то детским, обиженным.
Хлопнула выходная дверь. Вадим ушел. Ей стало жаль его, — вот сейчас бредет по улице… Напрасно она сказала, что растратила на него свою молодость… Было много и хорошего. Ну, пусть помучается!
Но тотчас волна материнской нежности к Вадиму охватила ее. Люся возвратилась в комнату и снопа взялась за шитье. «Нет, как он без меня обойдется?»
Вадим Николаевич, идя темной улицей, продолжал мысленно разговор: «Я же, глупышка, тебя спасаю. Пойми это — тебя!»
Подумал осуждающе: «И правда, в последнее время я недостаточно внимателен к ней». Вспомнил, как Люся в первый приход Кремлева к ним сказала: «Иногда посмотришь так, что сердце обрывается». Он удивленно пожал плечами: «Да неужели у меня это бывает? Вот, действительно, сухарь!».
Корсунов вспомнил выступление Кремлева на собрании, вспомнил, как оскорбил Сергея Ивановича. «Зайти бы сейчас к нему, зайти и просто сказав: „Я был неправ, Сергей!“ — крепко пожать руку. „Нет, не могу…“»
И Вадим Николаевич направился в школу.
Из пионерской комнаты слышались веселые голоса. Но когда Корсунов переступил порог, все боязливо умолкли. Думали, что он, как всегда, пройдет мимо, однако, на этот раз химик, оглядев, ряды маленьких столиков, за которыми сидели шахматисты, подошел к крайнему у самых дверей.
Играли Игорь и Борис. Борис, обдумывая ход, мурлыкал какую-то песенку. Игорь сосредоточенно покручивал ухо. Они заметили учителя только тогда, когда он сел на стул рядом..
— Здравствуйте, Вадим Николаевич, — слегка привстал Балашов.
— Добрый вечер. Кто кого?
— Наших бьют, — шутливо пожаловался Борис и со стуком пошел конем.
В комнате снова возник шумок.
«Борис Петрович, конечно, и пошутил бы к месту, и нашел о чем поговорить, — с завистью подумал Корсунов, — а я разучился по-простому разговаривать с ними».
Партия подходила к концу. Борису хотелось спросить Корсунова, играет ли он, но что-то связывало его, никак не мог отрешиться от мысли, что рядом с ним сидит резкий, нелюдимый химик. На помощь пришел Игорь:
— Вечный шах, — объявил он Балашову, движением руки показывая ход ферзем и, обращаясь к Корсунову, предложил:
— А вы сыграйте с Борисом.
Игорь и сам непрочь был бы попробовать свои силы, сразиться с учителем, но решил это сделать после Бориса — Борис играл лучше.
— Пожалуй, давайте, — подсел Корсунов к столику. «Надо выиграть во что бы то ни стало! Это мой дебют… Слышишь, Кол Николаевич, во что — бы то ни стало!» — дал он себе наказ и сделал ход. — Сицилианскую, что ли? — невинным голосом спросил он.
— Можно, — настороживаясь, ответил Балашов. «Держись, Борька, он знает теорию!»
В дверь пионерской комнаты то и дело заглядывали ученики, шептали многозначительно, удивленно, радостно:
— Химик играет…
— Вадим Николаевич играет…
— Костя говорил, — он на фронте, знаешь, как воевал!
Круг болельщиков у столика Вадима Николаевича и Бориса становился все плотнее, почти всем хотелось, чтобы победил Борис.
Это желание чувствовалось в стесненном дыхании, страстном шопоте, в том, как смотрели они на Бориса с надеждой и гордостью.
«Приналяг, химия…. На тебя взирает мир», — шутливо сказал себе Корсунов.
За спиной Вадима Николаевича кто-то взволнованно посапывал, он чувствовал теплое дыхание на своей шее.
— Мат в четыре хода, — напряженным голосом, боясь просчитаться, объявил Корсунов.
— Д-да-а… — немного растерянно произносит Борис.
Довольный Вадим Николаевич откинулся на спинку стула, обвел веселыми глазами ребят, почтительно посматривающих на него.
«Нет, положительно я давно не чувствовал себя так хорошо, как сейчас… И с Люсей все должно быть хорошо… Иначе»… — он недодумывает, торопливо отгоняет вдруг возникшую мысль о возможном разрыве. В последнее время эта мысль приходит все чаще.
— Вы не огорчайтесь, — говорит, он Борису, — я ведь участвовал и в городских турнирах. Партию вы провели умело.
Борис польщенно улыбается.
— Вадим Николаевич, теперь со мной, — просит Игорь и торопливо, чтобы учитель не отказался, расстанавливает фигуры на доске.
— Ну, что же — прошу! — предлагает Корсунов. Игорю сделать первый ход.
В коридоре кто-то запел.
«Интересно, что вчера пели в девятом классе, когда я проходил мимо? — подумал Вадим Николаевич. — Пели вчера хором какие-то вирши, на мотив: „А я сам, а я сам, я не верю чудесам“. Почему-то упоминали кальций».
Делая ответный ход, Вадим Николаевич спросил об этом у Балашова. Борис рассмеялся.
— Мы разучивали химическую оперу…
— Оперу?
— Да, ее написал Костя, чтобы легче запоминать формулы. Вот, например, ария — «формула асбеста».
Лукаво поглядывая на Вадима Николаевича, Борис негромко пропел:
— Кальций 0! Магний О! Два силициум О два!..
— Бесподобно! — восхищается химик.
— Ваш ход, — напоминает учителю Игорь.
* * *
На следующий день Корсунов встретился, с Кремлевым у двери директорского кабинета, и, прежде чем самолюбие успело ему что-нибудь подсказать, Кремлев уже протянул руку:
— Здравствуй, а я у тебя недавно был, но не застал.
— Был? — удивился Корсунов. — И я к тебе собирался зайти, но… — он замялся.
— Как ты себя чувствуешь?
Волин, приоткрыв дверь, с удовольствием отметил, что историк и химик крепко пожимают друг другу руки.
— Зайдите ко мне, товарищи, — пригласил директор, словно и не видел ни этого рукопожатия, ни радости на их лицах.
— Как у нас готовятся к теоретической конференции?
Раздался робкий стук в дверь.
— Войдите!
Порог нерешительно переступил Толя Плотников. Аккуратно завязанный красный галстук виднелся из-за его свитера с «молнией». Плотников был встревожен: зачем его мог вызвать директор?
— А-а… Иди, иди сюда поближе! — Волин встал из-за стола.
Толя приблизился ещё нерешительнее.
«За что?» — не давала ему покоя одна и та же мысль.
— Слово сдержал, — с гордостью сказал директор, протянутой ладонью указывая учителям на Толю, будто призывая их в свидетели. — Троек нет! Человек свой долг понимает! Будет хорошим комсомольцем.
Директор подошел к Плотникову и крепко пожал его руку.
Сергей Иванович с улыбкой взглянул на Толю.
— Я, Борис Петрович, у себя в девятом классе расскажу, что Плотников — человек слова. И Балашову, его другу, об этом приятно будет услышать..
Плотников сияющими глазами смотрел то на одного, то на другого учителя, ему казалось, что он спит и видит замечательный сон.
— Я теперь… я теперь, — он искал, что бы сказать большое и важное, — в третьем классе Алеше Мудрову помогу, он троешник… — наконец нашелся он и, вытянув шею, посмотрел торжествующе на Бориса Петровича.
— Вот и превосходно! — похвалил Волин, — желаю успеха!
* * *
Возвратившись домой с бюро райкома, Борис Петрович переоделся в рабочий костюм и отправился на кухню. Здесь у него были заготовлены доски для рыбачьей лодки, он мастерил ее вместе с Багаровым, — и здесь же был «исследовательский институт», в ведре плавали склеенные планки — проверялась прочность склейки.
Укрепив на верстаке одну из досок, Борис Петрович засучил рукава и, взяв фуганок, отдался работе. Шелест стружек, сворачивающихся в спирали, приятный запах дерева всегда действовали на него успокаивающе. Поработав около часа, Волин сложил инструмент, убрал доски, помыл руки и прошел к себе в кабинет. Приятно поламывало тело, сейчас с таким удовольствием возьмется за диссертацию. Борис Петрович сел за стол, но оттягивал момент начала работы, зная по опыту: чем лучше выкристаллизируется, дозреет мысль, тем легче будет писать. Сегодня на бюро райкома он кажется нашел стержень еще не написанного раздела «Коммунисты школы».
Справа на столе лежала тетрадь в красиво разрисованной обложке. «История четвертого класса „А“ школы имени Героя Советского Союза Василия Светова».
Борис Петрович начал перелистывать тетрадь.
Здесь были записаны трогательные в своей краткости биографии отличников четвертого класса. Под надписью: «Сделаем нашу школу передовой» открывалась глава «Слава класса», и рука старательного летописца отмечала:
«…Наши пионеры и Анна Васильевна приветствовали комсомольскую районную конференцию.
…У нас в гостях был стахановец Павел Тихонович Демин. Приехал на своей машине ЗИС-110. А мы в это время проводили сбор отряда. Ждали его. И вдруг входят он и Анна Васильевна.
Павел Тихонович рассказал, как он, еще комсомольцем, строил свой завод. А сейчас — лауреат, дружит с наукой. Из десятого класса тоже пришли на эту встречу. Богатырьков Павлу Тихоновичу руку пожал от имени комсомольской организации и учкома.
…Петр Рубцов изобрел, как зимой форточку просто открывать, на подоконник не лазить… За проволочку р-раз! — и все…
…Серафима Михайловна объявила Толе Плотникову благодарность за то, что он хорошо собирал книги для школы в Кривых Лучках. Плотникову книги сдавали и ученики старших классов: Костя Рамков принес шесть, и библиотека дружины сорок книг выделила.
…У нас теперь кружок конькобежцев есть, руководит им Борис Балашов, он вчера приз в городе получил: такой… на кофейник похожий.
…Ваня Чижиков лучше всех сочинение написал на тему: „За что я люблю свою Родину“. Серафима Михайловна сказала: „Пять с плюсом“. Плюс-то не пишется, но все же приятно».
Карандашом, для памяти, чтобы потом как следует чернилами записать, помечено: «Серафима Михайловна сказала: „Чем мы дружнее будем, тем скорее коммунизм построим. Потому у нас в классе все и дружные“».
Борис Петрович перелистывал страницу за страницей.
«Допишут свою историю до выпуска, — думал он, — и отладим мы этот дневник в школьный музей. Станет Ваня Чижиков журналистом, Петр Рубцов — изобретателем… Приедут когда-нибудь в родную школу, возьмут в руки эту тетрадь…»
В конце ее Борис Петрович увидел уже знакомое ему письмо из Кривых Лучек, из его, Волина, Кривых Лучек. На конверте неопределившимся почерком написано: «4-му классу „А“ 18-й средней школы…»
Волин бережно развернул письмо. «Спасибо вам за подарки… Мы вам тоже собираем книги. Есть ли у вас цветы, которые два раза в год цветут? Если нет, напишите, мы вам пришлем семена. У нас теперь здание в два этажа, школа-десятилетка, посылаем вам ее фотографию. У нас в 3-м классе работает учительница Степанида Ивановна, так она помнит Борю Волина, он у нее учился, а теперь он у вас директор Борис Петрович, а наша Степанида Ивановна — заслуженная».
«Жива Степанида Ивановна! Вот сейчас встретился бы с ней — и снова почувствовал бы себя учеником».
Волин начал перебирать в памяти имена своих бывших учеников. Здесь были слесари и академики, переводчики и машинисты… Если бы их выстроить вместе, рядами — получилась бы целая армия. Они приезжают в гости, пишут письма, приводят своих невест и детей, делятся своими радостями.
В прошлом году бывший ученик, а сейчас слесарь Тимофей Бородин, пришел к нему сияющий и гордый — только что его приняли в партию.
Волин отодвинул ящик стола и достал из папки с письмами зеленый конверт, — он получил его вчера.
«Милый мой наставник, Борис Петрович, здравствуйте! — так начиналось письмо. — Земной поклон, самые лучшие пожелания и до глубоких лет непроходящая благодарность Вам, мой первый учитель!
Чтобы не заглядывать Вам в конец письма, представлюсь: пишет Вам ученик Миша Дроздов, лет двадцать назад учившийся у Вас, да разве можете Вы запомнить всех!»
Нет, нет, напрасно Миша так думает, — Борис Петрович очень хорошо его помнит. У Дроздова, когда он был еще в первых классах, головенка цветом и формой походила на дыню, а быстрые смышленые глаза так и шныряли по сторонам. До восьмого класса лицо Миши покрывали бесчисленные веснушки, был он худ и нескладен. А в девятом неожиданно превратился в красивого, стройного парня с шелковистой шевелюрой светлых волос, в хорошего спортсмена и певца.
«Сейчас я кадровый офицер Советской Армии, — читал Волин, — майор. У меня есть сын и чудесный друг — жена Надя. А помните, какая чистая и крепкая дружба была у меня с Оленькой Сивцовой. Я встретил ее в войну, капитаном медицинской службы».
…Еще бы не помнить Борису Петровичу Сивцову! Как только появилась она в девятом классе, будто кто подменил Мишу, стал он учиться из рук вон плохо. Начали доискиваться — почему? Классная руководительница выведала у Оленьки, что это из-за нее. Дело оказалось щекотливым, Борис Петрович вызвал отца Миши — директора завода. Мишин отец отправился разыскивать Оленьку, нашел ее дома. Не знает с чего начать. Наконец решился: «Вы хоть немного подружитесь с моим Михаилом, он парень неплохой».
И что же — возникла настоящая дружба. Ходили, будто ниточкой связанные. Если Оленька одна появлялась в классе, товарищи с тревогой спрашивали: «А Миша где?» Мишу из дома за квасом посылали, он, обогнув три квартала, «по дороге» заходил за Оленькой. Оба они окончили школу с отличием. Не помнить Сивцову! Как часто такая юношеская дружба делает людей товарищами на всю жизнь.
«Дорогой Борис Петрович, сколько воды утекло с тех пор, как мы расстались, но в окопах, в боях, в госпитале, в походах я неизменно вспоминал Вас, нашу школьную стенгазету („Миша Дроздов, ты к работе готов?“), наш драмкружок и пионерский отряд.
И подумать только, ведь было время, когда Вы казались „лютым“: „Борис Петрович спросит“, „Борис Петрович накажет“. После одного такого наказания в пятом классе (я раздавил на полу мел, а Вы заставили меня после уроков вымыть пол в классе) мне даже захотелось сделать Вам что-нибудь неприятное. Помню, в полночь пролез я на Вашу веранду, что-нибудь разбить, нашкодить, подкрался к освещенному окну. Вы сидели у письменного стола и писали. Я, наверно, с полчаса, как зачарованный, смотрел из засады на Вас, спокойно работающего. И вдруг мне так захотелось самому хорошо учиться, что я бесшумно уполз и с тех пор действительно начал учиться хорошо».
— Подишь ты, — усмехнулся Волин, читая эти строки, — а я и не знал!
«Только в разлуке, став взрослыми, мы по-настоящему начинаем понимать, кем был для нас учитель. Чувство к нему я сравнял бы с чувством к матери. Это он передает нам неиссякаемую любовь к Родине, народу, внушает нам, что счастье человека в труде на благо Отчизны. Самое большое, самое теплое спасибо Вам, учитель. Да будут светлыми дни Вашей старости!»
Борис Петрович стал задумчиво складывать письмо.
Вот это и есть высшая награда за труд.
…Он положил перед собой чистый лист бумаги и начал писать диссертацию.
ГЛАВА XXX
Был последний день полугодия — тот немного суматошный день, когда кого-то обязательно надо доспросить, когда в учительской гул стоит от голосов: обмениваются журналами, выставив оценки, досадуют, радуются, расспрашивают друг друга:
— Как Рамков у вас?
— Добился пятерки.
— Вот видите, я говорил же, что добьется!
— Вы чувствуете — тройки отступают!
— Отступать-то отступают, а пятерок еще маловато.
— А Федюшкин-то — старается?
— Улучшение есть, но не существенное…
— Ну, не скажите! Он в школе остается сам… Ему все время Долгополов помогает.
— А заметили, Игорь Афанасьев в отличники выходит!
— К ним отец возвратился…
— А его вторая жена? — заблестели любопытством глаза Капитолины Игнатьевны.
— Кажется, уезжает в другой город.
— Сергей Иванович, поздравляю вас! У Балашова по французскому «четыре», — как о событии большой важности, радостно сообщила Капитолина Игнатьевна входящему в учительскую Кремлеву.
Сергей Иванович приложил руку к груди.
— Принимаю поздравление, как за личную заслугу!
Он, конечно, шутил, но ведь была в этой шутке и доля правды. Разве нет и его заслуги в том, что Борис не только стал лучше учиться, но и возвращал себе былое уважение товарищей. Сергей Иванович знал, что накануне нового года комитет комсомола решил послать родителям Балашова поздравительное письмо и написать в нем несколько сдержанных, но душевных строк об их сыне.
— А вот я вашему прославленному отличнику Долгополову влеплю по физкультуре тройку за четверть, будет знать! — громовым голосом свирепо пообещал Анатолий Леонидович.
— Может быть, все-таки можно четыре поставить? Ведь все остальные пятерки! — смиренно опросил Сергей Иванович.
— Зачем я буду натягивать? — непримиримо потряс ручкой физкультурник. — Пусть работает!
— Пусть, — покорно согласился классный руководитель.
— Пронину надо снизить оценку за поведение, — требовал Багаров, — он в начале этого месяца на Анну Васильевну обиделся, а к моим урокам стал относиться с прохладцей.
Все рассмеялись.
— Да, да, — Багаров откинулся на спинку стула. — И потом у него неуверенность в своих силах и упрямство! Он затвердил: «Я к химии неспособен», и хоть бы ему что. «Да подождете», — говорю. — «Нет, чего же ждать, я к химии неспособен».
— Да, но при чем тут неуверенность в своих силах и оценка за поведение? — резонно возразила Рудина.
— Вполне согласен, — поддержал ее Яков Яковлевич, — при чем?
— Представьте, Брагин заявил: «Вы портите мне четверть, вы каменная». Как вам это нравится? — жаловалась Капитолина Игнатьевна Боковой.
Сергей Иванович взял в руки журнал своего класса. Он особенно любил этот день, любил вот так, открыв журнал, различать за шеренгами отметок лица и характеры. У каждого свой.
Проставив отметки, Кремлев вышел из учительской. В коридоре уже висела свежая стенная газета. Во всю ширь ее, на алой ленте надпись: «На пороге нового года». В глаза бросились заголовки: «Я буду впервые голосовать». «Мечты вслух». На видном месте красовалось стихотворение, посвященное Серафиме Михайловне:
Теперь, когда я лучше понимаю, Хочу спасибо вам сказать За все, что вы мне раньше дали, За то, что даже вы «ругали». Вы для меня — вторая мать.«Это кто же поэт?»— полюбопытствовал Сергей Иванович и широко открыл глаза от удивления: под стихотворением стояла подпись: Анатолий Плотников.
* * *
…К восьми часам вечера, кануна нового года, в школу стали сходиться учителя и их семьи.
В актовом зале расставили стулья вдоль стен. Корсунов подсел к роялю и начал играть вальс.
Географ Петр Васильевич, подскочив к «француженке», пророкотал:
— Р-разрешите пригласить…
Капитолина Игнатьевна милостиво улыбнулась и поднялась. На ней было яркозеленое платье с огромной серебряной брошью в виде бухарского щита.
Розовощекий Анатолий Леонидович закружился в вальсе — с высокой седой женой географа. Немного по-старомодному, подскакивая, танцевал Волин с супругой. Ее волосы подобраны на затылке так, что походят на широкий гладкий гребень. В уголке зала сидит Бокова с сыном, — он получил отпуск на две недели. У него точно такие, как у Серафимы Михайловны, живые карие глаза на смуглом лице, небольшие губы, немного вздернутый нос.
— Хорошо у вас, мама, дружно, — прошептал он на ухо матери.
— На том стоим!
— Мама, мы вместе поедем, — обязательно! Я тебя до самой Москвы провожу, а сам дальше, в училище поеду.
— Вот и замечательно, Сашенька!
— А сердце неспокойно, скажи откровенно, неспокойно? — допытывался он, заглядывая ей в глаза.
— Неспокойно, — признается мать.
Яков Яковлевич, решительно сняв и снова надев очки, подхватил Рудину, и они понеслись по залу.
Корсунов все играл и играл, откинув голову назад, приподняв вверх улыбающееся лицо.
Люся в длинном платье мышиного цвета, с рядом пуговиц на спине от шеи до талии, сидела возле мужа со скучающим видом.
Кремлев подвел к стулу Лукерью Ивановну в длинной до пола юбке и теплом пуховом платке на плечах, посадил ее радом с Фомой Никитичем.
— Жизнь, уважаемый Сидор Сидорович, свое играет.
— Факт, — степенно соглашается Савелов, да к тому же у нас тонкое производство, — повторил он свою любимую.
Анна Васильевна и Сергей Иванович отошли немного в сторону, к большому окну; мороз разрисовал стекло пальмами.
Волин, увидя на Сергее Ивановиче синий костюм, добродушно подумал: «От схимы отрешился».
Кремлев заметил взволнованность Анны Васильевны и посмотрел на нее вопросительно.
— Час тому назад, — зашептала она доверчиво, — подошел ко мне Балашов и говорит: «Поверьте мне, если можете, то, что было, все из-за моего глупого мальчишества!»
Сергей Иванович чуть заметно улыбнулся:
— Вот видите, а вы тогда ультиматум предъявили: «Или я, или он!» А выходит, — и вы и он. — И неожиданно для Анны Васильевны добавил:
— Наталья Николаевна вчера спрашивала, почему вы к нам больше не приходите?
Анна Васильевна встрепенулась, словно хотела спросить: «А можно?» Глаза ее светились таким нестерпимым, брызжущим светом, так сияли, что Сергею Ивановичу трудно было долго глядеть в них, а хотелось глядеть, не отрываясь.
Ему сейчас было особенно хорошо. Всего четыре месяца назад пришел он в школу, а ощущение такое, словно он давным давно знает всех этих людей, ставших такими близкими.
«Четыре месяца… И будто ничего особенного не сделано… Обычный труд… Но если вдуматься, как много важного произошло! На поверхности вроде бы ничего приметного. Ну, учатся. Ну, учим. А вглядеться внимательно: глубинный-то процесс идет!»
Рядом стояла Анна Васильевна, и это тоже приносило радость, а завтра жизнь будет еще интереснее. «Прекрасное это чувство — ждать с нетерпением завтра», — думал Сергей Иванович.
Словно прочитав его мысли, Анна Васильевна оказала:
— Герцен когда-то писал, что хронического счастья нет, как нет льда нетающего. Это неправда!
— Конечно, неправда! — согласился Сергей Иванович. — Каждый день приносит счастье.
В соседней комнате был накрыт длинный стол, шутя начали рассаживаться за ним.
Борис Петрович встал, выждал, когда наступит тишина и, приподняв наполненный бокал, сказал негромко:
— Год прошедший был славным годом… Каждый день, из трехсот шестидесяти пяти, он выполнял задание на пять с плюсом. Поглядите вокруг: подготовлен пуск вод Севана, растут угольные шахты за Полярным кругом; пошел газ из Саратова в Москву… И мы, дорогие товарищи, честно потрудились… Нам не стыдно перед остальными тружениками, но впереди у нас еще много неразрешенных задач. И главное — школа должна стать большим, единым коллективом. Залог нашего успеха — в дружбе, мужественной и требовательной, — в ней наша сила. Этой сплоченности учит нас большевистская партия… за ее вождя, за великого учителя учителей я и предлагаю первый тост.
Все встали. Комната наполнилась перезвоном бокалов.
Яков Яковлевич включил радиоприемник, послышался голос диктора:
— С новым счастливым годом, товарищи!
* * *
Прощаться начали под утро. Кремлев пошел провожать Анну Васильевну. В синей шапочке-голландочке, в синих варежках, она походила на десятиклассницу.
Предрассветные улицы были торжественно тихи. За невысокой изгородью парка — внизу, — так, что виднелись только верхушки, — зябли деревья, застыли погруженные в зимнюю спячку фонтаны. На площади, перед театром высилась огромная нарядная елка, огни ее светились утомленно.
Сначала Сергей Иванович довел Анну Васильевну до парадного ее квартиры, потом она проводила его два квартала, потом — снова он. Они шли — рука в руку, и больше молчали — говорить не хотелось.
Анна Васильевна увидела длинную ледяную дорожку на тротуаре и, увлекая за собою Сергея Ивановича, заскользила по ней, не выпуская его руки из своей. В самом конце дорожки она оступилась, но Кремлев поддержал ее.
И опять у него возникла нелепая и тревожная мысль об инженере Пронине. Это была одна из тех мыслей, что появляются неизвестно почему, казалось бы ничем не вызванные и потому особенно неприятные.
— Анна Васильевна, — вдруг охрипшим голосом сказал он, — вам нравится инженер Пронин?
Рудина невольно покраснела. Позавчера, совершенно неожиданно для нее, Пронин прислал ей сумбурное, очень взволнованное и хорошее письмо из полупризнаний.
— Нравится, — подняв голову, сказала она и подумала, что может быть об этом и не следовало говорить Сергею Ивановичу.
— И правда, он, кажется, хороший человек, — глухо сказал Кремлев, останавливаясь у ворот Анны Васильевны.
— Ну, спокойной ночи, — пожелал он, пожимая руку и, попрощавшись, быстро ушел.
* * *
Каникулы пролетели, как один день, и снова идут уроки.
В коридорах притаилась та особая, всегда немного удивляющая тишина, что легко взрывается звонком.
Неторопливой походкой Волин идет мимо дверей классов.
Из-за одной, неплотно прикрытой, — до него доносится голос Анны Васильевны:
— Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!«Надо будет спросить, что она с Богатырьковым готовит к ленинским дням? А Балашову напомнить, чтобы выпустил номер газеты… Этот парень вчера опять мудрил… Заявил на комитете: „Мое дело, как главного редактора, осуществлять общее руководство“. Леонид ему хорошо ответил: „А кто за тебя будет готовить кадры классных редакторов?“
Да и дома у Бориса продолжаются нелады с матерью… Что-то произошло в каникулы и с Костей… Кажется, начался юношеский роман, и Рамков теряет голову. Вчера ни с того ни с сего нагрубил завхозу. Придется говорить на комитете…»
Борис Петрович остановился у окна. Белые сугробы укрыли двор и улицу, ослепительно блестела, переливаясь в лучах солнца, снежная пыль. Самолет оставил на сиреневом небе смелый золотистый росчерк, этот след, делаясь все шире, бледнел, растекался…
Внизу, на стадионе, семиклассники ходили на лыжах. Даже через двойные рамы проникал громоподобный бас Анатолия Леонидовича:
— Корпус вперед! Корпус вперед!
«Вперед-то вперед, а со своими боксерами ты мне доставил немало хлопот».
Недавно Анатолий Леонидович пригласил в школу двух мастеров бокса — показать их искусство — и началась «эпидемия» бокса. Во всех школьных уголках появились боксирующие пары. Это было повальное бедствие. Плотников в пылу сражения расквасил нос Жене Гешеву и потом они галантно пожимали друг другу руки.
Но, кажется, сегодня «кривая матчей» пошла вниз. Появилось новое увлечение — готовились к лыжному кроссу.
— По кругу! По кругу! — гремит голос Анатолия Леонидовича.
Кто это вырвался вперед? Не Игорек ли?
С седьмым «Б» хлопот полон рот. Не успели пройти тему «Религиозные войны», как появились собственные «католики» и «гугеноты». Игра? Но к чему она, такая игра? Надо перевести седьмой класс поближе к девятому — так будет спокойнее… Да, и поручить учкому разобраться, что произошло в шестом «Г»…
В этом классе сегодня на уроке Гаврила Петровича в печном поддувале затрещал будильник.
Борис Петрович собирается отойти от окна, но замечает у парадного входа школы группу малышей с лопатами на плечах.
«Трудовой сбор пионеров четвертого „А“», — прищурив глаза, довольно кашлянул Волин.
Впереди отряда снегочистов шествовал Плотников. Наушник его шапки воинственно торчал вверх, широкую лопату он держал, как пику, и, то и дело поворачиваясь к пионерам, отдавал им какие-то приказания.
Зазвонил звонок. Бодрый, радостный голос его доносился снизу, проникал во все уголки. Школа жила своей обычной жизнью.
Примечания
1
Вполне искренне (латинский).
(обратно)2
Очень хорошо (франц.).
(обратно)
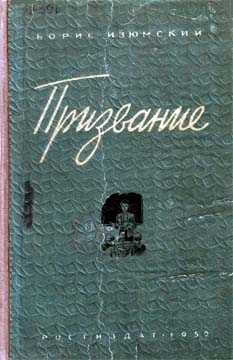
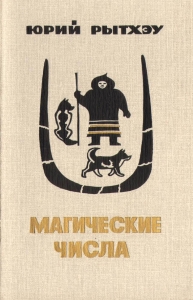


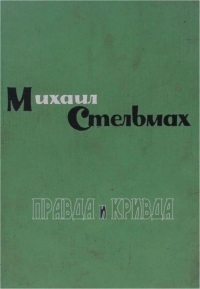
Комментарии к книге «Призвание», Борис Васильевич Изюмский
Всего 0 комментариев